Книга: Солдатские сказки
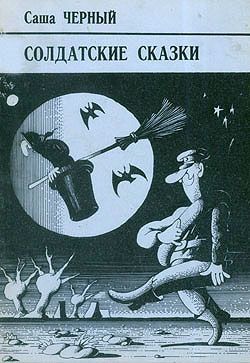
Посылает полковой адъютант к первой роты командиру с вестовым записку. Так и так, столик у меня карточный дорогого дерева на именинах водкой залили. Пришлите Ивана Бородулина глянец навести.
Ротный приказание через фельдфебеля дал, адъютанту не откажешь. А Бородулину что ж: с лагеря от занятий почему не освободиться; работа легкая – своя, задушевная, да и адъютант не такой жмот, чтобы даром солдатским потом пользоваться.
Сидит это Бородулин на полу, лаком-сандараком ножки натирает, упарился весь, разогрелся, гимнастерку с себя на паркет бросил, рукава засучил. Солдат был из себя статный да крепкий, хочь патрет пиши: мускулы на плечах и руках под кожей чугунными желваками перекатываются, лицо тонкое, будто и не простой солдат, а чуть-чуть офицерских дрожжей прибавлено. Однако ж, что зря хаять, – родительница у него была старого закала, природная слободская мещанка, – в постный день мимо колбасной лавки не пройдет, не то, чтобы что…
Перевел дух Бородулин, ладонью пот со лба вытер. Поднял глаза, барыня в дверях стоит, – молодая, значит, вдова, у которой адъютант по сходной цене фатеру сымал. Из себя аккуратная, личико тоже – не отвернешься. Ужли адъютант у корявой жить станет…
– Упрели, солдатик?
Скочил он на резвые ноги, – гимнастерка на полу. Только он ее через голову стал напяливать, второпях в ворот руку вместо головы сунул, ан барыня его и притормозила:
– Нет, нет! Гимнастерку не трожьте! Обсмотрела его по всем швам, будто экзамен произвела, и за портьерку медовым голосом бросила:
– Чисто Антигной!… Энтот мне как есть подходит.
И ушла. Только дух за ней сиреневый так дорожкой и завился.
Принахмурился солдат. На кой ляд он ей подходит? Экое слово при белом свете ляпнула… С жиру они, барыни, перила грызут, да не на такого напала.
Справил Бородулин работу, снасть свою в узелок связал, через вестового доложился.
Вышел адъютант самолично. Глаз прищувил: блестит столик, будто его корова мокрым языком облизала.
– Ловко, – говорит, – насандалил! Молодец, Бородулин!
– Рад стараться, ваше скородие. Только извольте приказать, чтобы до завтрева окон не отпирали, пока лак не окреп. А то майская пыль налетит, столик затомится… Работа деликатная. Разрешите иттить?
Наградил его адъютант как следовает, а сам ухмыляется.
– Нет, братец, постой. Одну работу справил, другая прилипла. Барыне ты оченно понравился, барыня лепить тебя хочет, понял?
– Никак нет. Сумнительно чтой-то…
А сам думает: что ж меня лепить-то? Чай уже вылеплен!…
– Ну, ладно. Не понял, так барыня тебе разъяснение даст.
И с тем фуражку на лоб и в сени проследовал. Только, стало быть, солдат за гимнастерку – портьерка – взык! – будто ветром ее вбок отнесло. Стоит барыня, пуховую ладонь к косяку прислонила и опять за свое:
– Нет, нет! Взойдите, как есть, в натуральном виде. Вас как зовут-то, солдатик?
– Иван Бородулин! – ответ дал, а сам, будто медведь на мельничное колесо, вбок уставился.
Зовет она его, значит, в свой покой на близкую дистанцию. Адъютант приказал, не упрешься.
– Вот, – говорит барыня, – обсмотрите. Все крутом, как есть моей работы.
Мать честная! Как глянул он, аж в глазах забелело; полна горница голых мужиков, кто без ног, кто без головы… А промеж них бабы алебастровые. Которая лежит, которая стоит… Платья-белья и звания не видать, а лица, между прочим, строгие.
Барыня тут полное пояснение сделала:
– Вот вы, Бородулин, по красному дереву мастер, а я из глины леплю. Только и разница. Ваша, например, политура, а моя – скульптура… В городе монументы, скажем, понаставлены, те же самые идолы, только в окончательном виде…
Видит солдат, что барыня не военная, мягкая, – он ей поперек и режет:
– Как, сударыня, возможно? На монументах ерои в полной парадной форме на конях шашками машут, а энти, без роду-племени, ни к чему. Разве таких голых чертей в город выкатишь?
Она, ничего, не обижается. В кружевной платочек зубки поскалила и отвечает:
– Ан вот и ошиблись. В Питере не бывали? То-то и оно! А там в Летнем саду беспорточных энтих сколько угодно. Который бог по морской части, которая богиня бесплодородием заведует. Вы солдат грамотный, следует вам знать.
"Ишь заливает! – думает солдат. – Чай там в столичном саду мамки княжеских ребят нянчат, начальство гуляет, – как же возможно погань такую меж деревьев ставить?…".
Достает она из рундучка белую мохнатую простыню, край кумачевой лентой обшит, – подает солдату.
– Вот вам заместо крымской епанчи. Рубаху нательную сымайте, мне она без надобности.
Ошалел Бородулин, стоит столбом, рука к вороту не подымается.
Ан барыня упрямая, солдатского конфуза не принимает:
– Ну что ж вы, солдатик? Мне ж только до пояса, – подумаешь, одуванчик какой монастырский!… Простыньку на правое плечо накиньте, левое у Антигноя завсегда в натуральном виде.
Не успел он опомниться, барыня простыню на плече лошадиной бляхой скрепила, посадила его на высокий табурет, винт подвинтила… Вознесся солдат, будто кот на тумбе, – глазами лупает, кипяток к вискам приливает. Дерево прямое, да яблочко кислое…
Взяла она солдата на прицел из всех углов.
– В самый раз! Вот только стригут вас, солдат, низко, – мышь зубом не схватит. Антигною беспременно кудерьки полагаются… Мне для полной фантазии завсегда с первого удара модель по всей форме видеть надо. Ну, этой беде пособить нетрудно…
В рундучок снова нырнула, паричок ангельской масти вынула и на Бородулина его так круглым венчиком и скинула. Сверху обручем медным притиснула, – то ли для прочности, то ли для красоты.
Глянула она с трех шагов в кулачок:
– Ох, до чего натурально! Известкой бы вас побелить, да в замороженном виде на постамент поставить – и лепить не надо…
Посмотрел и Бородулин в зеркало, – что наискось в простенке около козлоногого мужика висело… Будто черт его за губу дернул.
Ишь срамота… Мамка не мамка, банщик не банщик, – то есть до того барыня солдата расфасонила, что хочь в балаганах показывай. Слава Тебе, Господи, что окно высоко: окромя кошки, никто с улицы не увидит.
А молодая вдова в раж вошла. Глину вокруг станка вертит, туловище в сыромятном виде на скорую руку обшлепала, заместо головы колобок мятый посадила. Вертит, пыхтит, на Бородулина и не взглянет. Спервоначалу она, вишь, до тонких тонкостей не доходила, абы глину кое-как обломать.
Потеет солдат. И сплюнуть хочется, и покурить охота смертная, а в зеркале плечо да полгруди, как на лотке, корнем торчат, вверху рыжим барашком пакля расплывается, – так бы из-под себя табурет выдернул да себя по морде и шваркнул… Нипочем нельзя: барыня хочь и не военная, однако обидится, – через адъютанта так ушибет, что и не отдышишься. Упрела, однако ж, и она. Ручки об фартук вытерла, на Бородулина смотрит, усмехается.
– Сомлели? А вот мы передышку чичас и сделаем. Желательно походить, походите, а то и так в вольной позиции посидите.
Чего ж ему ходить в балахоне-то энтом с обручем? Запахнул он плечо, слюнку проглотил и спрашивает:
– А из каких он, Антигной, энтот, будет? В богах бусурманских числился, либо на какой штатской должности?
– При крымском императоре Андреяне в домашних красавцах состоял.
Покрутил Бородулин головой. Скажет, тоже… При императоре либо флигель-адъютанты, либо обер-камердинеры полагаются. На кой ему ляд при себе хахаля такого в локонах содержать.
А барыня к окну подошла, в сад по грудь высунулась, чтобы ветром ее обдуло: тоже работа не легкая, – пуд глины месить, не утку доить.
Слышит солдат за спиной писк-визг мышиный, портьерка на кольцах трясется. Покосился он взад на оба фланга, чуть с табуретки не сковырнулся: с одного конца барынина горничная, вертеха, в платочек давится, с другого денщик адъютантский циферблат высунул, погоны на нем так и трясутся, а за ним куфарка, – фартуком пасть закрывает… Повернулся к ним Бородулин полным патретом – так враз всех и прорвало, будто по трем сковородкам горохом вдарили… Прыснули, да скорее ходу по стенке, чтобы барыня не застигла.
Обернулась барыня от окна, Бородулина спрашивает:
– Вы что же это, солдатик, фырчите?
И ответить нечего… Кто фырчит, а кто обалдуем на табуретке сидит. Обруч на бок съехал, глаза как гвозди: так бы всех идолов в палисадник вместе с барыней к хрену и высадил. Вздохнул он тяжко, – Бог из глины Адама лепил, поди Адам и не заметил, а тут барыня перед всей куфней на позор выставила…
Эх ты, гладкая! Сколько у ерша костей, столько и барских затей… Знак за отличную стрельбу выбил, по гимнастике, по словесности первый в роте, и вот достиг, – из-за адъютантской политуры в Антигнои влип и не вылезешь… Не барыниным каблучкам присягал, чего ж в простыню-то заворачивает?
Видит барыня, что солдат совсем смяк. Полепила еще с малое время, передничек сняла и деликатным голосом выражает:
– Ежели вам, например, невмоготу, чего ж зря сопеть-то… Энто с простого звания людьми часто бывает, – от умственного занятия до того иного с непривычки в полчаса расшатает, будто воду на ем возили… Да и мне лепить трудно, ежели натура на табуретке простоквашей сидит. Для фантазии несподручно. Идите, солдатик, в лагерь. А завтра с утра беспременно приходите. Я завтра постановку головы вам сделаю, а что касаемо ног, уж я их вам наизусть с какого-нибудь крымского болвана приспособлю.
И полтинничек новый Бородулину из портманетки презентовала. Барыня была справедливая, тоже она не любила, чтобы около ее даром потели…
* * *
Заявился Бородулин в лагерь, – около передней линейки стоит ихней роты фельдфебель, брюхо чешет, в бороду регочет.
– С легким паром. Отполировался?
– Так точно. Столик в полную форму произвел.
– Ты мне столиком не козыряй… Барыня-то до коих пор тебя вылепила? Антигноем заделался. Смотри, в Питер на выставку идола твоего пошлет, заказов не оберешься.
Взводные тут которые, свои и чужие, – в руку похохатывают, земляки ухмыляются.
Сгорел Бородулин… Вот так пуля! Стало быть, по денщицкому полевому телефону уже дошло… В городе рубят, по садам щепки летят.
Тронулся он было дальше, в свое отделение, а сзаду так и поддают:
– Ишь ты доброход! Такие-то тихие, можно сказать, и достигают.
– В карсет его засупонила. Лепись!
– Ен и сам вылепит… Ай да Бородулин, первую роту не посрамил!
Прибавил солдат ходу, – сколько не брешут, еще и на завтра останется.
Ан тут ротный с батальонным, старичком, по песочку мимо палаток прогуливаются.
Стал Бородулин во фронт. Батальонный на него глазами ротному показывает.
– Антигной?
– Он самый. Ну что ж, Бородулин, потрафил?
– Не могу знать, ваше скородие!
Тянется солдат, а сам, как вишня, наскрозь горит.
– Ну, ступай отдохни. Замаялся поди. Ишь, орел какой… Можно сказать, выбрала!
А уж какой там орел, – курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с кем не сказавши.
Утром, только на занятия вышли, Бородулин ни гу-гу, будто вчерашнее во сне привидилось. Однако, фельдфебель пальцем его к себе поманил.
– Собирайся, гоголь! Адъютант вестового прислал, чтобы беспременно тебе кажное утро у барыни лепиться… Портянки-то свежие надень, – либо носки тебе фильдебросовые из штаба округа прислать. Павлин ты, как я погляжу!
Взмолился тут Бородулин, чуть не плачет:
– Ослобоните, господин фельдфебель… Заставьте за себя Бога молить. За что ж я в голой простыне на весь полк позор принимать должен? Уж я вашей супружнице в городе опосля маневров так кровать отполирую, что и у игуменьи такой не найти.
– Не подсыпайся, братец, не могу. Ты солдат старательный, сам знаю. Да как быть-то? Ротный из-за тебя с полковым адъютантом в раздор не пойдет… Потерпи, Бородулин, экой ты щекотливый. Солдат только на морозе, да в бане краснеть должен. Однако, ты сам смотри, – в адъютантский котел с солдатской ложкой не суйся… Адъютант у нас серьезный. Ступай!
Вот и позавтракал: селезень и тот упирается, когда его резать волокут, а солдат и серьгой тряхнуть не смеет.
* * *
Помаршировал Бородулин к барыне, в кажном голенище словно по пуду песку, – до того идти неохота. Слободою проходил, слышит – из белошвейной мастерской звонкий голос его окликает:
– Эй, кавалер! Что ж паричок-то не надели, мы для вас бантик розовый заготовили…
Обернулся он, а в окне четыре мамзели, одна на другой лежит, пальцами на него указывают.
– Антигной Иванович! Зашли бы к нам, что брезгаете? Чай мы не хуже барыни, красоту бы свою нам показали…
– Плечики у вас, сказывают, пуховые… Может, голь-кремом смазать прикажете? Что ж так барыне в сыром виде показываться.
Наддал солдат, щебень под каблуками так сахаром заскрипел. А вслед самая озорная, девчонка шелудивая, которая утюжки подает, на всю улицу заливается:
– Цып-цып-цып!… Солдатик! В случае, глины у вас не хватит, пришлите к нам, у нас на дворе свиньи свежей нарыли!…
Ишь, уксус каторжный!… На всю слободу оскоромила. Взял он наперерез проулком к адъютантской фатере направление, в затылок мальчишки в два пальца
свистят, приказчики из москательной лавки на улицу высыпали:
– Эвона! Монумент глиняный на занятия вышел… Что к чему обычно – брюхо в опояске, солдат к барыниной ласке.
– На соборной площади тебя, сказывали, поставят, – смотри не свались!
Развернулся было Бородулин, хотел одного, который более всех наседал, с катушек сбить, ан тот в лабаз заскочил. Сел, пес, в дверях на ящик, мешок через плечо перекинул, ноги раскорячил, – показывает, как солдат на табуретке в позиции сидит…
Прямо, можно сказать, убил. Грохот, свист… Сиганул Бородулин через забор, да пустырями, по задворкам, на барынину улицу, как петух из капусты, вынырнул.
Зашел с черного хода, будто его на аркане топить волокли. Только мимо куфни проскочить нацелился: горничная за куфарку, куфарка за денщика, – трясутся, заливаются, слова сказать не могут. Прошел Бородулин словно босыми ногами по битой посуде… Барыня на скрип вышла, про здоровье спрашивает. Послал бы он ее по прямому проводу, да нижним чинам в барском доме деликатные слова заказаны…
В два счета обрядила она его по вчерашнему, – локонцы эти собачьи промеж ушей натянула, на правом плече бляха, левое окороком вперед.
– Как сомлеете, скажите. Я зря человека мучить не люблю.
Добрая, что и говорить! А сама такую муку придумала, что кабы не служба, кота б она на крыше лепила заместо Бородулина…
Мнет барыня глинку, миловидно дышит. Туловище кое-как обкарнала, на патрет перешла. Чиркуль со стены сняла и для проверки дистанции стала солдату между губой и носом, да промеж глаз тыкать… Наизусть, значит, не умела, – а тоже берется…
Злой он сидит, как волк в капкане. Да волку, поди, легче, – лапу отгрыз, и – поминай, как звали. А тут, отгрызи-ка! На чикруль глаз скашивает, как бы в ноздрю не заехал, и все ухом к портьерке: не рогочут ли там эти гадюки домашние… Хорошо ему денщику адъютантскому, – курносый да рябой, как наперсток, – в Антигнои-то не попал.
Встрепенулась тут барыня:
– Ах-ах! Совсем из памяти вон. Портниха ж меня там в будуварном покое дожидается!… Делов столько, что почесаться некогда. Вы уж, солдатик, посидите, ручки-ножки поразомните, а я там мигом по своей женской части управлюсь. Орешков пока не желаете ли погрызть, только на паркет не сорите!
С тем и упорхнула. Сидит Бородулин, преет, табурет под ним покрякивает. До орешков ли тут, кажись бы самого себя с досады перегрыз. Нечего сказать, поднесла ему барыня: и проглотить тошно, и выплюнуть не смей.
А за спиной фырк да фырк… Ляпнуть бы туда туловищем своим глиняным.
Ан тут портьерка в сторону, – старая старушка, которая при барыниной дочке в няньках состояла, на пороге стоит, в коридор зычным голосом командует:
– Кыш, пошли прочь на куфню! Еще и чужих понавели смотреть, – эка невидаль, – с солдата мерку сымают… Вон отседова, не то барыне доложу, она вас живо распатронит.
И в монументальную комнату колобком вкатилась. Посмотрела на Бородулина, аж чепчики заскребла:
– Тьфу ты, нечистая сила! Ишь, как живого солдата в крымскую девку обработала…
Солдат, бедный, так голенищами с досады и хлопнул:
– Что ж, бабушка, самому не сладко… По городу не пройти, – так и поливают. Привязала меня твоя барыня через адъютанта, как воробья на нитке, куда ж подашься…
– А ты не гоноши… Какой роты?
– Первой, бабушка. Под арестом ни разу не был, стрелок хоть куда, – из пяти пуль все пять выбиваю… Вот и дождался производства. Барыне б твоей полпуда мышей за пазуху!
Пожевала старушка по-заячьи губами, обсмотрела со строгостью Бородулина, однако ж смягчилась.
– Внучек у меня в Галицком полку служит тоже в первой роте. Вроде тебя. Винтовку за штык в вытянутой руке поднимает… Ну что ж, сынок, надо тебе ослобониться. Барыня у нас ничего, да вот блажь на нее накатывает, все норовит кобылу хвостом вперед запречь…
– Да как же, бабушка, ослобониться-то?
– А ты старших не перебивай. И не такие винты развинчивала… – Походила она по комнате, морскому богу в морду с досады плюнула и вдруг – хлоп! – на прюнелевых ботинках подкатывает к табуретке, веселым шопотом скворчит:
– Нашла, яхонт… Ей Богу, нашла! Куда дерево подрубил, туда, милый, и свалится! Барыню нашу нипочем не сколупнешь, – адъютантом вертит, не то, что солдатом на табуретке. Однако есть и на нее удавка: запахов простых она не переносит, – субтильная дамочка. Почитай, с самого детства, чуть-что, чичас же из комнаты вон…
– Да где ж я, бабушка, запахи энти-то возьму?
– А ты, Скобелев, вперед не заскакивай… Завтра спозаранку, прежде чем на муку свою идти, редьки скобленной поешь, сколько влезет, да еще полстолько… Понял? Да луковицу старую пополам разрежь и подмышками себе натри до невозможности. Вот как вспотеешь, не то что барыня, мухи на паркет попадают. Чу, идет… Пострадай уж, сынок, сегодня, а завтра помянешь ты меня, старуху, добрым словом.
И с тем на прюнелевых ботинках выкатилась, будто светлый ангел.
Барыня взошла и опять за свою глинку. Возрилась она раз-другой, сережками потрясла:
– Чудной вы, солдатик. То, как сыч сидел, а теперь вишь веселость какую в лице обнаружил. Посурьезнее нельзя ли? Антигнои, они веселые не бывают.
А как тут серьезным сидеть, когда все нутро у солдата от старушкиных слов так и взыграло…
* * *
Далее что и рассказывать?… Как на другое утро стал солдат на посту своем табуретном редькой отрыгивать, да как потным луком от него, словно из цыганского табора, понесло, – барыня так и взвилась. Да еще на евонное счастье дождик шел, – окна не откроешь…
Стала она с ножки на ножку переступать, да кружевным платочком вентиляцию производить, да глину с тоски не в тех местах мять, где полагается…
К грудям ей подкатило, насилу успела выбежать, – можно сказать, аж люстра матом покрылась, до того солдат нянькин рецепт по всей форме произвел.
Ждет он, пождет, нет барыни. То ли ему одеваться, то ли дальше редькой икать… Да и совесть покалывать стала: барыня к ему "солдатик-солдатик", а он так со шкурой ее от глины и оторвал. Что ж, сама виновата, хочь бы, скажем, Ермака с него лепила, либо генерала Кутузова, а то такую низменную вещь…
Стал он деликатно каблуками постукивать, чтоб редьку заглушить, ан тут нянька гимнастерку ему несет, глаза, как у лисы, когда она из курятника с полным брюхом ползет.
– Ну, милый, полный расчет. Оболакайся да ступай в лагерь, нам ты более не надобен… Ух, и начадил ты, однако, – сига закоптить можно.
Курительную монашку зажгла и в угол отвернулась, пока солдат с себя поганую одежу сымал.
Затянул он поясок, обернулся, полушалок с турецкими бобами из кармана вынул и старушке с поклоном преподносит:
– Примите, бабушка, за совет, за беспокойство. Из волчьей ямы, можно сказать, вытащили!…
– Ах, свет мой! Глазастый-то какой, – вот уж угодил старухе. Спасибо, сынок. Кабы с плеч лет пятьдесят скинуть, я б тебя, ландыш, и не так отблагодарила. Однако, ступай, – до того от тебя простой овощью разит, что и разговор вести невозможно.
Встряхнулся Бородулин, налево-кругом повернулся, подошвой о пол хлопнул, – аж все голые мужики-бабы по стенкам затряслись…
Послал фельдфебель солдата в летнюю лунную ночь раков за лагерем в речке половить, – оченно фельдфебель раков под водочку обожал. Засветил солдат лучину, искры так и сигают, – тухлое мясцо на калке-кривуле в воду пустил, ждет-пождет добычи. Закопошились раки, из нор полезли, округ палки цапаются, мясцом духовитым не кажную ночь полакомишься…
Только было солдат приноровился черных квартирантов сачком поддать, на вольный воздух выдрать, – шасть! кто-то его из воды за сапог уцепил. Тащит, стерва, из всей мочи, прямо напрочь ногу с корнем рвет. Уперся солдат растопыркой, иву-матушку за волосья ухапил, – нога-то самому надобна… Мясо живое кое-как из сапога выпростал, а сапог, к теткиной матери, в воду рыбкой ушел…
Вскочил он полуобутый, глянул вниз. Видит, русалка, мурло лукавое, по мокрую грудь из воды выплеснулась, сапогом его дразнит, хохочет:
– Счастье твое, кавалер, что нога у тебя склизкая! А то б не ушел… Уж в воде я б с тобой в кошки-мышки наигралась.
– Да на кой я тебе ляд, дура зеленая? Играй с окунем, а я человек казенный.
– Пондравился ты мне очень! Морда у тебя в веснушках, глаза синие. Любовь бы с тобой под водой крутила…
Рассердился солдат, босой ногой топнул:
– Отдай сапог, рыбья кровь!… Лысого беса я там под водой не видал, – у тебя жабры, а я б, как пустая бутылка, водой налился. Да и какая с тобой, слизь речная, любовь? На хвост-то свой погляди.
Тут ее, милые вы мои, заело. Насчет хвоста-то… Отплыла напрочь, посередь речки на камень присела, сапогом себя, будто веером, от волнения обмахивает.
Солдат чуть не в плачь:
– Отдай сапог, мымра! На кой он тебе, один-то? А мне, полуразутому, хочь и на глаза взводному не показывайся… Съест без соли.
Зареготала она, сапог на хвост вздела, – и одного ей достаточно, – да еще и помахивает. Тоже и у них, братцы, не без кокетства…
Что тут сделаешь? В воду прыгнешь, – залоскочет, просить не упросишь, – какое уж у нее, у русалки, сердце…
А она, с камешка повернувшись, кое-что и надумала:
– Давай, солдатик, наперегонки гнаться! Я вплавь по воде, а ты по берегу – вон до той ракиты. Кто первый достигнет, того и сапог. Идет?
Усмехнулся про себя солдат: вот фефела-то!… Ужель по сухопутью легкие солдатские ножки нехристь пловучую не одолеют?
– Идет! – говорит.
Подплыла она поближе, равнение по солдату сделала, а он второй сапог с ноги долой, да под куст и шваркнул. Чтобы бежать способнее было…
Свистнула русалка. Как припустит солдат, – трава под ним надвое, в ушах ветер попискивает, сердце – колотушкой, медяки в кармане позвякивают… Уж и ракита недалече, – только впереди на воде, видит он, вода штопором забурлила, и будто рыбья чешуя цыганским монистом на лунной дорожке блестит… Добежал, штык ей в спину! – плещется русалка супротив ракиты, серебряным голоском измывается:
– Что ж вы, солдатик, запыхавшись? Серьгу бы из уха вынули, бежать бы легче было… Ну что ж, давай повернем! Солдатское счастье, поди, с изнанки себя обнаруживает…
Повернулся солдат, и отдышаться не успел, да как вдругорядь дернет: прямо из кожи рвется, локтем поддает, головой лозу буравит… Врешь, язви твою душу, – в первый раз недолет, во второй перелет, – разницей подавишься!
Достиг до первоначального места, глянул в воду, так фуражку о земь и шмякнул. Распростерлась рыбья девка под кручей, хвост в кольцо свивает, солдату зеленым зрачком подмигивает:
– С легким паром! Что ж ты серьгу так и не снял? Экой ты, изумруд мой, непонятливый. Камушек пососи, а то с натуги лопнешь.
Сидит солдат над кручею, грудь во все мехи дышит. Стало быть, казенному сапогу так и пропадать? Покажет ему теперь фельдфебель, где русалки зимуют. Натянул он второй сапог, что для легкости разгона снял, – слышит, под портянкой хрустит чтой-то. Сунул он руку, – ах, бес! Да это ж губная гармония, – за голенищем она у солдата завсегда болталась… У конопатого венгерца, что мышеловки в разнос торгует, в городе купил.
Приложился с горя солдат к звонким скважинам, дохнул, слева-направо губами прошелся, – русалка так и встрепенулась.
– Ах, солдатик! Что за штука такая?
– Не штука, дура, а музыка… Русскую песню играю.
– Дай мне. Ну-ка, дай!… Я в камышах по ночам вашего брата приманивать буду…
"Ишь, студень холодный, чего выдумала! Чтоб землякам на погибель солдат ей и способ предоставил же!…" Однако без хитрости и козы не выдоишь. Играет он, на тихие голоски песню выводит, а сам все обдумывает: как бы ее, скользкую бабу, вокруг пальца обвести.
– Сапог вернешь, тогда, может, и отдам…
Засмеялась русалка, аж по спине у него холодок ужом прополз.
– Сойди-ка, сахарный, поближе. Дай гармонь в руках подержать, авось обменяю.
Так он тебе и сошел… Добыл солдат из кармана леску, – не без запасу ходил, – скрозь гармонь продел, издали русалке бросил.
– На, поиграй… Я тебе, – даром, что чертовка, – полное доверие оказываю. Дуй в мою голову!…
Выхватила она из воды игрушку, в лунной ручке зажала, да к губам, – глаза так светками и загорелись. Ан, вместо песни пузыри с хрипом вдоль гармони бегут. Само собой: инструмент намокши, да и она, шкура, понятия настоящего не имела… Зря в одно место дует, – то в себя, то из себя слюнку тянет.
– В чем, солдат, дело? Почему у тебя ладно, стежок в стежок, а у меня будто жаба на луну квохчет?
– А потому, красава, что башка у тебя дырява… Соображения у тебя нет! Гармонь в воде набрякла, а я ее завсегда для сухости в голенище ношу. Сунь-ка ее в свой сапог, да поглубже заткни, – да на лунный камень поставь. Она и отойдет, соловьем на губах зальется. А играть я тебя в два счета обучу, как инструмент-от подсохнет.
Подплыла она, дуреха сырая, к камешку, гармонь в сапог, в самый носок честно забила, – к бережку вернулась, хвостом, будто пес, умиленно виляет:
– Так обучишь, солдатик?
– Обучу, рыбка! Козел у нас полковой, дюже к музыке неспособный, а такую красавицу как не обучить… Только, что мне за выучку будет?
– Хочешь, земчугу горстку я тебе со дна добуду?
– Что ж, вали. В солдатском хозяйстве и земчуг пригодится.
Мырнула она под кувшинки, круги так и пошли.
А солдат не дурак, – леску-то неприметную в руках дернул. Стал он подтягивать, – гармонь поперек в сапоге стала… Плюхнулся сапог в воду, да к солдату по леске тихим манером и подвалился.
Вылил солдат воду, гармонь выудил, в сапог ногу вбил, каблуком прихлопнул… Эх, ты, выдра тебя загрызи!… Ваша сестра хитра, а солдат еще подковыристее…
Обобрал заодно сачком раков, что вокруг мяса на палке кишмя-кишели, да скорее в лозу, чтобы ножки обутые скрыть.
Вынырнула русалка, в ручку сплюнула – полон рот тины, в другой горсти земчуг белеет. Бросил он ей фуражку, не самому ж подходить:
– Сыпь, милая… Да дуй полным ходом к камешку, гармонь в сапоге-то, чай, на лунном свете давно высохла.
Поплыла она наперерез, а солдат скорее за фуражку, земчуг в кисет всыпал, – вот он и с прибылью…
Доплыла она, шлендра полоротая, на камешек тюленем взлезла, да как завоет, – будто чайка подбитая:
– Ох, ох! А сапог-то мой где? Водяник тебя задави-и!…
А солдат ей с пригорка фуражечкой машет:
– Сапог на мне, гармонь при мне, а за земчуг покорнейше благодарю! Танюша у нас сухопутная в городе имеется, как раз ей на ожерелко хватит… Счастливо оставаться, барышня! Раков, ваших подданных, тоже прихватил, – фельдфебель за ваше здоровье попускает…
Сплеснула русалка лунными руками, хотела пронзительное слово загнуть, – да какая уж у нее супротив солдата словесность.
Случай такой был на осенних вольных работах. Копали солдаты у помещика бураки. Вот, стало быть, в один распрекрасный вечер ворочался солдат Кучерявый на своем топчане в хозяйской риге. Невтерпеж ему стало, надышали солдаты густо, – цельная рота, нет никакой возможности. Дневальный, к нему спиной повернувшись, устав внутренней службы долбит. Ночничок коптит. Чего ж зевать? Скочил он тихим манером с койки, шинельку в вещевой мешок прихватил, пошел искать себе спокою. Ходил-бродил и забрался в людскую баню, что на задворках стояла. Соломки в угол подбросил, умостился кое-как, притих и дремлет. Блохи огнем калят, да что ж, ужели из-за такой сволоты не спать?
Однако слышит, кто-то в вещевом мешке копается, – мышь не мышь, будто пес лапами скубет. Лунный дым пол заливает. Приклонил солдат голову, видит, зверь вроде древесной обезьяны. Откуль такому в Волынской губернии взяться? Глянул в другой раз, аж сердце зашлось: сверху рожки, снизу копытце, на пупке зеленый глаз горит. Подтянулся Кучерявый, – солдат не кошка, некогда ему пугаться. Левую ладонь мелким крестом закрестил, изловчился, и хвать за мохнатый загривок. Черт и есть, только мелкой масти, – надо полагать, из нестроевой чертовой роты самый лядащий.
– Ты чего, гад, в мешке шарил?
– Нитки, – говорит, – вощенной искал. Прости, служивый, дьявола ради!
– Зачем тебе, псу, нитки?
– Мышей летучих наловил, взводному бесу на уху. А нанизывать, дяденька, не на что.
– Вот я тебе чичас нанижу!
Выудил из кармана трынчик, сыромятный шинельный ремешок, и, ладони не снимая, скрутил бесу лапки, как петуху на базаре. Встряхнул и сел сверху.
– Ндравится?
– Чему ндравиться? Дурак стоеросовый! Пользы своей не понимаешь.
И захныкал.
– Кака-така польза? Чего врешь?
– Солдат врет, а черт, как стеклышко. Ты б меня отпустил, я б тебе за это исполнение желанья, как полагается, сделал.
– Надуешь, кишка тараканья!
– Ну, жди до свету. Может, я днем дымом растекусь, будешь, дурак, с прибылью. Чертово слово – как штык. Не гнется! Ты где ж слыхал, чтобы наш брат обещанья не исполнял. Ась?… А между прочим, зад у тебя, солдат, чижолый. Чтоб ты сдох!
И опять захныкал.
Задумался Кучерявый. Чего ж пожелать? Сыт, здоров, рожа, как репа. Однако, машинка у него заиграла, а черт тем часом перемогся, дремать стал, – глаз на пупке, как у курицы пленкой завело.
– Ладно! Что дрыхнешь-то? Тут тебе не спальный вагон. Сполняй желания: желаю быть здешним помещиком. Поживу всласть, мозговых косточек пососу… Хоть на час, да вскачь. Делай!
Черт лапой пасть прикрыл: смешно ему, да обнаруживать нельзя.
– Что ж, – говорит, – вали!… Удалось картавому крякнуть. Это ты, солдат, здорово удумал.
– А куда ж ты настоящего помещика определишь?
– Не твоя забота месить чужое болото. Подземелье у нас за дубняком есть: там и переспит, очумевши. А когда тебе надоест…
– Что ж тогда делать-то?
– Волос у меня выдери, да припрячь. Подпалишь его на свечке – помещик опять на своем отоман-диване зенки протрет, а ты прямо к вечерней поверке на свое место встрянешь. Понял?
– И козел поймет. Только как бы мне за самовольную отлучку не нагрело. Фельдфебель у нас, брат… шутник!
– Эх ты, мозоль армейский. В помещики лезет, а наказаниев боится. Ну, и сиди до утра, дави мои кости, – хрен сухой и получишь.
Привстал Кучерявый, ладонь с загривка снял. Плюнул ему черт промеж ясных глаз. Слово такое волшебное завинтил, – аж по углам зашипело: «Чур-чура, ни пуха, ни пера… Солдатская ложка узка, таскает по три куска: распядь пошире – вытащит и четыре!» Зареготал черт и сгинул.
И смыло солдата, как пар со щей, а куда – неизвестно.
* * *
На утро протирает тугие глаза – под ребрами диван-отоман, офицерским сукном крытый, на стене ковер – пастух пастушку деликатно уговаривает: в окне розовый куст торчит. Глянул он наискосок в зеркало: борода чернявая, волос на голове завитой, помещицкий, на грудях аграмантовая запонка. Вот тебе и бес! Аккуратный хлюст попался. Крякнул Кучерявый. Взошел малый, в дверях стал, замечание ему чичас сделал:
– Поздно, сударь, дрыхнуть изволите. Барыня кипит, – третий кофий на столе перепревши.
– Ты ж с кем, – отвечает солдат, – разговариваешь? Каблуки вместе, живот подбери.
– Некогда, – говорит, – мне с животами возжаться! Барыня серчает. Приказала вас сею минуту взбудить. Все дела проспали.
– Как барыню зовут-то?
Шарахнулся малый.
– Аграфеной Петровной. Шутить изволите?
– А тебя как кличут?
– Ильей пятый десяток величают. Кажная курица во дворе знает.
Спугался слуга. Помещик у них тихий, непьющий, – барыня строгая, винного духа не допускала. С чего бы такое затмение?
Влез солдат в поддевку, плисовые шаровары подтянул, сам себе перед зеркалом рапортует:
– Честь имею явиться. Вас черти взяли, а меня на ваше место представили. Мурло только у вас не очень чтобы выдающее…
Умываться стал, Илья пуще глаз таращит. Где ж видано, чтобы благородный господин, в рот воды набравши, себе на руки прыскал и по роже размазывал. Однако стерпел. Видит, характер у помещика за ночь как будто посурьезнее стал.
– Зубки изволили забыть почистить.
– Я тебе почищу, будешь доволен. Полуоборот направо! Показывай, хлюст, дорогу, забыл я чего-й-то.
Одним словом, взошел он в столовую комнату. Помещение вроде полкового собрания, убранство, как следует: в углу плевательная миска, из кадки растение выпирает, к костылю мочалой прикручено, под потолком снегири насвистывают, помет лапками разгребают. Жисть!
За кофием грозная барыня сидит, по столу зорю выбивает. Насупилась. Собой красавица: у полкового командира мамка разве что чуть пополнее…
– Заспался? Заместо кофию сухарь погрызешь песочный. Требуха ползучая! Забыл, что-ли, какой ноне день?
– Не могу знать. День обнаковенный, воскресный. Дозвольте вас, Аграфена Петровна, в сахарное плечико… того-с…
Вскипела барыня, плечом в зубы ткнула, так пулеметным огнем и кроет… Откудова ж Кучерявому знать, что у них вечером парад-бал назначен, батальонный адъютант дочке предложение нацелился сделать. Упаси Господи, хоть из дому удирай, да некуда. А барыня дочку из биллиардной кличет, полюбуйся, мол, на папашу. Забыть изволил – «жирофлемонпасье»! Может, оно по-французски и хорошее что обозначает, а может, француз за такие слова чайный сервиз разбить должен…
Дочка ничего, из себя хлипкая, жимолость на цыплячьих ножках. Покрутила скорбно головой, солдата в темя чмокнула. Нашла тоже, дура, куда целовать.
Одним словом, отрядила барыня солдата перед крыльцом дорожки полоть, песком посыпать. Как ни артачился, евонное ли, бариново дело в воскресный день белые ручки о лопух зеленить? – никаких резонов не принимает. Как в приказе: отдано и – баста. Слуги все в город за вяземскими пряниками усланы, Илья-Холуй на полу сидит, медь-серебро красной помадой чистит. Полез было солдат в буфет травнику хватить, чтобы сердце утишить. Ан, буфет на запоре, а ключи у барыни на крутом боку гремят. Сунься-ка!
Ползал он, ерзал до обеда, упарился, китайского шелка рубашка пятнами пошла. Домашний пес, меделянский пудель, за ним, стерва, ходит. Чуть Кучерявый присядет корешков покурить, тянет его за поддевку, рычит: – «Работай, мол, солдатская кость, знаем мы, какой ты есть барин!»
С пол-урока отмахал, дочка ему в форточку веером знак подает: папаша, обедать! Взыграл солдат, – в брюхе-то, ползавши, аппетит нагуляешь. Взошел перышком. Смотрит, перед барыней гусь с яблоками, перед им – суп-сельдерей из мушиных костей, две крупки впереди плывут, две сзади нагоняют.
– Почему, – говорит, – такое?
– Почки у тебя гнилые, мясного тебе нельзя. Супу не хочешь, – моркови сырой погрызи, очень от почек это помогает.
Встал солдат из-за стола, – будто на сонной картинке пирожок лизнул. В плевательную миску плюнул. «Покорнейше благодарим!» Поманил Илью глазом. Стоит, гад, чурбан-чурбаном, с барыниной шеи муху сдувает. Сам, небось, все потроха-крылышки потом один стрескает. Пошел горький помещик с пустой ложкой на кухню. Котлы кипят, поросенок на сковороде скворчит, к бал-параду румянится.
Фельдфебель, кот лысый, расстегнувши пояс, у окна сидит, студень с хреном хряпает, желвак на скуле так и ходит. Посматривает Кучерявый издали на фельдфебеля с опаской, переминается, а сам спряпуху в сени манит:
«Выдь-ка, мать, разговор будет». Вышла она к нему, ничего. Женщина пожилая, почему и не выйти.
– Ужели, – говорит солдат, – для ради своего барина и студня не найдется? Оголодал, мочи моей нет, – кишка кишку грызет.
Не на такую, однако, наскочил.
– И не просите, ваше здоровье! Барыня меня пополам перервет, потому – почки у вас заблуждающие.
Послал он стряпуху, куда по армейскому расписанию полагается, с тем и ушел. Фельдфебельскую казенную горбушку на кадке нашел, сгрыз до крошки. А за окном солдаты, ротные дружки, в ригу гуськом спешат, котелки с щами несут, лавровый дух до самого сердца достигает, мясные порции на палочках несут. Променял быка на комариную ляжку!
Вертается он мимо барыниной спальни. Слышит, спружины под барыней ходят, кряхтит барыня, гуска ее распирает. Поиграть, что ли? Остановился, в дверь мизинным пальцем деликатно брякнул.
– Дозвольте взойти? В акульку перекинуться, либо орешков погрызть? Оченно тошно одному до дому слоны слонять. А вы, между прочим, из себя кисель с молоком, хоть серебряной ложкой хлебай. Душенька форменная!
– Пошел, – говорит, – прочь, моль дождевая! Чтоб я таких слов солдатских больше не слышала!
К дочке в стенку изумрудным кольцом тюкнула и опять слова свои по-французски: «жирафле-монпансье…» Хрен их знает, что они обозначают.
Стащил Кучерявый с коридорного ларя лакейскую гармонь. Обрадовался ей, словно ротному котлу. Пошел к себе в кабинет, на отомане умостился, ноги воздел и только было грянул любимую полковниковую:
Дело было за Дунаем
В семьдесят шастом году, –
ан, летят со всех ног Илья-холуй да стряпуха Фекла, руками машут, гармонь из рук выворачивают.
– Барыня взбеленимшись, у них только послеобеденный сон в храп развернулся, а вы ее таким простонародным струментом сбудили. Приказано сей же час прекратить!
Загнул солдат некоторое солдатские присловье, Феклу так к стене и шатнуло. Однако, подчинился. Видит – барыня в доме в полных генеральских чинах, а помещик вроде сверхштатного обозного козла, ротной собачке племянник.
Задержал он в дверях Илью, спрашивает:
– Что ж это, друг, барыня у вас такая норовистая? До себя не допущает, никакой веселости ходу не дает. В чем причина?
Лакей форменно удивляется:
– Рази ж вам неизвестно, что имение на ихнее, барынино, имя записано. Характер у вас по этой причине подчиненный. Туфельки на бесшумной подошве надеть извольте-с. Барыня серчает, почему скрип.
– Дал бы я твоей барыне леща промеж лопаток… Давай туфлю-то, рабья душа!
Скидывает он с тихим шумом штиблетки на самаркандский ковер. Нагнулся, – слышит от Ильи умильный дух – перегаром несет.
– Что ж, Илья, этак не годится! Я ведь тоже вроде человек. Тащи сюда сладкой водочки, да огурцов котелок. Ухнем в тишине, тетку твою за правую ногу!
– Никак нет, сударь! Барыня меня должности решит. Я потаенно, извините, вкушаю. А вам они нипочем не дозволяют. Капли свои почечные извольте принять.
Схватил солдат Илью за бело-коленкоровые грудки, потряс и в коридор высадил. Пал на отоман, бородку в горстку сгреб и до самой вечерней зари, как бугай, пластом пролежал. Авось, думает, на бал-параде отыграюсь…
* * *
Ввечеру снарядили солдата по всей форме. Сапожки лаковые по ранту, поддевка новая, царского сукна, кисть на рубашке алая, полтинник, не меньше, стоит. Набрался он духу, сунулся было в дверях с ротного командира шинельку стаскивать. Однако барыня зашипела: «Ты что ж, денщик, что-ли? Фамилию свою срамишь. С дам скидывай, а с господами офицерами и Илья управится». Ротный ему лапу сует, здоровкается, а солдат-дурак руки по швам, глаза пучит, тянется. Кое-как обошлось. Идут в зальцу. Начальства этого самого, как в полковой праздник. К закускам табуном двинулись. Графины один другого пузатее, разноцветным зельем отливают.
Насмелился солдат, – в суете да с обиды и мышь храбра, – дернул рюмку-другую. С полковым батюшкой чокнулся, хоть он и на офицерской линии, однако, вроде вольного человека. Хватил по третьей, – барыне за адъютантской спиной подмигнул: сторонись, душа, оболью. Четвертую грибком осадил. От пятой еле его Илья отодрал, – не жаль себя, да жаль водочки… Кругом народ исподтишка удивляется: ай-да помещик, неужели барыня на его имя имение отписала? Ишь хлещет, будто винокуренный завод пропивает.
Однако, укорот ему тут барыня сделала. Посадила с собой рядом за стол, по другую руку ротный. Прикрутила малого на короткую цепочку. Сама его в бок локтем, каблуком на мозоль давит, глаза зеленые, того и гляди пополам перекусит. Ротный его про здоровье спрашивает, насчет заблуждающейся почки, а он, словно за чуб его бес поднял, вскочил да гаркнул по-солдатски:
– Покорнейше благодарим, ваше высокоблагородие!
Гости, известно, ухмыляются: разнесло, мол, помещика, рот на распашку, язык на плече…
Осадила его барыня на задние ноги, аж шароварный хлястик лопнул. Кругом пьют, едят, сосед соседке кренделяет. Один солдат, как пес на аркане. Только во вкус вошел, робость монопольным винтом вышибать стало, ан тут и точка.
Между тем, господин полуротный напротив сидел, догадался: «Воды, говорит, – не угодно ли? Потому у вас в лице сердечная бледность».
Накапал ему с полстакана. Поднес Кучерявый к усам: хлебной слезой так в душу и шибануло! Опрокинул на лоб, корочку черную понюхал, сразу головой будто выше стал. Барыне сам на мозоль наступил, в бок ее локтем двинул… Песню играть стал, с присвистом ложками себе по тарелке подщелкивает:
На поляне блестит лужа,
Воробьи купаются…
Наша барыня от мужа
В полдень запирается!
Катавасия тут пошла, грохот. Барыня авантажной ручкой до солдатской морды добирается: сконфузил, гунявый, при всех, да и дочке карьеру того и гляди перешибет. Ротный ее оттаскивает, полковой доктор каплями прыщет. Еле угомонились. А тут дочка для перебоя на фортепьянной музыке танец вальс ударила, завертелись кто с кем. Солдат не зевает, полынной в суматохе в проходном закоулке хватил, – хмельной клин в голову себе вбил. Ротного матушку, полнокровную сырую старушку обхватил и давай ее почем зря буреломом вертеть, как жернов вокруг пушки. Солдатские вальцы ломают пальцы… Насилу отодрали.
Разбушевался Кучерявый. По ломбардному карточному столику ляпнул – доска пополам.
– Кто здесь хозяин? Я! Построиться всем в одну шеренгу! На первый-второй рассчитайсь!… Ряды вздвой! Желаю всем приказание объявить…
Ну, тут некоторые военные насупились: простой помещик, вольная личность – офицерским составом командовать вздумал. Собрались кольцом, дым ему в нос пускают, пофыркивают. А он как рявкнет:
– Желаю, чтобы всю роту чичас же сюда представить! Всем солдатам полное угощенье! И чтоб жена моя, барыня, при полном параде русскую перед ими сплясала. Живо!
Тут его окончательно и пришили. Справа и слева под ручки, как свинью на убой, поволокли. Елозит он ногами, упирается, а барыня сзаду разливательной ложкой по ушам да по темени. Насилу полковой доктор уговорил, чтобы полегче стукала, потому при блудящей почке большой вред, ежели по ушам-темени бить.
Вдвинули его в кабинет, наддай пару, так до самого дивана на собственных салазках докатился. Вот тебе и помещик! И дверь на двойной поворот: дзынь. Здравствуй, стаканчик, прощай вино!
Отдышался он, вокруг себе проверку сделал: вверху пол, внизу – потолок. Правильно. В отдалении гости гудят, вальц доплясывают. Поддевка царского сукна подмышкой пасть раскрыла, – продрали, дьяволы. Правильно. Сплюнул он на самаркандский ковер, – кислота винная ему поперек глотки стала. Глянул в угол, – икнул: на шканделябре черт, банный приятель, сидит, щучий сын, ножки узлом завязывает-развязывает. Ах ты, отопок драный, куда забрался.
– Что ж, господин помещик, весело погуляли, мозговых косточек пососавши?
– Не твое, гнус, дело. Слезай чичас с моей шканделябры!
– Слез один такой… Говори с дивана, я и отсюда слышу.
– Желанье мое второе сполнить можешь?
– Уговор об одном был. Разлакомился?
– Барыню мою сократи, сделай милость. Я тебе вощенных ниток цельный моток у каптенармуса добуду.
– Ишь, сирота! За одну минуту кости давил, а теперь – моток! Шиш получишь, а второй тебе завтра барыня к обеду выставит. С мозговой косточкой…
Рванулся было Кучерявый с дивана, да хмель его назад навзничь бросил…На пустой желудок, полынная, известно, хуже негашенной известки.
– Эфиоп тухлый! Сдерну вот пищаль с ковра, глаз тебе на пупке прострелю, как копеечку…
– Вали, вали! Пищаль, брат, с турецкой кампании не заряжена. Мишень-то готова.
Рыбьей спиной повернулся и хвост задрал.
– Пали, ваше благородие. Может, ручки подсобить вам поднять?
И серный дух по всему кабинету пустил. Прямо до невозможности.
Икнул солдат, язык пососал и голову набок.
* * *
Прочухался солдат через некоторое время. В окне вечерняя заря полыхает. Пошарил кругом, от помещицкого обмундирования одна пуговица на ковре валяется. Дверь на запоре. Под окном меделянский пудель, домашняя собачка, на цепу скачет, пленника стережет. Дожил Кучерявый. Ротный не сажал, а тут партикулярная баба строгим арестом наградила. Илья, поди, в замочную щель смотрит, в кулак, стервец, грегочет. Опохмелиться нечем… Слюнку проглоти, да языком закуси. Потряс он дверь изо всех солдатских сил, барыня из биллиардной так и рявкнула:
– Цыц, гунявый! Не то и белье отберу. Жалобу губернатору подам, что ты меня тиранишь. Я евонная дальняя тетка! Он тебя, окаянного, в дисциплинарный монастырь сошлет…
Хлопнул себя солдат по исподним, – попал, как блоха в тесто. И пяток теперь не отдерешь. А за окном солдатики у колодца весело пофыркивают, белые личики умывают. Жисть!
Сунулся он было в кисет, дымом перегар перешибить. Ан в кисете пусто: только и всего – дратва не дратва, вроде свиной щетинки волосок свернувшись.
Вспомнил он, в чем суть, на радостях на весь дом засвистал, аж в шканделябрах хрусталики закачались. Теперь можно! Шваркнул серничком о пол, запалил волосок, – и смыло солдата, как пар со щей…
А перекличка тем часом идет, до его фамилии добираются.
– Кучерявый!
– Я!
– Ты где ж это, лягавый, бродил? Куда самовольно отлучался?
– Не могу знать, господин фельдфебель!
Не успел фельдфебель на него зыкнуть, распоряжение сделать, чтобы на утро солдата при полной выкладке под ружье у риги поставить, – ан в дверях Илья-холуй с ножки на ножку деликатно переступает.
Подошел фельдфебель, ручку ему потряс.
– Барыня прислали, нельзя-ли к им завтра утречком солдатика прислать. По случаю бал-парада столик ломбардный пополам хряснул.
– Что ж, – говорит фельдфебель. – Кучерявый у нас столяр выдающий. Завтра утром и пойдешь. Барыня тебя за работу гуской покормит, мозговых косточек пососешь…
У солдата аж в грудях засвербело. Не иначе как черт это его опять сосватал. Ишь, зеленый пупок в углу над бревном помигивает. Закрестил от себе мелким крестом ладонь, руку сжал, черту исподтишка кулак показывает.
И фельдфебель, – точно его, лысого кота, ветер на оси в другую сторонузавернул, – задумался…
– Никак нет… Запамятовал. Завтра утром ротный приказал Кучерявого в город командировать. В полковой канцелярии шкаф рассохши…
Вздохнул Кучерявый. Будто сто пудов с плеч сбросил… Да, пожалуй, барыня не меньше того и весила.
За синими, братцы, морями, за зелеными горами в стародавние времена лежали два махоньких королевства. Саженью вымерять – не более двух тамбовских уездов.
Население жило тихо-мирно. Которые пахали, которые торговали, старики-старушки на завалинках толокно хлебали.
Короли ихние между собой дружбу водили. Дел на пятак: парад на лужке принять, да кой-когда, – министры ежели промеж собой повздорят, – чубуком на них замахнуться. До того благополучно жилось, аж скучно королям стало.
Был у них на самой границе павильон построен, чтобы далеко друг к дружке в гости не ходить. Одна половина в одном королевстве, другая в суседском.
Сидят они как-то, дело весной было, каждый на своей половине, в шашки играют, каждый на свою землю поплевывает.
Стража на полянке гурьбой собрамшись, – кто в рюхи играет, кто на поясках борется. Над приграничным столбом жучки вьются, – какой из какого королевства и сам не знает.
Вынул старший сивый король батист-платок, отвернулся, утер нос, – затрубил протяжно, – спешить некуда. Глянул на шашечную доску, нахмурился.
– Неладно, Ваше Королевское Величество, выходит. У меня тут с правого боку законная пешка стояла. А теперь гладко, как у бабы на пятке… Ась?
Младший русые усы расправил, пальцами поиграл.
– Я твоим шашкам не пастух. Гусь, может, мимо пролетающий, крылом сбил, али сам проиграл… Гони дальше!…
– Гусь? А энто что?… – и с полу из-под младшего короля табуретки шашку поднял. – Чин на тебе большой, королевский, а играешь, как каптенармус. Шашки рукавом слизываешь.
– Я каптенармус?…
– Ты самый. Ставь шашку на место.
– Я каптенармус?! От каптенармуса и слышу! – скочил младший король с табуретки и всю игру полой халата на земь смахнул.
Побагровел старик, за левый бок хватился, а там за место меча чубук за пояс заткнут. Жили прохладно, какие там мечи!
Хлопнул он в ладоши:
– Эй, стража!
Русый тоже распетушился, кликнул своих.
Набежали, туда-сюда смотрят: нигде жуликов не видно. Да и бить нечем, – бердышей, пищалей давно не носили, потому оченно безопасная жизнь была.
Постояли друг против друга короли, – глаза, как у котов в марте, – и пошли каждый к себе подбоченясь. Стража за ими, – у кого синие штаны за сивым королем, у кого желтые – за русым.
* * *
Стучат-гремят по обеим сторонам кузнецы – пики куют, мечи правят. Старички из пушек воробьиные гнезда выпихивают, самоварной мазью медь начищают. Бабы из солдатских штанов моль веничком выбивают, мундиры штопают, – слезы по ниткам так и бегут. Мужички на грядках ряды вздваивают, сами себе на лапти наступают.
Одним малым ребятам лафа. Кто на пике, заднюю губернию заголив, верхом скачет… Иные друг против дружки стеной идут, горохом из дудок пуляют. Кого в плен за волосья волокут, кому фельдшер прутом ногу пилит. Забава!
Призадумались короли. Однако по ночам не спят, ворочаются, – война больших денег стоит. А у них только на мирный обиход в обрез казны хватало. Да и время весеннее, боронить-сеять надо, а тут лошадей всех в кавалерию-артиллерию согнали, вдоль границы укрепления строют, ниток однех на амуницию катушек с сот пять потребовалось. А отступиться никак невозможно: амбицию свою поддержать кажному хочется.
Докладывает тем часом седому королю любимый его адъютант: так-то и так, Ваше Величество, солдатишка такой есть у нас завалящий в швальне, солдатские фуражки шьет. Молоканского толку, не пьет, не курит, от говяжьей порции отказывается. Добивается он тайный доклад Вашему Величеству сделать, как войну бескровно-безденежно провести. Никакого секрета не открывает. Как, мол, прикажете?
– Гони его сюда. Молокане, они умные бывают.
Пришел солдатик, смотреть не на что: из себя михрютка, голенища болтаются, фуражка вороньим гнездом, – даром что сам мастер. Однако бесстрашный: в тряпочку высморкался, во фронт стал, глаза как у кролика, – ан смотрит весело, не сморгнет.
– Как звать-то тебя?
– Лукашкой, ваша милость. «Трынчиком» тоже в швальне прозывают, да это сверхштатная кличка. Я не обижаюсь.
– Фуражки шьешь?
– Так точно. Нескладно, да здорово. А в свободное время лечебницу для живой твари содержу.
– Какую еще лечебницу?
– Галченок, скажем, из гнезда выпадет, ушибется. Я подлечу, подкормлю, а потом выпущу…
– Скажи, пожалуйста… Добрый какой!
– Так точно. Веселей жить, ежели боль вокруг тебя утишаешь.
Повел король бровью.
– Ишь ты, Чудак Иванович! А каким манером, ты вот похвалялся, – бескровно и безденежно войну вести можно?
– Будьте благонадежны! Только дозвольте до поры-времени секрет мне при себе содержать, а то все засмеют, ничего и не выйдет.
– Да как быть-то? Ядра льют, пуговицы пришивают… Чего ж ждать-то?
– Не извольте беспокоиться! Пошлите, ваша милость, суседскому королю с почтовым голубем эстафет: в энтот, мол, вторник в семь часов утречком пусть со всем войском к границе изволят прибыть. Оружия ни холодного, ни горячего чтоб только с собой не брали, – наши, мол, тоже не возьмут… И королевскую большую печать для правильности слова приложите. Да на военный припас три рубля мне пожалуйте, только всего и расходов.
– Ладно! Однако, смотри, Лукашка!… Ежели на смех меня из-за тебя, галченка, подымут, – лучше бы тебе и на свет не родиться.
– Не извольте пужать, батюшка. Раз уж родился, об чем тут горевать…
С тем и вышел, голенища свои на ходу подтягивая.
* * *
Стянулись к приграничной меже войска, – кто пешой, кто конный. Оружия, действительно, как условились, не взяли. Построились стеной, строй против строя. Шепот по рядам, как ветер перекатывается. Не зубами ж друг друга грызть будут… Ждут, чего дальше будет.
Короли, насупившись, кажный на своем правом фланге на походном барабане сидит, в супротивную сторону и не взглянет.
Глядь, издалека на обозной двуколке Лукашка катит, под себя чего-то намостил, будто кот на бочке подпрыгивает.
Осадил коня промеж двух войск, скочил наземь и давай из тележки круг за кругом толстый корабельный канат выгружать. А вдоль каната на аршине дистанции узлы позакручены.
Стал Лукашка на пень, ладони ложечкой сложил и во все стороны звонким голосом разъяснение сделал:
– Вот, стало быть, братцы, посередине каната для заметки синий флажок завязан. Пущай кажное войско на своей стороне, в затылок стамши, за канат берется.
Флажок, значит, над самой границей придется. И с Богом, понатужьтесь, тяните на перетяжку… Чья сторона осилит, канат к себе перетянет, та, стало быть, и одолела. И амбицию свою соблюдем и никакого кровопролития в золотой валюте. Скоро и чисто!… Полей не перетопчим, детей не осиротим, хаты целы останутся. А уж какое королевство не одолеет, пущай супротивникам на свой кошт полное угощение сделает. Всему то-есть населению!… Ежели господа короли согласны, нехай кажный со своей стороны батист-платочком взмахнет – и валяйте! А чтобы веселей было тянуть, пущай полковые оркестры вальс «Дунайские волны» играют. Усе!
Ухмыльнулись короли, улыбнулись полковники, осклабились ротные, у солдат – рот до ушей. Пондравилось! Стали войска по ранжиру гуськом, белые платочки в воздух взвились. Пошла работа! Тужатся, до земли задами достают, иные сапогами в песок врывшись, как клюковка стали… А которые старшие, вдоль каната бегают, своих приободряют: «Не сдавай, ироды, наяривай! Еще наддай, родненькие, так вас перетак!…»
Лукашка клячу свою отпрег, брюхом перевалился, вдоль каната разъезжает, – чтобы обману нигде не было. Увидал, как на супротивной стороне канат было об березу закрутили, чичас же распорядился: «Отставить! Воюешь, так воюй по правилу!…»
Вспотели кавалеры, дух над шеренгой будто портянки в воздухе поразвесили, – птички так в разные стороны и разлетелись. А народ в азарт вошел. Полковники которые, генералы, все к канату прицепились, старички некоторые, мирное население, из-за кустов повыскакивали, вонзились, кажный в свою сторону наддает – тянет. Только и слышно, как штаны-ремешки с обоих фронтов потрескивают.
Короли, и те не выдержали. Повскакали с барабанов, кажный к своему концу бросился… Музыканты трубы покидали и туда же…
И вдруг, братцы мои, как лопнет канат на самой середке: так оба войска гуськом на земь и попадали. Пыль винтом! Отдышавшись, озираются… Как быть?
Кличет седой король Лукашку.
– Эй, ты, Ерой Иванович! Как же теперь вышло? Кто победил-то?
А Лукашка громким голосом на всю окрестность, глазом не сморгнувши, объявляет:
– Ничья взяла! Полное, стало быть, замирение с обеих сторон. Кажный король суседское войско угощает. А назавтра, проспавшись, все, значит, по своим занятиям: кто пахать, кто торговать, кто толокно хлебать.
Ликование тут пошло, радость. Короли друг дружку за ручку трясут, целуются. По всей границе козлы расставили, столы ладят, обозных за вином-закусками погнали. А пока обернутся, тем часом короли в павильон за свои шашки сели, честно и благородно.
Не все, конечно, с земли встали-то. У иных, как канат лопнул, – шаровары-брюки по швам разошлись, как тут пировать будешь. Кое-как, рукой подтянувши, до кустов добрались, а там бабы, которые на сражение издали смотрели, швейную амбулаторию открыли. Известно, уж у кажной бабы в подоле нитка-иголка припасена.
Кликнули к себе короли в павильон Лукашку.
– Что ж, молодец, дело свое ты справил. Чем тебя наградить, говори, не бойся. На красавице женить, альбо дом с точеным крыльцом построить?
Высморкался Лукашка в тряпочку, во фронт стал, отвечает:
– Дом у меня везде. Где я нужен, там и мой дом. Красавицы мне не надо, из себя я мизерный, ей будет обидно. Да и мне она, человеку кроткому, не с руки. Соблаговолите лучше, Ваше Здоровье, приказ отдать по обоим королевствам, чтоб ребята птичьих гнезд не разоряли. Боле ни о чем не прошу!
Ухмыльнулись короли, обещали, отпустили его с миром. Блаженного дурака и наградить нечем!…
* * *
Таким манером, землячки, сражение энто на пользу всем и пошло. У других от войны население изничтожается, а здесь прибавка не малая вышла. Потому, когда бабы по густым кустам-буеракам разбрелись, – портки полопавшиеся на воинах пострадавших чинить, – мало ли чего бывает. Крестников у Лукашки завелось, можно сказать, несосветимое число!
Осмотрели солдатика одного в комиссии, дали ему два месяца для легкой поправки: лети, сокол, в свое село… Бедро ему после ранения, как следует, залатали, – однако ж настоящего ходу он не достиг, все на правую ногу припадал. Авось, деревенский ветер окончательную разминку крови даст.
Попал он с лазаретной койки, можно сказать, как к куме за пазуху. На палочке ясеневой винтом кору снял, – ходи себе барином да постукивай. Хочешь, на завалинке сиди, табачок покуривай, – полковница вдовая на распределительном пункте два картуза махорки ему пожертвовала. Хочешь, в коноплянике на рогоже валяйся, легкие тучки считай да слушай, как кудрявый лист шипит… Окопы словно в темном сне снились, – русский воздух, бадья у колодца звенит. Ручей за плетнем воркочит, петух домашний штаны клювом долбит, – тоже, дурак, нашел себе власть.
Семейство у солдата было ничего, – зажиточное. Картофельными лепешками его ублажали, молоко свое, немеренное, в праздник – убоина, каждый день чаек. Известно – воин. Он там за них, вахлаков, в глине сидючи, что ни день со смертью в дурачки играл, как такого не ублажить. Работы, почитай, никакой, нога ему не дозволяла за настоящее приниматься. То ребятам на забаву сестру милосердия из редьки выкроит, то Георгиевский крест на табакерке вырежет, – одно удовольствие.
А вокруг села, братцы мои, леса стеной стояли. Дубы кряжистые, – лапы во все концы, глазом не окинешь. По низу гущина: бересклет, да осинник, да лесная малина, – медведь заблудится. На селе светлый день, а в чащу нырнешь, солнце кой-где золотым жуком на прелый лист прыснет, да и сгинет, будто зеленым пологом его затянуло… Одним словом – дубрава.
Сидит так-то солдат под вечер на завалинке. Овцы с лужка через выгон серой волной к своим дворам катятся, – которая овца на солдатское голенище уставится, которая ясеневую палочку понюхает. Забава!…
Подсела тут старушка одна знакомая, – черный шлык, глазки шильцем, язык мыльцем, голова толкачиком.
– Что ж, бабушка, – говорит солдат. – Внучки твои малинки лесной хочь бы кузовок принесли… С молоком – важная вещь. Уж я бы им пятак на косоплетки выложил. Да и грибов бы собрали. У вас тут этого земляного добра лопатой не оберешь. А я бы насушил, да фельдфебелю нашему, с дачи на фронт вернувшись, в презент бы и поднес. Гриб очень солдатским снеткам соответствует.
Пожевала старушка конец платка, головой покачала.
– Эх, сынок ясная кокарда! Стало быть, ты про беду нашу и не слыхал? Какие тут грибы да малина, ежели в лес не то что дитё, – и сам кузнец шагу теперь не ступит…
– Вот так клюква! Медведи к вам, что ли, с западного фронта по случаю отступления на постой перешли?
– Эк, сказал! На медведей бы мы всем селом облавой пошли, нам же прибыль была б. В аптеке, сказывают, нынче за медвежье сало по полтиннику за фунт дают. Какие там медведи… И свои лохматые, какие были, из лесу не весть куда ушли. Не то что человек, зверь лесной, и тот не выдержал!
– Что ж, бабушка, за вещь такая? Лешие у вас тут, что ли, расплодились? Да они ж, милая, бессемейные, – сам от себя не расплодишься…
– А ты говори, да оглядывайся. Дело-то к ночи идет. И впрямь, дружок, лешие… Допреж того спокон веку мы спокойно жили. В лесу хочь люльку поставь: дятел на сучек сядет, чуб на бок, да и прочь отлетит. Только и всего! Да, вишь ты, ненароком правду сказал: не иначе, как с прифронтовой полосы на нас накатило… Волостной писарь сказывал, будто германы газ такой в самоварах ихних кипятят, – покойников неотпетых вываривают, на нашу сторону дух по ветру пущают. Рыба в реках пухнет, лист вянет, людей берестой сводит! Лошади ли, медведи, вся тварь живая до подземного, скажем, жука, вся как есть мрет. Стало быть, и нежить лесная, – тоже, и ей дышать надо, – смраду этого не стерпела, вся начисто к нам и подалась. Вот и поди в лес теперь по малинку!…
– Да видал ли их кто, бабушка? Може, попритчилось кому с полугару? На сапог сам себе наступил, через портки перескочил да и ходу.
Обиделась баба, локтем пыль взбила, – натурально, старому человеку хрена в квас не клади.
– Воевать ты, сынок, воевал, а ум-от свой в лазарете под подушкой забыл. Сорока я, что ли, чтоб зря цокотать? Люди видали. Псаломщик, человек нечисти неприкосновенный, – при церкви на должности состоит, – в лес по весне сунулся хворосту собрать, и того захороводили. Средь белого дня лешие с ним в кошки-мышки играть затеяли… Он под куст, а лесовик его за штанцы, – он под другой, а там его не весть кто ореховым прутом по сахарнице. Гоняли-гоняли, как крысу по овину. Очумел он совсем, голосу лишился. Только на колокольный звон к вечеру на карачках продрался.
– А он бы им чего-нибудь на глас шестой спел, они б и отстали…
– Тебя не спросился! Каки там гласы, когда его в цыганский пот ударило; как шкалик называется, только на третий день вспомнил…
– Контузия, бабушка, по-военному это будет.
– Что пузо, что брюхо, – мясо-то одно. А кузнеца, свет мой, прикрутили к сосне, стали его на медные шипы подковывать. Да спасибо, догадался: через левое плечо себя обсвистал, да черным словом три раза навыворот выругался, – только тем и отшиб… С неделю опосля того на пятку ступить не мог.
Передвинул солдат фуражку козырьком к стенке, призадумался.
– Что ж у вас меры какие принимали?
Заахала тут старушка, раскудахталась:
– Принимали. Знахарь наш, Ерофеич, один глаз кривой, другой косой, – чай, сам его знаешь, – уж чего не делал… Первоначально тридцать три вороны поймал, черным воском им задки запечатал, да на опушке в полнолунье и вытряс. Крику-то что было! Опосля семи живым зайцам на хвост по жабьей косточке специально привязал, – да от семи осин, что на Лысой поляне растут, в разные стороны с наговором и спустил. Средствие верное! Собрали мы ему на винцо, на пивцо, а он к лесному озеру, бесстрашный пес, пошел раков на закуску ловить. «Теперь, – говорит, – дело крепко припаяно, ни на полшиша они мне беды не сделают!» Из дыма, вишь, веревку свил: лесовики пришлые, – военный крючок им не по мерке пришелся… Только это Ерофеич на бережку под ивой переобуваться стал, – глядь, сбоку самые матерые лешаки друг у дружки в шубе лесных клопов ищут. Икнул он тут с перепугу, а лешие к нему, да за жабры: «Ага, сват, сто шипов тебе в зад, – тебя-то нам и не хватало!» Сунули его головой в дупло, да как в два пальца засвистят, так раки к ним со всего озера и выползли… «Эвона, – кричат, – вам закуска! Вон он, знахарь, вороний скоропечатник, ножницы раскорячив, из дупла торчит… Дня на три вам, поди, хватит!…» Так бы и источили. Однако и знахаря голой клешней за пуп не ухватишь. Вынул он из-за пазухи утоплого пьяницы мозоль, – на всякий случай завсегда при себе носил. Добыл серничек, чиркнул, мозоль подпалил: дупло пополам, будто бомбой его разодрало. Самого себя, как свинью, опалил, – однако случай такой: на мягкой карете не выедешь… Дополз домой, все село сбежалось, – по всему телу у него синие бобы, будто ситчик турецкий… Вот и сунься! Грибами теперь у нас, хочь сам архиерей прикати, не полакомишься.
«Неладно, – думает солдат, – выходит! По городам, по этапным дворам, по штабам-лазаретам, и слухом о таких делах не слыхать. Порядок твердый, все как есть одно к одному приспособлено. Будь ты хочь распролеший, – в казенное место сунешься, – шваброй тебя дневальный выметет, и не хрюкнешь. А тут коренное русское село, в тихую глухомань этакое непотребство вонзилось…»
– Ну, а к батюшке, бабушка, обращались?
– Обращались, розан мой, обращались. Насчет лесной погани, – говорит, – это дело не мое. Один суевер ветку нагнул, другого по ушам хлестнуло, третий караул кричит. Серая брехня! Да и как вы к Ерофеичу обращались, пущай вас тот лекарь и лечит, который пластырь варил.
Обиделся, значит… Да вишь, брехня-брехней, однако ни попадья, ни ейные ребята тоже в лес и носу не кажут. А, небось, в былое время одной лесной малины в лето с куль насушивали… Стало быть, третий суевер караул кричит, а четвертый под поповской периной дрожит.
Видит солдат, что туго завинчено. Чей бы бычок ни скакал, а у девки дитё… Посмотрел он, как за колодцем тонкая рябинка мертвым рукавом по темному небу машет, тихим голосом спрашивает:
– А здесь в селе не наблюдалось ли чего? Случаев каких-либо специальных?
– Наблюдалось! Ох, наблюдалось!… Чай им в лесу, оголтелым, скучно, озоруют и здесь. То коноплю кой-где серый дух, тьфу-тьфу, узлом завяжет, то поросеночка над избой в трубу сунет… То калитку с погоста повивальной бабке на крыльцо приволокут. А намедни у учительши курица петухом запела, срам-то какой. Чай тоже и у учительши амбиция своя есть… В стародавние времена леший кой-когда в лесу с девушки платок стащит, а таких подлостей не производили. Видно, и лешие нынче, – откуль их нанесло, – тоже осатанели. Чистые фулиганы!… А вот еще случай был… Да ну тебя, сынок, к Богу, – не путем спрашиваешь, не ко времени отвечаю. Проводи-ка ты меня до избы, а то борону у плетня увижу, не весть что померещится… А все из-за вашей войны, будь она неладна. По небушку летают, солдатские газы пущают. Вот и дождались!
Доставил солдат Божью старушку по принадлежности. К своему крыльцу зашкандыбал, палочкой гремит, старушкины слова так и этак переворачивает. Что ж, ежели в сам-деле с прифронтовой полосы купоросным газом сволоту эту лесную нагнало, надо обратное средство найти. Ужель свое село так нечисти болотной и предоставить?…
В пустую кадку постучи, пустота и отзовется, – ан солдатская голова не без начинки, братцы… На заре, чуть ободняло, прокрался он задворками к бабке доказчице. Брякнул в оконце. Высунула она свое печеное яблочко наружу, как мышь из-под лавки.
– Чего, друг, гремишь? Окном не обознался ли? Ничего у меня старушки про вас, солдат, не припасено.
– А ты, мать, поищи, – найдется! Бочоночек самогону, ведра в два уважь, выкати. За мной не пропадет.
Всполошилась она, пискариком затряслась, – один глаз на церкву, другой вдоль улицы шарит:
– Да что ты, герой, окстись! Каки у меня самогоны? Окромя толокна да квасу, нет у меня и припасу. Солдат нос свой в горстку зажал, ухмыляется:
– Ты, бабка, не рассусоливай. Не урядник я! Для обчества, не для себя, стараюсь. Разговор-то наш вчерашний помнишь? Альбо сам пропаду, альбо лес наш по всей форме очищу… Да еще пакли дай, старая. Сруб у тебя новый ставили, авось осталось.
Засуетилась старушка, видит, дело всурьез пошло. Мырнула в подполье, – бочоночек выволокла, – жилистая была, лахудра. Вдвинул солдат добро на тачку, сверху паклей да коноплей для прикрытия забросал. Попер тачку по-за плетнями, аж колесо запищало. Час ранний, ни на кого не наскочишь… Правой ногой хромает, однако ж ему наплевать: суставы-то у него во как действовали…
Докатил до опушки, одежу с себя долой. Сел под куст в чем мать родила, смазал себя по всем швам картофельным крахмалом, да в пакле и вывалялся. Чисто как леший стал, – свой ротный командир не признает. Бороду себе из мха венчиком приспособил, личность пеплом затер. Одни глаза солдатские, да и те зеленью отливают, потому на голову, заместо фуражки, цельный куст вереску нахлобучил.
Вышиб он втулку, стал водку поядренее заправлять: махорки с полкартуза всыпал, да мухоморов намял, туда ж и запихал, да перцу горсть, да волчьих ягод надавил для вкуса. Чистая мадера!
Покатил он бочонок в чащу, палочкой подпихивает, козлом подрыгивает, сам пьяную песню поет:
А кто там идет?
Леший бородач!
А что ен везет?
Чёртов спотыкач!
Слышит – по орешнику будто ползучая плесень шелестит, с дуба на дуб не весть кто сигает, кудрявым дымом отсвечивает.
Докатил солдат выпивку свою до озера, остановился. Пот по морде ползет, глаза заливает, – а утереться нельзя, потому все лесное обличье с себя смажешь. Снял он со спины черпачок, что у самогонной старушки прихватил, бочоночек на попа поставил, застучал в донушко, – на весь лес дробь прокатилась.
С ветки на ветку, с ельника на можжевельник подобралась мутная нежить, – животы в космах да в шишках, на хвостах репей, на голове шерсть колтуном. Кольцом вкруг солдата сели, языки под мышкой, глаза лунными светляками. Один из них, попузастее, – старший, должно быть, потому у него светлая подкова на грудях висела, – хвост свой понюхал, словно табачком затянулся, и спрашивает:
– Ты, милачок, откудова прибыл?
– Для собственного ремонта с западного фронта, из Беловежской Пущи… У вас здесь погуще!
– А в бочонке у тебя что за узвар?
– Армейский спотыкач, ковшик выпил – дуешь вскачь. В гродненской корчме подцепил, да сюда прикатил.
Леший рот и расстегнул, а на животе у него, глядь, – второй рот распахнулся, да оба враз и зачмокали.
«Ловко, – думает солдат, – энто у них приспособлено!…»
– А почему от тебя, – спрашивает пузатый, – пехотным солдатом пахнет?
Лешие, конечно, не потеют, – солдатский-то букет ему в нос и бросился.
– Да я по этапным дворам бродил, по ночам солдатские пятки брил. Вот, извините, и пропах… Да вы не скулите! Вона у пня дохлый крот, вы ноздри натрите, – авось отшибет.
Подобрались лешие поближе, а солдат втулку приоткрыл, нацедил пеннику с полчерпака, стоит поплескивает, – так они кругом на хвостах и заелозили.
– Ну что ж, подноси, – говорит старший. – Чего дразнишь? А то мы тебя и в компанию свою не примем…
Как гаркнет солдат:
– Встать! Становись в затылок… Да чтоб по два раза не подходить, знаю я вас, сволочей одинаковых!…
Потянулись они ближе, как старушки к кашке: кто пасть подставляет, кто ухо, а кто и того похуже. Некогда солдату удивляться, знай льет – кому в рот, кому в живот, абы вошло.
И минуты не прошло, взошел им градус в нутро, забрало их, братцы, аж до кончика. Похохатывать стали, да с перекатцем, да с подвизгом, – будто кошка на шомполе над костром надрывается… А потом играть стали: кто на бочке, брюхом навалившись, катается, кто старшего лешего по острым ушам черпаком бьет… Кто, в валежник морду сунувши, сам себе с корнем хвост вырывает. Мухомор с махоркой на фантазию, братцы, действует…
Назюзились окончательно. В кучку сбились, друг с дружкой, как раки, посцеплялись, – шерсть-то у них дремучая, – покорежились раз, другой и аминь. Будто траву морскую черт бугром взбил, копыта об ее вытер, да и прочь ушел.
«Запалить их что ли? – думает солдат. – Спирт внутри, пакля наружу, – здорово затрещит!» Однако ж не решился: ветер клочья огненные по всей дубраве разнесет, – что от леса останется? Нашел он тут на бережку старый невод, леших накрыл, со всех концов в узел собрал, поволок в озеро. Груз не тяжелый, потому в них, лесных раскоряках, видимость одна, а настоящего веса нет. А там, братцы, в конце озера подземный проток был, куда вода волчком-штопором так и вбуравливалась.
Подбавил он в невод камней – для прочной загрузки – да всю артель веслом щербатым в самый водоворот и спихнул. Так и захлюпала! Прощай, землячки, – пиши с того света, почем там фунт цыганского мяса…
Обмыл с себя солдатик паклю, да крахмальную слизь, морду папоротником вытер, пошел одеваться: нога похрамывает, душа в присядку скачет… Ловко концы-то сошлись. На войне раненого полуротного из боя вынесешь – Георгия дают, а тут за этакий мирный подвиг и пуговкой не разживешься. А ведь тоже риск: распознай его лешие, по косточкам бы раздергали, кишки по кустам, пальцы по вороньим гнездам…
Добрел он до села, у колодца обчественного стал, как загремит в звонкую бадью ясеневой палочкой:
– Сходись старый да малый! Бог радость прислал; грибами-малиной теперь в лесу хочь облопайся…
Сбежался народ, кто с лепешкой, кто с ложкой, – дело-то в самый обед было. Сгрудились вокруг, удивляются: солдат трезвый, а слова пьяные.
Однако, как он про свою победу-одоление рассказал, так все и дрогнули. Солдат достоверный был, с роду он не брехал, – не такого покроя.
– Да как же ты их, легкая твоя душа, обошел-то? Ерофеич, на что мастак, и тот, как колючей проволоки наглотавшись, из леса задом наперед еле выполз.
Смеется солдат, глаза, как у сытого кота, к ушам тянутся.
– Военный секрет, милые! Авось, и в соседнем уезде пригодится. Тачку-то бабкину прихватите, когда из лесу вертаться будете, – в ней главная суть.
Тронулось тут все население беглым маршем в лес, – и про обед забыли. Только портки да платки за бугром замелькали. Ребятки лукошки друг у друга рвут, через головы кувыркаются. В лес нырнули, так эхо вокруг тонкими голосами и заплескалось.
* * *
Сидит солдат на завалинке, прислушивается. Ишь гомон какой над дубами висит. Дорвались…
Покосился он тут вбок, – Ерофеич по плетню к нему пробирается, тяжко дышит, будто старшину в гору на закорках везет… Добрался до завалинки, сел мешком, ласково этак спрашивает, а у самого морда такая, словно жабой подавился:
– Что ж ты, служивый, хлеб у меня перебиваешь?
– Да я, папаша, не для ради хлеба, – ради удовольствия! Хлеба у нас и своего хватит…
– Как же ты их, милый человек, обчекрыжил? Умственности у тебя никакой нет… Правил ты настоящих не знаешь…
– Никак нет. Умственности, действительно, за собой я не замечал.
– Да как же ты, все-таки, распорядился? – спрашивает Ерофеич, а сам все придвигается, ушьми шевелит: вот-вот солдату в рот вскочит.
– Очинно просто! Я, папаша, без правил действовал. Только они на меня в лесу оравой наскочили – «Кто такой да откудова?» А я к стволу стал, да так им бесстрашно и ляпнул: «Села Кривцова, младший подмастерья знахаря Ерофеича!» Перепужались они насмерть, имя-то твое услыхавши, – да как припустят… Поди, верст за сорок теперь к западному фронту пятками траву чешут.
Насупился Ерофеич, глазом косым повел – нож в сердце!
– Н-да! Ну, как знаешь! Не плюй, брат, в колодезь, авось он и не высох. На фронт ты вернешься, а может, я б тебе слово какое наговорное против пули бы вражеской дал.
– Спасибо, папаша! Да мне оно ни к чему. Я там, в окопах сидючи, так приспособился, что германские пули голой рукой ловлю, да им же обратно и посылаю…
Видит знахарь, что солдат ложку свою крепко держит.
– А не мог ли бы ты, друг, беде моей пособить, – уж я отслужу, будь покоен. Тело у меня после того случая все синими бобами пошло. Средствия у тебя нет ли какого? Оченно уж обидно!
Поиграл солдат сапогом, плечом передернул. – Средствия и без меня найдется. Слыхал я тут, что ты к солдатке одной не путем, сладкий старичок, подкатываешься. Так вот, как ейному мужу Бог приведет невредимо с фронта воротиться, – отполосует он тебя, рябого кота, кнутом, – вот весь ты синий и станешь. В ровную, стало быть, краску войдешь.
Вскочил Ерофеич, горьку слюнку проглотил, – аж портки у него затряслись. А солдату что ж? Чурбашку из-за пазухи вынул да и принялся из нее командира полка вырезать. Разве с таким сговоришься?
Служил в учебной команде купеческий сын Петр Еремеев. Солдат ретивый, нечего сказать. Из роты откомандирован был, чтобы службу, как следует, произойти, к унтер-офицерскому званию подвинтиться.
Рядовой солдат, ни одной лычки-нашивки, однако, амбиция у него своя: у родителя первая скобяная торговля в Волхове в гостиных рядах была. Само собой, лестно унтер-офицерскому званию галун заслужить, папаше портрет при письме послать, – не портянкой, мол, утираемся, присягу исполняю на отличку, над серостью воспарил, взводной вакансии достиг. И по Волхову расплывется: ай-да Петрушка, жихарь! Давно ли он на базаре собакам репей на хвосты насаживал, в рюхи без опояски играл, а теперь на-ко, какой шпингалет! А уж Прасковья Даниловна, любимый предмет, – отчим ее по кожевенной части в Волхове же орудовал, – розаном-мальвой расцветет. Вислозадым Петрушку все ребята на гулянках дразнили. Вот тебе и вислозадый: знак «За отличную стрельбу» выбил, а теперь и до галунов достигает. Воробей сидит на крыше, ан манит его и повыше!
Все бы ладно, да вишь ты… Ждучи лосины, поглотаешь осины. Невзлюбил Еремеева фельдфебель, хоть второй раз на свет родись. Сверхсрочный, образцового рижского батальона, язва, не приведи Бог! Из себя маленький кобелек, жилистый да вострый, на Светлый Христов Праздник а и то вдоль коек гусиным шагом похаживает, кого бы за непорядок взгреть. Язык во щах ест, – порцию ему особую выделяли, – уж на что сладкая пища. Трескает, а сам из-за перегородки по всей казарме, как волк в капкане, так и зыркает. Одним словом – ярыкала. К команде не снисходит. Во сне и то специальными словами обкладывал, – знал себе цену. Только тогда зубки и скалил, когда на рысях к ротному подбегал, папиросу ему серничком зажигал.
А тут, вишь, купеческий сын завелся. Ручки, гад, резедой-мылом мылит. Часы в три серебряные крышки с картинкой – мужик бабу моет, – у подпрапорщика таких не водилось. Загнешь ему слово, сам тянется, не дрыгнет, а скрозь морду этакое ехидство пробивается. «Лайся, шкура, красная тебе цена до смертного часу четвертной билет в месяц, а я службу кончу, самого ротного на чай-сахар позову, – придет!…» С вольноопределяющимися за ручку здоровкался, финиками их, хлюст, угощал. Неразменный рубль и солдатскую шинельку посеребрит. В полковой церкве всех толще свечу ставил, даром что рядовой.
Начал фельдфебель Еремеева жучить. То без отлучки, то дневальным не о очередь, то с полной выкладкой под ружье поставит, – стой на задворках у помойной ямы идолом-верблюдом, проходящим гусям на смех. Все закаблучья ему оттоптал. А потом и сверхуставное наказание придумал. Накрыл как-то Еремеева, что он заместо портянок штатские носочки в воскресный день напялил, – вечером его лягушкой заставил прыгать. С прочими обломами, которые по строевой части отставали, в одну шеренгу, на корточках с баками над головой – от царского портрета до образа Николая Угодника… «Звание солдата почетно», – кто ж по уставу не долбил, а тут на-кось: прыгай, зад подобрамши, будто жаба по кочкам. Кот, к примеру, и тот с амбицией, прыгать не стал бы. Да что поделаешь? Жалобу по команде подашь, тебя же потом фельдфебель в дверную щель зажмет, писку твоего родная мать не услышит… Не спит по ночам Еремеев, подушку грызет, – амбиция вещь такая: другой ее накалит, а она тебя наскрозь прожигает. Еловая шишка укусом не сладка.
* * *
Прослышал купеческий сын от соседской прачки, будто в слободе за учебной командой древний старичок проживает, по фамилии Хрущ, скорую помощь многим оказывает: бесплодных купчих петушиной шпорой окуривал, – даже вдовам, и то помогало, – от зубной скорби к пяткам пьявки под заговор ставил. Знахарь, не знахарь, а пронзительность в нем была такая: на версту индюка скрадут, а ему уж известно, в чьем животе белое мясо урчит.
Улучил время Еремеев, с воскресной гулянки свернул к старичку. И точно, – откуль такой в слободу свалился: сидит килка на одной жилке, глаза буравчиками, голова огурцом, борода будто мох конопатый… На стене зверобой пучками. По столу черный дрозд марширует, клювом в щели тюкает, тараканью казнь производит.
Воззрился Хрущ, слова ему солдат не успел сказать, бороду пожевал и явственно спрашивает:
– Заездил тебя рижский-то, образцовый? Крякнул Еремеев, языком подавился.
А тот дальше:
– На море, на окияне сидит на диване, малых собак грызет, большим честь отдает… Сел ты, друг, в ящик по самый хрящик. Ничего, вызволю! Как звать-то?
– Петр Еремеев, первого взводу учебной команды, второй гильдии купца сын.
– Экий ты, братец, вякало… Гильдия мне твоя нужна, как игуменье шпоры. Встань! Чего на дрозда уставился? Он этого не любит… Пособи, Господи, Петру Еремееву, первого взвода учебной команды, а впрочем, как знаешь… Окорое средство тебе дать, либо с расстановкой?
Встрепенулся солдат, вскинулся:
Да уж нельзя ли как-либо залпом? За нами не пропадет… Пристал он ко мне, как слепой к тесту. Почему, говорит, на казенную фуражку сатиновую подкладку подшил? Я, говорит, тебя рассатиню. Вырвал подкладку, харкнул в нее, да меня же по личности…
– Скрипишь ты, солдат, будто старую бабу за пул тянут. Не елозь, дай крючок вынуть! Колбасу с водкой фельдфебель твой трескает?
– Так точно!… Ах ты ж, Господи, как это вы в самую точку. Взводные с вольноопределяющимися им завсегда по праздникам в складчину бутылку с колбасой в шкапчик потаенно ставят. Будто сюрприз. Для укрощения звериного естества, чтобы они по воскресным дням меньше рычали-с.
– Вот и расчудесно! Дам я тебе, друг, своей колбаски. Особливой. Только ты ее в праздник ему не подсовывай, – действует она на короткий срок, пока она в человеке ворочается. А чуть выйдет в наружу – шабаш. Подсунь ее в будни, когда у вас занятия происходят. Понял?
Переступил Еремеев подковками, дрогнул.
– А они, то есть фельдфебель, от вашей колбасы, извините, не подохнут? Присягу я принимал, и вообще неудобно.
Хрущ глаза поднял, нацелился в купеческого второй гильдии сына, неловко тому стало. И дрозд тоже тараканов своих бросил, смотрит на солдата: каждый, мол, день чистые гости хЪдят, а такого обалдуя еще не бывало. Пососал скоропомощный язык, сплюнул.
– В унтер-офицеры метишь, а сам дурак, в чужой пазухе блох ищешь! Я, сынок, не убивец и тебе не советую. Потому за самую паршивую душу ответ держать придется. Ступай к свиньям собачьим, ничего тебе, холява, не будет.
Взмолился Еремеев, еле упросил. Колбаску за рукав шинельный сунул, будто пакет казенный. Поднес знахарю трешницу, а тот рукой в ящик смахнул, даже и не удивился. Старичок был не интересующийся.
– Чего же с этой колбасой ожидать-то?
Хрущ в оконце уставился, будто сам с собой разговор ведет:
– На море на окияне сидит баран на аркане, никто его не отвяжет, пока дело себя не окажет… ветер-ветерок, тонкий голосок. Подуй в хату, выдуй солдата. – баба у меня там секретная еще в анбарчике дожидается.
Повернулся Еремеев на носках, подошвой хлопнул и через выгон, – направление на дом с красной крышей, – замаршировал в свою учебную команду.
Подивился фельдфебель. В будний день колбаса в шкапчике оказалась. Должно вольноопределяющийся Лихачев посылку домашнюю не в очередь получил, с начальником поделился.
Сгрыз он ее дочиста, до веревочки, скус, как скус. чуть-чуть мышиным пометом припахивает. Да ведь даровая, не соловьиным же пахнуть! Вытер усы, в струнку их выправил, выходит, стало быть, на занятия. Рыгнул, как полагается. То да се, – «подымание на носки и присядание». Не успел он руки на бедрах проверить, Еремеева за пояс потрясти, ан тут дневальный дверь настежь, кирпич на веревке кверху птичкой: начальник команды пожаловал. Дежурный рапортует, дневальный около шинели, как моль вьется. Поздоровкался ротный, гаркнули солдаты, аж кот с окна слетел.
Стоит рота, не шелохнется, а штабс-капитан Бородулин плечики поднял, сапожки в позицию поставил, глянул вбок на фельдфебеля и спрашивает:
– Ты чего ж это, Игнатыч, ухмыляешься? Попову кобылу во сне доил, что ли?
Пошутил, значит.
Фельдфебель ладонь ребром к козырьку, грудь корытом, воздуху забрал да как резанет:
– Смешно уж больно, ваше высокоблагородие! В команде вы, можно сказать. Суворов, чисто лев персидский. А с бабой совладать не можете. Рожа у вашего высокоблагородия поперек щеки вся поцарапана. Денщик сказывал, будто за картежную недоимку супруга вам вчера здорово поднесла…
Отчетисто этак выговорил, будто его черт за язык дернул, а сам с перепугу телескопы выпучил, тянется, – вот-вот пояс на брюхе лопнет.
До того опешил ротный, что и перебить не успел. Да как вскинется:
– Ты, что ж, еж тебе в глотку, очумел? Каблуки вместе! Ты что это такое сказал? Га!
Рота не дышит, прямо в пол взросла. Фельдфебель еще пуще тянется, дисциплина из него так и прет, а язык свое:
– Да, почитай, всему городу, ваше высокоблагородие, известно, что супруга вашего высокоблагородия на вашем высокоблагородии верхом ездит.
Мать честная! Ну тут пошло, действительно…
– С кем разговариваешь? Перед кем стоишь?!… Да ты, пуп моржовый, ума решился? Под суд хочешь? С утра нализался?…
– Никак нет! Сроду пьян не был. С утра к мамзели вашего благородия, что за баней живет, сходил. Гитарку у них починял, для своего же начальника старался… Занапрасно обижать изволите…
А сам все тянется, аж посинел весь… Хочь язык вырви. Стоит купеческий сын Еремеев на правом фланге, зубами со страху лязгает, – ишь чего колбаса-то делает…
Ну, тут у ротного и слов не стало, – случай уж больно непредвиденный. Потряс фельдфебеля за грудки, перчатку собачьей кожи в шматки порвал. Полуротный, само собой, подскочил, на голову показывает: спятил, мол, в мозги вода попала. Как прикажете?
Нечего сказать, – крутая каша, хочь топором руби. Махнул ротный рукой: «Убрать его, лахудру, пока что!» – и сам за ворота. Вся рота слыхала, не потушить, надо дело по всей форме разворачивать.
А фельдфебель стоит осовевши, усы обвисли, пот по скуле змейкой. Взяли его взводные под вялые локти, поперли в канцелярию, посадили на койку. Сопит он, бормочет: «Морду-то хочь поперек рта башлыком мне обвяжите, а то и не того еще наговорю!…» Обвязали, – уж в такой крайности пущай носом дышит. Заступил на его место временно первого взвода старший унтер-офицер. Известно, коня куют, жаба лапы подставляет. Кое-как занятия до обеда дотянули.
***
Не успели солдаты кашу доскрести, стучит-гремит полковая двуколка. Фершал фельдфебеля легкой рукой обнял, повез в госпиталь на испытание, – достались Терешке черствые лепешки.
Доктор ему чичас трубку в сосок.
– Дыши, – говорит, – регулярно! Правый глаз закрой, посвисти ухом… Какой у нас теперича месяц-число?
– Месяц, – отвечает фельдфебель, а сам трясется, – апрель, число третье. Да вы б и сами, вашескородие, должны знать, потому у вас завсегда в апреле весенний запой начинается.
Затопал доктор ногами, плюнул, дальше и спрашивать не стал. Что с полоумного возьмешь?
Дежурный офицер из каморки вышел, – поинтересовался. – А, Игнатыч! Что это, братец, с тобою?… Меня знаешь?
– Так точно. Подпоручик Рундуков, шестой роты. Вас, ваше благородие, по всей окрестности знают: квартирной хозяйке крестиками капот вышивали, все стряпухи смеются… Вам бы, ваше благородие, в кокошнике мамкином ходить, не то, что с шашкой…
Обжегся поручик, крякнул, с тем и отъехал.
На другой день штабс-капитан Бородулин заявился в госпиталь, сел на койку к фельдфебелю, а у того уже колбасная начинка наскрозь прошла, – лежит, мух на потолке мысленно в две шеренги строит, ничего понять не может. Привскочил было с койки, но ротный его придержал:
– Лежи, лежи, Игнатыч! Что ж мне с тобой, друг сердечный, делать? Служил, служил, в жилку тянулся, и вдруг этакая осечка… Под суд тебя отдавать жалко. Да и по всему видать, накатило это на тебя с чего-то!…
– Так точно, ваше высокоблагородие! Под усиленный арест посадите, либо морду набейте, только чести не лишайте, дозвольте в команду вернуться.
– Не могу, друг! Послезавтра комиссия, а там, что Бог даст.
Привстал, было, штабс-капитан, а фельдфебель его по госпитальной вольности за кителек с почтением придержал, докладывает:
– Позвольте, ваше высокоблагородие, доложить, запамятовал. Рядовой Еремеев первого взвода, как в город последний раз отлучался, неформенный лакированный пояс надел, – не успел я его наказать. Уж вы его своей властью взгрейте, покорнейше прошу. Нечего ему, хахалю, с писарей пример брать…
Усмехнулся начальник команды, до чего, мол, фельдфебель старательный, – в мозгах вода, а службы не забывает.
Доктор тут подкатился. «Ничего, – говорит, – он сегодня вроде человека стал. По всей форме отвечает, как следовает. Спал, должно быть, при открытом окне, лунный удар его хватил, что ли. В комиссии разберем»…
Лежит фельдфебель на койке, халат верблюжий посасывает. Супчику поглотал. Будто кобылу – овсянкой черти кормят. Фершал, пес, совсем вроде псаломщика, – доктор обход производит, а тот за ним не в ногу идет, еле пятки отдирает… Дали бы его Игнатычу в команду, сразу бы обе ножки поднял. Что-то там без него делается? Небось, рады мыши – кота погребают. Ладно, – думает. По картинке-то мышам праздник боком вышел… Соснул Игнатыч с горя и во сне Петра Еремеева за ржавчину на винтовке заставил ружейную смазку есть.
Тем часом, милые вы мои, купеческий сын, который этот кулеш заварил, сбегал к скоропомощному старичку в слободу. Как дальше-то быть?! И фельдфебеля жалко, а себя еще пуще. А вдруг тот в казарму вернувшись, за свой срам всю команду без господ офицеров на вечерних источит.
Поймал старичок таракана, лапки оборвал, отпустил, – жалостливый был, гадюка.
– Забота не твоя. Пошли ему перед самой комиссией утречком вторую порцию, а там все, как на салазках, покатится. И колбаску ему сует дополнительную.
Поскреб Еремеев в затылке, – один глаз злой, другой – добрый.
– А может не давать? Вишь, его как с нее разворачивает…
– Эк, ты, вякало! На море, на окияне стоит дурак на кургане, стоит – не стоится, а сойти боится… Передумкой сделанного не воротишь. Письмо-то ты от папаши вчера получил? Ты колбасу письмом и осади. Ах. да ох – на том речки не переехать. На половине, брат, одне старые бабы дело застопоривают.
Подивился Еремеев; откуда он, змей, про письмо дознался. Вздохнул, колбаску за обшлаг – и на улицу.
А перед самой комиссией принес фершал фельдфебелю пакетец, – из учебной команды гостинец, мол, прислан. Схряпал Игна-тыч колбасу мало что не с кожей, госпитальное довольствие известно, какое. За столом старший доктор сидит, да лекарь помоложе, да адъютант батальонный, да штабс-капитан Бородулин.
Поиграл доктор перстами, глянул в окно.
– А ну-кась, Игнатыч. Человек ты трезвый, вумственный. Погляди-ка в палисадник. Какой это куст перед окном растет?
– Черная смородина, вашескородие. Вишь, на ней, почитай, все почки общипаны, как не узнать. Вы же завсегда по весне черносмородинную водку четвертями настаиваете.
Позеленел старший доктор. Комиссия ухмыляется, а батальонный адъютант свой вопрос задает:
– Два да пять сколько, к примеру, будет? Вопрос, можно сказать, самый безопасный.
– Ничего не будет, ваше благородие.
– Как так ничего?…
– А очень просто. Потому, как вы в приданое две брички да пять коней получили, – ничего у вашего благородия и не осталось. Все промеж пальцев спустили.
Нахмурился адъютант.
– Ну и стерва ты, Игнатыч, даром что больной! Тут, само собой, младший лекарь вступился:
– Испытаемых по закону ругать не дозволяется. Скажите, фельдфебель, сколько у меня,на ногах пальцев?
– У настоящих господ десять, а у вашего благородия одиннадцать. Через банщиков всем известно, правая-то нога у вас шестипалая. Потому-то вам дочка протопоповская тыкву и поднесла, даром, что рябая…
Сгорел прямо лекарь: правда глаз колет.
А уж штабс-капитан и вопросов никаких не задает: видит – опять лунный удар в фельдфебеле разыгрался, лучше уж его и не трогать.
То да се, порешили коротко. Наказанию не подвергать, потому человек не в себе, по нечетным дням будто белены объевшись. К военной службе не годен, – сапоги под мышку, маршируй хоть до Питера.
Вертается на короткий час фельдфебель в учебную команду сундучок свой сложить-собрать. Солдаты по углам хоронятся, бубнят. Неловко и им: был начальник, кот и тот от его под койку удирал, а теперь вроде заштатной крысы, которой на голову керосином капнули.
Прибирает Игнатыч за перегородкой свое приданое, пинжачок вольный в гостиных рядах купил, глаза б не глядели. – а тут купеческий сын Еремеев вкатывается.
По старому каблучки вместе:
– Здравия желаю, господин фельдфебель!
– Тебя-то, помадная банка на цыпочках, за коим хреном сюда принесло?
Ничего, проглотил Еремеев, не подавился. Перешел на другую линию, повольнее.
– Да вы, Порфирий Игнатыч, занапрасно серчаете. Очинно об вас сожалеем, такого начальника, можно сказать, и днем в погребе не найдешь… В гвардию б вас, и то б не осрамили…
– Лиса, лиса. Мало я тебя еще причесывал.
– Действительно, маловато-с. Родную мамашу заменяли. Должон я, следовательно, и вас обдумать. Папаша вот письмо прислал. Старший наш приказчик помер, угрызение грыжы с ним приключилось, царство небесное. Человек был еж, младшим холуям не потакал, первая рука после родителя. Беспокоится папаша, кем бы заменить. Мово совету спрашивает. Человек вы еще жилистый, с перцем. Куда пойдете? На гарнизонное кладбище бурьян на могилах полоть,? Не желаете ли вы в Волхов на вакансию заступить старшим? Жалованье правильное, харч с наваром, власть во какая… Не то что лягушкой, кузнечиком прыгать заставите – не откажутся… Папаша одряхлел, после службы я все дело в свои руки принимаю. Как вы об этом полагаете?
Скочил фельдфебель на резвые ноги, сообразил. А купеческий сын сел, – аж сундучок под им хрястнул… Солнце заходит, месяц всходит.
– Покорнейше благодарим, господин Еремеев. Я что ж, я послужу… Уж будьте благонадежны-с. На правом плечике мундирчик у вас замарамши, дозвольте почистить.
Еремеев, само собой, дозволяет.
– Почисть, почисть. Ты, Игнатыч, смотри дома про меня не ври. Насчет наказаньев, как ты меня под ружье к помойной яме ставил и прочее такое… Невеста там у меня, неудобно.
Фельдфебель аж ногами застучал:
– Да помилуйте, Петр Данилыч, – отчество даже, хлюст, вспомнил. – Да что вы-с! Вы ж в команде первейший солдат были, как такого можно наказывать. Да вам бы, ежели на офицерскую линию выйти, и цены не было б. Только что ж вам при капитале за такими пустяками гоняться…
– То-то!
Встал это Еремеев, полтора пальца фельдфебелю сунул и пошел к своей койке переобуваться: взамен портянок носки напяливать. Хочь и не видно, а все ж деликатность и внутри оказывает…
Кряхтит, ногу, как клешню, выше головы задрал, сам про свое думает, – правильно это волшебный старичок насчет письма присоветовал. Ежели этих подчиненных, чертей-сволочей, на короткой цепочке не держать, голову они тебе отгрызут с косточкой… Доволен папаша будет: во всем Волхове такого громобоя, как Игнатыч, не сыскать. Подопрет, – не свалишься!
Шел солдатик на станцию, с побывки на позицию возвращался. У опушки поселок вилами раздвоился: ни столба, ни надписи, – мужичкам это без надобности. Куда, однако, направление держать? Вправо, аль влево? Видит, под сосной избушка притулилась, сруб обомшелый, соломенный козырек набекрень, в оконце, словно бельмо, дерюга торчит. Ступил солдат на крыльцо, кольцом брякнул: ни человек не откликнулся, ни собака не взлаяла.
Наддал он плечом, взошел в горницу. Видит, на лавке старая старушка распространилась, коленки вздела, на полати смотрит, тяжело дышит. Из себя словно мурин, совсем почернела. В переднем углу заместо иконы сухая тыква висит, куриные лапки в одну шеренгу прибиты.
– Здравствуй, бабушка… Куда на станцию поворот держать, – вправо, аль влево?
– Ох, сынок… На обгорелый дуб целиной-лугом ступай. Пешему не заказано… Да не подашь ли мне, старой, водицы испить? Совсем, сынок, помираю!
Зачерпнул солдат ковшиком, сам все на передний угол посматривает.
– Что ж у тебя, бабушка, иконы-то не видать? Из татарок ты, что ли?
– Тьфу, тьфу, служивый!… Русская я, орловской породы, мценского завода. Да знахарством все промышляла по слабости здоровья. Рукоделие такое: бес ухмыляется, ангел рукой закрывается. Стало быть, образ мне в избе держать несподручно. Всухомятку молюсь, – на порог выйду, звездам поклонюсь, «Славу в вышних» пошепчу… Авось Господь-Бог услышит.
– А по какой части, бабушка, ты орудуешь больше? По штатской, аль по военной?
– По штатской, яхонт, по штатской. Отстуду, скажем, между мужем-женой прекратить, альбо от зубной скорби заговорить… Деток кому подсудобить, ежели потребуется. Худого не делала. А по военной, что ж… В стародавние годы заговоры по ратному делу действовали, пули свинцовые отводили. А ныне, сынок, сказывают, кулеметы какие-то пошли. Так веером стальным и поливают. Управься-ка с машиной этакой!…
Вздохнул солдатик.
– Ну, бабушка, ничего. На себе поснесем, да вас побережем. Кланяйся родителям, в случае чего… В запрошлом году они скончавшись. Будь здорова, бабушка, помирай себе с Богом…
Только встал, обернулся, – слышит, у ног тварь какая-то мяучит, о сапог мягкая шуба трется, а ничего не видит… Протер он обшлагом буркалы, – что за бес… Плошка пустая у порога подпрыгнула, метла прочь сама откатилась, голос шершавый все пуще мяучит-надрывается.
– Ох, – говорит, – бабка! Что ж это за наваждение? Душа кошачья у тебя по избе без лап, без хвоста бродит…
– А это, соколик, кот мой, Мишка. Плесни-ка ему молочка в плошку. Я сегодня по слабосильности и с лавки не вставала. Голоден он, чай.
– Да где кот-то, бабушка?
– Плесни, плесни. Экой ты, солдат, надоеда… Налил солдат из крынки полную плошку. Глядит: молоко стрепенулось, кверху подпрыгивает, будто ложечкой кто сливки взбивает. Брызги во все стороны… Дрожит плошка, молоко убывает да убывает, глядь-поглядь – само в себя ушло, края подлизаны, даже до сухости…
Обалдел солдат, на бабушку уставился. Усмехается старушка.
– На войне был, а пустякам удивляешься. Настой-зелье я по своей секретной надобности сварила, остудить под лавку поставила. А он, дурак Мишка, сдуру лизнул, вот и бестелесным стал. Да пусть так бродит, мне все одно помирать. Авось в бестелесном виде промышлять ему способнее будет.
Загорелась солдатская душа до чужого ковша, – по какой причине и сам не знает…
– Ох, родненькая… Дай-ка мне состава энтого, умора ведь какая… Солдатикам на позиции тошно, тоска смертная. А тут этакая забава… Уж я за тебя в варшавском соборе рублевую свечу поставлю: окопный солдат вроде как святой, – тебе это без пользы будет.
Закашлялась старушка, зашлась, поплевала в тряпочку, отдышалась и говорит:
– Экий ты младенец стоеросовый… Ну что ж, бери! Свои бросили, чужой пожалел, водой попоил… Только смотри, шути да откусывай… Ежели какую тварь либо человека в бестелесный вид приведешь, помни, орел: только водкой зелье мое и прополаскивается. Рюмку-другую вольешь, сразу предмет в тело свое войдет, натуральность свою обнаружит…
Солдат одной рукой за чашку, другой за баклажку. Перелил, бабушке в пояс поклонился, и за дверь – целиной-лугом на обгорелый дуб, к своей станции. Зелье на боку в баклажке булькает, – аж селезенка у солдата с радости заиграла, до того забавная вещь.
* * *
С этапа на этап – докатился солдат до своего места, в аккурат час в час в свою роту заявился. О ту пору полк ихний в ближний тыл на отдых-пополнение оттянули. Старослужащим вольготнее стало, – винтовку почистил, шинель залатал и вались на свою койку, потолочные балки в бараке пересчитывай.
А свежих бородачей во дворе обламывают. Занятие идет, соломенное чучело колоть учат: штык по шейку всади, да назад одним духом с умом выверни. Ходит ротный, присматривает, не очень и ему весело запасных вахлаков обтесывать. Зевнул в белую перчатку, фельдфебеля спрашивает:
– А что ж, Назарыч, Шарика нашего не видать?
– Не могу знать! Второй день в безвестной отлучке. Тоже тварь живая, амуры, надо быть, тыловые завелись.
Повернулся ротный на подковах, Назарычу занятия предоставил, в канцелярию ротную пошел приказы полковые перелистывать. Слышит, за перегородкой в углу кто-то посвистывает. Шарика кличет, – в ответ собачка урчит, веселым голосом огрызается. Поглядел он в щелку: сидит это солдатик Каблуков, что намедни с отпуска вернулся, на сундучке. Одна нога в сапоге, другая в портянке. Свистит, пальцами прищелкивает, а перед ним, – Господи, спаси-помилуй! – пустой сапог в воздухе носится, кверху носком взметывается.
Дрогнул ротный, а уж на что храбрый был, самому дьяволу не спустит. За столик рукой придержался. Дошел до порога, за косяк ухватился… Стрепенулся Каблуков, вскочил, вытянулся, а сапог округ него так в присядку и задувает, уши по голенищам треплются, а из голенища, будто из граммофонной дыры: «Ряв-ряв!» Да вдруг сапог прямо на ротного, будто к родному брату, – по коленке его хлопает, в руку подметкой тычется.
Побелел ротный – на елку бы влез, да елки нетути…
– Ох, – говорит, – Каблуков, плохо мое дело… Прошлогодняя контузия, вот она когда себя оказывает. Беги за Назарычем, пусть меня скорей в лазарет свезет… А то, пожалуй, оборони Бог, кусаться начну.
Оробел Каблуков, к земле прирос. Однако кое-как губы расклеил:
– Не извольте, ваше высокородие, тревожиться. Сапог натуральный, интендантской кожи. А что он сам летает, будьте без сумленья, собачку я бестелесную учил поноску носить. Да тут вы сбоку взошли, не приметил я, напужал только ваше высокородие занапрасно.
Выпучил ротный глаза.
Что ты… окстись!… Какая-такая бестелесная собачка?
– Да наш Шарик! Я его, ваше высокородие, наскрозь прозрачной настойкой для забавы обработал. Скажем, как стекло: виду нет, а в руку взять можно.
Ротный так на сундучок и опустился:
– Ну, Каблуков, придется, видно, нас двоих в тихое отделение на лазаретной линейке везти. Я телесные сапоги в воздухе ловить буду, а ты бестелесной собачкой забавляться. Видишь, что война из людей делает.
Однако, Каблуков, хочь и подчиненный, поперек тут врезался, видит, чем дело тут плохим пахнет. Обсказал все, как есть, про помирающую старушку да про кошкино молоко.
– Я ж, ваше высокородие, против присяги не пошел. Мог в лучшем виде сам себя смыть, стеклянным студнем по всей России перекатываться… Поймай-ка у сокола на плече, у бабы под мышкой… Ан к окопной страде вернулся. Вы, ваше высокородие, извольте сундучок ослобонить, я вам чичас все наружу произведу, – от своего начальника какие секреты!…
Звякнул сундучок веселой пружиной. Каблуков одной рукой шкалик вытащил, другой невидимую собачку к себе притянул, бестелесную пасть ей раскрыл.
– Ишь ты, ртуть курчавая!… Ротный армейский цупик, а насчет водки отворачивается. За пальцы меня хватать? Своего отделенного начальника? Готово, ваше высокородие, извольте получить.
И, действительно… Бабушке твоей Хны-Хны, преподобной Печерице! Сапог сам собой на земь швякнулся, а промеж пальцев у Каблукова мясная собачка-Шарик вьется, пасть раззявила, нос морщит, лапой по языку машет, винный дух соскребывает.
Ротный по сторонам глянул, воздуху глотнул, Каблукову в самое ухо выпалил:
– Никому не показывал?
– Никак нет! Я, ваше высокородие, всей роте сюрприз готовил. В балагане на ярманке и за двугривенный такого сюжета не покажут. Пусть, думаю, узнают, кто есть таков Егор Каблуков…
– Эх ты, – говорит ротный, – телятина с косточкой… Смотри ж, чтобы мышь не прознала, чтоб муха не догадалась… Чтоб ветер не подсмотрел. Ох, Каблуков, чего это мы теперь с тобой разделаем… Наград в штабе не хватит!
И пошел к дверям, будто в мазурке поплыл, – один глаз лукавый, другой задумчивый…
* * *
Часы заведи, а ходить сами будут. К закату из полкового штаба вестовой в барак вкатывается: экстренно, мол, Каблукову явиться, да чтоб с ротной собачкой пожаловал. Фельдфебель удивляется, землячки рты порасстегнули, однако Каблуков ни гу-гу… Ноги шагают, а рука в затылке скребет: беспокойства-то сколько от старушки этой помирающей произошло.
Переступил он через штаб-крылечко, писаря за столами переглядываются, полковой адъютант, насупившись, ус теребит, – почему, мол, такая секретность? Через него же первого всякие тайности происходили, а тут накось, – серый солдат со сверхштатной собачкой, и хочь бы слово… Обидно.
Провели Каблукова в дальний закуток. Сам командир полка коридорную дверь на два поворота замкнул, вторую прикрыл. – Ох, милый друг, Егор Спиридонович, что-то будет?… И ротный тут же: один глаз лукавый, другой и того лукавее.
Дернул командир плечом, щеки пламенем отливают. Дать бы ему, Каблукову, промеж глаз, а ротного налево-кругом на гауптвахту, суток на десять, пока не очухается… Ан сначала-то проверить надо.
– Ну что ж, показывай, голубь. А уж потом и я тебе по-ка-жу…
И зубом золотым скрипнул.
Подтянулся Каблуков. Он что ж, худого не замышлял. Схватил Шарика поперек живота, баклажку вынул, да в пасть ему пропорцию и влил: сгинул Шарик, как дым разошелся.
Повеселел тут солдат совсем, а командира полка аж в малиновый румянец вдарило.
– Разрешите, ваше высокородие, фуражечку вашу?
Насмелился Каблуков, снял со стола да бестелесной собачке в зубы. И пошла, братцы, мои, командирова фуражка козлом по всей горнице скакать, будто нечистая сила в нее из-под половиц поддувает…
Перекрестился командир мелкой щепотью.
– Тьфу, тьфу!… Простая деревенская баба, кочерга ей под пятое ребро, а какую военную химию надумала!…
Глаз у него, конечно, по иному заиграл: та же опара, да другой кисель. Потрепал Каблукова по защитному погону, ротного к грудям прижал.
– С Богом! Валите в мою голову! Только, чтоб и воробей на телеграфной проволоке до поры-времени не услышал… Убью!
Обратил Каблуков Шарика в первобытное состояние, шкалик-то с собой прихватил, и за ротным на вольный воздух выкатился.
А ротный так и кипит. Чичас через федьдфебеля десять отчаянных самохрабрейших охотников вызвал. В баню их собрал, потому к бане рощица примыкала, – очень это по диспозиции способно было. Выстроились молодцы, один к одному – хоть в Семеновский полк в первую роту – и то не подгадят. Разведчики рьяные, – блоха за немецкой пазухой повернется, и то уследят.
Про помирающую старушку ротный им, само-собой, обсказывать не стал. Зачем православных землячков в сумление вгонять, – по нечистой линии сам Скобелев сдрейфит…
– Вот, – говорит, – львы, слыхали, небось, – аеропланты теперь наши в краску-невидимку красить начали. Достигаем до точки. Разговор был, что и наушники такие к моторам приспособлять начали. Глушители то-исть! Фыркнет он в небо, ни цвета, ни зуда, ни стрепета. Врагу каюк, нам чистая польза… Ан теперь в главном штабе у нас новую вещь удумали… Состав такой безвредный один доктор химический сообразил. Хлебнешь рюмку, сразу тебя в бестелесность ударит, – ни ногтей, ни пупка, будто столб воздуха на невидимых подметках. Поняли, львы?
– Так точно, поняли. А как же опосля, ваше высокородие, когда замирение произойдет? У нас у всех жены-детки. Неудобно по домашности…
Усмехнулся ротный.
– Ничего, не робей. Вернемся с разведки, всем по чарке поднесу. Водка вмиг состав этот створаживает, опять все в теплое тело войдем. Ужель стану я солдат своих самолучших портить? Да я ж с вами… Из приварочной экономии командир всем по десяти целковых обещал, окромя награды, – да и я от себя прибавлю… Подошвы войлоком все подшили?
– Так точно, подшили.
Повеселели львы. Да и Каблукова взмыло: ишь ты, с какой малости такое дело развернулось… А насчет доктора, может, ротный и правду сбрехнул: доктор этот в мирное время, может, в орловском земстве служил, – старушка от него и позаимствовала.
– Ну, Каблуков, – говорит ротный, – действуй… Только как же насчет обмундирования? Немцы ж по пустым штанам-гимнастеркам палить будут. Это нам, друг, не модель.
– Не извольте тревожиться! Обмундирование я, ваше высокородие, спрысну! Уж насчет этого сам призадумывался, – однако действует… На Шарике ж ошейника и видом не видать было. Винтовок, между прочим, брать не придется. Сталь-дерево нипочем не поддается. Старушка-то не доглядела…
Сверкнул ротный глазом.
– На кой ляд нам винтовки! Не в них в этом деле сила… Только, ребята, друг дружку на аршин дистанции бечевками связать надо, а то разбредемся, как туман в поле. Говорить-то только тихим шопотом придется. Господи, благослови! Действуй, Каблуков.
Выстроились десять охотников в ряд. Кажному Каблуков по деревянной ложке налил, ротному последнему. Спрыснул всех, сам остатки хлебнул… Пронзительный состав!…
Скрипнула дверь. В рощице за баней кусты зашуршали, будто ветер зеленую дорожку надвое распахнул. А ветра, между прочим, и с детское дыхание не было: на лугу спокой-тишина, пушинку оброни, сама наземь падет и не дрогнет. Огни кое-где по окраинным халупам зажглись, туман вечерний у моста всколыхнулся, – воздух сам с собой разговаривает:
– Эх, покурить бы теперь, ваше высокородие…
– Я тебе покурю. Пополам перерву, да еще надвое…
– Кто там с правого фланга споткнулся?
– Ничего… Держалась кобыла за оглоблю, да упала. Вали, землячки, дальше…
* * *
Отмахали верст с десять. Притомились солдатики, потому хочь видимости в них не было, однако, пятки горят, как у настоящих. По дороге, как через местечко шли, баба полька, – из себя мед на рессорах, – руками всплеснула, к фонарю отскочила, глаза выкатила… «Иезус-Мария! Плечо горит, будто медведь облапил, – а на улице никого!…» Затряслась, подол собрала и – ходу.
Зыкнул ротный, по голосу сразу признать можно:
– Какой там кобель на правом фланге озорует? Смотри, Востяков, как в тело войду, морду тебе за это самое набью окончательно. Зачем бабу обижаешь?
– Подвернулась она, ваше высокородие. Виноват! Эх, горе, на веревочке идем, а то занятно уж очень, как в этом самом виде ежели бы подкатиться к ней по настоящему…
– Я тебе подкачусь… Обменяйся с ним, Козелков, местом. Разыгрался он что-то, как бугай в клевере.
У крайних домов на взгорье спохватился ротный:
– А ну-ка-сь, Каблуков! Веревочку я тебе приспущу. Смотайся-как в лавочку, колбасы возьми конец, а то, окромя хлеба, провианту с собой не прихватили.
– Да как, ваше высокородие, брать-то? Колбаса по воздуху поплывет, купец с перепугу крик поднимет, лавку замкнет. Попаду я тогда, как козел в прорубь.
Двинул его ротный невидимым локтем в невидимую косточку.
– Порассуждай у меня! Ты, хлюст, думаешь, что ежели скрозь тебя фонарь видать, так ты и разговаривать можешь? Каблуки вместе! В походе кур-гусей слизываешь, ни одна бабка не встрепенется, – а тут учить тебя. Рупь смотри в кассу вбрось, не азиаты мы колбасу даром брать…
Слетал Каблуков тихо-благородно. Рупь за колбасу, конечно, многовато… Полтинник подкинул, семь гривен сдачи себе отсчитал.
Пошли дальше. Собачки к следам принюхиваются, воют. Растолкуй-ка им, в чем тут секрет… Камнями кое-как отогнали, – неудобно ж команде по такому делу со свитой идти.
К самым, почитай, позициям нашим подошли. Темень кругом, не приведи Бог. Прожектор кой-где немецкий из-за речки светлым хоботом рыщет. Сползет, и совсем ослепнешь… Хочь ты телесный, хочь бестелесный, а ежели сам не видишь, – куда пойдешь?
Свернул ротный командир в бор.
– Ложись, братцы! Пожуем малость, да и спать. Завтра чуть свет перейдем линию. Лопатки-то с собой прихватили?
– Так точно, – как приказано. Под гимнастерки подоткнули.
– То-то! Первым делом под их пороховой погреб подкоп подведем. Верстах в двух он от ихнего расположения, это нам доподлинно известно. Бог поможет, и начальника их дивизии в лучшем виде скрадем – и не фукнет. Наделаем, львы, делов! Только смотри у меня, – ни чихать, ни кашлять… К бабам ихним ни-ни! Знаю я вас, бестелесных… Ежели у кого ненароком бечевка лопнет, помни: сигнал-пароль «Ах вы сени мои, сени»… По свисту своих и найдешь… Из подвигов подвиг, Господи благослови!
К сосне притулился, шинельку подтянул – и готов.
На войне заснуть – люльки не надо, проснуться и того легче…
____________________
Только это серая мгла по низу по стволам пробилась, вскочил ротный, будто и не спал. Глянул округ себя, да так по невидимой фуражке себя и хлопнул. Вся его команда не то, чтобы львы, будто коты мокрые стоят в одну шеренгу во всей своей натуральности… Даже смотреть тошно. Веревочка между ими обвисла, сами в землю потупились, а Каблуков всех кислее, чисто как конокрад подшибленный.
Дернул бестелесный ротный за веревочку – хрясь!… – от команды отделился, да как загремит… Хочь и не видать, да слышно: лапа перед ним так и всколыхнулась. С пять минут поливал, все пехотно-армейские слова, которые подходящие, из себя выдул. А как немного полегчало, хриплым голосом спрашивает:
– Да как же это, Каблуков, сталось?! Стало быть состав твой только от зари до зари действует. Стало быть, старушка твоя…
И пошел опять старушку благословлять. Не удержишься, случай уж больно сурьезный.
Вскинул Каблуков глаза, кается-умоляет:
– Ваше высокородие! Без вины виноват! Хочь душу из меня на колючую проволоку намотайте, сам больше того казнюсь. Вчерась, как колбасу покупал, штоф коньяку заодно спроворил. Старушка-то помирающая, оглобля ей в рот, явственно ж сказала: только водкой политура эта бестелесная и сводится. А про коньяк ни слова. Выпили мы ночью без сумления по баночке. Ан, вот, грех какой вышел…
Что ротному делать? Не зверь ведь, человек понимающий. Ткнул легонько Каблукова в переносье.
– Эх ты, вареник с мочалкой… Что ж я теперь полковому командиру доложу? Зарезал ты меня!…
– Не извольте, ваше высокородие, огорчаться. Немцы, допустим, газовую атаку произвели, – состав наш и разошелся. Так и доложите…
Голос за сосной ничего, добрее стал:
– Ишь ты, дипломат голландский! Ладно уж! Только смотри, ребята, никому ни полслова. Ну что ж, давай и мне коньяку, надо и мне слюду бестелесную с себя смыть.
Смутился Каблуков, подает штоф, а там на дне капля за каплей гоняется. Опрокинул ротный, пососал, ан порции не хватило. Заголубел весь, будто лед талый, а в тело настоящее не вошел.
– Ах, ироды!… Слетай, Каблуков, на перевязочный, спирту мне добудь хочь с чашечку. А то в этом виде как же ворочаться-то: начальник не начальник, студень не студень…
Благословил этак в полсердца Каблукова, в вереске под сосной схоронился и стал дожидаться.
Притаилась, стало быть, наша головная колона в Альпах в непроходимом ущелье. Капказ не Капказ, а горы этак с полтора Ивана-Великого. Облака, которые потяжелее, поверху цыпаются, ни взад, ни вперед. Водопадина сбоку шумит. Чего ж ей, дуре, больше делать? Суворов фельдмаршал само собой в передовой части. Пока вторая бригада в далекий обход поднебесным путем пошла, чтобы французу в зад трахнуть, надо было переждать. А что ущелье непроходимое, Суворову через правый рукав наплевать. Потому прочие начальники – генералы, а он – генералиссимус, никаких препятствий не признавал. Где, говорит, древесный муравей проползет, где орел прочертит, там и мои чудо-богатыри ползком-швырком взойдут, скатятся. Дыхания хватит, а не хватит, у себя же и займем.
Сидят это солдатики под скалами, притихли, как жуки в сене. Не чухнут. За прикрытием кое-где костры развели, заслон велик, не видно, не слышно. Хлебные корочки на штыках поджаривают, чечевицу энту проклятую в котелках варят. Потому австрийские союзнички наш обоз с гречневой крупой переняли, своим бабам гусей кормить послали. Сволота они были, не приведи Бог! А нам своей чечевицы подсунули, – час пыхтит, час кипит, – отшельник, к примеру, небрезгающий, и тот есть не станет. Дерьмовый провиант!…
Ходит Суворов-князь по рядам, кому кусок леденца из специального кармана ткнет, – «Соси за мое здоровье!» Кого по лядунке хлопнет, пошутит: «Знаешь меня, кто я таков?».
– Как же нам своего отца не знать! Вас, Ваше Сиятельство, по всей Рассей последний черемис и тот знает…
– А может, я вражеский шпиен, под Суворова подзаделался… Ась? Что же ты, – спорынья в квашне, сто рублей в мошне, – как зуй на болоте, нос вытянул? Стой не шатайся, говори не заикайся, ври не завирайся!
– Разве ж шпиен так по-русски чесать может?… Да и по глазам кто ж Ваше Сиятельство сразу не признает…
– Какие такие у меня глаза? Один плачет, другой дремлет, третий за всех вас не спит.
– Такие глаза, будь здоров во веки веков, – отвечает чудо-богатырь, – что прикажи мне чичас, батюшка, чтоб я самого себя на шомпол насадил и в костре изжарил, – и глазом не моргну!
Ухмыльнулся Суворов в сухой кулачок, треух свой поперек передвинул.
– Уж ты, сват, лучше не зажаривайся! Авось и живьем пригодишься.
Обошел линию, посты проверил, задумался. Адъютант любимый ему чичас табакерку на ладошке поднес для прояснения мыслей. Чихнул Суворов, эхо ему за горой: «Будьте здоровы-с!» Рассмеялся старик: «Обоз в порядке?» – «Так точно, завашим шатром расположившись».
А тут лунный месяц из-за гребешков альпийских выплыл, снежинки перепархивают, будто белые мотыльки в синьке кипят. Одним словом, красота. Ветер на буйных крылах за гору перемахнул, над хребтом грохочет, в ущелье не достигает. Солдат, значит, не подморозит. Перекрестил Суворов адъютантову голову – «Ступай спать, Христос с тобой!» И пошел к себе в киргизский шатер, что всегда за им в обозе возили.
Отвернул вестовой Сундуков кошму, тихим голосом рапортует:
– Зайчиху я тутошнюю в силок поймал. Жирная, не уколупнешь! С каких харчей она тут в горах раздобрела, Господь ее знает.
– Ну что ж, – говорит князь Суворов. – И женись на своей зайчихе. Меня в посаженные отцы позовешь.
– Никак невозможно, Ваше Сиятельство, потому я ее зажарил, аржаной корочкой нашпиговал. Окажите божескую милость, погрызите хоть лапку. Силы вам, батюшка, беречь надо, а вы, можно сказать, одним сквозным воздухом изволите питаться.
Принахмурился Суворов, сальную свечку поднял, морду вестовому осветил.
– Смотри, Васька!… Загадки гадки, а отгадки с души прут. Я раз в году сержусь, да крепко. Ты что ж поведения моего не знаешь? Турок ты, что ли?
– Лайтесь, не лайтесь, Ваше Сиятельство! Хоть жареным зайцем меня по скуле отхлещите, только извольте скушать.
– Эх ты, Васька! Семь в тебе душ, да не в одной пути нет. Даром, что при мне состоишь… Когда ж я своих солдат по скуле хлестал? Хочь в нитку избожись, не поверю! Я свою солдатскую порцию чечевички съел, сладкая, брат, пища! Австрийцы хвалят, – с нее они такие и храбрые… А жаркое сам съешь, я тебе повелеваю.
Взял Сундуков зайца за задние лапки, сало с него так и каплет, прямо сердце зашлось. Вышел на мороз, и первый раз за всю службу приказания самого Суворова не сполнил: кликнул обозную собачку и шваркнул ей зайца: – «Жри, чтоб тебя адским огнем попалило!»
Собачка, само собой, грамотная: хряп-хряп, только и разговору. Посмотрел Сундуков, слезы так бисерным горохом и катятся, к штанам примерзают. Махнул рукой и сел на мерзлый камень звезды считать: какие русские, какие французские…
Тут-то, братцы мои, и началось. Сидит Суворов, горные планты рассматривает, – храбрость храбростью, а без ума бобра не убьешь. И вдруг музыка: ослы энти обозные как заголосят – заревут – зарыдают: будто пьяные черти на, волынках наяривают… Да все гуще и пуще! Обозные собачки подхватили в голос, с перебоями, все выше и выше забирают, словно кишки из них через глотку тянут. Стукнул Суворов походным подстаканником по походному столику, летит Сундуков, в свечу вытянулся.
– Что там за светопреставление? Ведьма, что ли, бешеного быка рожает?
– Никак нет!… Ослы поют. Погонщик через переводчика сказывает, будто они завсегда в полнолунную ночь в восторг приходят, кто кого перекричит. Занятие себе такое придумали, Ваше Сиятельство…
– Ишь ты, скажи на милость. А у меня, сват, свое занятие: соснуть на часок надо, тоже и я не двужильный. Дай-ка пакли из тюфячка, уши заткнуть.
Покрутил Сундуков головой… Ах ты, Царица Небесная! Ужели русскому генералиссимусу из-за такой последней твари не спать?… Ишь, как притомился!
Паклю подал, вздохнул и на мелких цыпочках прочь вышел.
Да разве ж против ослиной команды пакля действует? Месяц встал выше, сияние на полную небесную дистанцию, ослы-стервы только в силу вошли, будто басы-геликоны мехами раздувают, да с верхним подхватцем…
Тетку твою поперек! Сел Суворов на койку, щуплые ножки свесил, сплюнул. Под пушечный гром спал, под небесный спал, а тут – хочь воском уши залей, не всхрапнешь. Чего делать? Приказать им в мешки морды завязать? За что ж тварь мучить, погонщика обижать… Поколеют, не солдат же в дышла впрягать. И животная полезная, из жил тянется, в гору ли, с горы ли, – ей наплевать. Соломы дадут – схряпает, не дадут – солдатскую пуговку пососет. Экая оказия!… Спасибо Создателю, ветер над рекой ревет, ослов заглушает. А то бы беда, враг близко…
Вынырнул тихим манером Сундуков из кошмы, стоит, искоса на начальника любимого смотрит. Шагнул ближе, в свечу вытянулся.
– Не извольте. Ваше Сиятельство, беспокоиться, чичас они замолчат.
– А ты что ж, с обоих концов их соломой заткнешь?
– Никак нет! Голос у них такой, никакая солома не удержит.
– Как же так они, сват, замолчат? Они ж только во вкус вошли – ишь как наддают, хоть в присядку пляши.
– Не извольте беспокоиться. Чичас полную тишину Вашему Сиятельству предоставлю.
Ушел вестовой. И что ж, братцы, как по отделениям, в одном конце закупорило, в другом… Чуть последний осел сверчком рипнул и – стоп.
Вынул Суворов паклю, прислушался: ни гу-гу. Ухмыльнулся он, походную думку-подушку поправил, плащем ножки прикрыл и, как малое дитё, ручку под голову, – засвистал-захрапел, словно шмель в бутылке. Какой ни герой, а и сам Илья Муромец, надо полагать, сонный отдых имел.
* * *
Утречком, чуть серый день наступил, по горам-скалам до ущелья дотянулся, скочил князь Суворов, сухарик пососал, вестового кликнул. Ледяной воды в рот набрал, в ладони прыснул, ночную муть с личика смыл и спрашивает:
– Что ж, Василий Панкратьич, ослиный капельмейстер… Как же ты их, свет, ночью угомонил? Ась? Шаман ты сибирский, что ли?
– Никак нет! А как при лунном сиянии позицию их мне разглядеть потрафилось, приметил я, что ежели он, стерва-осел, рыдает, в восторг входит, чичас он хвост кверху штыком… Нипочем иначе не может. Такой у него, Ваше Сиятельство, стало быть, механизм. Ну, тут уж штука нехитрая: по камешку я им к хвостам вроде тормоза подвязал, они и примолкли…
Рассмеялся Суворов звонко, так личико морщинками и залучилось.
– Ах ты, ослиный министр, чертушка, милый человек! Расскажу вот австрийцам, утиным головам, пусть с зависти полопаются. Разве ж им, козодоям, за русской смекалкой угнаться! Ась? Утешил ты меня по самое горлышко. Чем же мне тебя, сват, наградить? Проси чего хочешь, поднатужься, – ежели только власти моей хватит, честное слово, не откажу… Ну!
Вестовой Сундуков осклабился, а сам руку за спину завел.
– Так точно, Ваше Сиятельство! Награждение мое в вашей полной власти, действительно. Вчерась ночью второй заяц в силок попался, – заяц ничего, форменный. Не спал я, для вас изжарил, старался, авось смилуетесь. Будьте отцом родным, наградите вашего верного слугу, извольте откушать!
И зайца из-за спины вытаскивает.
Насупился было Суворов, посмотрел на вестового и оттаял.
– Хитрый ты, Васька, до невозможности! У лисы ухо срежешь, да ей же и скормишь… Счастье твое, слово дал, солдатское слово не олово. Давай, сват, походную вилку-ножик. Только чур, половина мне, половина тебе. А то три дня разговаривать с тобой не буду… Согласен?
– Так точно, согласен.
Насупился было и Сундуков, да что ж поделаешь.
А ослам приказал князь Суворов по гарнцу чечевицы выдать за то, что им ночью ради чужого русского старика лунный восторг перешибли.
Читал у нас, земляки, на маневрах вольноопределяющий сказку про кавказского черта, поручика одного, Тенгинского полка, сочинение. Оченно всем пондравилась. Фельдфебель Иван Лукич даже задумались. Круглым стишком вся как есть составлена, будто былина; однако ж сужет более вольный. Садись, братцы, на сундучки, к окну поближе, а то Федор Калашников больно храпит, рассказывать невозможно…
* * *
Пирует грузинский князь Удал, – на триста персон столы понаставлены, бык жареный на медном блюде лежит, в быке – жареные утки, в утках – жареные цыплята. С амбицией князь был!… Вином хочь залейся, по всем углам кахетинское в бочках скворчит, обручи еле сдерживают. Кто мимо ни идет, вали к князю, пей, ешь, хочь облопайся. Потому Удал единственную дочку просватал, к вечеру милого жениха ждут, а пока что, не зря ж сидеть, – песни, пляс, пирование. Под простыми гостями туркестанские ковры постланы, под княжеской родней – дагестанские.
Дочка Тамара меж подруг на собольем одеяльце сидит, ножки княжеские под себя поджавши, черные брови, как орлиные крылья, в разлет легли, белое личико будто фарфоровое пасхальное яичко, скромные ручки на коленках держит, – девушка высокого роста, известно, стесняется.
Подходит к ней старший гость, дядя ейный по матери князь Чагадаев, сивый ус за ухо закинул, чеканным кавказского серебра поясом поигрывает.
– Что ж, Тамара… Другие-прочие пляшут, а ты будто жар-птица привинченная. Уважь дядю, пройдись, что ли, рыбкой!…
Защелкал он мерно в ладони, словно деревянными ложками брякнул. Мужчины, стало быть, подхватили: раз-раз!… Музыканты брызнули. Взмыла Тамара, Господи, Твоя воля!
Летает это она пушинкой, шароварки легкими пузырями вздуло, косы полтинниками звякают, ножка ножке поклон отдает, ручка об ручку лебедем завивается. Слуги, которые гостей обносили, с подносами к земле приросли, а гости осатанели, суставами шевелят, каблуками землю роют… Сплясал бы который, да вино ножки спеленало.
Не выдержал тут дядя ейный, князь Чагадаев, даром что сивый; затянул пояс потуже, башлык за плечо, – бабку твою на шашлык! – пошел кренделять… Занозисто, братцы, разделывал, до того плавно, что хочь самовар горячий ему на папаху поставь – нипочем не сронит…
Разожгло тут и Тамару. Стеснения своего окончательно лишилась, потому лезгинка танец такой – кровь от его в голову полыхает… По кругу плывет, глазами всех так без разбору и режет: старый ли, молодой, ей наплевать.
Щечки факелом, грудь облаком, носком вострым под себя подгребает, одним глазом приманивает, другим холодит, поясница пополам, косы ковер метут… То-исть, бубен ей в душу, пронзительно девушка плясала!… В остатний раз свободу свою вихрем заметала.
* * *
В тую пору одинокий кавказский черт по-за тучею пролетал, по сторонам поглядывал. Скука его взяла, прямо к сердцу так и подкатывается. Экая, думает, ведьме под хвост, жисть! Грешников энтих, как собак нерезаных, никто сопротивления не оказывает, хоть на проволоку их сотнями нижи. Опять же кругом никакого удовольствия:
Терек ревет, будто верблюд голодный, гор наворочено до самого неба, а зачем неизвестно… Облака в рот лезут, сырость да серость, – из одного вылетишь, ныряй в другое…
Сплюнул он с досады, ан тут в синюю дыру вниз глянул, на край тучи облокотился, туча его к самому княжескому замку подвезла. Покрутил черт головою: «Эх, благодать!»
Пир у князя Удала только в полпирование вошел, музыка гремит, факелы блещут, гости с ковшами на карачках по всему двору разбрелись… А на крыше княжеская дочка Тамара, красота несказанная, лезгинку чешет, месяц любуется, звезды над тополями вниз подмигивают, ветер не шелохнет.
Обидно черту стало, хочь плачь! – Да у чертей слез-то нету… На-ко-сь, поди у людей веселье, смех, душа к душе льнет. Под ручку, дьяволы, пьяные ходят, а он, как шакал ночной, один на один по-над горами рыскать должен.
А как Тамару, пониже спустившись, со второго яруса поближе разглядел, так даже сомлел весь: отродясь таких миловидных не видывал, даром, что весь Кавказ с Турцией-Персией наскрозь облетел. В сердце ему вступило, будто углей горячих горсть глотнул, чуть кубарем сверху на княжеский двор не свалился. Сроду его к бабам не тянуло, – ан тут и заело!…
Так вот, стало быть, к кому за Арагвой молодой Синодальный князь скачет, карабахского коня нагайкой ярит!…
Ладно, думает: «Ты, брат, скорый, да и я не ползучий…» Не тот, мол, курку ест, кто к столу спешит, а тот, кто ее за крылышко держит.
* * *
Летит Синодальный князь, к луке пригнувшись, на брачный пир поспешает. Алый башлык за спиной ласточкой вьется, борзый конь хвостом версты отсчитывает… За князем верблюды свадебными подарками бренчат, свита коней нахлестывает… Ан, князя Удала замка все не видать, – давно бы, кажись, ему время за Арагвой светлыми окнами, брачными факелами блеснуть. Стало быть, черт через своих подручных все повороты спутал, тропинки вбок отвел, карабахскому коню в морду из-за тучи дует, направление сбивает. Чистая беда!
Да еще часовенка древняя в ущелье стояла, – отшельник ее один в стародавние времена склал, сам по обещанию камни на спине таскал. Которые путешествующие беспременно перед ней шаг замедляли, шапки сымали, молитву читали – против ночного набега, против внезапной пули, против чеченца гололобого. Черт и тут постарался: скрыл часовню туманом, будто чадрой покрыл… Князь без внимания мимо и проехал…
Едут да едут. Стал молодой князь сумлеваться. Попридержал коня, пену с черкески белой перчаткой смахнул, золотые часы вынул, – время позднее.
Дал приказ:
– Стой! Оправься, слуги мои верные!
Ночь пала, месяц за горы сгинул, карабахский конь задыхается. Не иначе как нам на бивак до рассвета располагаться придется. Скидывай тюки, закусим по малости, утро вечера мудренее… Ночь холодная, жертвую по чарке на каждого, – более не могу, потому вокруг небезопасно.
Верблюды посапывают. Всхрапнули и дозорные, против дьявола никакой караул не устоит. А тут, братцы мои, с обоих флангов не то Чечня, не то осетины, – во тьме и пес не разберет, – пластунами подобрались, кинжалы в зубах, да как ахнут! «Халды-балды!…» Черт им тут на самую малость месяц приоткрыл, чтоб способнее было жениха-князя найти!… Лязг, свист, – где тыл, где фронт, где свои, где чужие – ничего неизвестно, потому сражение кавказское, никакого плана, одна резня.
Проснулся князь, на коня неоседланного пал, звизганул шашкой – хрясь, брясь! – улочку себе скрозь неприятеля прорубил…
– За мной, – кричит, – ребята! Мы им хвост загнем…
А какие там ребята, – почитай, вся свита без голов лежит, руки-ноги по утесам разбросаны. Так во сне в полном вооружении ни за понюшку и пропали. Который и жив, тому за кустом руки вяжут, к седлу приторачивают…
– Эк, Калашников-то расхрапелся! Закрой его, Бондаренко, шинелью, а то собьюсь к чертям. Самое главное сичас начинается.
Вынесся князь из сечи, борзый конь к князю Удалу направление взял, ан и черт не дурак. В ночной мгле перехватил у чеченца с правого фланга винтовку, да князю в затылок, с колена не целясь, с дистанции шагов, братцы, на триста. Как в галку! Ахнул Синодальный князь, к гриве припал, – вот тебе, можно сказать, и женился. Ночь просватала, пуля венчала, частые звезды венец держали…
* * *
Влетает, стало быть, карабахский конь, верный товарищ, к Князю Удалу на широкий двор, заливисто ржет, серебряной подковой о кремень чешет: привез дорогого гостя, принимайте! А пир, хоть и час поздний, в полном разгаре. Бросились гости навстречу, князь Удал с крыльца поспешает, широкие рукава закинул… Тамара на крыше белую ручку к вороту прижала, – не след княжеской невесте к жениху первой бежать. Не такого она воспитания.
Что ж молодой жених с коня не сходит? Тестю поклона не отдает? Невесту не обнимет? Или порядков не знает?…
Соскользнул он на мощеные плиты, кровь из-за бешмета черной рекой бежит, глаза, как у мертвого орла, темная мгла завела… Зашатался князь Удал, гостей словно ночной ветер закружил… Спешит с кровли Тамара, а белая ручка все крепче к вороту прижимается. Не успел дядя ейный, князь Чагадаев, на руку ее деликатно принять, – пала, как свеча, к жениховым ногам.
Повел дядя бровями, подняли ее служанки, понесли в прохладный покой, а у самих слезы так бисером по галунам-лентам бегут… Поди кажному жалко на этакое смертоубийство смотреть-то.
А черт рад, конечно: в самую мишень попал! Из-за туч, гад, снизился, по пустому двору ходит, лапы потирает. Собака на цепу надрывается, а ему хоть бы что. Подкрался к угловой башне, мурло свое к стеклам прижал, – интересуется… Оттедова, изнутри-то, его не видать, конечно.
Лампочка на подоконнике горит, Тамара на тахте пластом лежит, полотенце с уксусом на лбу белеет, а сама с лица полотенца белей. Омморок ее зашиб, значит.
Делать нечего, стала она кое-как в себя приходить. Руки заломила, рыдает в три ручья, – вещь не сладкая, братцы, жениха потерять, – всей жизни расстройство.
А тут в фортку черт голос подает, умильными словами поет-уговаривает:
– Ты, – говорит, – девушка, не плачь напрасно. Помер твой князь, в рай попал, там ему полный спокой, об тебе и не вспомнит… Женихов в Грузии не оберешься, а ты по здешней стороне первая красавица, да еще с во-каким приданым, – есть об чем тужить!… Все помрем, а пока что жить надоть. В небе звезды ходят, хороводы водят, ни скуки, ни досады не знают, ты бы с них, девушка, пример брала. А я тебя, между прочим, каждую ночь до первых петухов утешать буду, пока утренняя пташка не стрепенется, – потому днем мне несподручно…
Вскочила княжна на резвые ноги, туда-сюда глянула. Кот под лавкой урчит – ходит-ходит, о подол трется, над головой князь Удал в расстройстве чувств шагает, а боле никого и не слыхать. Выскочила она на крыльцо. Терек под горой поигрывает, собачка на цепу хвостом машет, княжне голос подает: «Не сплю, мол, не тревожься!» Кто ж в фортку, однако, пел?
Караульный тут, который в доску для безопасности бил, подходит. Княжна к нему: «Не проходил ли кто незнакомый через двор. По какому случаю в поздний час пение?»
– Никак нет, – отвечает караульный, – седьмой раз дом обхожу. В доме такое несчастье, как можно… Уж я б его, певца, чичас князю Удалу представил, он бы ему прописал!
С тем и ушла. Головку к шелковой думке приклонила, – к подушечке махонькой, – вздохнула, об судьбе своей горькой призадумалась, однако ж слеза не идет: черт свое дело сделал!
В лампочке керосин вышел, дрема ее стала клонить. Заснула она тихо-благородно, косы-змеи под себя подостлавши. Ан тут черт ей в сонном видении и является.
И не то что в своем обыкновенном подлом виде, а во всей, можно сказать, неземной красоте. Кудри вьются, глаз пронзительный, ус вертит, в бессловесной любви ей признается… Девушке много ль надо? Испужалась она спервоначалу, а потом огонь у нее по жилам пробежал, потянулась она к нему, как дитё…
Да, видишь, черт времени не рассчитал: петух тут первый закукарекал, – сгинул бес, как дым над болотом. Так на первый раз ничего и не вышло…
Терек шумит, время бежит, никакого княжне облегчения нету. Подруги ее уговаривают: «Пойдем, Тамара, хоть к речке, смуглые ножки помыть!» Она упирается: «Нет мне спокоя, днем об женихе тоскую, по ночам тайный голос меня душит. Никуда не пойду!»
Испужались подружки, пошли к князю Удалу. Так мол и так, неладное с Тамарой творится, надо меры предпринять. Князь чичас к ней, дочка единственная, нельзя без внимания оставлять.
– Что ж, – говорит, – дитё… Я мужчина, человек старый, слов настоящих не знаю. Кабы твоя мать покойная была жива, она бы тебя в минуту разговорила. Однако не тужи, достаток у нас, слава Тебе Господи, немалый, девичьи слезы вода. Надо себя в порядке содержать, а не то, чтобы по ночам неизвестные голоса слушать.
У Тамары, однако, характер твердый, грузинский.
– Я, папаша, резоны ваши понимаю. Совсем я от хозяйства отбилась, вас, старика, без попечения оставляю. Не могу с собой совладать… Пойду в монастырь, а то как бы чего не вышло. Девушка я, сами знаете, горячая… Лучше вы меня и не отговаривайте.
Три дня хмурился князь, весь ковер протоптал шагавши, – сына б приструнил, на милую дочку рука не поднимается… Пускай, думает, идет. В монастыре хоть честь свою княжескую по крайности соблюдет, Бога за меня помолит… Поперек судьбы сам царь не пойдет.
Снарядил он ее богато, дары в монастырь на десяти верблюдах вперед послал. Дочку в горную обитель сам под конвоем предоставил, чтоб головорезы-чеченцы, не приведи Бог, в горы ее в плен не угнали. Народ аховый, наживы своей не упустят.
Живет это она в келейке своей месяц-другой тихо, скромно, лучше и быть нельзя. На рассвете утренняя заря белую стенку над изголовьем румянит. Чинар сбоку шумит, светские мысли отгоняет. Пташки повадились крошки клевать. Горы вдали будто мелким сахаром посыпаны, снеговая прохлада от них идет, – в жару самое от них удовольствие. Знай одно: службы не пропускай, об остальном не твоя забота. Чистота, пища легкая, ясные мысли облаками плывут, пей себе чай с просфоркой, будто ангел бестелесный, смотри на горы, ручки сложимши, – боле и ничего.
Однако от черта и монастырь не крепость. Прознал он, само собой, что княжну Тамару в подоблачный монастырь укрыли, ан доступа ему туда нету, – сторож, отставной солдат, по ночам с молитвой ограду обходит. Княжна воску белей все молится да поклоны кладет, – в церкви ли, в келье ли своей глаз не подымет, об земном и не вспомнит.
Изловчился черт, стал ей с вечерним прохладным ветром шопоты свои да поклоны посылать…
– Очнись, Княжна!… От себя никуда не уйдешь. Ты месяца краше, миндаль-цвет перед тобой, будто полынь-трава, – ужель красота в подземелье вянуть должна? Который месяц по тебе сохну, и все без последствий. Все свои дела через тебя забросил, должна ты меня на путь окончательный наставить, а то так закручу, что чертям тошно станет. Себя, девушка, спасаешь, а другого губишь, – это что ж такое выходит?…
Стревожилась тут и Тамара окончательно. На то ль она в подоблачный монастырь шла, чтоб ни весть от кого такие слова слышать?… Однако ж, и ее зацепило. Ева, братцы, тоже, может, по такому случаю, погибель свою приняла. Зажгла она восковую свечку, поклоны стала класть, душой воспарила, а ухом все прислушивается, не будет ли еще чего. А ветер скрозь решетку в темные глаза дышит, гордую грудь целует, – никуда от него не укроешься. Куст-барбарис за окном ласково об стенку скребется, звезды любовную подсказку насылают, фонтан монастырский звенит-уговаривает, ночной соловей сладкое кружево вьет. Со всех сторон ее черт оплел, – хочь молись, хочь не молись.
* * *
Видит черт, что полдела сделано, а дальше окончательно затормозило. Не юнкер он какой, в самом деле, чтоб по ветру с девушкой перешептываться, да и во сне ей являться, об любви своей докладывать. Тоже и он гордость свою имел.
Пустился он, песья голова, на хитрости. Штоф кизлярки украл, да отставному солдату, сторожу, который обитель в ночное время с молитвой обходил, – и подсунул. А ночь, милые мои, прохладная была, кавказские ночи известные. Отставному солдату, хочь он и при монастыре состоит, тоже выпить хочется, – не святой. Хлебнул он с устатку, намаялся, которую ночь-то ходивши, хлебнул в другой, согрелся, – в кизлярке этой градусов, поди, с пятьдесят было, – к стенке притулился, да и захрапел, как жук в соломе. Слабосильный старичок был, да и от вина отвыкши.
Черту только того и надо. Без обходной молитвы ему чего ж бояться. В трубу втиснулся, к княжне в келью проник, об паркетный пол вдарился и таким красавцем-ухарем объявился, что против него и покойный Синодальный князь ничего не стоил.
Княжна Тамара так ручками и всплеснула, – удивляется:
– Кто вы такой есть, и почему в неположенное время в келью мою тайно проникли? У нас этого не полагается.
Тут ей нечистый все, как есть, и выложил.
– Я, – говорит, – тебе в сонном видении неоднократно являлся… Я тебе по ночному ветру чувства свои объяснял. Ты, девушка, однако, не сумневайся. Я не из простых чертей, а вроде как разжалованный херувим. Потому за гордость свою и поступки наказание понес. Однако, как я теперь в тебя без памяти влюбившись, – все поведение свое переменю, добрей тихого младенца стану, только бы на красоту твою беспрерывно любоваться… Тоже и мне пожить по человечески хочется, – со скуки одинокой давно б удавился, да черти смерти не подвержены… Сжалься, княжна, я тебя во как возвеличу, по всему Кавказу слава трубой пройдет!
Принахмурила Тамара гордые брови, сердце у нее мотыльком бьется, ан доверия полного нету.
– Сгинь, – говорит, – сатана, прахом рассыпься! Почему я тебе доверять должна, ежели вся ваша порода на лжи стоит, ложью сповита? Сызмальства я приучена чертей гнушаться, один от вас грех и погибельная отрава. Чем ты, пес, других лучше?… Скройся с моих прекрасных глаз, не то в набат ударю, весь монастырь всполошу!
Побагровел черт, оченно ему обидно стало, – за всю жисть в первый раз на хорошую линию стал, а ему никакого доверия. Однако голос свой до тихой покорности умаслил и полную княжне присягу по всей форме принес:
– Клянусь своим страстным позором и твоим чернооким взором, клянусь Арарат-горой и твоей роскошной чадрой, что от всей своей дикой подлости дочиста отрекаюсь, буду жить честно, в эфирах с тобой купаться будем, и все твои капризы сполнять обещаюсь даже до невозможности!…
Ахнула тут Тамара, видит, дело в сурьез пошло, – самого главного кавказского черта, шутка ли сказать, приручила.
Разожгло ее насквозь, – в восемнадцать, братцы мои, лет печаль-горе, как майский жук, недолго держится. Раскрыла она свои белые плечики, смуглые губки бесу подставляет, – и в тую-ж минуту, хлоп! С ног долой, брякнулась на ковер, аж келья задрожала. Разрыв сердца по всей форме, – будто огненное жало скрозь грудь прошло.
Закружился бес, копытом в печь вдарил, пол-угла отшиб. Вот тебе и попировал!… Однако ж дела не поправишь! Душу из княжны скорым манером вынул да к окну, – решетку железную, будто платок носовой, в клочки разорвал. Да не тут-то было… Навстречу ему с надворной стороны княжны Тамары Ангел-Хранитель тут, как тут! Так соколом и налетел:
– По какому такому праву ты, окаянный, сюда попал, почему душу ейную тащишь?
– По такому праву, что княжна со мной, по своей воле обручилась. А ты где раньше был? Крепость сдалась. Что ж ты не в свое дело суешься?
– Нипочем, – отвечает Ангел-Хранитель, – не сдалась! Она, Тамара, как птенчик глупый, за поступки свои не отвечает. Я за нее ответ держу!… А с тобой разговор короткий…
Да как хватит его справа налево огненным мечом наотмашь, так во всю щеку шрам ему и сделал… Локтем отпихнул черта и воспарил с Тамариной светлой душой в кавказскую поднебесную высь.
Очнулся черт. Щека горит, смола в печенке клокочет… Двинул в сердцах отставного солдата, что под руку подвернулся, вдоль спины, так что с той поры солдат на карачках до конца жизни и ходил.
Взмыл к тучам и прочь с Кавказа навсегда отлетел. Только молоньи хвостом за ним, будто фейерверк, сиганули…
В Персию, говорят, переселился, потому там народ более легкий, да и девушки не хуже грузинских. Может, и взаправду остепенился, какую хорошую за себя взял, ремесло свое подлое оставил и в люди в свое удовольствие вышел. Кто их там, чертей, разберет, братцы!…
Случай был такой: погорело помещение, в котором полковая музыкальная команда была расквартирована. Вот, стало быть, пока ремонт производился, полк снял под музыкантов у купеческой вдовы Семипаловой старый дом, что на задворках за ее хоромами на солнце лупился.
Дом крепкий, просторный. Прежде в нем сам купец с семейством квартировал, а как помер, вдова с отчаянной скуки себе новые хоромы взгромоздила, а старый дом так и стоял без надобности, паутинкой-пылью замшился, – мышам раздолье.
Перевезли, значит, кавалеры свои сундучки на нестроевой двуколке, костылей в стены наколотили, трубы свои поразвешивали, – живут. Воздух, конечно, затхлый, однако, как махоркой его провентилировали, – живым духом пахнуло.
С утра до вечера цельный день трубы курлычут, флейты попискивают. Потому команда помимо своей порции еще и в городском саду по вольной цене по праздникам играла. А тут еще и особливый случай привалил: капельмейстер, прибалтийский судак, хочь человек вольнонаемный, однако по службе тянулся, – вальс собственного сочинения ко дню именин полковой командирши разучивал. «Лебединая прохлада» – на однех тихих нотах, потому в закрытом помещении у командира нельзя ж во все трубы реветь…
А в том дому, братцы, еще с турецкой кампании, домовик поселился, на чердаке себе место умял, стружек сосновых понатаскал – прямо перина. В новые хоромы не переехал, – старый деревянный дом куда способнее, что ж камень своими боками обсушивать… Да и домовые, они вроде кошек – к своему стародавнему месту до того привычны, что и с кожей не оторвешь.
Харч был готовый – на помойке, за банькой, завсегда либо мозговую кость, либо пирога подгорелого добудет. Дворовый барбос до этих лакомств не достигал, потому домовой еще с вечера помойку обшаривал, пока собачку с цепи не спущали.
В лунные вечера ему, красноглазому, раздолье: по пустым покоям похаживает, мутным баском рявкнет, – стекла по всем концам так и отзовутся. Либо на рундучок в прихожей ляжет, патлы свесит и давай по мышиному поцыкивать… Набежит мышей прорва, он им сладкий сухарик скормит, да на две партии и распределит: которые мыши пешком – пехота, которые на крысах верхом – кавалерия. Хлопнет пяткой о притолоку, знак подаст – пошла война. Грызутся, кувырком о пол шмякаются, а он, шершавый, и рад – по рундучку катается, сам себя лапами по пузу барабанит. Удовольствие.
Зато и мышиную свою команду уж он не выдавал, ни одного кота в дом нипочем не допустит. Чуть который мурло из-за ободранной доски покажет, чичас его домовик кочергой по усам, кот так и вскинется. Попал шар в лузу да и выскочил.
Да и на крыше ему, кудластому, лафа… Зимой белые шмели над трубой попархивают, в ставне у купеческой вдовы красное сердечко мерцает. Тишина кругом до чрезвычайности. Дальний лес в мутном молоке дремлет… Дура-ворона сбоку на крышу подсядет, слепит домовой снежок да в зад ей и пальнет, – лети, милая, не загащивайся!… И летом неплохо: звезды, Божьи глаза, над кровельным коньком играют. Сопрет домовой из колодца бутылку пива. Пьет, ногой по жолобу стучит. Остатки дворовому псу на башку сплеснет, не смотри, обормот, на луну, не для тебя выплыла… В саду сторож у шалаша груши-опадки печет. Чуть глаза заведет, домовой свою порцию свистнет, с руки на руку перекинет и к себе на чердак. Знатно жил, что и говорить…
Особливо ж он весну обожал. Черемуха округ всей крыши кольцом цветет, миндальным мылом ноздри лоскочет. Соловьи над малинником гремят, звонкий раскат-пересвист из сада до того грустно наплывает, что не то что домовой – бревно разомлеет. Вытащит он из водосточной трубы своей работы жалейку, да как начнет соловьев подбадривать, аж прачка Агашка на дворе на белых пальчиках лебедью закружится…
И вот тут нежданно-негаданно – загнали ему под самый, можно сказать, май месяц шип под ноготь. Понаперло этой музыкальной солдатни во все покои, прямо дом трясется. Днем не заснешь, – а когда ж и заснуть домовому, как не днем… Почитай с зари гундосят черные дудки, флейты до такой пронзительности достигают, аж в глазах режет, басы в подкладку мычат-раскатываются. Хочь башку в стружки зарой, хочь паклей из-под бревна уши законопать, нипочем тишины не добьешься. Марши да польки – будто медные козлы через стеклянный забор скачут… Вальс «Лебединая прохлада», правда, на одном пьяном шепоте шел, да что толку, ежели капельмейстер через каждый такт музыку обрывал и такими прибалтийскими словами солдат камертонил, что домовой с тоски в трубу голову засовывал. Не любят они, домовые, когда кто по-русски неправильно ругается…
Да и ночью не легче было. Строевой солдат, когда он не дневалит, да на посту с ружьем не стоит, ночью обязательно дрыхнет, а эти бессонные какие-то оказались. Чуть капельмейстер на свою фатеру через дорогу вонзится, чуть старший унтер-офицер, сверхсрочный старичок, мундирчик с шевронами над койкой повесит, сейчас – кто куда. В саду шу-шу, шу-шу: мало ли беспризорных куфарок да мамок… Полковому музыканту после пожарного, можно сказать, первая вакансия. Из окон сигают, в кустах масло жмут – всех соловьев, самозабвенных пташек, к собачьей матери поразогнали… Сирень снопами рвут, – на пятак попользуются, на рубль поломают. Ох, сволочи!
Нырнет домовой, как солнце сядет, под жимолость, к помойке своей серым катышком проберется, ан и тут обида: квартирант богоданный, музыкантская собачка Кларнет-пистон, все как есть приест, – хоть мосол обглоданный после нее прохладным языком оближи… На чердак вернется, – портки музыкантские на веревках удавленниками качаются, портянки, хочь и мытые, на лунном свете кадят-преют, никакая сирень не перебьет.
Даже мыши и те сгинули. Капельмейстер, чистоплюй, во все углы носом потыкал, – приказал в мышиные щели толченого стекла насыпать. Тварь Божья ему, вишь, помешала. Ну и ушли все скопом в лабаз соседний, не по стеклу ж танцевать. Лапки свои – не казенные. Совсем домовому обидно стало, как своей последней компании он решился. Ишь, хлуп гусиный, – на малое время до лагерного сбора с командой втиснулся, а распорядки заводит, будто он тут и помирать собрался.
Вылез как-то домовой в полночь на крышу, к трубе притулился, лунный дым скрозь решето стал сеять, а сам свою думку думает: как бы охальную команду с места сжить? Не самому ж с стародавнего гнезда сниматься… Хоть дом сожги, – в золе под порогом ямку выкопает, никуда не поддастся.
Кой-чего и придумал. Начал он тихо, вроде «Лебединой прохлады», а дальше все круче: поострей толченого стекла дело-то вышло.
* * *
Утром, чуть ободняло, полез барабанщик на чердак, бельишко в охапку собрал, – все как есть на месте. А чуть на свет вынес, так и заверещал:
– Ох ты, гусь я яблоками! Гляньте-ка, братцы… Никак черт на нашем белье трепака плясал!
Сбежались музыканты, – вот так постирушка. По всем порткам, рубахам жирной сажей следки понатоптаны. Да и следки какие-то несуразные: то ли селезень с медвежонком сажу на белье месили, то ли обезьяна заморская, из трубы вылезши, на передних лапках по белью краковяк танцевала…
Подкатился тут старший унтер-офицер, подковками затопотал:
– Что ж энто, до-ре-ми-фасоль вам в душу, за оказия?! Как так недоглядели? Почему такое?
Догляди-как тут, – не часовых же к подштаникам ставить… Капельмейстер на крик из своей фатеры поспешает. Скрозь очки глянул, чуть дневальному голову не отгрыз. А что ж с дневального в таком разе и спросишь, – ведь этак его и за лунное затмение под винтовку ставить-то надо…
Ну, кой-как дело обмялось. Собралась команда в верхнем помещении. Впереди флейты, за ними кларнеты, у стен геликон-басы, – самые пучеглазые да усатые кавалеры. Дал капельмейстер знак, чтобы, значит, «Марш-фантазию» спервоначалу для разгону музыки. Набрали солдатики полную порцию воздуха, понатужились, дунули в мундштуки, – как прыснет из всех раструбов керосин, – так всех с морды до подметок и окатило. А более всех капельмейстер попользовался, потому он всегда перед командой, палочкой своей выкомаривает…
Затрясся он, раскрыл было рот, чтоб всю команду в три тона обложить, ан слов-то и не хватило… Выплюнул он с пол-ложки, – с висков течет, мундирчик залоснился, с голенищ округ ног жирный прудок набегает. Залопотал он тут, как скворец, – и слов других не нашлось:
– Что значит? Что значит? Что значит?
Ничего и не значит! Помет на полу, а птички и видом не видать.
Призадумались тут и музыканты, а уж на что народ дошлый. Флейтист один мокроротый, весь, как сорочье яйцо, веснущатый, кинулся к керосиновой жестянке, что в углу стояла: пусто. А вчера полная ведь была, – вот в чем суть!
Стали солдатики шарить, про капельмейстера и забыли, – хочь и начальник, совсем он ошалел с перепугу, чихал в сенях да старшему унтер-офицеру бока свои мокрые под тряпочку подставлял. Стали шарить. Глядь-поглядь, такие же следки, как и на белье, только керосином смоченные, на чердак вели… Заскучали тут многие…
Однако ж, опомнился кое-как прибалтийский судак энтот, приказание дал, чтобы чердак до последней балки обследовать. Музыканты, ежели присяга потребует, народ храбрый: в самый бой впереди всех с музыкой идут. Ан тут человек с пять охотников-то набралось. Фонарь зажгли, барабанщик наган свой против неизвестной нации неприятеля из кобуры вытянул, поперли на чердак. Тыкались, все закаблучья друг дружке оттоптали, – хочь бы моль для смеха попалась. Только с дюжину пустых пивных бутылок у слухового окна нашли, – как кегли расставлены. Да заместо шара чугунная бомба, что к лампе подвешивают, рядом лежала. Ох, Ты, Господи! То-то вчерась ночью над головами гудело-перекатывалось. Потоптались музыканты, никто и слова не сказал.
Делать нечего, – стали они задом с лестницы спускаться, а вдогонку им из-под дальней черной балки стерва какая-то подлым голосом огрызнулась:
– Ку-ку! Шишь съели?…
Загремели солдатики вниз, аж лестница затряслась. Доложили капельмейстеру, бухнул он с досады в турецкий барабан колотушкой, чуть шкуру не прорвал.
– Чепуха на барабанском масле! Голые потемки разве сами разговаривать могут? Промывайте струменты, ну вас всех к подноготному дьяволу…
Обнакновенно немец, – и выразиться по-настоящему не умел. Поманил он старшего:
– Займись тут пока с ними. А я пойду переоденусь, потому я весь фотогеном провонялся. Фитиль в меня вставить – и лампы не надо!…
* * *
Отрепертились солдатики к вечеру, аж губы набрякли. Дело спешное: завтра утречком к полковой командирше в полном составе являться, сурпризный вальс играть. Проверили они струменты, да заместо верхнего помещения внизу их над койками поразвешали, – при лампочке да при дневальном сукин бес не накеросинит.
Сели в кружок – кто в картишки, кто ноты подшивает, кто из черного хлеба поросят лепит… И вдруг все враз к фортке головы повернули: из-за колодца, из садовой чащобы не весть на чем, – не дудка, не окарина, не весть кто «Лебединую прохладу» насвистывает…
Да с такими загогулинами да перекатцами, что капельмейстеру хочь лицо закрыть. Он, минога, гладко сделал, будто наждачной бумагой отшлифовал, а тут стежок за стежком золотом завивается, сам из себя звонкие ростки дает!… Кому ж играть? Все на местах. Экое, ведь, дело!
Пошушукались кавалеры. Расползлись по углам. В сад, конечно, ни один не сунулся, – место неладное: взамен знакомой куфарки еще такое, – тьфу, тьфу, – облапишь, что и рот набок сведет… Тихо-мирно по койкам своим завалились, подводные жуки в ушах зашуршали, – уснула команда.
Один щеголек-флейтист у окна сидит, хозяйство свое налаживает. Утром в экстренной суматохе со всем не управишься… Поясок лакированный лампадным маслом протер, на вороненую бляху подышал, тряпочкой прошелся, – так павлиньим глазком и прыснуло. Фуражечку встрянул, – не блин армейский, своя собственная, – края пирожком загнул. Соколом на голове сидит… Полосатые оплечья слюнкой освежил. – Эх вы, Дашки-канашки, прилипай к рубашке… Оплечья энти, братцы, у них, форсунов-музыкантов, как у селезней хохолок в хвосте. Так девушки пачками и дуреют…
Музыканты, они, черти, фасонистые, писарям не уступят. Потому завсегда на людях: то в городском саду в сквозном павильоне над публикой гремят, – кажный сапог на виду, – то на парадных балах мазурку расчесывают. Михрютками в голенищах разинутых не вылезешь, не тот табак. А ежели кой-что себе сверх форменной пригонки и дозволяли, – адъютант не подтягивал. Ему тоже, поди, лестно: такую команду хочь в Париж посылай…
Обдернулся солдатик, – кажись, все. А как шаровары свои просмотрел, видит, пуговки подтянуть надо, – нитка, сволочь, гнилая попалась: чуть молодецкую выправку развернешь, так пуговка канарейкой вбок и летит… Прихватил он все, как следовает, щука зубами не отгрызет. Подтяжечки новые примерил, в оконное стекло на себя засмотрелся: чисто генерал-фельдмаршал… Музыканты, они ремешками не затягиваются, – и форс не допущает, и для легкости воздуха в подтяжках способнее: ежели брюхо поперек круто перетянешь, долгого дыхания тебе, особливо на ходу, не хватит. Обязательно себя в штанах, как в футляре, содержать надо, чтобы правильная перегонка нот из грудей в подвздошную скважину шла.
Охорашивается флейтист в стекло, подтяжечками поигрывает, с сонной зевоты рыбкой потянулся, – ан почудилось ему тут, будто с надворной стороны серый козел на дыбки подымается, в окно на него во все глаза смотрит… Прикрыл солдат бровки ладонью, воззрился в темную ночь, так вдоль стены и метнулось чтой-то… Да еще и фыркнуло, шершавое зелье, – по всем кустам смешок глухой шорохом прокатился.
Не прачка ли Агашка? Голос у нее, однако, не толстый кларнет с переливом, не то чтобы в басовую подземность ударять. И бежать ей с чего же: ты ей гимнастерку поштопать, а она к тебе так всем арсеналом и подворачивается…
Кто ж, лярва, скрозь окно подсматривал?… Вспомнил тут музыкантик, какие чудеса в команде разворачивались, сжался, как мышь… Гардероб свой на табуретке конвертом сложил и в теплое гнездо под собственное одеяльце чижиком безвинным забился. Ишь, как в трубе корова в пустую бутылку ухает, а ведь на дворе ветра и в пол-колебания нет… Спаси, Господи, помилуй флейтиста Данилу, сонным неводом затяни, на заре перышком встряхни!
Остался дневальный посередке за столиком одинокой кукушкой. Сидит, бодрится, жужелицу по нотам пальцем подталкивает, чтобы правильное направление держала. Чего ж бояться: лампочка в полную силу горит, вокруг земляки в носовые фаготы дуют. Не в лесу сидит, – наплевать!
Скрозь фортку оркестр соловьиный достигает, – вот поди ж, никто не учил, а без капельмейстера так и наяривают. Эх ты, жисть!
Притих он, прищипился, стал было носом дремливую рыбку удить, – ан слышит, будто дверь скрипнула… А может, и не скрипнула, – солдат во сне зубом заскрежетал? Серая мгла вдоль коек бродит-шарит, ножницы будто звякнули. Откуда тут в ночной час ножницам взяться? Таращит дневальный глаз, к земляку на койку присел, – и жуть на него наплывает и ночная муть по рукам пеленает. Вздремнул, не вздремнул, – бык его знает. К ковшику подошел, в ладони себе прыснул, глаза освежил и стал для бодрости на столике крепко, слово вырезывать.
Сменился дневальный, другой заступил. Ан тут вскорости и солнце, словно подсолнечник золотой, из-за сада выкатилось.
* * *
Не успел капельмейстер щеки себе поскоблить – слышит, насупротив в команде крик-шум, старший унтер-офицер истошным голосом орет. Побежал немец через дорогу, как был в мыле, в музыкантское помещенье заскочил. Хочь и вольнонаемный начальник, скомандовал ему навстречу дневальный: «Встать, смирно!» Кто привстал, руками за брюхо держится, а кто так на койке турецким дураком сидит… Что такое?
Старший из угла шкандыбает, всей пятерней штаны на весу держит, лица на ем нет.
– Ох, ваше скородие… Пропали мы все с потрохами! Как к командирше команду вести, ежели на всех музыкантских штанах пуговки все до одной отрезаны?!. Даже пряжки на хлястиках все начисто, можно сказать, слизаны. Либо в трубы дуть, либо штаны держать, – совместить никак невозможно!…
Началась тут, братцы, завирушка… Ночной дневальный крестится, языка с перепугу лишился, – знаками показывает, что ни сном, ни духом он тому не причинен. Да и не до дневального в таком виде, – через малое время в поход к полковому командиру на фатеру идтить. Как быть-то?
Послал капельмейстер утреннего дневального, – на одном ем брюки в полной исправности были, – к командиру нестроевой роты, чтобы распорядился из чихауза новый комплект спешно выдать. Припустил дневальный, а капельмейстер вдогонку дирижирует:
– Беги четвериком! По сторонам не смотри… На чужой кровать рот не раздевать… Марш, марш! Глухому попу два обеда на ужин…
Скрылся из глаз дневальный. А время идет. Обшарили на всякий случай все сундучки, – на всю команду пять запасных пуговиц набрали, – музыканты народ не запасливый. Пока что булавками подкололись, да это ж вещь ненадежная: духовой струмент крепких пуговиц требует, потому натуга большая.
Стучат часы, минутная стрелка капельмейстера прямо по сердцу чиркает… Слышат они – конский топот у ворот. Не двуколка ли с шароварами вскачь примчалась. Глядь, сам полковой адъютант на взмыленном коне во двор вкатывает, – у него ж, братцы, музыкантская команда в непосредственном подчинении, – тут засуетишься!…
– Почему, – кричит, – Иван Распрокарлович, такое запоздание?! Все собрамшись, командир в басовом ключе выражается, с какой стати музыки нет?… Почему у вас личность в мыле? Рапорт об отчислении подавайте, ежели служить не умеете…
Капельмейстера аж в фальцет вдарило:
– Ох, господин адъютант! За бритого двух небритых дают… Сначала казните, потом выслушайте.
И доложил ему, какие камуфлеты в команде происходят. Притих адъютант, – видит, дело цинковое… А тут и двуколка со штанами подоспела. Оделась команда в два счета и марш-маршем к командирской фатере.
Хочь и с запозданием, однако вальс «Лебединую прохладу» пронзительно сыграли, – будто серебряные ложки в лоханке прополоскали. Разомлела командирша, капельмейстеру полпудовую ручку под усы сунула, музыкантов в беседку послала мундштуки промочить… Ежели нутро вспрыснешь, завсегда легче дух из себя в трубу гнать.
Командир полка, между тем, нет-нет да и насупится: моментальность любил, не приведи Бог, – а тут против расписания на двадцать минут оркестр согрешил.
Адъютант за парадным столом, что ж ему делать, все, как есть, и доложил: нечистую силу под арест не посадишь… И про портки со следами, и про керосин, и про пуговки… Заахали полковые дамы, господа офицеры осторожно удивляются, полковой батюшка в шелковый рукав покашливает.
А капельмейстер, судак прибалтийский, после шестой рюмки усы пирожком вытер и с отчаянной храбростью заявляет:
– Или я, или черт… Официальный прошу панихидный молебен отслужить, а то я за занятия не отвечаю. Ну, тут полковой батюшка его и причесал:
– Ни панихидных молебнов, ни молебственных панихид, Иван Карлыч, еще не существует. Может, вы сочините. А что касаемо черта, полагаю, что это не евонная повадка. Черт бы пуговки с мясом вырезал, чтобы казенное добро до тла изничтожить… А это домовик, не иначе. Вы его тихой жизни лишили, он и озорует… Уж вы и не супротивляйтесь, – он вас доест. И молебен никакой не поможет… А если желаете доброго совета послушать, попросите вы через полкового командира городского голову, чтобы он вам, пока ремонт идет, – другое помещение под команду приспособил. Барак какой-либо бесчердачный, потому домовые в бараках не обитают…
Городской голова тут же насупротив сидел. С капельмейстером чокнулся и говорит:
– Ладно, рижский бальзам… Барак я тебе приспособлю. Только дай мне, братец, прибалтийское слово, что в воскресенье в городском саду сверх комплекта ты мне «Лебединую прохладу» на громких нотах сыграешь… Тихая музыка меня не берет… А я уж по тебе, как помрешь, – панихидный молебен по первому классу закажу. По рукам, что ли?
В прикарпатском царстве, в лесном государстве, – хочь с Ивана Великого в подзорную трубу смотри, от нас не увидишь, – соскучился какой-то молодой король. Крикнул свиту, на охоту. Отмахали верст с пяток… Время жаркое, – орешник на полянке, на что куст крепкий, и тот от зноя сомлел, ветви приклонил, лист будто каменный, никакого шевеления.
Привязала свита коней к орешнику, король широкой походкой вперед идет, камыш раздвигает, ручья ищет. Ан был, да весь высох… Всмотрелся король в чащобу, видит, незнакомая малая хатка под дубом стоит, дым не дымит, пес не скулит, будто и нет никого. Махнул он перчаткой, свита да стража за им пошла. Видят – дверь в сенях пасть раззявила, хочь свисти, хочь стучи, никто, девкин сын, не откликается.
Ну что ж, не в рюхи с хозяином играть: главное-то и без него в сенцах нашлось. Выкатили бочоночек на свет, втулку выбили, – стоялый квас шибанул в глаз, все так и повеселели. Выпили они по липовому ковшику, от короля до королевского денщика, в затылок по чинам ставши. Хоть болотной бражкой и припахивает, однако ж около хвоста меду не ищут. В лесной глуши и на том спасибо!…
Тут-то вот, милые мои, король дуба и дал: ему бы по званию своему империал-другой неведомому хозяину на лавке оставить надо, – запас, вишь, весь вылакали. Однако ж он, по веселости лет, запамятовал, дежурный генерал не доложил, адъютант икнул, не подсказал, денщик не насмелился. Так и укатили.
Только трава улеглась, тихий шорох по-за кустами растаял, копыта вдали по корням вперебой захлопали, – вылезает это из-за вереска дремучая борода, кудлатая голова, колючие глаза, – лесной колдунок, который, значит, в хатке этой обосновался.
Приполз он к сеням, – ножки-то у него были с младых лет сдрюченные, – в материнской утробе не так повернулся, осечка и вышла… Принагнул кадушку, ан в ней одна нахальная муха пищит, которая за остатной каплей забралась. Благословил он незванных гостей начерно: квас-то был ядреный, в подполье мореный, на семи травах настоенный… Весь лес, почитай, задом объелозил, пока до настоящего букета добрался. Вот тебе и запасся!… Пошарил он по лавке, по подлавочью, – хочь бы алтын ему король за выпитое бросил. Чин королевский, а поступки цыганские…
Почервонел колдун, черной слюной харкнул. Ладно, – думает, – квасок-то хорош, да как-то он еще отрыгнется…
Ступил он на порог, кротовью костку из-под половицы добыл, спрыснул ее из баночки папоротниковой настойкой, на жабьих глазах настоенной, повернулся к востоку, где королевский город за лесом лежал, и стал над косточкой причитать:
– Кто мой квас пил, рыло омочил, всем им со сродственниками, соседями-подсоседями, со слугами-стражей, со всем приплодом, всему их роду на все королевство уста запечатываю… Бабам не галдеть, колесу не скрипеть, кишкам не бурчать, наяву не чихнуть… Ты взойди, тишина, как над озером луна! Одним птицам-сестрицам, косматым зверям, да насекомой твари уста отмыкаю. Слово мое крепко, дело мое цепко, – ни черту расколдовать, ни ангелу расковать. Тьфу, тьфу, ехал шиш в Уфу, голова в кустах, хвост на плечах, печать на устах!…
Отпономарил он все, как следовает, косым каблуком прихлопнул, заржал да и уполз в вереск семь трав для нового кваса собирать. Нельзя же ему, сволочи, без квасу-то.
* * *
Летит король на аргамаке, стремена пружинит, плащ за спиной ласточкой. Чтой-то свиты не слышно, – ни свиста, ни топота? Обернулся: все за ним веером скачут, только чудно как-то, – галопом дуют, будто ветер по воде стелется, уздечка не звякнет, копыто не цокнет. Попридержал король коня, портсигар вынул, у дежурного генерала серничка хотел спросить, раскрыл жаркие уста, – ан, окромя дыхания, ни полслова… Затормозило, значит! Нахохлился король, безмолвной плетью лист с дуба сбил. Свита да стража кольцом обступила. Которые поближе, дали королю прикурить, а он папироску на земь, – как рыба в садке, рот раскрывает, приказание какое сделать хочет, что ли… Да как прикажешь, ежели в словесной машине завод соскочивши?
Повернулись тут и прочие, друг к дружке с седла тянутся, спросить хотят, что с королем приключилось, – рты настежь, языки мельницей. Да что ж с одним языком сделаешь, ежели колокол черти унесли?
Смятение тут пошло, коней вальсом вертят, лесной воздух глотают, пальцами слова подпихивают, – хочь бы хны!… Пропала вся словесность, как есть, даже и чертыхнуться нечем.
А тут и собачки подбавили. Натянула вся свора сыромятные ремешки, зады дрожат, глаза – сверчками, да как заголосят:
– Что ж это за охота, сукины вы дети?! Вон там за кустом лис с огненным хвостом прочертил, – а нас не спускают!
Шарахнулась тут свита, завертелись охотнички… Слыханное ли дело, чтобы людям молчать, псам разговаривать? А псы так и надсаживаются. Лопнули ремешки, собачки по осиннику так и брызнули… Ан, король ни с места! Лоб перчаткой утер, да гневный знак доезжачему сделал: труби, мол, в рог, сзывай их, вислозадых, назад, – какая, мол, теперь охота…
Приложил охотничек гнутую завитушку к устам, надул щеки арбузом, ан из рога, как из карася, одна безгласная тишина кольцом вьется.
Испужался король, свита фуражки долой, – лбы крестят, да поводья почем зря туды-сюды дергают… Надоело коням в карусели вертеться, повернули к седокам головы, зубки оскалили, да как заржут:
– И-го-го! Матерям вашим – кобылам сто плетей в зад! Задергали нас совсем… Чего, дружки, на них, обалделых, смотреть – гони в королевские стойла… Видно, нынче дело – табак, завертят они нам головы окончательно!…
Прикусили мундштуки, задами друг на дружку нажали, выстроились по четверо в ряд, да как дернут марш-маршем к золотым королевским кровлям, что над холмом светлым маревом горели, – аж седоков к луке будто ветер пригнул. Ни топота, ни хруста: облака над лесной полянкой вперегонку плывут, – поди-ка, услышь-ка…
Осадил бессловесный король коня у парадного крыльца, – королева к нему, как подбитая лебедь, скатывается, белые руки ломает: беда во дворце стряслась, она доложить-то без слов и не может. Сынок королевский с нянькой в палисаднике играл, журчал, как ручей, да вдруг с нянькой его и закупорило, – знаки подают, а разговора не слышно, одни пузырики на губах играют… Кинулась королева к челяди, да и тут неладно: повар судомойку, лакей горничную за пуговку держат, белыми губами шевелят, – хочь в рот к ним вскочи, не услышишь… В окно короля заприметила, с лестницы катышком скатилась, да сама и онемела.
Король королеву по круглой головке погладил, свите рукой махнул, – расходись, мол, братцы, что ж нам карасям пучеглазым друг на дружку смотреть-то… Королевича на руки подхватил, к широкой груди притулил, – ни ответу, ни привету. Так втроем в опочивальню и ушли в тишину, как под лед нырнувши…
А в королевской резиденции и не весть что завертелось.
Бабы у колодца судачили – первое их дело соседские кишки полоскать, – да вдруг как тихим громом их ударило… Тужатся, тужатся, ан, выстрелить-то и нечем. До того им обидно стало, аж за ушьми засвербело. А тут козел с вала по-над колодцем, потная шерсть, морду повернул, да как фыркнет:
– Наговорились, гладкие… Будя! Давайте-кось теперь нашему брату словесного козла подоить…
Да как начал их отчитывать, – почему в хлеву навоз горбом, почему козы не доены, – чай пастух их давно из-за яра пригнал; почему козлу ни одна баба черного хлебца с солью не поднесет, сами-то, шкурехи, небось, булку трескают… Ишь, вымя-то как раздуло!
Освирепели тут бабочки, стали в него камнями пулять. До чего удивительно: который камень в самое пузо угодит, – ни гула, ни треска, будто ангел крылом одуванчик сшиб. Однако ж больно, мать их в пуп боднуть, копытом прихлопнуть! Терпел козел, терпел, да как стал их поперечными словами вентелировать, – тоже и он кой-чему около королевских казарм научился. Перепужались бабы тут окончательно, да так неслышным галопом по домам и брызнули… Что ж за жизнь пошла, ежели все слова, чистые да нечистые к козлу перешли, а бабам и огрызнуться нечем!…
Пьяненький тут один по забору пробирался, – мастеровой алкогольного цеха. Только хайло расстегнул, нацелился песню петь, ан из него один пьяный пар в голом виде. Икнуть и то не может… С какой такой стати этакое беззаконие? Даже остановился он, ручкой сам себе щелкнул, а щелчка-то и не слышно. Вот так пробка! А мухи над ним столбом в винном чаду завились, да зубы скалят… Обрадовались, с роду не говоривши:
– Ах, мухобой какой! Милые, гляньте-ка, как его от двух бортов качает. И кто ж это ему ноги передвигает? Чай, давно ему время с копыт-то слететь. Вали, дядя, лужа-то мягонькая!…
Шлепнулся мастеровой беззвучным тюфячком в канаву, ножки задрал, – досада его калит: последняя тварь, муха, выражается, а он всего, как есть, разворота лишился. Дела!…
Ребятенки тут поодаль в бабки играли. Меткий удар – легким словом подстегнуть первое дело… Ан и их зацепило: руками машут, голоса черт унес. Испужались они, вздумали было зареветь, да рева-то и нет… Прыснули они тихими воробьями по хатам к матерям. Какая уж тут без крика, без визга игра.
Мужик с бабой на завалинке супротив винной лавки сидели. Только было пристроился по случаю вечерней прохлады с бабой поругаться, – словом занозистым зарядился, да порох-то и отсырел… Уж он и квасу глотнул и табачку понюхал, – на полслова силы не хватило… Двинул он с досады бабу в бок, – так она и взвилась, чтобы раскатной дробью его осадить. Да заместо того только и смогла, что между глаз ему плюнула… Даже и драться не стали, до того им обидно стало. Что ж драться, ежели и взвинтить друг дружку нечем.
Кот ихний, Гришка, драная голова, с забора так и залился:
– Ну и камедь, мышь вам во щи!… Сроду таких делов не видал. Мы, на что коты, и то спервоначалу пофырчим-пофырчим, а потом плюемся да цапаемся. А тут, слова не сказавши, он ее в бок, а она в него, обратной почтой харкает…
Раскипятился мужик, хватил в кота поленом, да, спасибо, не попал. Пошел с бабой в избу, да так и не ужинавши, огня не вздувши и взобрались на полати… Спиной друг к дружке, двуглавым орлом сонные пузыри пускать.
Опять же кузнец за пустырем на отлете борону клепал. Свистал, свистал, что ж за работа без свиста, – ан свист-то с губ вдруг и сдуло… Подивился он было, – что за пес, кто ж губы заклеил? Да и удивляться-то не успеешь: молотом по железу стучит – ни стуку, ни гука… Поддувало не скрипит, огонь не трещит… Что за наваждение?… Поскреб он в затылке, задом из кузнецы выкатился, сел на старую наковальню. Час не поздний, а тишина вокруг, – будто город периной накрыли. Одни псы, – спаси и помилуй! – на свалке кости грызут, да друг дружку, как нищие на ярмарке, собачьими словами облаивают.
«Пойди, сволочь, с моего места!» «От сволочи слышу»…
«Да дайте ж ей, сукиной дочке, тяф, бычьим ребром по зубам, – что ж она на мою падаль распространилась!…»
Охнул кузнец, побежал к королевскому фельдшеру по соседству, авось, тот ему какое разъяснение даст, либо пиявки к разговорной жиле поставит. Да и с фельдшера-то взятки гладки: сидит на полу, телескопы выпучив, сам себя за язык тянет, выдоить-то и нечего.
Словом, пошла тут жисть по всему королевству. Судья не судит, купец не зазывает, трактиры паутиной заплело, свадеб не играют, ребят не крестят, именин не справляют, в гости не ходят… В пустую молчанку только тараканов на стене бить интересно.
А скотину домашнюю да прочую живность, всю как есть, в лес прогнали, – ну их к Анчутке, с разговорами ихними бесовскими. Умней людей хотят быть, в лесу и подохнут. Не коровам баб доить, не коровам и разговаривать.
* * *
Особливо военных подрезало, – хочь все войско распускай по задворкам в бессловесной одури подсолнухи грызть. Часовых у дворца и то сменить нельзя, пароля не передавши… Стой хочь до седой бороды, пока квашней на земь не осядешь. Сам король караулы и похерил, своей властью пищали у часовых поотобрал, – расходись, мол, по казармам слонов слонять, а немого короля тишина укараулит… Ученье начисто отменил. Без раскатной команды, без барабанного боя, без песен да марша одни лягушки по отделениям скачут, да и те квакают. Вздумали было спервоначалу батальонное ученье по знакам производить, да воробьи засмеяли: «Первая рота пьяным серпом развернулась, вторая – себе на штаны наступает!» Так и бросили.
Заскучали тут генералы, распечь некого, – самовар, и тот громогласно бурлит, когда жар его проймет. Офицеры да фельдфебеля бесшумно орехи грызут, в дурачки, будто утопленники под водой, тихим манером дуются. Ни сока, ни сладости. Солдатики по углам хлеб да кашу жуют, – что ж и собираться-то вместе, ежели за обедом ни шутки сшутить, ни легким словом перекинуться. Да и насчет прочего, скажем, с миловидным предметом в королевской роще прогуляться… Нельзя же девушку сразу за банты брать, разговор-то хоть махонький нужен.
А король и совсем скис. Приемы прекратил, не глазами ж друг дружку облизывать. Всех иноземных заезжих гостей отвадил, границу закрыл, – срамота, ведь, братцы: гость разговорчивый из другого правильного государства приедет, – ужели кобылу к нему для беседы рядом за королевский стол сажать? Мораль по всем странам пойдет…
Королева с сынком безгласным все в опочивальне сидит, безмолвные слезы глотает. По всему дворцу ребятенок, словно чиж, трещал, а тут до того измолчался, что на пальцах разговаривать стал. Сердце надорвешь, смотревши.
Сидит как-то король у окна, на закат смотрит, сладкий пирог вилкой расковыривает. Власть ему не власть, еда не в еду… только видит – вдали пыль закурилась, народ ко дворцу волной валит, немой громадой накатывает. А впереди отставной солдат Федька, малый еще не старый, которого в запрошлом году громом-молнией на часах оглушило, – с той поры он и онемел. Подошли поближе, король аж в окно перегнулся… Экая вещь: лопочет что-то Федька, руками размахивает, а вокруг его бессловесным стадом народ рты поразинул, слушает, не наслушается. Немой заговорил, языкатые онемели, видно, и впрямь деревья скоро корнями кверху расти начнут.
Взошел тут адъютант, на пальцах показал, что, мол, Федька к вашему величеству достигнуть желает, – как, мол, прикажете?
Король и чин свой на подоконнике забыл, отстранил чубуком адъютанта, да вприпрыжку сам к крыльцу побежал.
Перекрестился Федька, поклон королю до самой пряжки отдал, да как заговорит, аж теплый ветер по толпе прошел, до того человечью речь слушать любо.
– Не тужи, ваше величество! Дело еще может на поправку пойти. А покуль что, разреши с глазу на глаз потаенный доклад сделать, – вещь первой важности. Секрет при всех, как снег на базаре: по каблукам грязью разойдется…
Хватает его король ласково под локоть, ведет дорогого гостя в кабинет: дверь замкнул, во второй кабинет провел, опять замкнул. Посередь покоя стульчик ему придвинул, сам рядом сел, ухо приклонил. Чтобы не подслушивали, значит.
Федька-то тут и выпотрошился:
– Как я, ваше величество, после немоты своей заговорил, заодно с бессловесной тварью в обратную линию попавши, – тут собачка моя, миловидный Шарик, с разговором ко мне и прилетает. Однако ж она пес не нахальный, не возгордилась… Так и так, – говорит, – хозяин… Я это дело обследовала. По следам королевской свиты в лес смахала. Меж кустов и трав на хатку эту под дубом я и напала. Вижу, сова – круглый глаз, на цепи на загнетке сидит, колдуна своего драгунскими словами ругает. «Почему, спрашиваю, дура, ругаешься!» – «А почему ж он, злыдень, ушел семь трав собирать, а мне хочь бы корочку оставил, на цепь замкнул»… Собачка моя, натурально, зверь башковатый, в лес смахала, зайчонка сове принесла, – трескай, стерва, а как наешься, рассказывай дальше. Ну, сова косточку последнюю обглодала, да Шарику все и выложила. Честная, дрянь, оказалась… – Как, мол, король со свитой квас выдули, да как колдунок с отчаянной злости наговор на кротовьей костке сделал, все королевство речи лишил… Дал я Шарику за умственность молока похлебать, да и надоумил его: сова к вечеру опять оголодает, стащи-ка ей куренка, да сразу не давай, – подразни. Авось она, на цепи сидя, со злости на колдуна, и проговорится, хохлатая шкура, насчет средствия, как язык-то во всем королевстве опять разговорным концом обернуть… Как по писанному, ваше величество, все и вышло. Сымайте с вашего королевского пальца кольцо с печатью, дайте мне его на малое время. Завтра к обеду, авось, все и загалдят, а пока более ни об чем докладывать не могу.
Обнял король Федьку, в небритую скулу его безмолвно чмокнул, кольцо с пальца снял, сам Федьке сладкий пирог на вилке подносит… Полное, стало быть, доверие оказал.
Ранним утром обскакал Шарик, обрыскал все королевство: «Сходись все на базарную площадь, хозяин Федька вас лечить будет». Слетелся народ, как мухи на патоку, – голова к голове, будто маковки. Король с семейством да первые чины за ними кольцом. А Федька старается: под котлом посередь базара костер развел, разварил кротовую костку. Потом огонь загасил, дал воде остынуть маленько, на бочку стал, печать показал, да как гаркнет:
– Королевской властью приказываю, чтоб на короткий срок предоставили мне самую болтливую во всем королевстве допреж беды бабу! Вреда ей не будет, одно удовольствие… Только правильно, голуби, выбирайте, чтоб ошибки не вышло.
Вскипел тут бесшумно народ, стали то одну, то другую выпихивать, – бабы упираются, галки с крыш смеются, толку ни на грош. Взяли тут бабы дело в свои руки, пальцами туда-сюда потыкали, выхватили перекупку одну базарную, сырую бабеху в полтора колеса в обхвате… Подтащили к Федьке, головами показывают: честно, мол, выбирали, – болтливей ее ни одной сороки не было…
– Ну мать, – говорит Федька, – скидывай лишнее, лезь в котел. Да не бойся, не щи из тебя варить буду, только попаришься.
Перекупка туда-сюда метнулась, да не уйдешь. Подхватили ее бабы под рукоятки, тыквы у нее от волнения разболтались… Смехота!
– Да ладно уж, – смилостивился Федька, – сорочку на ей оставьте, и в сорочке искупается. Что ж нам на ее вдовий балык любоваться…
Бухнули ее в теплый котел, аж до колокольни брызги долетели. Окунул ее Федька раза три, выудил, крякнул, да на спине вон и выволок. Сушись, ласточка, навар в котле, подол на земле.
Размешал он варево, скомандовал всему населению – от короля до лохматого нищего – к котлу подходить, да каждому по чарке бабьей настойки – на кротовой костке – и поднес… Морщились некоторые, – скус-то не курочкой отдает, однако, говорить хочешь, – не откажешься.
И вот враз, чуть последнему грудному младенцу последнюю чарку хлебнуть дали, – весь базар заголосил-загалдел, аж до неба докатилось. А из лесу скотина да прочая живность откликается, – домой идут. – Разговор-то у них, всех, скотов, сразу и замкнулся: корова мычит, петух кукарекает, как по расписанию Божьему полагается.
Обступил тут народ Федьку кучей, король ему десятку сует, королева – поясок, с себя снявши, презентует. А Федька-то тут, братцы, и онемел, опять вровень с бессловесной тварью в свое состояние вернулся…
Королева заахала, народ соболезнует: всех спас, а сам назад подался… Спрашивают его – нет ли для него, Федьки, особливого средства? А он, шут, только смеется, да на знаках что-то показывает.
Тут-то молодой королевич и пригодился: на пальцах-то он хорошо понимать стал.
– Вещь в том, – говорит, – что ежели эта баба, которую он искупал, с первого новолунья ради него трое суток добровольно молчать согласится, – тогда и к Федьке словесность навсегда вернется.
Подтащили тут мокрую перекупку, просят ее, умоляют, а она как раскатилась:
– Бабку ему под пятое ребро!… Чтоб я? Да ради него? Ради срамника-то этого, который меня, стародавнюю вдову в натуральном виде при всех разбандеролил? Ни минуты не помолчу, ни полминуточки, ни вот на столечко…
И пошла кудахтать… Так весь базар и грохнул. Рассмеялся Федька, русой башкой тряхнул, через королевича объяснил: и без речи, мол, обойдусь, не привыкать стать! Королевское семейство да весь народ вызволил, – на королевскую десятку с товарищами выпью… А баба эта пусть мою разговорную порцию себе берет… Авось не лопнет!
Лежит солдат Федор Лушников в выздоравливающей палате псковского военного госпиталя, штукатурку на стене колупает, думку свою думает. Ранение у него плевое: пуля на излете зад ему с краю прошила, – курица и та выживет. Подлатали ему шкурку аккуратно, через пять дней на выписку, этапным порядком в свою часть, окопный кисель месить. Гром победы раздавайся, Федор Лушников держись!…
А у него, Лушникова, под самым Псковом, – верст тридцать не боле, – семейство. Туда-сюда на ладье с земляком, который на базар снеток поставляет, в три дня обернешься. Да без спросу не уедешь, – военное дело не булка с маком. Не тем концом в рот сунешь, подавишься…
Подкатил он, было, на обходе к зауряд-подлекарю, – человек свежий, личность у него была сожалеющая.
– Так и так, ваше благородие, тыл у меня теперь в полной справности, в другой раз немец умнее будет, авось с другого конца в самую голову цокнет… А пока жив, явите божескую милость, дозвольте семейство свое повидать, по хозяйству гайки подвинтить. Ранение мое, сам знаю, не геройское, да я ж тому непричинен. По ходу сообщения с котелком шел, вижу, укроп дикий над фуражкой, как фазан, мотается. А нам суп энтот голый со снетком и в горло не шел. Как так, думаю, укропцем не попользоваться? Вылез на короткую минутку, только нацелился – цоп! Будто птичка в зад клюнула. Кровь я свою все ж таки, ваше благородие, пролил. Ужели русскому псковскому солдату на три дня снисхождения не сделают?…
Вздохнул подлекарь, глазки в очки спрятал. «Я, – говорит, – голубь, тебя б хочь до самого Рождества отпустил, сиди дома, пополняй население. Да власть у меня воробьиная. Упроси главного врача, он все военные законы произошел, авось смилуется и обходную статью для тебя найдет!» Добрая душа, известно, – на хромой лошадке да в кустики.
Сунулся Лушников к главному, ан кремень тихой просьбой не расколешь. Начальник был формальный, заведение свое содержал в чистоте и строгости: муха на стекло по своей надобности присядет, чичас же палатной сестре разнос по всей линии.
– Энто, – говорит, – пистолет, ты неладно придумал. У меня тут вас, псковичей, пол-лазарета. Все к своей губернии притулились. Ежели всех на бабий фронт к бабам отпускать, кто ж воевать до победного конца будет? Я, что ли, со старшей сестрой в резерве? У меня, золотой мой, у самого в Питере жена-дети, тоже свое семейство, некупленное… Однако ж терплю, с должности своей не сигаю, а и я ведь не на мякине замешан. Крошки с халата бы лучше сдул, ишь обсыпался, как цыган, махоркой!…
Утешил солдата, нечего сказать, – по ране и пластырь. Лежит Федор на койке, насупился, будто печень каленым железом проткнули. Сравнил тоже, тетерев шалфейный… Жена к ему из Питера туда-сюда в мягком вагоне мотается, сестрами милосердными по самое горло обложился, жалованье золотыми столбиками, харч офицерский. Будто и не война, а ангелы на перине по кисейному озеру волокут…
Сестрица тут востроглазая у койки затормозилась.
Куриный пупок ему из слабосильной порции для утешения сунула, да из ароматной трубки вокруг побрыскала. Брыскай, не брыскай, – ароматы от мук не избавят.
Вечер пал. Дневальный на стульчике у двери порядок поддерживает, храпит, аж пузырьки в угловом шкапчике трясутся. Сестра вольную шляпку вздела, в город на легких каблучках понеслась, петухов доить, что ли… Тоже и ей не мед солдатское мясо от зари до зари пеленать. Под зеленым колпачком лампочка могильной лампадой горит, вентиляция в фортке жужжит, – солдатскую обиду вокруг себя наворачивает. Эх, штык им всем в душу, с правилами ихними!… Хочь бы в полглаза посмотреть, что там дома… Сердце стучит, за тридцать верст, поди, слышно…
Отвел Лушников глаза с потолка, так бы зубами все койки и перегрыз. Видит, насупротив мордвин Бураков на койке щуплые ножки скрестил, на пальцы свои растопыренные смотрит, молитву лесную бормочет. Бородка, ровно проборчик ржавый. Как ему, пьявке, не молиться… Внутренность у него какая-то блуждающая обнаружилась – печень вокруг сердца бродит, – дали ему чистую отставку… Лежи на печи, мухоморную настойку посасывай. И с блуждающей поживешь, абы дома… Ишь, какое гунявому счастье привалило!
Отмолился мордвин, грудь заскреб. Смотрит Лушников – на грудке у Буракова какой-то поросячий сушеный хвост на красной нитке болтается.
– Энто что ж у тебя, землячок, за снасть?
– Корешок, – говорит, – такой, сумбур-трава.
– А на кой он тебе ляд, что ты и на войну его прихватил? От шрапнели, что ли, помогает?
Осклабился Бураков. В ночной час в сонной палате и мордвину поговорить хочется. Пошарил он глазами по койкам, – тишина. Солдатики мирно посапывают, хру да хру, – известно, палата выздоравливающая. Повернулся к Лушникову мочалкой и заскрипел:
– Сумбур-трава! На память взял, пензенским болотом пахнет. По домашности первая вещь. Сосед какой тебе не по скусу, хочешь ты ему настоящий вред сделать, чичас корешок водой зальешь и водой энтой самой избу в потаенный час и взбрызнешь. В тую же минуту по всем лавкам-подлавкам черные тараканы зашуршат. Глаза выпьют, уши заклеют, хочь из избы вон беги. Аккуратный корешок!
Сел Лушников на койку. Не во сне ли с лешим разговаривает? Ан нет, мордвин самый настоящий, – подштанники казенные, лазаретное клеймо сбоку, все честь-честью.
– А выводной корешок-то у тебя есть?
– Какой выводной?… Из воды его ж и вынешь, – просуши, да на черной свечке подпали, – все и сгинут. Таракан не натуральный!
Взопрел даже Федор с радости, потому толковый солдат сразу определит, что к чему принадлежит. Умоляет, стало быть, Бураков: дай да отдай, зачем тебе, лисья голова, энтое снадобье? Ты, мол, домой вертаешься, у себя на болоте сколько хошь найдешь, а мне на войне, почем знать, во как пригодится.
Отпихивался мордвин, отпихивался, а потом и сдался.
– Ладно, Лушник. Ты человек добрый, пять ден за меня блевотное лекарство пил. Подарить не могу, давай меняться. Собачьей кожи браслетку с самосветящимися часами отдашь – корешок твой.
Принахмурился Лушников. Часики он у немца пленного на табак выменял: ночью проснешься, блоха тебя лазаретная взбудит, ан тебе в потьмах сразу известно, который час. А тут накось, сопливой редьке часы отдай!
– Да зачем тебе, лесовику безграмотному, часы? По петухам встаешь, по солнцу ложишься, сосновой шишкой причесываешься. Лучше рубль возьми, – подавись! Серебряный рубль, чижолый!
Однако уперся мордвин. Грудку застегнул, корешок спрятал, морду халатом верблюжьим не по правилам лазаретным прикрыл.
Посидел-посидел Лушников, не выдержал. Что ж, часики дело наживное: авось и на другого пленного наскочит. Свое семейство ближе… Дернул мордвина за пятку, мало ногу с корнем не вырвал.
– На часы! Лопай! Матери своей на хвост нацепи, чтобы на метле ей летать способнее было. Давай корешок!…
* * *
Завертелась мельница с самого утра. Только это мордвина выписали, койку его освежили-оправили, – шасть-верть, – влетает сестрица, носик вишенкой разгорелся, ручками всплескивает.
Ужасти какие! В подвальной аптеке черные тараканы всю вазелиновую смазь съели. По всем столам, чисто, как чернослив, блестят… У нас госпиталь образцовый, откуль такая нечисть завелась, бес их знает. Господи помилуй! За смотрителем побежали…
Дежурный ординатор по коридору полевым галопом дует, шпорки цвякают, ремень перевернут, шашка куцая по голенищам ляскает.
– Смотритель где?… Весь ночной диван в крупных тараканах, в чернильной банке кишмя кишат. Хочь дежурную комнату закрывай!…
Только прогремел, глядь – дневальный санитар из офицерской палаты ласточкой вылетает да за дежурным ординатором вдогонку:
– Ваше скородие! Дозвольте доложить, господа офицеры перо-бумагу требуют, рапорт писать хочут… В подполковничьем молоке черный таракан захлебнувшись. Ругаются они до того густо, нет возможности вытерпеть…
И в канцелярии шум-грохот. Стенные часы стали, сволочи, а почему – неизвестно. Полез письмоводитель на стол, в нутро им глянул, так со стола и шваркнулся: весь состав в густых тараканах, будто раки в сачке – вокруг колес цапаются.
Из ревматической палаты толстая сестра на низком ходу выкатывается, фельдфебельским басом орет, аж царский портрет на стенке трясется:
– Да это что же? С какой-такой стати в ночных шкапчиках тараканы? Да этак они и за пазуху заползут… Я девушка деликатная, у меня дядя акцизный генерал, часу я тут не останусь!
Матушки мои… Лежит Федор Лушников на коечке своей, будто светлое дитё, ручки из-под одеяла выпростал, пальчиками шевелит, словно до него все это не касающее.
А тут главный врач из живорезной палаты в белокрахмальном халате выплескивается на шум-голдобню. Что такое? Немцы, что ли, госпиталь штурмом берут?… Смотритель к нему на рысях подбегает, наливной живот на ходу придерживает, циферблат белый, будто головой тесто месил… Он за все отвечает, как не сробеть. К тому ж со дня на день ревизии они ожидали, писаря из штаб-фронта по знакомству шепнули, что, мол, главный санитарный генерал к ним собирается: госпиталь их уж больно образцовый.
Заверещал главный врач, – солдатики на койках промеж себя тихо удивляются: тыловой начальник, доктор, а такая у него в голосе сила. Смотритель трясется-вякает, толстая сестра наседает, а дневальный из офицерской палаты знай свое лопочет про рапорт да подполковничье молоко.
Первым делом, бросился главный врач в офицерскую палату, голос умаслил, пронзительно умоляет. Да, может, таракана кто ненароком с позиции в чемодане завез, он с дуру в молоко и сунулся. Будьте покойны, ласточка без спросу мимо их окна не пролетит. Что ж зря образцовый госпиталь рапортом губить!…
Шуршание тут пошло, чистка. Окна порасстегнули, койки на двор, тараканов по всем углам шпарят, денатуральным спиртом углы мажут, яичек ихних, однако, не видно… Хрен их знает, откуль они такие годовалые завелись сразу. А их все боле и боле: буру жрут, спирт пьют с полным удовольствием, – хочь бы что!…
А из кухни кашевар с ложкой вскачь: «Ваше скородие, весь лук в тараканах!… Прямо чистить нет возможности, сами на нож лезут».
Обробел тут главный, за голову схватился. Не переселение ли тараканов по случаю войны из губернии в губернию началось. Приказал пока что к офицерской палате дневального сверхшатного со шваброй поставить, чтобы какой таракан под дверную щелку не прополз. С остальными прочими время терпит.
Скребут-чистят. Кое-как пообедали, кажный солдат прежде чем рот раззявить, в ложку себе смотрит: нет ли в кашке изюмцу тараканьего. Так и день прошел в мороке и топотне. Только в выздоравливающей палате, как в графской квартире, – тараканьей пятки нигде не увидишь.
К закату расправил Федор Лушников русые усы, вышел за дверь по коридорному бульвару прогуляться. Видит, за книжным шкафом притулился к косяку смотритель, пуговку на грудях теребит, румянец на лице желтком обернулся. Подошел к нему на бесшумных подошвах, в рукав покашлял. Смотритель, конешно, без внимания, своя у него думка.
– Так и так, – докладывает Лушников, – не извольте, мол, ваше благородие грустить. Бог дал, Бог и взял!
– В присядку мне, что ли, плясать, чудак-человек? Да мне теперь перед ревизией в самую пору буры энтой тараканьей самому поесть, а там пусть уж без меня разбираются.
– Куды ж спешить! Бура от вашего благородия никуда не уйдет. А допреж того, вам всех тараканов в одночасье выведу, за полверсты от госпиталя ни одного не найдете.
Кинулся к нему смотритель, как к родному племяннику, чуть с копыт не сбил. Да ах ты, да ох ты!… Да не жестко ли ему, Лушникову, спать? Да не охочь ли он до приватной водочки?…
Лушников лисьи эти хвосты отвел, сразу к делу приступает. Угодно, мол, от тараканьей пехоты избавиться, сделайте снисхождение, на три дня увольте, – хочь гласно, хочь негласно, – семейство свое повидать.
– Да ты не надуешь ли, яхонт, насчет тараканов? Нахвал денег не стоит… Ослобони, а там и разговор будет.
Лушникову что ж… В каком, говорит, помещении у вас главный завод?
Повел его смотритель в продуктовый склад, дверь распахнул, а там – как майские жуки под тополями, – так черная сила живым ключом и кипит, смотреть даже смрадно. Солдат огарок черный, который ему мордвин в придачу дал, из рукава выудил, чиркнул спичкой, подымил корешком… Так враз все тараканы, будто сонное наваждение, и сгинули, – мордвин не какой-нибудь оказался.
В тую же минуту у смотрителя на личности желток румянцем так и заиграл.
– Ах ты, орел! – говорит.– Выведи на скорую руку по всем этажам, а там вали на все три дня. На свой страх тебя увольняю. Глаза у тебя ясные, русские, не подведешь, вернешься!
Сует на радостях Лушникову сала да чаю. Тот, конешно, деликатно отказывается, да в рукав халатный прячет. Призадумался, однако, смотритель:
– Ты, братец мой, вижу я, дока: обмозгуй уж, присоветуй, как бы этак отлучки твоей никто не приметил… А то в случае чего жилы из меня главный наш вымотает да на них же и удавит.
Усмехнулся Лушников.
– Зачем же этакое злодейство? Жилы кажному человеку нужны… Есть у меня в Острове, рукой подать, миловидный брат. У купца Калашникова по хлебной части служит. Близнецы мы с ним, как два полтинника одного года. Только он глухарь полный, потому в детстве пуговицу в ухо сунул, так по сию пору там и сидит, – должно предвидел, чтобы на войну не брали… Вы уж, как знаете, его в Псков предоставьте, – заместо меня в лучшем виде три дня рыбкой пролежит и не хухнет. Чистая работа…
Взвился смотритель. Пока солдат по ночным палатам в тайности корешком дымил, отрядил он помощника своего на интендантском грузовике в Остров. Версты кланяются, встречные кобылки на дыбки встают. Спешно, секретно, в собственные руки… Ночь знает, никому не скажет!
* * *
Ходит главный врач журавлиным шагом по госпиталю, обход производит. Часовому у денежного ящика ремень подтянул, во все углы носком сапога достигает. Хочь бы один таракан для смеха попался: красота, чистота. Утренний свет на штукатурке поигрывает, на кухне котлы бурлят, кастрюли медью прыщут, хозяйственная сестра каклетки офицерские нюхает, белые полотенца на сквознячке лебедями раздуваются…
Взошел главный в выздоравливающую палату. Почему халат в ногах конвертом не сложен? Почему татарин у стенки рукавом нос утирает? С какой радости туфли под койкой носками врозь? Голос, однако ж, сдобный, строгости еще настоящей в себя не вобрал, шутка ли, от такой тараканьей язвы госпиталь избавился… Дошел до Лушникова, приостановился…
– Ты в какое место, сокол, ранен? Запамятовал я.
Лушников-близнец на койку сел, белыми ресницами хлопает:
– По хлебной, – говорит, – части…
– Что такое? Откудова дурак такой мухобойный объявился?
Сестрица востроглазая тут в разговор врезалась, удобрилась, как мачеха до пасынка:
– Не извольте, господин доктор, беспокоиться. Он с раннего утра все невпопад отвечает, заговаривается. Надо полагать, по семейству своему скучает.
– А, энто тот, что на три дня на побывку просился… Заговаривайся, друг, да не очень…
Глянул он тут в историю болезни, велит палатному надзирателю обернуть солдата дном кверху. Перевернули его, главный очки два раза протер, глазам не верит – ничего нет, прямо, как яичко облупленное.
– Ловко, – говорит, – у меня в госпитале работают… Надо бы тебя, красавца, сею же минуту на выписку, да уж оставлю до ревизии. Пусть санитарный генерал сам поглядит, как чисто у нас в образцовом ранения залечивают.
Больше и смотреть не стал, с сестрой пошутил, веселой походкой из палаты вышел и пошел в канцелярию требования на крупу-соль подписывать.
Работа между тем кипит. Смотритель с лица, как подгорелый солод стал. В команду новые медные чайники из цейгхауза волокут, а то из жестяных заржавленных пили. Санитаров стригут, портрет верховного начальника санитарной части тряпкой протерли, рамку свежим лаком смазали, – красота. На кухне блеск, сияние. Кашеварам утром и вечером ногти просматривают, чтобы чернозема энтого не заводилось, дежурного репертят насчет пробы пищи, да как отвечать, да как полотенце на отлете держать.
Три дня пролетело, – нет санитарного генерала, – не извозчик псковский, – к любому часу не закажешь. Измаялись все: одну чистоту наведут, готовь вторую. Свежих больных-раненых подсыпят, опять скобли да вылизывай, – пустой котел блестит, полный – коптится.
Про Лушникова смотритель и не вспомнил, не такая линия. Однако ж он в обещанный срок, как лук из земли, в вечерний час перед смотрителем черным крыльцом вырос. Личико довольное, бабьим коленкором так от него и несет. Вестовой доложил. Вызвали потаенно близнеца-брата, сменились они одеждой, поцеловались троекратно, – каждый на свое место: глухой на вокзал, Федор на свою койку. Пирожок с луком исподтишка под подушку сунул, грызет – улыбается. Угрели его, стало быть, домашние по самое темя.
Только утром он из сонной мглы на белый свет вынырнул, слышит, парадные двери хлоп-хлоп. Махальный, скрозь дверь видать, знак подал. Дежурный ординатор с главным врачом шашками сцепились, чуть с мясом не вырвали. Один рапортует, другой сладким сахаром посыпает. Ведут… А в дальних покоях по всем углам сестры сосновым духом прыскают, чтобы лазаретный настой перешибить.
Обернулся генерал, выбрал себе точку, в выздоравливающую палату направление держит.
Ну, главный врач сообразил, конечно, ежели первый блин густо намазать, другие легче в горло пойдут. Подводит санитарного начальника к лушниковской койке, на два шага позади в позицию встал, докладывает:
– Случай, Ваше Превосходительство, необыкновенный… Солдат Лушников в сидячее место ранение имел, до того здорово у нас его залечили, что и швов не видать. Будто кумпол гладкий, до того красиво вышло. Муха, и та не усидит. Извольте взглянуть.
Генерал, само собой, интересуется. Перекувырнули Лушникова, оголили ему Нижний-Новгород, главный врач так и ахнул. Не крой лаком, завтра строгать… Рубец пунцовый во всю полосу, будто сосиска, вздулся. Опасности никакой, а знак отличия полный, лучше не надо.
Вот тебе и намаслил… Нахохлился генерал, хмыкнул в перчатку и бессловесно в коридор вышел. Главный за ним, – только кулак за спиной Лушникову показал. Сестрица валерьяную пробку нюхает… Подбелил солдат щи дегтем, нечего сказать!…
Что там дальше было – Лушникову неизвестно, а только через малое время крестный ход энтот назад потянулся: генерал кислый, шашку волочит, главный врач за ним халатную тесемку покусывает, – сладка, надо быть. Смотритель в самом хвосте, – будто два невидимых беса под мышки его в котел волокут…
Обедать однако ж надо, – и святые закусывают. Только это выздоравливающие за перловый суп принялись, сестрица впархивает да прямо к Лушникову с сюрпризом:
«Собирайся, милый человек, на выписку. Главный врач распорядился перышко тебе немедленно вставить, – нечего лодырей держать, которые начальство почем зря морочат!»
Встряхнулся солдат, ему что ж! Рыбам море, птицам воздух, а солдату отчизна – своя часть. Не в родильный дом приехал, чтобы на койке живот прохлаждать… Веселый такой пирожок свой с луком – почитай восьмой – доел, крошки в горсть собрал, а рот бросил и на резвые ноги встал.
– Спасибо, сестрица, за хлеб, за соль, за суп, за фасоль. Авось Бог не приведет в другой раз белое тело живопырным швом у вас зашивать… Слушок есть, что к Рождеству немцу капут, женщин у них уже будто малокровных в артиллерию брать стали. А с бабами много ли настреляешь…
Однако сестрица от койки не отходит, вертится. Очень ей по ученой части интересно, как солдат то гладкий был, то вдруг рубец у него наливным алым перцем с исподу опять засиял. Как, мол, такое, Лушников, могло произойти?
Ему что ж скрывать, не католик какой-нибудь.
– Ничего, – говорит, – денатурального, сестрица, в том нет. Третьего дня, как меня ваш главный обернул, я по деликатности воздух в себя весь вобрал, вся кровь в меня и втянулась, ни швов, ни рубцов. А сегодня запамятовал, вот ошибочка и вышла. Уж не взыщите, сестрица. Корова быка доила, да все пролила. Всякое на свете бывает!…
В старовенгерском королевстве жил король, старик седой, три зуба, да и те шатаются. Жена у него была молодая, собой крымское яблочко, румянец насквозь так себя и оказывает. Пройдет по дворцу, взглянет, – солдаты на страже аж покачиваются.
Король все Богу молился, альбо в бане сидел, барсуковым салом крестец ему для полировки крови дежурные девушки терли. Пиров не давал, на охоту не ездил. Королеву раз в сутки в белый лоб поцелует, рукой махнет да и прочь пойдет. Короче сказать, никакого удовольствия королеве не было. Одно только оставалось – сладко попить-поесть. Паек ей шел королевский, полный, что хошь, то и заказывай. Хоть три куска сахару в чай клади, отказу нет.
Надумала королева как-то гурьевской кашки перед сном поесть. Русский посол ей в день ангела полный рецепт предоставил: мед да миндаль, да манной каши на сливках, да изюму с цукатцем чайную чашечку верхом. До того вкусно, что повар на королевской кухне, пробовавши, на половину приел. И горничная, по коридору несши, не мало хватила. Однако, и королеве осталось.
Ест она тихо-мирно в терему своем, в опочивальне, по венгерски сказать – в салоне. Сверчок за голландкой поцыкивает, лунный блин в резное оконце глядит. На стене вышитый плат: прекрасная Гобелена ножки моет, сама на себя любуется.
Глядь-поглядь, вырос перед королевой дымный старичок, личность паутиной обросла, вроде полкового капельмейстера. Глазки с бело-голубым мерцанием, ножки щуплые в валенках пестрых, ростом, как левофланговый в шестнадцатой роте, – еле носом до стола дотягивает.
Королева ничего, не испугалась.
– Кто ты такой, старичок? Как так скрозь стражу продрались, и что вам от моего королевского величества надобно?
А старичок только носом, как пес на морозе, потягивает:
– Ну и запах… Знаменито пахнет!
Топнула королева по хрустальному паркету венгерским каблучком.
– Ежели ты на мой королевский вопрос ответа не даешь, изволь тотчас выйти вон!
И к звонку-сонетке королевскую муаровую ручку протянула.
Тем часом старичок звонок отвел, ножку дерзко отставил и говорит:
– Что так сразу и вон? Я существо нужное, и выгнать меня никак нельзя. Я, матушка, домовой, могу тебе впавшую грудь сделать, либо, скажем, глаз скосить, – родная мать не узнает…
– Ах, ах!
– Во тебе и ах… Могу и доброе что сделать: королю дней прибавить, альбо тебе волос выбелить, с королем посравнять. Дай, матушка, кашки, за мной не пропадет…
Зло взяло королеву.
– Ты, швабра с ручкой! Нашел чем прельщать… Не про тебя каша варена! Ступай на помойку с опаленной курицы перья обсоси.
Домовой зубом скрипнул, смолчал и сиганул за портьеру, как мышь в подполье в сонную ночь.
Наглоталась королева кашки, расстегнула аграмантовые пуговки, чтобы шов не треснул, ежели вздохнет. Хлопнула в белые ладоши. Постельные девушки свое дело знают: через ручки-ножки гардероб ейный постянули, ночной гарнитур сквозь голову вздели. Стеганое соболье одеяльце с боков подоткнули, будто пташку в гнезде объютили. «Спите с Богом, Ваше Королевское Величество! Первый сон – глаз закрывает, второй сон – сердце пеленает!»
Ладно. Стала она изумрудные глазки заводить. Лампадка в углу двоится. Сверчок поцыкивает. В животе кашка урчит-бурчит, по ученому сказать, переваривается.
Тем часом дымный старичок из-за портьерки ухо приклонил: легкий королевский храп услышал. Он, рябой кот, только того и дожидался. На приступочку стал, на другую подтянулся, из-за пазухи кавказского серебра пузырек достал.
А тут королева во сне как раз приятную сладость увидала, всем своим женским составом потянулась, розовые пятки-пальчики из-под собольей покрышки обнаружила. Тут старичок и нацелился: вспрыснул пятки из фляжечки, дунул сверху, чтобы волшебная смазь ровней растеклась. Тарелку из-под каши облизал наскоро и ходу. Будто и на свете его не было.
Вздохнула королева в обе королевские груди, ручку к сердцу тяжко притулила, и обволокло ее каменным сном аж до самого полудня.
* * *
Солнце в цветной оконнице павлиньим хвостом полыхает. Караул сменяется, стража у дверей прикладами о пол гремит. Стрепенулась королева, правую щечку заспала – маком горит. Вскинула было легкие ножки, ан врешь, будто утюги железные к пяткам привинчены. Пульсы все бьются, суставы в коленках действуют, – однако, пятки ни с места. Заело! Села она кое-как, по стенке подтянулась, глянула под одеяльце, так руками и всплеснула: свет оттедова веером, червонным золотом прыщет. Красота, скажем, красотой, а шевеления никакого.
Прибежали на крик постельные девушки, стража у дверей на изготовку взяла, – в кого стрелять неизвестно. Старик король поспешает, халатной кистью пол метет, за ним кот любимый, муаровой масти, лапкой подрыгивает.
Вбежал король, сейчас распоряжение сделал:
– Почему такое? Кто, пес собачий, королеву золотом подковал? Чего стража смотрела? Всех распотрошу, разжалую, на скотный двор сошлю свиньям хвосты подмывать. Чичас королеву на резвые ноги поставить.
Туда-сюда, взяли королеву под теплые мышки, поставили на самаркандский ковер, а она, как клейстер разваренный, так к низу и оседает. Нипочем не устоять. Всунули ее девушки под одеяльце, сами в ногах встали, пальцами фартушки теребят.
– Мы, ваше величество, этому делу не причинны. Почему такая перемена, – нам неизвестно. Опять от короля распоряжение:
– Цыц, сороки! Позвать ко мне лекарей-фельшерей. Да чтобы беглым маршем, не то я их сам так подлечу, лучше не надо!
Не успел приказать, – гул-топот. В две шеренги построились, старший рапортует:
– Честь имеем явиться, ваше величество!
То да се, пробовать стали. Свежепросоленные пиявки от золотых пяток отваливаются, лекарский нож золота не берет, припарки не припаривают. Нет никаких стредствий! Короче сказать, послал их король, озлясь, туда, куда во время учебной стрельбы фельдфебель роту посылает. Приказал с дворцового довольствия снять: лечить не умеют, пусть перила грызут. Прогнал их с глаз долой, а сам с досады пошел в кабинетную комнату сам с собой на русском биллиарде в пирамидку играть.
Той порой по всему королевству, по всем корчмам, постоялым дворам поползли слухи, разговоры, бабьи наговоры, что, мол, такая история с королевой приключилась – вся кругом золотом начисто обросла, одни пятки мясные наружу торчат. Известно, не бывает поля без ржи, слухов без лжи. Сидел в одной такой корчме проходящий солдат 18-го пехотного Вологодского полка, первой роты барабанщик. Домой на побывку шел, приустал, каблуки посбил, в корчму зашел винцом поразвлечься.
Услыхал такое, думает: «Солдат в сказках всегда высоких особ вызволяет, большое награждение ему за то идет. А тут не сказка, случай сурьезный. Неужто я на самом деле сдрейфлю, супротив лекарей способа не сыщу?»
Поднял его винный хмель винтом, на лавку поставил.
Обтер солдат усы, гаркнул:
– Смирно, черти! Равнение на меня… О чем галдеж-то? Ведите меня сей секунд к коменданту: нам золото с любого места свести, что чирей снять. Фамилия Дундуков. Ведите!
Взяли солдата под мышки, поволокли. А у него, чем ближе к дворцу, тем грузнее сапоги передвигаются, в себя приходить стал, струсил. Однако идет. Куда ж денешься?
Доставили его по команде до самого короля.
– Ты, солдат Дундуков, похвалялся?
– Был грех, ваше королевское величество!
– Можешь?
– Похвальба на лучиновых ножках. Постараюсь, что Бог даст!
– Смотри! Оправишь королеву, весь свой век будешь двойную говяжью порцию есть. Не потрафишь, – разговор короткий. Ступай!
Солдат глазом не сморгнул, налево-кругом щелкнул. Ать-два! Все равно, погибать, так с треском… Вытребовал себе обмундирование первого срока и подпрапорщицкие сапоги на ранту, чтобы к королеве не халуем являться. В бане яичным мыльцем помылся, волос дорожный сбрил. В опочивальню его свели, а уж вечер в окно хмурится.
Спит королева, умильно дышит. Вокруг постельные девушки стоят, руками подпершись, жалостливо на солдата смотрят. Понимают, вишь, что зря человек влип.
Ну, видит солдат, что дело не так плохо. Вся королева в своем виде, одни пятки золотые… Зря в корчме набрехали. Повеселел. Всех девушек отослал, одну Дуню, самую из себя разлапушку, оставил.
– Что ж, Дуняш, как, по-вашему, такое случилось?
– Бог знает! Может, она переела? Кровь золотом свернулась, в ножки ей бросилась…
– Тэк-с. А что они вчера кушать изволили?
– Гурьевскую кашку. Вон тарелочка ихняя на столике стоит. Ободок бирюзовый.
Повертел солдат тарелочку, – чисто. Быдто кот языком облизал. Не королева ж лизала.
– Кот тут прошедшую ночь околачивался?
– Что вы, солдатик! Кот королю заместо грелки, всегда с ним спит.
Посмотрел опять на тарелочку: три волоска седых к ободку прилипли. Вещь не простая…
Задумался и говорит Дуне:
– Принеси-ка с кухни миску гурьевской каши. Да рому трехгодовалого полуштоф нераспечатанный. Покамест все.
– Что ж вы одну сладкую кашку кушать будете? Может, вам, кавалер, и мясного хочется? У нас все есть.
– Вот и выходит, Дуняш, что я ошибся. Думал я, что вы умница, а вы, между прочим, такие вопросы задаете. Может, кашу и не я кушать буду.
Закраснелась она. Слетала на кухню. Принесла кашу да рому. Солдат и говорит:
– А теперь уходите, красавица, я лечить буду.
– Как же я королеву одну-то оставлю. Король осерчает.
– Пусть тогда король сам и лечит. Ступай, Дуня. Уж я свое дело и один справлю.
Вздохнула она, ушла. В дверях обернулась: солдат на нее только глазами зыркнул. Бестия!
Спит королева. Умильно дышит. Ухнул солдат рому в кашу, ложку из-за голенища достал, помешал, на стол поставил. Сам сел в углу перед печкой по-киргизски, да в трубу махорочный дым пускать стал. Нельзя же в таком деле без курева.
Ждет-пождет. Только двенадцать часов на башне отщелкало, топ-топ, выходит из-за портьеры дымный старичок, носом поверху тянет, к миске направление держит.
Солдат за печку, – нет его и шабаш.
Короче сказать, ест старичок, ест, аж давится, деревянную ложку по самый черенок в пасть запихивает, с ромом-то каша еще забористее. Под конец едва ложку до рта доносить стал. Стрескал, стервец, все, да так на кожаном кресле и уснул, головой в миске, бороду седую со стола свесивши…
Глянул солдат из-за печки: клюнуло. Ах ты, в рот тебе тыква!
Подобрался он к старичку, потрусил его за плечико, – пьян, как штопор, ручки-ножки обвисли. Достал солдат из ранца шило да дратву и пришил крепко-накрепко домового к креслу кругом скрозь штаны двойным арестантским швом. Ни в одной швальне лучше не сделают.
Сам шинель у королевской кровати разостлал, рукой дух солдатский разгреб, чтобы королеве не мешало, и спать улегся, как в лагерной палатке.
Просыпается на заре: что за шум такой? Видит, натужился старичок, покраснел рябой кот, возит кресло по хрустальному паркету, отодраться не в силах. А королева понять ничего не может, с постельки головку румяную свесила, то на старичка, то на солдата смотрит, – смех ее разбирает.
– Не извольте, – говорит солдат, – сомневаться! Мы с ним коммерцию в два счета кончим. Эй, – говорит, – господин золотарь, грузовичок свой остановите, разговаривать способнее будет! Вот!
Старичок, конечно, шипит:
– Чем ты меня, пес, с оберточной стороны приклеил?
– Пришил, а не приклеил. Это, друг, покрепче будет. Ну, милый, белый день занимается, некогда с тобой хороводы водить. Умел золотить, умей и раззолачивать. Давай обратное средствие, живо, не то так тут на кресле и иссохнешь.
Старик умный был, видит, что перышко ему под ребро воткнули. Достал из-за пазушки пузырек перламутровый, насупился и подает солдату:
– Подавись!
– Ану-ка-сь, давай сюда и первый золотильный состав.
Оконце приоткрыл, проходящую кошку из кровельного желоба выудил, снял сапог, сунул ее в голенище. Золотильным составом капнул ей под хвост, так кругом золотой циферблат и обозначился. Капнул из перламутистой сткляночки, враз все сошло.
– Ишь ты… Чтоб тебе ежа против шерсти родить!
Чуть он, можно сказать, в присядку не пустился.
Честно-благородно дратву вокруг стариковских штанов подрезал. Вскочил старичок, встряхнулся, как мокрая крыса, и нырнул за портьеру.
Подошел солдат к королевской постели, каблуки вместе, во фронт стал. Королева, конечно; запунцовилась, глазки прикрыла, неудобно ей: хоть он, солдат, заместо лекаря, а все ж мужчина. На пятки ему пальчиком показывает.
Капнул солдат на мизинный палец с исподу, сразу он порозовел, быдто бутон с яблони райской, – теплотой наливается… С полпятки выправил, – сердце стучит нет мочи.
– Дозвольте, ваше королевское величество, передышку сделать, оправиться. Очень меня в жар бросило с непривычки.
На эти слова повела она ласково бровью. А бровь, словно колос пшеничный, прости Господи…
* * *
Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Короче сказать, родилось у королевы в положенный срок дитё-королевич. Многие давно примечали, что к тому дело шло. Король спервоначалу руками развел, однако потом ничего – обрадовался.
Пирование было, какого, скажем, и в офицерском собрании не бывает. Пили-ели, аж порасстегнулись некоторые. Костей-пробок полную корзину понакидали. Солдат Дундуков на почетном месте, супротив короля сидел. В холе жил после королевиной поправки. Ароматами дворцовыми заведывал, должность ему такую придумали. Кажный день двойная говяжья порция ему шла, папироски курил, не соврать, шесть копеек десяток – «Пажеские». Раздуло его на сладких харчах, словно бугай племенной стал. Многие из служанок девушек интересовались, одна Дуня брови сдвигала, никогда на него и не взглянет.
В полпирование поманил комендант королевский Дундукова пальцем.
Вышли они в прохладительную комнату, комендант по сторонам глянул и громким шопотом говорит:
– Лиса курку скубет, лиса и ответ дает. Дело свое ты, Дундуков, своевременно справил, золотые пятки с королевы, как мозоль, свел. Награждение получил, бессрочный отпуск сполна выслужил. Однако, друг любезный, надоть тебе чичас сундучок собирать, в путь-дорогу отправляться. Маршрут на все четыре стороны. Прогонные – коленом ниже спины из секретного фонда получишь. С Богом, друг! Обмундирование свое второго срока прихватить не забудь. Дезинфекция сделана.
Побагровел солдат, в холодный жар его бросило, однако, спросить насмелился:
– Почему ж такое?
– Потому такое, что у королевича новорожденного пятно мышастое на правом ухе… Понял?
– Пятно я свести могу. Должно, опять домовой…
Сунул ему комендант бессловесно под самые усы светлое походное зеркальце: смотри, мол.
Что ж сытого подчевать? Глянул солдат на свое правое ухо, серьгой замотал.
– Так точно, – говорит, – понял!…
Вышел он на королевский двор, сундучок на ремне через плечо перекинул.
– Эх ты… С пухом, с духом, нос на вздержках… Не хвастай коноплястый – будешь рябенький!
Дуня сверху в окне стоит, мимо смотрит.
Постельные девушки рты ладонями прикрывают, перемигиваются. Вздулся волдырь, да и лопнул!…
Помаршировал солдат по дороге, в сундучке пуговицы перекатываются. Думает: зря это я сразу две пятки свел. Надо было хоть с полпятки золотой оставить. Разговор бы другой был. А впрочем, что ж: может, еще кого подлечить придется, – в другом королевстве.
Кому что, а нашему батальонному первое дело – тиатры крутить. Как из году в год повелось, благословил полковой командир на масленую представлять. Прочих солдат завидки берут, а у нас в первом батальоне лафа. Потому батальонный, подполковник Снегирев, начальник был с амбицией: чтоб всех ахтеров-плотников-плясунов только из его первых четырех рот и набирали. А прочие – смотри-любуйся, в чужой котел не суйся.
Само-собой, кто в список попал, послабление занятий. Взводный уж тебя на ружейных приемах не засушит, пальчики коротки. И вопче жизнь свежая, будто вольного духу хлебнешь. Лимонад-фиалка!…
* * *
Словом сказать, столовый барак весь в ельнике, лампы-молнии горят, передние скамьи коврами крыты, со всех офицерских квартир понашарпали. Впереди полковые барыни да господа офицеры. Бригадный генерал с полковым командиром в малиновых креслах темляки покусывают. А за скамьями – солдатское море, голова к голове, как арбузы на ярмарке. Глаза блестят, носами посапывают – интересно.
А на помосте – кипит… Вольноопределяющий – подсказчик из собачьей будки – шипит-поддает. Да и поддает для проформы, потому рольки на зубок раздраконены, аж сам батальонный удивлялся. «Ах, – говорит, – и сволочи у меня, лучше и быть нельзя».
Все, само собой, в вольном платье: кто барином в крахмале, кто купцом пузастым, кто услужающим половым-шестеркой. Бабьи рольки тоже все свои сполняли. Прямо удивления достойно… Другой обалдуй в роте последний человек, сам себе на копыта наступает, сборку-разборку винтовки, год с ним отделенный бьется, – ни с места. А тут так райским перышком и летает, – ручку в бок, бровь в потолок, откуль взялось…
А всех чаще вестовой батальонного командира, Алешка Гусаков, разделывал. Барыньку представлял, которая сама себя не понимала: то ли ей хрену с медом хочется, то ли в монастырь идти. То к одному, то к другому тулится, мужа своего, надо быть, для поднятия супружеской любви, дразнила… Мужчины за ей, конечно, как сибирские коты, так табуном и ходят. Ей что ж?… Пожевать да выплюнуть? Плечиком передернет, слово с поднамеком бросит, аж весь барак от хохота трясется. Бригадный генерал слезы батистом утирает, полковой командир ручкой отмахивается, батальонный уж и смеху лишился – только хрюкает. А адъютант полковой столбом встал и все взад оборачивается, солдатам знак подает:
– Тише вы, дуботолки, из-за вас никакой словесности не слышно!
Чистая камедь!… Как развязка-то развязалась, – барин в густых дураках оказался, на коленки пал. А Алешка Гусаков в бюстах себе рюшку поправляет, сам в публику подмигивает, – прямо к полковому командиру рыло поворотил, – смелый-то какой, сукин кот… Расхлебали, стало быть, всю кашу, занавеску с обеих сторон стянули, – плеск, грохот, полное удовольствие.
Ну, тут батальонный по-за сцену продрался, Алешку в свекольную щеку чмокнул, руками развел:
– Эх, Алешка! Был бы ты, как следует, бабой, чичас бы тебя на свой счет в Питербург на императорский тиатр отправил… В червонцах бы купался. Не повезло тебе, ироду, родители подгадили…
* * *
Камедь отваляли, вертисмент пошел. Кажный, как умеет, свое вертит. Солдатик один на балалайке «Коль славен» сыграл до того ладно, будто мотылек по невидимой цитре крылом прошелестел. Барабанщик Бородулин дрессированного кота первой роты показывал: колбаску ему перед носом положил, а кот отворачивается, – благородство свое доказывает. А как Бородулин в барабан грянул, кот колбаску под себя и под раскатную дробь все ее как есть с веревочкой слопал. Опосля на игрушечного конька влез, Бородулин перед им церемониальный марш печатает, а кот лапкой по усам себя мажет, – парад принимает. Так все и легли!…
Между прочим, и Алешка Гусаков номер свой показал: как сонной барыне за пазуху мышь попала… Полковница наша в первом ряде так киселем и разливается, только грудку рукой придерживает… Кнопки на ней все напрочь отлетели, до того номер завлекательный был.
Потом то да се, – хором спели с присвистом:
Отчего у вас, Авдотья,
Одеяльце в табачке?
Гусаков за Авдотью невинным фальшцетом отвечает. Хор ему поперек другой вопрос ставит, а он и еще погуще… С припеком!
Батальонный только за голову хватается, а которые барыни, – ничего, в полрукава закрываются, одначе, не уходят…
Кончилось представление. Господа офицеры с барыньками в собрание повзводно тронулись, окончательно вечер пополировать. Гусаков Алешка земляков, которые уж очень руками распространялись, пораспихал. «Не мыльтесь, братцы, бриться не будете!» И, дамской сбруи не сменивши, узелок с военной шкуркой подмышку, да и к себе. Батальонный евонный через три квартала жил, – дома, не торопясь, из юбок вылезать способней…
* * *
Вылетел Алешка за ворота, подол ковшиком подобрал, дует. Снежок белым дымом глаза пушит, над забором кусты в инее, как купчихи в бане расселись. Сбил Гусаков с дождевой кадки каблучком сосульку, чтобы жар утолить. Сосет-похрустывает, снег под ним так ласточкой и чирикает.
Глядь, из-за мутного угла наперерез – разлихой корнет: прибор серебряный, фуражечка синяя с белым, шинелька крыльями вдоль разреза так и взлетает… Откель такой соболь в городе взялся? Отпускной, что ли? И сладкой водочкой от него по всему переулку полыхает.
Разлет шагов мухобойный, – раскатывает его на крутом ходу, будто черт его оседлал, – а между прочим, и не так уж слизко. Врезался он в Алешку, ручку к бровям поднес, честь отдал.
– Виноват. Напоролся!… Куда ж это вы, Хризантема Агафьевна, так поздно? И как это вас мамаша-папаша в такой час одну в невинном виде отпущают?
Ну, Алешка не сробел, в защитном дамском виде ему что ж!…
– А что, – грит, – мне папаша с мамашей могут воспретить? Я натуральная сирота. А припоздала по случаю тиатра… И насчет тальмы не распространяйтесь, мои пульсы не для вас бьются!…
Корнет, само собой, еще пуще взыграл.
– Ах, ландыш пунцовый! Да я что же? Сироту всякий военный защищать обязан… Грудью за вас лягу!
Алешка, тут, конечно, поломался:
– Мне, сударь, ваша грудь ни к чему. У меня и своя не плохая…
– Ах, Боже ж мой… Да я ж понимаю! А где, например, ваш дом?
– За дырявым мостом, под Лысой горой, у лешего под пятой.
– Скажи, пожалуйста… В самый раз по дороге.
И припустил за Алешкой цесарским петухом, аж шпоры свистят.
Видит Алешка – дело мат! Обернул он вокруг руки юбку, да и деру. До калитки своей добежал, к крыльцу бросился, только ключ повернул, глядь, корнет за плечами… Иного вино с ножек валит, а его, вишь ты, как окрылило.
Испугался солдат, плечом деликатно дверь придерживает,
– Уходите, ваше благородие, от греха. Дядя мой в баню ушедши. С минуты на минуту вернется, он с нас головы поснимает.
– Ничего! Старички, они долго парятся. А на счет головы не извольте тревожиться, она у меня крепко привинчена. Да и вашу придержим.
И в дверь, как штопор, взвинтился. Шинельку на пол. За Алешку уцепился, да к батальонному в кабинетный угол дорогим званным гостем, как галка в квашню, ввалился. Выскользнул у него Алешка из-под руки. Стоит, зубками лязгает. Налетел с мылом на полотенце… А что сделаешь? Хоть и в дамском виде, однако простой солдат, – корнета коленом под пуговку в сугроб не выкатишь…
Сидит корнет на диване, разомлел в тепле, пух на губе щиплет, все мимо попадает. А потом, черт вяленый, разоблакаться стал: сапожки ножкой об ножку снял, мундир на ковер шмякнул…
Гостиницу себе нашел. Сиротский дом для мимопроходящих… Шпингалет пролетный! И все Алешку ручкой приманивает:
– Виноват, Хризантема Агафьевна, встать затрудняюсь. А вы б со мной рядом присели. На всякий случай… У меня с вами разговор миловидный будет…
Пятится Алешка задом к двери, будто кот от гадюки, за портьерку нырнул, – и на куфню. Дверь на крючок застебнул, юбку через голову, – будь она неладна. Из лифчика кое-как вылез, рукав с буфером вырвал, с морды женскую прелесть керосиновой тряпочкой смыл, забрался под казенное одеяльце и трясется. «Пронеси, Господи, корнета, а за мной не пропадет! Нипочем дверь не открою, хочь головой бейся!» Да для верности скочил на голый пол и шваброй, как колом, дверь под ручку подпер.
А корнет покачался на спружинах, телескопы выпучил, муть в ем играет, в голове все потроха перепутались. Сирота-то эта куда подевалась? Курочка в сережках… Поди, плечики пошла надушить, дело женское.
Глянул он в уголок, – видит на турецком столике чуть початая полбутылки шустовского коньяку… С колокольчиком. Потянулся к ей корнет, как младенец к соске. Вытер слюнку, припал к горлышку. «Клю-клю-клю»… Тепло в кишки ароматным кипятком вступило, – каки уж там девушки! Да и давнешний заряд не малый был.
Снежок по стеклу шуршит. Барышня, поди, ножки моет, – дело женское. Ну и хрен, думает, с ней… И не таких взнуздывали!
Бурку подполковничью на себя по самое темя натянул, ножками посучил. Будто в коньячной бочке черти перекатывают. Так и заснул под колыбельный ветер, словно мышь в заячьем рукаве. Жернов-камень тяжелый, а пьяный сон и того навалистей.
* * *
На крыльце калошки-ботики скрипят. Ворчит батальонный, ключом в дырку попасть не может. Однако, добился. Не любит зря середь ночи денщика будить… Да и без того Алешка сегодня в тиатре упарился.
Ввалился в дверь, в пальцы подышал. Видит, из кабинет-покоя свет ясной дорожкой стелется: Алешка, стало быть, ангел-хранитель, постель стлал – лампу оставил.
И храп этакий оттудова заливистый; должно, ветер в трубе играет.
Ступил подполковник Снегирев на порог, глаза протер – отшатнулся… Что за дышло! Поперек пола офицерский драгунский мундир, ручки изогнувши, серебряным погоном блещет, сапожки лаковые в шпорках, как пьяные щенки валяются… А на отомане, под евонной буркой, живое тело урчит… Кто такой? По какому случаю? Сродников в кавалерии у батальонного отродясь не было… Что за гусь скрозь трубу в полночь ввалился?
Поднял он тишком край бурки, – личико неизвестное.
А на корнета свежим духом пахнуло, – потянулся он, суставами хрустнул и, глаз не продирая, с сонным удовольствием говорит:
– Пришли, душечка? Ну что ж, ложитесь рядом, а я еще с полчасика похраплю…
Но тут батальонный загремел:
– Какая-такая я вам душечка? По какому-такому праву вы, корнет, на мой холостой диван с неба упали, и почему я с вами рядом спать должен? Потрудитесь встать по службе и короткий ответ дать!
Да бурку с него на пол.
Корнет, само собой, от трубного гласа да от ночной прохлады вскочил репкой, зеньки вытаращил… Равновесие поймал, ручки по швам, и хриплым голосом в одних носках выражает:
– Извините за ради Бога, господин полковник, вы, стало быть, ейный дядя?
– Кому я, псу под хвост, дядя?… Ежели вы, корнет, из сумасшедшей амбулатории сиганули, так я, слава Создателю, подполковник Снегирев еще по потолку пятками не хожу! Кто вы такой есть, и почему я вас под своей буркой, как подброшенного младенца нашел?
Зарумянился корнет; однако, вылезать-то из невода надо.
– К племяннице вашей я точно подкатился. Однако будьте без сумления. Все честь честью! Потому как на вокзале, по случаю заносов, застрял, – сразу к вам ввалившись на отомане и заснул. А насчет намерений ничего у меня не было. Они девушки хладнокровные даже до невозможности.
Рассвирепел тут батальонный, крючок на воротничке сорвал:
– Да вы, что ж это, корнет, со мной в чехарду играете?… Отродясь у меня племянницы не было. Я человек вдовый и над собой таких надсмешек не дозволю! Да, может быть, вы и не корнет, а, извините, жулик маскарадный? Да я чичас всю вашу сбрую запру, а вас к воинскому начальнику на рассвете в одних прохладных рейтузах отправлю… Эй, Алешка!…
Почернел гость залетный в лице, ан тут не взовьешься. Потерял голову – поиграл желвачком. Однако, сообразил: из тылового кармана билет свой отпускной вынул. Так, мол, и так, – занапрасно позорить изволите. А насчет племянницы, Бог ей судья. Либо я перепил, либо недопил, – наваждение такое вышло, что и сам начальник главного штаба карандаш пососет.
Повертел батальонный офицерскую бумажку в руках, языком цокнул, засовестился:
– Прошу покорно меня извинить. Я человек полнокровный, да и случай больно уж сверхштатный. Может, Алешка в энтом разе узелок развяжет. Эй, Алешка! Горниста за тобой спосылать, что ли?
* * *
Является, стало быть, Алешка. В темном углу у портьерки стал, шароварки оправил, руки по швам, стрункой. Батальонный ему форменный допрос делает:
– Дома был все время?
– Так точно. На куфне, вас дожидавшись, у столика всхрапнул.
– Рожа у тебя почему в саже?
– Самоварчик для вашего высокородия ставил… В трубу дул, а оттедова от напряжения воздуха сажа в морду летит. Куда ж ей деваться?
– Ладно, не расписывай. Господина корнета видишь?
– Так точно.
– Хорошо видишь? Возьми глаза в зубки.
– Явственно обозначается. Мундир ихний и сапожки на ковре лежат, а их благородие отдельно стоять изволят. Прикажете подобрать?
– Не лезь, рукосуй, пока не спрашивают! Как их благородие к нам попал?
– В гости с вашим высокородием, надо полагать, явились. Чайку с лимоном прикажете на две персоны, либо каклетки со сладким горошком разогреть?
– Погоди греть, как бы я тебя сам не взгрел… А вот я тебе расскажу. Дверь я ключом сам открыл, – была на запоре. Понял?
– Так точно. Сам на два поворота замкнул. Замок у нас знаменитый.
– Так-с… Взошел в кабинет, ан у меня на отоманке под буркой теплый корнет храпит. Вон они-с. Что ты на это скажешь? В замочную дырку он пролез, что ли?
– Никак нет. Замочную дырку я завсегда с унутренней стороны бляшечкой прикрываю…
Усмехнулся батальонный, да и корнет повеселел, – сел на стул сапожки натягивать. Ишь какой, мол, солдат аккуратный.
– Так-так. Мозговат ты, Алешка, да и я не на глине замешан. Каким же манером, еловая твоя голова, корнет к нам попал? Тут, брат, не замком, – чудом здесь пахнет.
– Не могу знать! Насчет чудес полковой батюшка больше меня понимают. А только дозвольте разъяснение сделать…
– Говори. Ежели дельное скажешь, полтинник на пропой дам.
– Весной, ваше скородие, случай был: полковой капельмейстер по случаю полнолуния на крыше у городского головы очутились. Изволите помнить?
– Ну-с?
– Сняли их честь-честью. Пожарные солдаты трехколенную лестницу привезли. Доктор полковой разъяснение сделал, будто это у них вроде лунного помрачнения. Лунный свет в них играл…
– Ну-с?
– Может, и их благородию таким же манером паморки забило…
Посмотрел батальонный на корнета, корнет на батальонного, оба враз рассмеялись.
– Ну, это ты, ангел, – говорит корнет, – моей гнедой кобыле рассказывай! Какое же теперь полнолуние, луны и на полмизинца нынче нет.
– Да может, ваше благородие, в вас это с запрошлой луны действует? Вроде лунного запоя…
Махнул батальонный рукой:
– Заткнись, Алешка! Не то что полтинника, гривенника ты не стоишь. Посадил корову на ястреба, а зачем – неизвестно… Тащи-ка сюда каклеты. У меня от ваших чудес аппетит, как у новорожденного. Да и гость богоданный от волнения чувств пожует. Прошу покорно!…
Тронулся Алешка легким жаворонком: пронесло, слава Тебе, Господи. А батальонный ему в затылок:
– Стой! А чего это ты, шут, между прочим, все хрипишь? Голос у тебя в другую личность ударяет…
– Виноват, ваше скородие. Надо полагать, как в самовар дул, жилку себе от старания надсадил… Папироски на подоконнике, не извольте искать.
Да поскорее от греха на два шага назад и за дверь.
* * *
Сидят, закусывают. Снежок по стеклу шуршит, каклетки на вилках покачиваются. Пожевал батальонный, к коньяковой бутылке руку потянул: гнездо цело, да птичка улетела…
– Однако… И здоровы энти лунатики пить-то! Чокнуться даже нечем. Да вы будьте без сумления, пехота не без запаса… Эй, Алешка, гони-ка сюда зверобой, в сенях на полке стоит. Сурьезная водочка!… А между прочим, корнет, здорово вы, надо быть, дрозда зашибли, допрежь того как в лунном виде под бурку мою попали. Ась?
– Так точно! По случаю заносов, на вокзале флакона два-три пристроил.
– Конечно! Чего же их жалеть… А за племянницей неизвестного дяди полевым галопом изволили все ж таки дуть? Я по службе вас старше… Сам кобелял в свое время. Валите!…
– Так точно! Был грех.
– А в чем она, племянница, одевши-то была?
– В черной тальме. А может, и в белой. Снег в глаза бил и я, признаться, на раскатах очень заносился… Вот платочек запомнил: в павлиньих узорах, округ головы зеленые махры…
Затопотал батальонный каблуками, глазки залучились, по коленке корнета хлопнул.
– Так и есть. Это ж вы за племянницей нашего старшего врача лупили. В театре она на камедь смотрела… Через дом от нас живет. Ах, корнет-пистон, комар тебя забодай! Ну и хват! Ан потом снежком ее занесло, ветром сдуло, а вы в мою калитку с двух бортов с разлета и попали… Ловко!… Эй, Алешка!… Что ж зверобой? Протодиакона за тобой спосылать, что ли?
А Алешка за портьеркой задержался, разговор ихний слушавши. Спервоначалу так весь сосулькой и заледенел, а потом видит, какой натуральный поворот делу даден, – взошел бесстрашно, рюмками звякнул. Встал перед ими – душа на ладони – и дополнение светлым голосом сделал:
– Запамятовал, ваше скородие, виноват. Как за дровами в самую полночь в сарайчик отлучился – черный ход на самую малость у меня был не замкнут. Может, в эту самую дистанцию их благородие к нам в лунном виде и грохнули. Больше неоткуда, потому чердак у нас изнутри замазан. Таракан, и тот не пролезет.
Объяснил чистосердечно, батальонный окончательно повеселел, – военный начальник точность любит, а не то, чтоб на чудесном помеле корнеты скрозь штукатурный потолок под бурку вваливались. Отпустил он Алешку сны досыпать, а сам по пятой зверобой-рюмке невинный вопрос задает:
– Ну, что ж, сынок, пондравилась тебе докторская племянница? Лимон с гвоздикой!
– Так точно! сужет приятный, да с крючка сорвалось… Руку только нацелился поцеловать, – чуть зубов не лишился. Огонь девка!
Батальонный так и покатился.
– Эх ты, вьюнош скоропалительный! Да она ж горбунья! В градусах да в снежной завирушке ты и не разглядел… Ручку? Ее ж потому одну домой доктор из тиатра отпустил, что все ее в городе знают… Кто ж на такую вилковатую березу окромя мухобойного залетного корнета и польстится?
Насупился корнет, губу щиплет. Досада!… Да скорей за шестую рюмку. Зверобой конфуз осаживает, известно.
Поднял тут батальонный голову: ишь как в сенях ветер скворчит. Скрозь портьерку ему невдомек, что не в ветре тут суть, а энто Алешка, гнус, морду себе башлыком затыкает… Смех его разбирает – вот-вот по всем суставам взорвется!…
Укатила барыня, командирова жена, на живолечебные воды, на Кавказ. Остался муж ейный, эскадронный командир, в дому один. Человек уж не молодой, сивый, хоша и крепкий: спотыкачу в один раз рюмок по двадцати охватывал. Только расположился на полной свободе развернуться, от бабьего гомону передохнуть, глядь-поглядь на двор барынина мамаша на пароконном извозчике вкатывает. Перья на шляпке лопухом, скрозь вуальку глазищами, словно вурдалак, так и лупает. Барыня ей, стало быть, секретный наказ послала: «Приезжай, последи за моим сахарным. А то без меня дисциплину забудет, – либо обопьется, либо с арфянками загуляет. В дом наведет, из приданых моих чашек лакать будут». Отдохнул, значит!
Высадил он мамашу, грузную старушку, ус прикрутил, глаза вбок отвел и под ручку ее на крыльцо поволок. – «Прошу покорно, заждались! Эй, Митька, тащи чемоданы, дорогая мамаша приехамши, – крыса ей за пазуху!»
И хошь бы одна заявилась: пса с собой привезла закадычного. Голландской работы по прозвищу мопс Кушка. Личность вроде, как у ей самой, только помельче.
Отвели ей с псом самолучший покой. Расположились, квохчут. Не поймешь, кто с кем разговаривает: барыня ли с собачкой, собачка ли с барыней.
Ходит ротмистр округ стола, шпорами побрякивает, ус книзу тянет. Кипит. Денщика кликнул.
– Продышаться пойду… Какие мамашины приказания будут по буфетной части, сполняй. А ежели она начнет под меня подкоп домашний рыть, выспрашивать, – смотри у меня, Митрий!
– Слушаюсь, ваше высокородие! Промеж дверей пальцев не положу.
Денщик, что ж, – человек казенный. Самовар раздул, мягкие закуски для старой барыни на стол шваркнул. В чашку надышал, утиральником вытер, из варенья муху горсткой выудил, обсосал, – дело свое знает.
Отдохнула старушка. В столовую вкатывается, коленкор ейный гремит, будто кровельщик по крыше ходит. Сзади Кушка хрипит, по сторонам, падаль, озирается, собачью ревизию наводит.
Заварила она чаю, половину топленых сливок себе в чашку ухнула, половину Кушке. Голландской работы собачка простого молочка не трескает. Денщик Митька стоит у окна, мух на стекле подавливает, ждет, чего дальше будет.
Старушка на блюдечко дует, невинную речь заводит:
– Что ж ты, друг ананасный, барином своим доволен?
– Так точно! Командир натуральный. Дай Бог кажному!
– Гости у вас часто бывают?
– Батюшка полковой заворачивает. Странники кое-когда, проходящие… Хозяин дома вчерась водопровод проверять приходил. Крантик у нас ослабемши…
– Так! Выпивает командир с ними, что ли?
– Не без того, выпивают-с. Клюквенный квас у нас отменный после барыни остался.
– Квас, говоришь?… Ну, а сам он куда отлучается, не примечал ли?
– Примечал, как же-с. В манеж ездят на занятия. В бане третьего дня парились. В парикмахерскую завсегда ходят. Волос у них жесткий, – дома не бреются…
– Так-так. На словах твоих хоть выспись… Ну, а где ж он обедает без барыни? В собрание ходит?
– Никак нет. Я им кой-чего стряпаю. По средам-пятницам – рыбка. А так – либо каклеты, либо телятина под безшинелью.
Вскинула барынина мамаша глазки: из блохи, мол, шубу кроишь, да мне не по мерке.
– Вечерами что ж твой барин делает?
– Псалтирь читают. Другие господа на биллиардах, а они все псалтирь… Либо по тюлю крестиками вышивают.
Харкнула старушка со злости. Ишь, охальник, – руки по швам, язык штопором.
– Кушку моего на променад поведешь. Что сливы-то выпучил? Он уличное гулянье обожает… Через улицу смотри на руках переноси, – извозчики у вас аспиды. Ты мне за него головой отвечаешь!
– Слушаюсь, сударыня. Собачка первоклассная, отчего ж не ответить… Только для вас спокойнее, чтобы я со двора не отлучался.
– Патрет я с тебя писать буду, что ли?
– Никак нет. Не извольте беспокоиться… А только на прошлой неделе жулики тут у соседей шарили. Ваших, примерно, лет невинной старушке в русской печке пятки прижгли и ограбили. Вам в случае чего помирать – раз плюнуть, а мне и за вас, и за Кушку отвечать… Больно много наваливаете.
Испужалась она, завякала:
– Ах, страсти какие! Сиди уж лучше на кухне. Кушку я из окна на веревочке по двору вывожу… Матушки-батюшки, город-то у вас какой окаянный!
Денщик руками за спиной поиграл. Кто не слукавит, того баба задавит. Ишь ты, мымра, чего придумала! Чтоб все встречные драгуны да горничные задразнили… «С повышеньицем вас, Дмитрий Иванович! В собачьи мамки изволили заделаться»…
* * *
Заварила барынина мамаша кашу – ложка колом встанет. Куды командир, туда и она, самотеком. Новоселье ли у кого, орденок ли вспрыскивают, все ей неймется. Не с тем, мол, приехала, чтобы пальцы на ногах пересчитывать… Мантильку свою черного стекляруса вскинет, да так летучей мышью рядом и перепархивает с мостков на мостки. Резвость двужильную обнаружила, – злость кость движет, подол помелом развевает.
Сдаст ее командир в гостях хозяевам на руки, сам в дальнюю комнатку продерется – по графинам пройтись, в банчок перекинуться, либо дамочку встречную легким словом зарумянить – ан старушка контрольная тут как тут. Карты из рук валятся, водка мимо рта льется. Шершавость у ней в глазах такая была непереносная. Прямо, как скаженный он стал. А не брать нельзя, в чулан мамашу не спрячешь. Жалованье командирское известное: на табак, да на щи. Способия она ему из пензенского имения высылала – то мундир обновить, то должок заплатить, то копченого-соленого с полвагона. Отянешь ее за хвост, – банку мухоморов пришлет, прощай зятек, постучи о пенек…
И денщику тошно. Известно, барину туго – слуга в затылке скребет. Принесешь – криво, унесешь – косо. Хоть на карачках ходи. Да и Кушка-пес одолевать стал. Небельные ножки с одинокой скуки грызть начал, гад курносый. Денщику взбучка, а пес в углу зубы скалит, смеется – на него и моль не сядет, собачка превелегерованная. Ладно, думает Митрий. Попадется быстрая вошка на гребешок. Дай срок!
Поводил-покрутил командир мамашу, как кобылу на корде, невмоготу ему стало. Стал дома рейтузы просиживать. Придет с манежа, чай пьет, бублик промеж пальцев на пол крошит, приказы прошлогодние с досады читает. А она супротив. Как ячмень на глазу. Лопочет, разливается. Разговорная машинка у нее лихо работала. Хошь не отвечай, хошь на крыльцо выйди на луну сплюнуть, она знай жернов о жернов точит. Почему попадья перестала в баню ходить, да сколько ветеринар лошадиного спирта незаконно вылакал, да к какой гувернантке корнет Пафнутьев на будущей неделе в окно лезть собирается… Командир аж побуреет. «Угу» да «угу», – только и ответов.
Дошло и до денщика. Раз барин дома сидеть стал, ей не страшно насчет жуликов, которые в печке невинных старушек жгут.
– Ступай, ступай, – говорит, – Митрий! Кушку моего по улицам выводи. Что ж ты его все по двору таскаешь. Этак ты его до водяного ожирения доведешь…
Насупился Митрий, стакан, который мыл, в руках у него хряснул. Ужели от срамоты этакой так и не отвертеться?
Пошел на кухню, покрутился там, вертается веселый с ремешком энтим кобельковым. «Пожалуйте на променаж, прошу вас покорно!» На сахарок Кушку в переднюю выманил… Однако слышит – рычит Кушка, упирается, аж дверь трясется. Что такое?!
– Не хотят на улицу. Прямо морду ему чуть не оторвал. Изволят упираться…
Попробовала старушка: может, денщик-черт нарочно ожерелок потуже затянул? Грех клепать! Все как следовает. Потянула: за ней идет, похрюкивает, животом пол метет. За Митрием – ни с места! Лапы распялит, башкой мотает, будто его в прорубь водяному на закуску тащат.
Глянул ротмистр, задумался. Ведь вот денщику судьба послабление какое сделала. А мамаша-то пензенская сидит, как приклеенная. Не вырывается…
* * *
Дальше да больше. Дарья кухарка, через забор жила, кой-когда к денщику забегала – часы в темном углу проверить, мало ли дел по соседству. Известно: стар хочет спать, а молодые играть. Уследила барынина мамаша, на дыбы стала. «Ступай, ступай, шлендра! Подол в зубки, кругом марш!… Нечего чужие сени боками засаливать»… И в сахарнице с той поры куски пересчитывать стала. Денщик только серьгой потряхивает, дюже его забрало. Барин, бывало, придет из собрания через край хлебнувши, сам себя не видит, В карты ему случаем пофартит, червонцы из кармана на стол брякнут, – не считано, не меряно. Никогда Митрий дырявой полушкой не попользовался. А тут, накося, – сахар!… Присыпала перцу к солдатскому сердцу.
Ладно. Стала она по иному со скуки выкомаривать, откуль что берется. Сидит она вечером, на блюдечко толстой губой дует, самовар попискивает. Ротмистр из спичек виселицу строит: кому неизвестно.
– Что-й-то, – говорит старушка, – двери у нас скрипят нынче. К дождю это беспременно. Смажь, Митрий, маслом, – мне завтра в гостиные ряды идти, ужель мокнуть.
Денщик человек казенный. Смазал. Язык бы ей смазать, авось бы тож прояснило.
А она наддает:
– Ты, Митрий, вчерась опять каклетки оставшие с буфета не убрал?
– Виноват. Тараканов на кухне морил, запамятовал.
– Виноват… А знаешь ты, что это означает? Если мышь неубранное после ужина поест, у хозяина зубы разболятся.
Ротмистр под столом шпорами: дзык.
– Чепуха это, мамаша. На нетовую нитку бабьи вздохи нанизаны.
Старушка указательной косточкой по столу постучала.
– Скаль зубы! Конечно, есть приметы сырые: нос чешется, – в рюмку глядеть. Другие ротмистры и без этого выпивают… Наши пензенские приметы тонкие, со всех сторон обточены. Не соврут… Скажем – конь ржет, всякий дурак знает – к добру. А вот ежели вороной жеребец в полночь на конюшне заржет – беда! Пожара в этом доме в ту же ночь жди. Хоть в шубе-калошах спать ложись.
Денщик к стенке отвернулся, сухую ложку мокрым полотенцем трет, плечики у него так и ходят… Старушка серку в ухе поковыряла и опять свой варганчик завела.
– Либо поп дорогу перейдет, – отплеваться завсегда можно. А ежели он, мимо перешедши, остановится, да табачку из табакерки хватит, да, не приведи Господи, чертыхнется, – уж тому черной оспы не миновать. Я батюшек знакомых, которые нюхающие, за полверсты завсегда обхожу… Опять же собака воет. Случай серый. В какую сторону воет, вот в чем аллигория. На север – неблагополучные роды; на юг – потолок на тебя завалится; на восток – от грыжи помрешь; а коли на запад – молоко тебе в голову беспременно бросится. Приметы без промаху!
Командир виселицу свою спичечную раскидал, встал из-за стола, ноги ножницами раззявил. Голос мягкий, а под ним так смола и пробивается.
– Вы бы, мамаша, Кушку своего отравили, что ли. Больно много от него, стервы, опасностев. Это ж все равно, что на ручных гранах польку плясать. Спокойной ночи. Пока молоко в голову не бросилось, пойду пасьянц Наполеонову могилу перед сном разложу.
Смолчала старушка. Драгунский обычай известный: все смешки. Погоди, Изюм Марцыпанович, с судьбой шутить, не барьеры брать…
А Митрий, – у буфета он все кружился, – этаким сладким кренделем подкатывается:
– Оно точно-с. Которые благородные, сумлеваются. Мужицкий пустобрех! А я верю-с. У нас тоже свои приметы имеются, орловские. Выдающие…
– Расскажи, дружок, расскажи. Пирожок, который оставши, можешь себе взять…
– Покорнейше благодарим, закусимши уже. Ежели к примеру пробка в графин не тем концом воткнута, значит, гость в дому загостился, пора ему, значит, на легком катере к себе собираться.
Глянула она на графин, – поперхнулась, аж глаза побелели.
– Пошел вон, глуздырь! Скажу вот завтра командиру, чтоб тебя на хлеб на воду посадить за приметы твои дурацкие…
Пробку, как следовает, перевернула, сахарницу в буфет замкнула, и поплелась к себе с Кушкой на покой – в сонное царство, перинное государство.
* * *
Ровно в полночь заржал на конюшне вороной жеребец. Прокинулась барынина мамаша, свет вздула, да к командировым дверям:
– Вставай, зять! Пожар!
– Дед бабу рожал… В чем дело, мамаша?
– Жеребец твой ржет вороной. Слышишь?
– Не перекрашивать же из-за вас. Я во сне с городским головой пунш пил, а теперь он без меня все высосет. Беспокойная вы старушка…
Денщик тут же стоит, свечку держит, будто ружье на караул. Какой там сон! Белая кофта по бокам вьется – чистый саван. Бумажки в волосьях рыбками прыгают. А жеребец так и заливается. Ужасти-то какие!
– Дом-то у тебя хоть застрахован?
Вздохнул ротмистр: по ком этот вздох, тот бы в щепку изсох… И пошел к себе досыпать. Авось городской голова не все выпил.
А мамаша чулки-мантильку надела и до белой зари на сундучке подремала, – либо в эту ночь, либо в будущую беспременно гореть придется. До утра обошлось, ничего.
А утром еще злее беда накатила. Повела она Кушку на променаж, – с денщиком ни по чем не шел, – трах, у самой калитки батюшка в трех шагах поперек прошелестел. Остановился, табачку из табакерки хватил, да как чертыхнется: «Экий дьявольский ветер, половину табакерки выдул, бес его забодай!»
Вернулась старушка, гайки у нее развинтились, по перильцам кое-как подтянулась. Взошла в столовую, шатается. Ротмистр к ручке, а она в кресло так студнем и осела.
– Что еще такое?!
– Ох, друг… Накликала на свою голову. Поперечный поп, табак нюхавши, чертыхнулся… Кушку моего тебе завещаю. Имение – дочке. Не подходи, не подходи лучше, я теперь вроде как в карантине. Черной воспы не миновать!
Подивился ротмистр. Жилка у нее на шее бьется, глаза мутные. Одурела что ли мамаша?… Да и впрямь чудно.
Как по расписанию все выходит. Махнул перчаткой, шашку подтянул, – «дзык-дзык», на коня сел и в манеж.
Денщик полоскательной чашкой постукивает, хрустальный стакан в руках пищит. Человек казенный, ему это все без надобности. Мало ли делов?… Часы на стене, – время на спине.
Не пила она, не ела цельный день. Все пронзительную соль с пробки нюхала, да капустные листья к голове прикладывала. Сахар-провизию, однако, пересчитала, что следует выдала – и на ключ.
Вечером сидит командир один: полстакана чаю, пол – рома. Мушки перепархивают. Тишина кругом. Будто старушку огуречным рассолом залило. В задумчивости он пришел, в полсвиста походный марш высвистывает. Таракан через мизинный перстень рысью перебежал: – что оно по пензенским приметам означает: чирий на лопатке вскочит, альбо денежное письмо получать? Тьфу, до чего мамаша голову задурила!
И вдруг, братцы мои милые, как взвоет Кушка в старушкиной спальне… Чисто гудок паровозный. Выскочила старушка в чем была, шерсть на ей дыбом, да к командиру:
– Куда окно-то мое выходит?!
– На север, мамаша… Так она и присела:
– Да что же это за напасть такая. Неблагополучные роды? Это у меня-то? У вдовой старухи?!
– Что ж вы ко мне привязамшись? С Кушки вашего и спрашивайте.
Денщик в дверях стоит, мнется. Почесал в затылке – и за дверь.
Взвыл Кутка еще пуще. Кинулась она в спальню.
– На юг воет!…
– Это что ж, мамаша, по вашему прискуранту выходит?
– Потолок завалится… Матушки!… Выноси, Митрий, вещи, у меня уже с утра уложены. Часу здесь не останусь!
– Да что же вы, мамаша, в своем ли уме? Потолок дубовый, хоть слонам по ему ходить. Бросили бы…
– Нет, зятек, я-то в своем уме, а вот ты попрыгай. Жеребец вороной ржал, поп чертыхался, да еще Кушка подбавил… Чичас к ночному поезду коляску подавай. Пемирать, так уж на своих пуховиках…
– Я, мамаша, вашему конфорту не препятствую, – а только, может, приметы ваши пензенские в нашей губернии не действуют?
– Шутить вздумал? Молебен дома отслужу, авось рассосется. Эва, сколько на одну женщину наворочено. Митрий!
Денщик тут как тут. Человек казенный. На барина смотрит: как, мол, прикажете?
– Что ж, закладывай. Действительно, странно что-то одно к другому приторочено.
Митрий за вещи, старушка за Кушку, – ротмистр на ходу ее в плечо чмокнул. Катись горошком!
* * *
Гитары бренчат, стаканы звенят, полон дом гостей, – праздник у ротмистра. За вороного жеребца пили, за ветер, который у скоропроходящего батюшки табак из табакерки выдул, за голландской работы собачку Кушку. Дивятся некоторые, руками разводят. Как все, мол, ладно вышло: сама себя пензенская мамаша легким одуванчиком вышибла. Головы ломают, случаи разные рассказывают, один другого мудренее.
У кого петух в усадьбе все головой тряс, пока воры кладовую не взломали. Тогда и прекратил. Цыганке одной мышь попала за пазуху, – недели не прошло, струна на гитаре лопнула, да ее по глазу. А у свояченицы городского головы родинка была мышастая на том месте, что самой не видно, – к добру это… Вот она пятьдесят тысяч, как одну копеечку, и выиграла на свой внутренний билет. Поди ж…
Командир только головой вертит: бабьи побрехушки… Глянул он невзначай на денщика, – стоит стаканы вытирает, глаза щелками лучатся, вот так к ушам и тянется. Как есть лиса в драгунской форме.
– Поди-ка, Митька, сюда, поди! Ты что ж это в тряпочку пофыркиваешь? Уж не ты ли, хлюст, тут волшебствами этими жеребячими занимался?…
Молчит Митрий, глаза пучит.
– Говори, черт, не бойся. Я сегодня добрый. Почему Кушка с тобой на улицу гулять не шел? Ась?
– Обидно уж больно, ваше высокоблагородие. Командир полка встренется, во фронт стать надо… А тут мопса у тебя на шпоре сидит. Опять же куфарки задразнят.
– Ты тут не таранти! Гни так, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло…
– Так точно! Каблуки я нашатырной водкой натер. Чуть энтого Кушку к каблуку на ремешке притянешь, так он на задок и садится, голосом голосит. Ни одна собачка не вытерпит.
– А жеребец почему ржал? Соли ты ему на хвост посыпал?
– Потому, ваше скородие, забрало меня дюже. Командир в доме один, а тут они, на нас верхом семши, сахарницу стали запирать!…
– Ты про сахарницу брось. Говори да откусывай!
– Да как же ему не ржать, ежели в полночь вестовой корнета Пафнутьева по уговору кобылу их благородия к нашей конюшне к самой отдушине подвел.
– Шпингалет ты, я вижу… А батюшку ты как же ей подсунул?
– Никак нет! Дарья-куфарка отца дьякона подрясник с веревки сняла, – проветривался он. Шляпу ихнюю нахлобучила, бороду мы, извините, из вашей заячьей рукавицы приладили. И того… чертыхнулась Дарья… действительно. Голос у ее толстый!
Гости кольцом стянулись, смеются. Командир глазами поблескивает. Не нагорит, значит.
– А с собачкой чего проще. Я округ барыниной спальни над плинтусом внизу по стенкам балалаечную струнку приспособил, коробок от ваксы к ей подвесил. За веревку дернешь, коробок тихим манером и дзыкнет, с которой стороны требуется. Цельный день Кушку на конюшне репертил, пока он выть не стал под энту музыку. Собачка музыкальная. Только, ваше скородие, прошу прощения – промашку я дал спервоначалу: на север, это точно выть бы не следовало. Неудобно-с вышло.
Гости аж присядают, до того им понравилось. Налил командир полную стопку рома, поднес Митрию.
– Пей, бес! На этот раз прощаю. Вот только мамашу огорчил уж очень, сна ее надолго теперь лишил. Шутка ли сказать, приметы какие к ней прикручены…
– Никак нет! Не извольте беспокоиться: потолок и пожар при нас останутся. А насчет черной оспы я им средствие на вокзале дал: ежели они мозоль с кушкиной пятки вырежут и в полночь его натощак съедят, никакая их воспа не возьмет…
Зареготали гости. Командир в ус ухмыльнулся:
– И что ж, поверила?
– Так точно! Полтинничек на чай дали-с. Ужли нашему орловскому способу ихней пензенской приметы не перешибить?
Послал в летнее время фельдфебель трех солдатиков учебную команду белить. «Захватите, ребята, хлебца да сала. До вечера, поди, не управитесь, так чтобы в лагерь зря не трепаться, там и заночуете. А к завтрему в обед и вернитесь!».
Ну что ж! Спешить некуда: свистят да белят, да цыгарки крутят. К вечеру, почитай, всю работу справили, один потолок да сени на утреннюю закуску остались. Пошабашили они, лампочку засветили. Сенники в уголке разложили, – прямо как на даче расположились. Начальства тебе никакого, звезда в окне горит, сало на зубах хрустит, – полное удовольствие.
Подзакусили они, подзаправились. Спать не хочется, – соловей над гимнастикой со двора так и заливается, прохлада из сеней волной прет. Порылись они в кисетах-карманах, самое время закурить, – ан табаку ни крошки!…
Вот один солдатик и говорит:
– Что ж, голуби, обмишулились мы, соломки из тюфяка не покуришь… Без хлеба обойдешься, без табаку – душа горит. Придется нам в город в лавку идти, час еще не поздний.
Второй ему свой резон выставляет:
– На кой ляд всем троим две версты туды-сюды драть. Мало-ль мы на службе маршируем?… Давайте на узелки тянуть, – кому выйдет, тот и смотается.
А третий, рябой, свой план представляет:
– Время терпит. Узелки, братцы, вещь пустая. Давайте-ка лучше сказки врать. Кто с брехни собьется, на настоящую правду свернет, тому и идти…
На том и порешили.
* * *
Умостились они на сенниках, сапоги сняли, ножки подвернули, первый солдатик и завел:
– В некотором полку, в некоторой роте служил солдат Пирожков, из себя бравый, глаз лукавый, румянец – малина со сливками. Служил справно, – все приемы так и отхватывал, винтовка в руках пташкой, честь отдавал лихо, – аж ротный кряхтел… Однако ж, был у него стручок: чуть в город его уволят, так он к бабьей нации и лип, как шмель к патоке. Даже до чрезвычайности!… Не перебивайте-ка, братцы, спервоначалу будто и правда обозначается, а сейчас чистая брехня и пойдет… Встретился Пирожков как-то на гулянке в городской роще с девицей одной завлекательной, – поведения не то чтобы легкого, не то чтобы тяжелого, середка на половинке. Сели они на травке, – цветок сбоку к земле клонится, девушка к цветку, Пирожков к девушке, – подмышку ее зажал, аж в нутре у нее хрустнуло. Однако ж, не на ангела напал, – вывернулась рыбкой, да как двинет локтем под жабры, – так Пирожков и ёкнул.
– Что ж, – говорит солдат, – ужели тебя, девушку, в невинном виде и поцеловать нельзя?
А она, известно, осерчавши, потому что блузка у нее от солдатского усердия лопнула, сатин по шесть гривен аршин:
– Тогда, – говорит, меня поцелуешь, когда командир полка перед тобой во фронт станет!
Да с тем юбку в зубки, в кусты и улетела…
Вертается солдат в роту, – дюже его задело… То да се, занятия начались, дошло до отдания чести, да как во фронт становиться… Новобранцев отдельно жучат, – кто ногу не доносит, кто к козырьку лапу раскорякой тянет, – одновременности темпа не достигают. А старослужащие ничего: хлоп-хлоп, один за другим так и щелкают.
Дошло до Пирожкова, – экая срамота. Лихой солдат, а тут, как гусь, ногу везет, ладонь в разнобой заносит, дистанции до начальника не соблюдает, хочь брось. А потом и совсем стал, – ни туда, ни сюда, как свинья поперек обоза. Взводный рычит, фельдфебель гремит. Ротный на шум из канцелярии вышел: что такое? Понять ничего не может: был Пирожков, да скапутился. Хочь под ружье его ставь, хочь шкварки из него топи, – ничего не выходит. Прямо, как мутный барбос…
Фельдфебель тут к ротному подскочил, на ухо докладывает:
– Образцовый солдат был, ваше высокородие… Чистая беда! Придется его, видно, в комиссию послать, видно, у него мозговая косточка заскочила. Подумал ротный, в усы подышал:
– Повременить придется. Авось очухается… Ужель такого солдата лишаться?
В город его только нипочем не пущать, а то он, во фронт становясь, начальника дивизии с ног собьет, всю роту испохабит.
Время бежит. Пирожков ничего, тянется, по всем статьям первый, окромя того, чтобы во фронт становиться. Как занятия, – его уж насчет этого и обходили: что ж зря камедь ломать, дурака с ним валять.
Ан тут-то и вышло. Нежданно-негаданно завернул в роту полковой командир. Ногти солдатские обсмотрел, сборку-разборку винтовки проверил. А потом и отдание чести. Стал сбоку монумент-монументом, солдатики так один за другим перед ним и разворачиваются, знай только перстом знак подавай: «проходи который»… Видит полковник, все прошли, один бравый солдат по-за койкой столбом стоит.
– А это что за прынц такой? Пятки у него, что ли, стеклянные? А ну-кась, выходи, яхонт!
Подлетает тут ротный, – так и так, да все насчет солдатской мозговой косточки и выложил. Как загремит командир полка, аж все голуби с каланчи, супротив роты, послетали:
– Какая там косточка! Показывать не умеете!… Растяпа разине на ухо наступил! Я ему эту косточку в два счета вправлю. Эй, орел, подика-сь сюда! Стань на мое место! Вот я тебе сам покажу.
Отошел командир полка подальше, да как стал шаг печатать, так по стеклам гулкий ропот и прошел… Ать-два! На положенной дистанции развернулся перед Пирожковым, каблук к каблуку, руку к козырьку. Красота!
– Понял? – спрашивает.
– Так точно, ваше высокородие!
– А ну-ка, сделай сам!
Ахнул тут и Пирожков: шаг в шаг, плечики в разворот, хлопнул во фронт перед командиром, да так отчетисто, чище и в гвардии не сделаешь…
– Ну, вот! – говорит командир. Видали? Показать только надо, как следовает!…
Удобрился он тут до Пирожкова, как мачеха до пасынка, приказал его для разминки в город до вечера отпустить. А тому только того и надо. Пришел скорым шагом в рощу, походил, побродил, разыскал свою кралю…
Дале что ж и говорить… Пришлось ей белый флаг выкинуть, на полную капитуляцию сдаться, потому условие он честно сполнил, – бабьей их нации сто батогов в спину! Так-то вот, братцы, – а за табачком-то идти не мне…
* * *
Крякнул второй солдат, начал свое плести:
– Жила у нас на селе бобылка, на носу красная жилка, ноги саблями, руки граблями, губа на губе, как гриб на грибе. Хатка у нее была на отлете, огород на болоте, – чем ей, братцы, старенькой, пропитаться?… Была у нее коровка, давала – не отказывалась – по ведру в день, куда хошь, туда и день. Носила бабка по дачам молоко, жила ни узко, ни широко, – пятак да полушка, толокно да ватрушка.
Пошла как-то коровка в господские луга – на тихие берега, нажралась сырого клевера по горло, брюхо-то у ей, милые вы мои, и расперло… Завертелась бабка, – без коровки-то зябко, кликнула кузнеца, черного молодца… Колол он корову шилом, кормил сырым мылом, лекарь был хоть куда, нашему полковому под кадриль. Да коровка-то, дура, упрямая была, – взяла да и померла.
Куда тут, братцы, деваться, – чем ей, старенькой, пропитаться? Наложила она полное решето мышей, надоила с них пять полных ковшей, стала опять разживаться…
Ан тут, в самые маневры, зашли к ей лихие кавалеры, господа молодые офицеры:
– Нет ли у тебя, бабушка, молочка, заморить пехотного червячка? Пока полевая кухня подойдет, кишка кишку захлестнет…
Поскребла бабка загривок, дала им жбан мышиных сливок. Выпили, поплевали, в донышко постучали, да и в сарае спать завалились. Только глаза завели, слышат – мыши в головах заскребли, скулят-пищат, горестно голосят:
– Что ж это за манеры, господа офицеры? Бабка нас дочиста выдоила, молоком нашим вас напоила, а мышата наши голодом сидят, гнилую полову лущат… Благородиями называетесь, а поступаете неблагородно.
Приклонил тут старший офицер ухо к земле, поймал старшую мышь в золе, посадил на ладонь да и спрашивает:
– Что ж нам, пискуха, делать? Платили за коровье, выпили на здоровье, ан вышло – мышье. Мы тому не повинны…
Старшая мышь и говорит:
– А вы, ваши высокородья, пожалейте наше отродье. Деньги-то у вас военные – пролетные, люди вы молодые – беззаботные. Соберите в фуражку по рублю с головки, старушке на коровку…
Ну-к что ж… Офицеры – народ веселый, завернули полы, набросали в фуражку с полсотни бумажек, старушке поднесли да и прочь пошли.
С той поры, братцы, мышей в деревне развелось, хочь брось… Кто всех сочтет, тот за табачком и пойдет.
* * *
Третий, рябой, принахмурился, соломинку из тюфяка перекусил, начал:
– Не с чего, так с бубен… Прикатил, стало быть, дагестанский прынц в наш полк для парадного знакомства. Повезли его в тую ж минуту в офицерское собрание господ офицеров представлять. Глянул кругом полковой командир, брови нахохлил, полкового адъютанта потаенным басом спрашивает:
– С какой-такой стати все младшие офицеры тут, а ротных командиров будто пьяный бык языком слизал?
Полковой адъютант с ножки на ножку переступил и вполголоса рапортует:
– Все, господин полковник, по неотложным делам отлучившись. Первой роты командир под винтовкой стоит, – тетка его за разбитый графин поставила, второй роты – бабушку свою в Москву рожать повез; третьей роты – змея на крыше по случаю ясной погоды пускает; четвертой роты – криком кричит, голосом голосит, зубки у него прорезываются; пятой роты – на индюшечьих яйцах сидит, потому как индюшка у него околевши; шестой роты – отца дьякона колоть чучело учит; седьмой роты – грудное дитё кормит, потому супруга его по случаю запоя забастовала…
– Стой! – закричали земляки. – Вот и проштрафовался…
– Как так проштрафовался?
– А разве ж ты, моржовая твоя голова, не знаешь, что завсегда, как седьмой роты командирова супруга в запой войдет, – их высокородие свое дитя самолично из рожка кормит?… Дуй скорей за махоркой, а то из-за брехни твоей и так припоздали!…