Книга: Месть фортуны. Дочь пахана
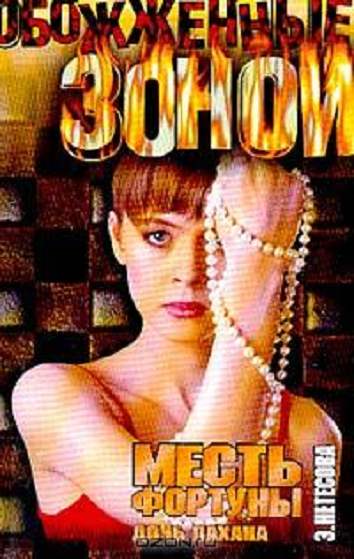
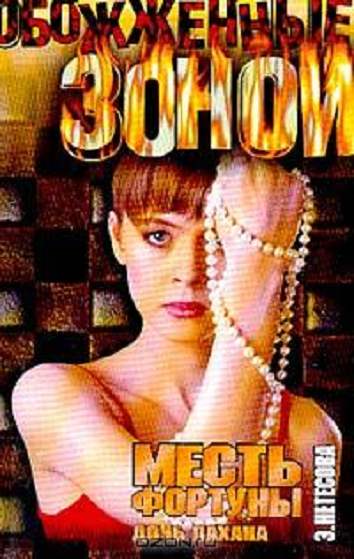
Автор: Э. Нетесова
Название: Месть фортуны. Дочь пахана
Издательство: АСТ
Серия: Обожженные зоной
ISBN: 5-17-021322-0
Год: 2004
Страниц: 224
АННОТАЦИЯ
Задрыга такую кликуху дала ей воровская малина с зеленого детства. С тех самых пор, когда она едва научилась отличать своего отца от прочих фартовых. Она еще не усвоила своего имени, зато знала кликуху.
Глава 1
Задрыга
Такую кликуху дала ей воровская малина с зеленого детства. С тех самых пор,
когда она едва научилась отличать своего отца от прочих фартовых. Она еще не
усвоила своего имени, зато знала кликуху. В деле она была с самого что ни на
есть мокрохвостого возраста.
И что без шуток. Капка тогда еще ходить не умела, только ползала, а малина уже
взяла ее с собой в фарт.
Задрыга не помнила, кто именно взял ее, кто предложил. Да и в том ли суть? Капку
обоссанным свертком сунули под мышку, вынесли в ночь, глухую и темную, как
фартовая судьба…
Лишь. потом, через годы, рассказали фартовые Задрыге о том деле, в какое совсем
не случайно взяли ее.
Зубодер тот, паскуда, пархатый был. Мы про то пронюхали давно. Да только не
подобраться к нему ни с какого боку. Хата его почище любой тюряги. Куда ни
сунься — железо или «ежи». На колючей проволоке у него не один фартовый лопух.
Весь дом его, что зона особого режима. Ни перемахнуть, пи пробить. Камень и
железо. Во дворе овчарки — злей ментов. Ростом со стопорилу. И никак не могла
малина вломиться к зубодеру и тряхнуть на рыжуху. Он же, пропадлина, положпяк не
давал. Кентовался с мусорами. Вот и ломали кентели кенты, как зубодера колонуть.
И вот тут пришла мне в кентель светлая мысля, — хрипло хохотал отец задрыги,
пахан фартовых, хранивший в памяти множество историй из жизни малины.
Собаки для нас — туфта! А вот как к зубодеру возникнуть., коль. на окнах решетки
и ставни, двери везде железные двойные и вход на чердак изнутри дома? Ох и
поломали кентели мы тогда! Зубодер был хитрей всех малин. Уж чего не вытворяли,
не высовывает шнобель из хазы, ну, хоть тресни! И побирушек к нему подкидывали,
и кота, и кодлу пьяной «зелени». Даже в ментов и электриков, сантехников и
почтальонов рядились. Все без понту! Пошлет через дверь на все этажи и гуляй
малина мимо хазы! Вот тогда и стукнуло из тебя подкидыша изобразить, —
заперхался вор и, откашлявшись, продолжил:
— Дождь лил проливной в тот день. Ночь была холодная, глухая. Выманили мы
зубодерских псов со двора и положили тебя на порог, перед дверью. Сами
стремачим. Ты, едва стала намокать, так раздухарилась, хайло на весь свет
отворила. Не зря в малине росла. Знала, чем пронять можно. А глотка у тебя и
впрямь, что надо. И дождь, и ночь перекричала, всполошила зубодера., Он едва в
дверь сунулся, чтоб тебя забрать, мы его и накрыли. Тепленьким взяли. С постели.
Бездетным он был. А может, хрен его душу знает, крика детского не выносил.
Только попух он на том, как гусь. Мы его вмиг облапошили. Дочиста. Всю рыжуху
увели. Зубодер тот, падла, по дешевке скупал ее у шпаны, у налетчиков. Башли
знатные заколачивал. Да и что впустую трехать, в своем деле он был дока. Жевалки
делал такие, до гроба хватало.
— Вы его замокрили тогда? — спросила Капка фартового. Тот закашлялся от
удивления, заматерился долго, громко. И лишь немного успокоившись, поостыв,
ответил:
— Фартовые не мокрят никого! Сколько тебе про то трехать? Тот зубодер положняк
не давал нам. За то тряхнули! С тех пор мозги сыскал! Сам кололся на навар!
Зачем такого гробить? — искренне удивлялся фартовый. И продолжил:
— Это было впервой, когда «малина» взяла в дело дате, тебя значит. До того не
приходилось слышать про такое. А ты в тот день фартовую судьбу разделила.
Сработала лихо. Без промаха. Ну и блажила! Аж в тыквах у нас зазвенело. Боялись
мы, что не только зубодера, мусоров сдернешь из ментовки.
— Кто ж взял меня? — рассмеялась Капка хриплым, не детским смехом.
— Так сложилось, девать тебя стало некуда. Барух лягавые замели в тюрягу, шмары
бухими были. Шпане не оставишь. А одну — не бросишь. Ты, едва зенки продирала,
поднимала такой хай, что всех на катушки ставила. И тверезых, и бухих. Чуть
тряпки под тобой отсырели, хана всем вокруг! Вот и доперло, что только ты
сумеешь зубодера с его дома выдавить своим визгом.
— А мать моя где была? — посерела с лица Задрыга.
— Ее уже не было на белом свете. Тебе три месяца исполнилось, когда она
откинулась. Вот и осталась ты с нами, горе и смех для всех кентов, — качнул
головой фартовый.
— Выходит, женатым ты был?
— Ты что? Мозги сеешь? Нам семьи законом запрещались! И тут тоже не женился я!
Заглядывал к ней. А она — любила! Так-то и случилось, что не захотела от тебя
избавиться. Хотя уговаривал, просил, грозил бросить. Но не помогло. Видно, чуял
наперед, сколько мучиться с тобой придется. Но не отмазался от судьбы, — умолк
фартовый, задумчиво уставившись в темный угол комнаты.
— И часто после того меня в дела брали? — спросила Задрыга.
— Да уж не без того! Верняк трехают — лиха беда — начало. Весь север малина
тряхнула, подкидывая тебя живцом. И даже тех, кто родной маме и лягавым средь
ночи дверь не отворял, тряхнули мы без мороки. Ну и шмонали нас менты — по всему
свету. Тебя шарили по всем хазам. Да не фартило им. Ты, чуть мозги завелись,
знала, где хайло открывать, а где закрывать надо. Все соображала. И фартовую
науку с лету ухватывала. Когда с подкидышей выросла, приблудной возникать стала.
По кайфу тебе было мотаться с нами «но гастролям»…
Капка с детства не имела семьи, своей постели, нехитрых забавных игрушек, да и
не знала детских игр, не имела сверстников — друзей. Никогда не ходила в гости к
ровесникам. Там, где она появлялась, надолго замолкал смех. Люди переставали
жалеть детей, вздрагивать от их слез.
Задрыга вскоре поняла свое предназначение в малине и помогала набивать воровской
общак золотом и деньгами.
Нет, фартовые не отступали от своего закона и клятв. Они не трясли жителей
городов без разбору. Это — удел шпаны.
Законники не ковырялись в барахле, пропахшем нафталином. Они знали, кого трясти.
И уж если провинился кто-то перед законниками, они умели его достать внезапно.
Капка помнила, как трясла малина ростовщиков, не плативших положняк, как
вылавливала сутенеров, барух и барыг, как разделывалась с паханами шпановских
малин, нарушивших воровские правила.
Задрыга с малолетства знала все законы, отличие своей «малины» от других, и
никогда не нарушала то, чему ее учили законники.
Она не знала и не могла помнить, сколько раз фартовые пытались развязаться с
нею. Случалось, ее хотели подкинуть к бездетным людям, Капка поднимала такой
крик, что ее вскоре выносили из дома и оставляли на прежнем месте. Барухи ни за
какие деньги не соглашались растить горластую, упрямую девчонку. А нянька
детского приюта, едва приблизившись к орущему, вонючему свертку, зажала нос и
поспешила от Задрыги без оглядки.
— От такой никому житья не будет! — продохнула на пороге испуганно и
посоветовала никому не подходить к девчонке. Ту вскоре унесли фартовые. Их
сердца не выдержали. Почувствовав знакомые руки и запахи, услышав «феню»,
успокоилась и Капка. Тут же уснула.
— Во, задрыга! Откуда у ней чутье? — удивились законники.
— Родная кровь! — прогремел пахан малины — Капкин отец.
Так и приклеилась к девчонке фартовая кликуха. Капка на нее не обижалась. У нее
была — не из худших. Доводилось Задрыге слышать такие, от которых даже она —
краснела. Воры не просто отличали друг друга по кликухам, ими метили как
печатью, иногда до самой смерти.
Капка была малине обузой только поначалу, первые полгода. Потом к ней привыкли,
а может, стерпелись. И, поскольку отделаться от Задрыги не удалось, жила у
законников — их смехом и удачей, головной болью и страхом.
Она всему училась сама. Чтобы жить — нужно выжить, поняла Капка в свои полтора
года, проснувшись поутру. Поняв, что фартовые оставили ее одну, огляделась,
поползла к столу. Там выпила остатки вина и схватив кусок колбасы, долго
мусолила его, пока не уснула до самого возвращения фартовых. Ходить она тоже
научилась сама. И воры не удивлялись смелости и самостоятельности Задрыги. Она
долго не решалась заговорить, словно копила запас слов. Внимательно слушала
разговоры, серьезно, не по-детски взвешивая предстоящие взаимоотношения с
каждым.
Она очень редко смеялась, почти никогда не радовалась Да и поводов к тому не
было. Ее никто никогда не брал на руки, с нею редко говорили, никогда не жалели
и не считались с Капкой, забывая, что девчонка — порождение малины, впитавшая в
себя плоть и кровь фартовых. Она росла хитрой, хмурой, злой девчонкой,
молчаливой и злопамятной.
Когда ей пошел третий год. кто-то из фартовых, забывшись, сел к столу на место
Задрыги. Девчонка подошла молча сзади
Фартовый взвился под потолок, визжа и матерясь, ухватившись за задницу.
Капка сумела даже портки ему прокусить. И смотрела на
законника не моргая. Тот орал на Задрыгу, грозя ей всем на свете. Капка тогда
впервые заговорила:
— Не базлай, падла! Будешь духариться — яйца оторву!
Услышав такой отпор от девчонки, фартовые хохотали до
слез, до колик в животах. И уже никто не рисковал сесть на Капкино место, знали:
забывчивость будет наказана тут же.
Задрыга не терпела окриков, не прощала брани. Мстила за всякую обиду и чем
старше становилась, тем злее, беспощаднее были ее выходки.
— Пора ее отвезти к Сивучу. Время пришло. Он ей мозги вправит в нужную степь.
Этот кент всю фартовую «зелень» обучил. Никто не жаловался. И Задрыга уже
выросла. Пусть у Сивуча побудет. Прикипится годиков на пять. Файная кентуха из
нее получится. Там и воспитание, и образование обеспечено. Светской мамзелью
станет! Сивуч не ударит харей в дерьмо. Все малины им довольны. Из шнырей и
шестерок — из пацанов, знатных фартовых вырастил, — говорили отцу Капки. Тот
вначале слушал молча. А потом — согласился.
— Одна беда впереди. Сивуч никогда не растил девок. Возьмется ли он? — вспомнил
отец.
Сивуч согласился. Уговорили его законники, засыпав старого фартового пачками
денег. Пообещали наведываться каждый месяц. И на следующий день привезли
Капитолину в старый двухэтажный особняк на окраине Брянска.
Задрыге понравился дом, стоявший на отшибе от всех прочих. Сразу за ним
начинался глухой лес. Здесь гасли все городские звуки и запахи. Тут было
жутковато и грустно.
Здесь, поодаль от городского шума и посторонних глаз, жил удалясь от дел старый
фартовый.
Сивуч, с этой кличкой он прожил почти всю свою жизнь, и теперь учил пацанов,
натаскивал их для малин, получая за свои услуги на жизнь и хлеб.
Сивуч не стал откольником, а потому фартовые его не тронули, подарив за работу —
жизнь.
Да и о каком фарте говорить, если из последней ходки — с Колымы, вернулся на
костылях. Отказали обмороженные на трассе ноги. Врачи совсем было хотели
ампутировать их, да Сивуч вовремя пришел в сознание, не согласился остаться без
ног и, едва по досрочке оказался за воротами зоны, поехал на юг, к морю. Там, на
горячем песке, провалявшись три месяца, научился передвигаться без сявок. Но
бегать, а значит, линять, уже не мог. Такие в малинах — помеха. И законники
стали коситься на Сивуча, пока тот не придумал выход.
Он учил мальчишек по большому счету. Потому отбирал самых толковых.
Никто из его учеников не лез в карманы горожан, не шарил в сумочках, не воровал
в квартирах, не чистил пассажиров в общественном транспорте. Зато каждый из них
мог наощупь отличить высокопробные золото и платину от низкосорток. Лучше
ювелиров разбирались в драгоценных камнях, с ходу различая ручную работу от
штамповок. Умели определить качество выделки ценного меха. Знали толк в
материалах, коврах. Умели отличить рисованные подделки от настоящих денег.
Прекрасно разбирались в картинах старых мастеров, стоивших целые состояния.
Эти пацаны назубок знали весь город. Каждого ростовщика и стоматолога, всех
барыг и спекулянтов. Помнили не только их адреса, имена, но даже клички домашних
собак, номера машин и телефонов. Они были энциклопедией фартовых. Ведь чем
больше помнил, чем скорее усваивал фартовую науку, тем больше было шансов скорее
попасть в малину.
Задрыга первые три дня осваивалась, знакомилась с обитателями дома. Они все были
чем-то поразительно похожи друг на друга.
Мальчишки всегда были заняты и не обращали на Капку никакого внимания. Ее еще не
окрепшее сознание возмущалось такому равнодушию к своей особе. Она сама не знала
почему, но так хотелось, чтобы эти мальчишки смотрели ей вслед. Но они и не
оглядывались на девчонку. И та сидела понурившись, одна, тихо вздыхала,
вспоминая малину, оставившую ее.
Дав девчонке короткую передышку, Сивуч решил заняться и с нею, проверить
способности. От девчонки требовалось не меньше чем от пацана. И фартовый, для
начала, отмыл Капку в горячем корыте так, что Задрыга, глянув в зеркало, не
узнала саму себя.
Сивуч потребовал, чтобы она самостоятельно мылась в корыте не реже двух раз в
неделю. Ее одежду, в какой Задрыга приехала, куда-то унесли. Взамен дали другую
— новую, чистую.
С первого же дня Капке запретили материться.
— Ты не шмара и не баруха! Не щипачка! Потому не смей базлать, позорить свою
кровь и званье! Отныне будешь усваивать все светское, нужное в жизни, а шелуху —
стряхнем с тебя, — пообещал Сивуч.
Уже через неделю Капитолина не ковырялась грязным пальцем в носу. Всегда имела
при себе чистый платок. Она аккуратно промокала им губы после еды и неспешно
клала его в карман. Она уже не шмыгала носом, не ходила сутулясь, не вскакивала
со стула оголтело, не носилась по дому с
ветром на хвосте. Научилась каждый день следить за собой, убирала сама в своей
комнате.
Вскоре научилась вести себя за столом, пользоваться ножом и вилкой, правильно
держать их в руках, не орудуя ложкой, как веслом. Она навсегда запомнила, что
хлеб берется только руками, мясо — вилкой, что за столом нельзя чавкать,
сморкаться, ковыряться в зубах, что, выходя из-за стола, нельзя громыхать
стулом, расталкивать соседей во все стороны.
Ее учили неспешной манере разговора, чтобы каждое слово доходило до собеседника.
Требовали произносить слова веско, но без визга и окрика, не сбивая с толку
собеседника.
Умение вести разговор давалось Капке очень трудно.
Даже через три года занятий получала она затрещины от Сивуча за несдержанность и
грубость.
Задрыга была несносной хамкой. Живя в малине с пеленок, она трудно расставалась
с привычным и полюбившимся. Может, оттого, когда Сивуч сажал напротив нее
кого-либо из мальчишек, для светского разговора с Капкой, та дрожала осиновым
листом.
— Как вы находите эту картину — портрет Моны Лизы? — спрашивал ее собеседник
слегка улыбаясь.
Задрыга принимала непринужденную позу, слегка откинувшись на спинку стула и
бегло глянув на копию, отвечала не торопясь:
— Вообще, я предпочитаю другой стиль. Я не люблю мрачных тонов, несуразной
одежды, слишком пристальных взглядов. Этого в жизни хватает и без живописи.
Джоконда не в моем вкусе. А потому кисти Леонардо да Винчи я предпочитаю работы
Рембрандта. Там жизнь улыбается всеми красками радуги. Не давит на настроение.
— Не скажите, флорентийка на этой картине весьма своеобразна. Особо ее
полуулыбка. Она впечатляет, — не соглашался собеседник.
— Что ж, наши вкусы не совпадают. Живопись всеми воспринимается по-разному. Вы
согласитесь, нет пока бесспорных полотен, вызывающих однозначный восторг либо
неприятие.
— Мона Лиза всегда была выше споров. Ее признал весь мир.
— Иди в жопу, мудак! — не выдерживала несогласия Капка и срывалась из-за стола,
но тут же получала увесистую затрещину от Сивуча.
— Лярва, мать твою блохи хавали! Куда линяешь? Тебе кто позволил встать, гнида
безмозглая? А ну, живо вернись! — швырял девчонку к стулу.
Теперь ее муштровали по литературе, музыкальной классике, фартовый полировал
лексику и манеры Капки. Не обратил внимание на фартовых, приехавших навестить
Задрыгу. Та, увидев, бросилась к ним со всех ног, визжа и воя от радости, забыв
все, чему училась.
Сивуч схватил ее на бегу, подняв одной рукой в воздух. Задрыга все еще
продолжала бежать, перебирала ногами. А фартовый уже колотил ее нещадно,
приговаривая привычное:
— Ишь, лярва дурная! Мозги посеяла вконец? Я тебе припомню, как надо выходить к
гостям! А ну! Марш в хазу! И нарисуйся, как полагается мамзели! — потребовал
твердо.
Капка глянула на отца, на фартовых. Никто за нее и не подумал вступиться,
замолвить слово. И Задрыга ушла в дом, давясь слезами. Но уже через несколько
минут, умытая и причесанная, она вошла в гостиную, тихо отворив дверь. Сделав
общий реверанс, изобразила полуулыбку и подошла к отцу плавно, слегка
поклонившись, обняла крутую шею. Поцеловала, слегка касаясь губами небритой
щеки. Поприветствовала и остальных.
Задрыга думала, что малина приехала за нею. Но ошиблась.
Проверив все, чему научилась дочь, пахан малины доволен остался. Читает, пишет,
считает. А манеры! А рассужденья! А вкус каков! А сколько умеет! В Капке уже не
узнать прежней Задрыги. Она будто переродилась заново.
Одетая в длинное бархатное платье, девчонка казалась взрослее своих лет.
— Сколько ей еще нужно канать у тебя? — спросил отец у Сивуча.
— Еще столько же, если хочешь чтоб все путем было. Гонористая она. Запоминает
все шустро, а сеет — еще шустрей. Надо, чтоб въелось в нее все, чему учу,
натурой стало. Но это я так. А решать тебе. Смотри сам. Хоть сейчас забирай.
— Да нет. Пусть канает. Чего дергаться? Мы ж «в гастролях». Навестили попутно.
Пусть у тебя дышит. Вон какую мамзель ты из нее слепил. Аж дух захватывает, —
подкрепил свой восторг пачками сотенных.
Малина, побыв пару дней, укатила поздней ночью из города, а Капка осталась у
Сивуча.
Теперь здесь стало совсем скучно. Почти всех мальчишек разобрали «малины». Новых
не привозили. И вместе с Задрыгой обучал Сивуч оставшихся пацанов, каких вздыхая
называл последышами. Их он недавно жестоко избил за то, что влезли в чужой сад и
обтрясли яблоню.
— Не моги честь фартовую кидать под ходули фраеров!
Как посмели шпановать? Вы кто? Иль брюхо важней тыквы? Своими клешнями кентели
пооткручиваю, коль еще на этом засеку! — молотил мальчишек тугими кулаками.
Подрастая, Капка стала задумываться, зачем понадобилось фартовым отдавать ее
Сивучу? Избавиться на время, дать подрасти, отдохнуть самим от обузы? Но ведь
могли поступить проще — пристроить у какой-нибудь барухи. Та рада была б до
беспамятства! А ну-ка под прикрытием фартовых дышать и положняк не давать! Таких
баб у законников — пруд пруди. Ей и деньги давать не надо за Капку. И зачем ее
всему учат? К чему готовят? Ведь дальше малины никуда не деться. А там — зачем
столько знать? Хватает фартового опыта. И весь этот этикет забудет Капка, как
только покинет Сивуча.
— Фартовая должна быть намного образованнее всех светских барышень! — настаивал
Сивуч, заставляя читать, писать, разбираться в тысячах вещей, во всех
подробностях фартового ремесла — сложного и многогранного.
— Ты знаешь, что такое быть «в законе»? Так вот секи, ты никогда никого не
должна любить. Это первое требование ко всякому, кто сдышался с малиной! —
объяснял Сивуч Капке причину этого требования и запрещал ей следить в дыре
забора за городскими детьми, приходившими в лес за грибами и ягодами.
— Не ровня они тебе! Не хевра! Кентоваться не будешь, — отрывал за шиворот.
Капка всегда была занята. Сивуч загружал ее постоянно, не давая скучать. Уборка
в доме, кухня, стирка, все это стало знакомым и привычным. Случалось по вечерам
Сивуч учил играть в шахматы или в забавные игры на интуицию и сообразительность.
Эти игры Капка любила. А фартовый, словно неиссякающий родник, придумывал новые
забавы.
— Вот как ты отличишь из толпы богатую бабу? — спрашивал пацана.
— По одежде! На ней цепочек и колец, как на елке навешено. И сама из себя —
толстая, как свинья. Потому что все пархатые жрут в три горла.
— Дурень! — щелкал его по лбу Сивуч и продолжал:
— Схватит такую толстуху шпана, сдерет все. А там — сплошная дрянь, медяшки. Ни
одной цепки из рыжухи. И кольца копеечные. И сама баба — сплошная боль.
Настоящая богачка на себя не напялит лишнее. Боятся показухи. Из такой слово не
выжмешь. Одевается просто, серо. Чтоб не выделяться. Деньги в кошельке — одна
мелочь. Но ты в корень смотри. На серьги. Богачка дешевку не нацепит.
Обязательно бриллиант. Пусть и крохотный. Не пользуется дешевыми духами. И
больше всего презирает плохую косметику и копеечные сумочки. Это давно
проверено.
— А нам ее на гоп-стоп не брать!
— Разбираться и в этом должен!
— Зачем? — удивилась Задрыга.
— Скоро до вас допрет! — пообещал Сивуч.
Мальчишек он учил быстро и бесшумно снимать картины
со стен, оставляя пустые рамы. Нередко заставлял их играть в ограбление
ювелирного прилавка. Ребята входили в темный зал. Они наощупь находили тумбовый
стол, уставленный звонким хрусталем. Малейшее неосторожное движение и все
бокалы, рюмки, графины, кувшины начинали звенеть на все голоса.
Бесшумно выдвинуть все ящики, выбрать из них ценное содержимое, а не все подряд,
задвинуть ящики тихо на место мальчишкам долго не удавалось. Сивуч ни один
промах не оставлял без наказания.
Задрыге легко удавалась эта игра в ограбление, зато она боялась темноты комнаты
и всегда выскакивала из зала с шумом, в ужасе. Ей казалось, что кто-то хватает
холодной рукой за горло и сжимает, душит… Но постепенно Капка одолела страх. И
наравне с мальчишками получала от Сивуча похвалу за успех «в деле», пока
игровом.
Но вот Сивуч решил проверить в деле своих учеников и повел всех троих в
городской музей.
— Секите, ничего не брать! Кентели поотрываю. Зырьте внимательно. Когда
воротимся — устрою проверку, кто что оценил, как тот музей тряхнуть можно?
Больше полдня ходили они по залам, смешиваясь с толпой, наступая кому-то на
ноги, зло отталкивали сдавивших их горожан. Их то прижимали друг к другу, то
разносили по залам. Вышли они из музея лишь под вечер.
Растрепанные, потные, усталые едва доплелись до скамейки в скверике, собрались
перекусить, увидели подъехавшие милицейские машины, услышали свистки, шум. И
Сивуч, оглядев притихших пацанов, заспешил с ними домой.
Уже во время ужина один из ребят достал золотую монету из кармана.
— Спер. Не выдержал, — сознался тихо.
Второй выволок браслет сказочной красоты, какой нашли при раскопках археологи.
Задрыга достала маленькую статуэтку из сандалового дерева. На нее никто не
обращал внимания, но она оказалась бесценной и стоила много дороже браслета и
монеты.
— Выходит, все сорвали навар! — рассмеялся Сивуч, понявший, что выросли его
ученики и теперь уже не пропадут, не станут обузой малинам.
— Знать, лягавые неспроста шухер подняли! Загоношились враз! Но мы успели
смыться! Зато фраеров всех тряхнут, обшмонают до единого! Нам туда нынче шнобели
не совать. Дважды в одном месте не фартит, — учил он «зелень» и рассказал им о
своем случае:
— Молодняк я был тогда. Вроде вас — нынешних, зелень. Вот и стукнуло — судьбу
испытать, влез с кентами в меховой. Знатно его почистили. И никто не попух. Мне
по кайфу пришлось. И через месяц стал кентов подбивать снова туда возникнуть.
Троих по бухой уломал. И все вчетвером накрылись. Попутали лягавые. Мы под шафе
были. Не почуяли табачного запаха. А ведь продавцы — одни бабы. Менты ловушку
подстроили. Разнесли слух по городу, что с Северов пушняк привезли. Мы и
клюнули. Менты не кемарили. Живо схомутали. И всех в Сибирь. На пятнадцать лет.
Если б не слиняли, так бы и откинулись там в сугробах. А по весне — на корм
пушняку… С тех пор в одно и то же место не хожу. Не хочу живцом стать. И больше
всего не доверяю слухам… Особо тем, о золоте, о пушняке, о выставках… На все эти
хитрости менты наших кентов ловят. Как в капкан.
— Надо их туда загонять. Вот теперь в музее они всех взрослых трясти станут. А
нам — самое раздолье — под шумок почистить полки, — рассмеялся мальчишка.
— Упаси тебя Бог, Мишка! Не суйся! Чтоб не случилось как со мной! — испугался
Сивуч.
— Да нет, не пойду я туда! Из-за одной монеты больше половины дня потерял. Навар
того не стоил. Меня пахан за такое на разборку бы вытащил, иль оттыздить велел
бы сявкам, — успокоил пацан Сивуча, и тот пристыжено умолк.
Эти двое ребят и Капка жили у Сивуча не первый год под одной крышей. Они никогда
не дрались меж собой. Закон фартовых запрещал такое всем, кто связал свою судьбу
с серьезными ворами.
Они делили поровну каждый кусок хлеба. Помогали друг другу, но не дружили…
Может, потому, что Сивуч не учил, иль не заложено было это чувство в их сердцах
и душах. А может, помнились каждому из троих фартовые разборки, когда
вытаскивали законников из чужих малин, посмевших фартовать на чужой территории.
Это не сходило с рук дарма. Каждый дрожал за свой навар и не уступал его
фартовому из чужой малины.
Посягнувший на чужую территорию грабил законников.
И если он не отдавал положняк, его ждала жестокая разборка, из которой многих
выносили жмурами.
Пацанам такое помнилось особо, может, потому боялись прикипать один к другому.
Капка всегда смотрела на них свысока, даже не понимая, в чем ее истинное
превосходство над обоими. Знала, за нее платят, ее навещают. А их — нет.
Задрыга, случалось, подстраивала им мелкие пакости. То кусок колючей проволоки
сунет кому-нибудь в постель под одеяло, то гвоздей в ботинки сыпанет. Однажды,
перепутав в темноте всю обувь, набросала битого стекла в ботинки Сивуча. Тот
побагровел от ярости. Вырвал Задрыгу из постели, велел ей надеть свои ботинки.
Та, сунув ногу, сдвинула стекло в просторный носок. Точно так же влезла во
второй ботинок. Прошлась с форсом. Сивуч от удивления ошалел. А Задрыга, чтоб
избежать трепки, еще и сплясать что-то попыталась, едва не прокусив от боли
губы.
— Терпелива змея! Вот на чем фартовая кровь проверяется! Да тебя, краля, уже
теперь можно в дело брать. Тебе, падле, никакая мусориловка нипочем! Это я
ботаю! Старый Сивуч!
Капка впервые услышала откровенный восторг и горячую похвалу, зарделась от
гордости.
Что случилось в музее после их ухода, фартовая зелень узнала уже на следующий
день, когда ранним утром в окна дома забарабанили тугие кулаки, и сиплые голоса
позвали со двора требовательно:
— Сивуч! Возникни, падла!
Фартовый, глянув в окно, заметно побледнел. Пот выступил на лбу и покатил за
воротник рубахи. Он быстро сунул ноги в калоши, выскочил во двор, его тут же
взяли в кольцо незнакомые ребятам люди, они потащили Сивуча за дом.
Капка шмыгнула из дома, чтобы узнать, зачем увели Сивуча. Его утащили в лес,
неподалеку от дома.
— Тебе, лярва, дышать тихо надоело? Когда приморился тут, клялся, что от дел
отмазался и не высунешься никуда!
— Я и не возникаю нигде!
— А кто вчера музей тряхнул?
— Так это что? Разве навар? Вы не позарились бы…
— Чего? Ты, секи, пидер, что из-за того гавна все малины сегодняшней ночью менты
трясли. Таких кентов в мусориловке приморили! Все из-за тебя! Клевые дела
сорвались. Теперь лови фортуну, когда обломится момент! — совали Сивучу кулаками
в бока и в. зубы.
— Короче! Без трепа! Гони все, что увел из музея! Доперло! И не тяни резину!
Иначе шкуру с тебя спустим на подтяжки. И не вздумай слинять. Из-под земли
достанем! — пригрозил Сивучу рослый, бородатый мужик.
— В другой раз высунешься из хазы, разделаем как маму родную! — пообещал глухо.
И, схватив фартового за грудки, притянул к себе так, будто хотел взять его на
кентель:
— Теперь отваливай! В зубах волоки все, что спер вчера! Иначе с твоей «зелени»
салат накрошим! Да мозги не сей, в другой раз уламывать не станем, снесем
кентели и все тут. Тебе и твоим пацанам…
Капку трясло, как в лихорадке. Она понимала, силы не равны. Придется вернуть
первый навар. Иначе не сдобровать. Но это — сегодня! А на завтра нужно хорошо
запомнить каждого. В мурло. И тогда не упустить свой час.
Сивуч вернулся в дом шатаясь. Весь в багровых фингалах, в грязи.
Капка отдала ему сандаловую фигурку молча. Ребята тоже не промедлили.
Сивуч тяжело вышел из дома. Вскоре вернулся, зажав ладонью кровоточащий рот. До
вечера он тихо постанывал в своей комнате. Полоскал рот отваром крапивы, содой.
Менял примочки на лице. При этом глухо матерился.
Капка выстирала его рубашку, брюки. Заварив чай, носила Сивучу, жалея молча —
сердцем и глазами.
Фартовый не упрекал ребят за случившееся. К вечеру вышел из своей комнаты, сидел
в гостиной молча, долго курил, о чем-то думал, что-то вспоминал.
Он понимал, что не сможет справиться в одиночку с городскими фартовыми, не
сумеет отплатить за себя. Стар стал, силы и смекалка подводили.
Капка присела рядом с фартовым, вздыхала сочувственно:
— Тебе очень больно? — не выдержала она.
— Уже не шибко.
— А почему ты один живешь?
— Потому как закон держу, — насупился Сивуч.
— Так он для фартовых. А ты уже не в малине, — поддержал Задрыгу Мишка.
— А ты, Гильза, смекни, о чем трехаешь? Мамзели простительно не допереть, тебе —
западло такое, — хмурился Сивуч. И раздавив окурок в пепельнице, продолжил:
— Фартовый может смыться от ментов, из зоны, из тюряги, но не от кентов. Они
всюду достанут.
— А за что?
— За то, что всю жизнь фартовал, каждого законника в мурло знаю, и не только его
«будку», а про все дела. Покуда сам дышу — фартовые не дергаются, а бабу
приволоку — пришьют обоих, чтоб самим кайфово канать. Никто друг другу не верит.
А что как та баба заложить вздумает? Ментам. За навар. Всяк другого по себе, на
собственное горе и ошибки примеряет. Повторять их никому не по нутру, — вздохнул
Сивуч.
— А кто бы пронюхал? Жила бы тихо, не выходя из дома. И не узнали б, — не
унималась Задрыга.
— Во, гнида, прицепилась! Мы всего раз нарисовались в музее. Там никого из
фартовых не было. А пронюхали и надыбали.
— Ну зачем тебе про них говорить тетке, если она не фартовая?
— Это ты так! Кенты по себе судят. Чуть заложил под шафе и ну духариться перед
мамзелью, что ему сам пахан по хрену! Не то про себя растрехается, всех
законников выложит с потрохами. Перед шмарами перья распускают. Больше нечем
гоношиться. В делах да в ходках, натерпевшись всякого, мужичье растеряли.
Молодые фартовые еще как-то! Те же, какие три ходки оттянули на северах, к
шмарам лишь с конфетами возникают. Больше нечем утешить. Ну, бухают, гоношатся.
Тем и дышат. Кто с них поверит, что другой иначе канать станет, я и сам, будь в
малине, так бы думал, — сознался Сивуч.
— Одному плохо, особо в старости. Каждый оттыздить лезет, духарятся все. Я не
хочу до старика доживать, надо вовремя откинуться, пока силы не посеял и самого
себя защитить можешь, — задумчиво сказал Гильза.
— Что ж теперь, коль фортуна не прибрала вовремя? Тяну резину понемножку.
— А ты любил когда-нибудь? — внезапно прервала Сивуча Задрыга.
— Этой болезни никто не минул. Она и фартового хомутает, — отмахнулся Сивуч,
заметив ухмылки на ребячьих лицах. Уж они наслышались в малинах, сколько бед
приносят законникам бабы. Им такое внушили, что само слово — любовь, стало для
них сродни самому грязному мату. А женщин, девок, даже девчонок, презирали и
высмеивали.
— Оно и мне в кентель толкли, мол, бабы фартовым западло. Припекло — нарисуйся к
шмаре. Сгони оскомину, на том и завяжи. В сердце, в душу ни одну не впускай.
Баба для законника — страшней смерти! И верно! Стоило какому кенту полюбить,
малина мокрила обоих. Враз под корень. Чтоб другим неповадно было. И получили!
Нынче уж не то баб, детей заводят. И дышат. Всех не размажешь. Ну и пришлось
смирить гордыню фартовую. Да что долго трехать, ваши отцы кто? Не будь любовей,
не появилась бы зелень. Вот только я свое упустил. Теперь один, как пидер на
параше! — сплюнул Сивуч, злясь на себя самого.
— А ты кого любил? — допытывалась Задрыга.
Фартовый глянул на нее исподлобья. Весь напрягся, словно получил «перо» в
печень. И скрутившись в большую, лохматую фигу, ответил:
— Посеял память про нее. И взяв себя в руки, пропел тихо:
…все, что было, все что было,
все давным-давно уплыло…
— Не темни, Сивуч! Зачем же тогда у тебя и сегодня сердце болит? Значит,
помнишь. Выходит, не все в ней плохо было? — подметила Капка.
— Ишь, дошлая фря! Хочешь чтоб я раскололся? Мала покуда! Вот погоди, на будущее
лето можно с тобой про это ботать. А нынче — не дергай за душу! Не то осерчаю! —
отодвинулся от девчонки подальше. Но та репейником пристала:
— Меня к тому времени кенты загребут в малину. Так и не сумеешь рассказать. Не
надо всегда опаздывать, — прижалась головой к плечу и согрела его душу. Сивуч
обнял Капку. Заговорил тихо, только для нее:
— Я не ждал для себя этой беды. Думал, обойдет, пощадит фортуна. Но… Не тут-то
было… Короче, похиляли мы тряхнуть одного барыгу. Должок за ним водился давний.
Слупить хотели и бухнуть со шмарами. Как оно всегда водилось. Ну, возникли мы.
Стали трехать с хорьком. И тут я услышал музыку. Она сверху лилась на меня. Как
дождик весенний. Теплый и очищающий. Я своим ушам не поверил. Ведь все годы не
признавал никакой музыки кроме фени. Не верил, что люди любить ее могут. Считал,
темнуху лепят на уши. А тут, стою, как усравшись, развесил лопухи и чуть слюни
не пустил, до того проняло меня, до самой печенки. И спрашиваю барыгу, откуда в
его хазе козлиной эта музыка взялась? Он лопочет, мол, это наверху дочка играет.
На пианино. Я не поверил. Ну как сумеет вонючка родить такую дочь, какая так
играет? И похилял наверх. Там я ее увидел. Она была как музыка, что шла из-под
ее пальцев. Втюрился я в нее по самые лопухи. И уж какой там навар, сам готов
был у ног ковриком лечь, только бы не прогнала. Перекинулись с ней парой фраз.
Понял, чиста она, как дитя. Ну куда я ей? На что нужен? Опустился вниз. Глядь,
кенты барыгу уже за душу взяли. Я их в сторону. Барыге еще отсрочку дал. И своих
выволок. Те зенкам не верят, что это со мной. А я и сам не знаю, иду, как
шибанутый. И все тянет меня к ней. Хоть взглянуть, словом перекинуться. Но как?
И через неделю, оторвался от кентов, возник к барыге. Тот нас через месяц ждал.
И, увидев меня, чуть штаны не измочил. Ты, что, родимый?! — говорит мне. — Иль
запамятовал, как условились? — спрашивает, дрожа всей задницей. Я его в сторону
отодвинул, мол, ни к тебе, козлу, возник, не мешайся промеж ног, — и прямиком
наверх попер. К дочери барыги. Она в это время в комнате прибирала. Увидела
меня, побелела вся, задрожала и спрашивает:
— Зачем пожаловали к нам? Отец вас через месяц ожидал.
— Ну, а я ей в ответ, дескать ни к нему топчу тропинку. К ней меня сердце
привело. Да так и ляпнул, мол, по кайфу ты мне пришлась. Занозой в душе
застряла. Дышать без тебя не могу. Она смотрит дрожа и отвечает:
— Вы, не беспокойтесь, отец отдаст требуемое. А меня оставьте в покое. Я к этим
делам вашим отношения не имею. На свои заработанные живу. Учусь и работаю. Так
что претензий ко мне быть не может.
— Я чуть не обалдел. Попробовал убедить, что пришел к ней с чистой душой, мол,
впервые влюбился по-настоящему. И деньги, и ее отец не имеют к тому никакого
отношения. Она слушать не хочет. Одно твердит:
— Оставьте все свои притязания ко мне. Я ни о чем не хочу знать…
— Обидно стало. Ушел я от нее, как оплеванный. Велел себе забыть… Но, одно дело
приказать, совсем иное выполнить. Мучился я недели две. Бухал, как проклятый. И
вот как-то возвращаюсь с кентами из ресторана, глядь, трое поволокли в
подворотню бабу. Сумку вырвали, на ходу с нее барахло срывают. Очередь
обговаривают. Та вырывается. Но ей пасть кляпом заткнули. Шпана, что с них
взять? Жируют по ночам, свое срывают. Мы в их дела не вмешиваемся. Но вдруг
удалось ей кляп вырвать и заорать:
— Помогите!
— Голос показался знакомым. Подскочил. Кенты со мной. Не поняли, что случилось.
А шпана хохочет:
— Хочешь, уступим первенство! Трахай, пока не очухалась.
Глянул я. А это дочь барыги. Я ее у шпаны отнял. Сумку, барахло забрал у них.
Когда ж пришла в сознание, мне пощечин навешала. Подумала, что я все подстроил,
чтоб заставить ее обратить на себя внимание. Ну уж тут я не сдержался. Назвал ее
дурой и ответил, что силой не беру никого. И впредь, если шпана припутает,
перешагну через голову. Сказал, что впервые выручил девку, но очень пожалел о
том. Пусть бы ею
шпана натешилась вдоволь. Может, после этого умишка поприбавилось. Хотя,
предупредил, от повторения случившегося она не гарантирована. И уж в этот раз
помочь ей будет некому. Сказал я и пошел к кентам без оглядки. А они через
неделю возникли к барыге. Я не возникал. К шмарам умотался. А барыга засаду
кентам устроил. Ментов позвал. Те стремачили когда возникнем. Но дочь моих
предупредила. Не дала попасть в клешни мусоров. Те на халяву проканали двенедели
и смылись. Ну, а кенты барыгу припутали. Во дворе. Ночью. Приволокли на
разборку. И только хотели влупить лярве по самую горлянку, тот барыга глянул на
меня, трехает:
— Помоги, спаси, ради дочери. Век твоего добра не забуду!
— Выкупил я его с разборки. Весь свой навар за гада отдал. Кентов уломал не
мокрить падлу. Ведь мокрушникам его уже хотели кинуть. Чтобы размазали. Короче —
из жмуров его вытащил. Он мне все клешни обслюнявил, зараза. А через педелю,
когда я к нему возник, он трехнул, что отправил дочь па Украину, к бабке, от
греха подальше. Адрес дать отказался. Ответил, что у нее есть хахаль, за какого
она выйдет замуж. И в этом он не стемнил. Через год я ее встретил. Она уже на
сносях была. Случайно столкнулись на улице. Она сама меня остановила. Заговорила
ласково. Все прощения просила за прошлое. И за себя, и за папаню, какой по
бухому делу под машину попал. Так и ушел на тот свет моим должником. А дочери
его не повезло. В мужья ей ханыга попался. Бил, обижал на каждом шагу. Она от
него через год ушла совсем. Это я узнал, когда в гости возник. Ирка обрадовалась
мне… Жизнь заставила поумнеть. Мы с нею в тот вечер допоздна проворковали. Да и
то, правду сказать надо, тяжело пришлось бабе. Я помогать ей стал. Незаметно для
кентов. Целых пять лет так тянулось. Я ее своей кралей считал. Женой, любовью,
счастьем. Но фортуна не пощадила. Засыпались мы в деле. Па банке. И повезли меня
в Магадан. Срок дали большой. Да и то хорошо, что не под вышку отдали. Написал я
письмо своей мамзели, мол влип в ходку. Если любишь — жди. Она ничего не
ответила. А через год замуж вышла. Когда меня освободили, приехал к ней. Мол,
вот вышел! Живой, на своих ногах. А там уж трое детей. Один другого меньше.
Мужик из-за стола навстречу, мне встал. Меж нами — Ирка — растолстевшая,
неопрятная. В засаленном халате. Волосы растрепаны. Глянул я на нее и как-то
грустно стало. Она — не любила. А я-то кого любил? Свою мечту? Но она облезла и
состарилась. Я успокоил мужика, мол, не дергайся, претензий к твоей крале не
имею. Живите и сопите. Сам в малину слинял. Иногда мельком видел ее. Она
понемногу выпивать стала. Работала оператором на водоканале. И, как слышал,
путалась с мужиками напропалую. Потом болезнь зацепила. Мужик от нее сбежал. А
дети, едва окрепнув, тоже спешили уехать из дома скорее. Вот так и старший ее
сын. Он любил меня, отцом звал. Сыскал через шпану. Просил вернуться к ним. Но
поздно. Остыл я к ней. Вышло-то смешно. Я любил не будучи любимым. А кому нужна
судьба такая? Баба приняла меня в лихую минуту, чтоб легче сына растить. Да и
самой не мучиться. А я-то намечтал! О любви. Простой расчет не увидел. Она
боялась, что спрошу с нее, почему в ходку грев не присылала. А мне не то тепло
требовалось. Какого у нее ко мне и в помине не было. Когда так случилось, уехал
я с кентами на гастроли. Оттуда опять в зону загремел. И уже всерьез. На трассу
попал. Когда выкарабкался, отлежался на море, поверил, что жив, решил
поинтересоваться, как же она канает? Жива ли? — усмехнулся Сивуч и закурил.
— Откинулась? — не выдержала Задрыга затянувшейся паузы.
— И с этим ей не пофартило. Старший сын из дома прогнал, когда мать вещи
пропивать стала. Попадала она в психушку и вытрезвитель. В больнице лечилась от
запоев. Скатилась баба вконец. Ночевала в подвалах. Ею даже шпана брезговать
стала. Дети к себе не пускали. Бездомные псы пугались. Вот так по пьянке сбила
ее лошадь. Не насмерть. Но переломов тьму получила. Два года лежала в больнице.
В бинтах и гипсе. Без движения. Никто к ней не пришел. А выходили— монашки. Из
милосердия. Не будь их — давно на тот свет загремела б. Но не только тело
вылечили. А и душу. Видно, много поняла, едва оклемалась — ушла в монастырь.
Насовсем. Теперь уж она, как сама сказала, умерла для мирской жизни. В душе —
один Бог. И больше ни для кого нет там места. Всех она простила. Себя последней
грешницей считает. Я видел ее, говорил. Она убеждена, что всякий человек должен
только о Боге и о спасении души думать и молить о том Господа. Забыть о земном,
плотском. Я так не смогу. А она, хоть и баба, сильнее меня оказалась. Взяла себя
в руки. Знает, для кого живет. Мне такое не дано. А она и за меня молится. Так
призналась. Чтоб простил Господь меня, когда пройду через ворота смерти. Может,
на том свете мы с нею встретимся и будем счастливы. На земле такое не
получилось. Кто в том виноват? Фортуна? Нет! Мы сами. Но все ж, трехну я и
нынче… ночами во сне вижу себя молодым. С нею… Когда мы были счастливы. Лишь те
годы стыздил я у судьбы. Остальные — канал, как последняя падла! Знаю! И у нее
не прошло без следа! Иначе не молилась бы за меня, не жалела. Но
больше ничего у нас не осталось. Пепел от памяти и сны… Нельзя любить фартовому.
Но кто ж нас спрашивает? Вот только одно остается от Любовей — одиночество в
старости, да горечь в памяти. Если сможете, бегите от нее. Берегитесь ее!
Капка вся в комок сжалась. Смешные эти взрослые. Все для них сложно. Вот и
Сивуч… Не может забыть… Интересно, а ее отец? Он мать помнит? Почему не говорит
о ней. Даже злится, когда Задрыга спрашивает. Видно, тоже память болит.
Девчонка знает, скоро за нею приедут, чтобы навсегда забрать в малину. Так отец
обещал. А он свое слово держит.
Задрыгу теперь учил Сивуч разбираться в татуировках, наколках. Знал, в будущем
ей пригодятся эти знания. Требовал быстро и безошибочно различать запахи духов.
Понимал, обучение Капки надо ускорить.
Теперь сам Сивуч не решался взять ее за ухо, как раньше, или отвесить затрещину
за оплошку. Задрыга тут же вспыхивала, в глазах загорались злые огни. И только
возраст и положение Сивуча сдерживали Капитолину. Она знала, что фартовый не
успел ей передать главное. То, чему учат один на один, умению уходить от беды в
самый критический момент.
Капитолина запоминала навсегда. Ведь подсказать потом будет некому. Сивуч
объяснял ей, в каких случаях чем надо воспользоваться.
— Помни накрепко, никогда в деле не расслабляйся. И не жалей никого. На том
кенты не раз горели. Помни, в жизни может случиться так, что фартовать тебе
придется в одиночку. Потому запоминай все, не отмахивайся. И Задрыга запоминала,
как и чем можно уложить наповал целую малину, как за пару дней встать на ноги
после ножевого ранения. Как можно взять «на понял» лягавых, прикинувшись
несчастной сиротой, и пройти куда угодно.
Капка познала много секретов. Научилась легко раскидывать ребят, становившихся
на время нападающими ментами пли частью толпы. Задрыга укладывала их быстро и
красиво. Словно всю жизнь занималась этим. И со дня на день ждала малину, зная,
что теперь никто не назовет ее обузой.
Сивуч, наблюдая за Капкой, не предостерегал ее от увлечений и любви. Он давно
подметил, не способна Задрыга на сильное чувство. Больше всего любила только
себя. Ни с кем другим не считалась. Самое большее, на что была годна, так только
на мимолетную жалость. На сочувствие и сострадание не откликалось Капкино
сердце. Недаром, услышав о неудачной любви Сивуча, процедила презрительно:
— Если б я была на твоем месте — с кровью свое б вернула. А нет — дышать не
оставила. Она — других не файней. Глупо все у тебя было. Уж лучше б не было
ничего, чем такое, что не любовью, дурью назовешь. Жалеть не о чем. Позволить
себя надуть вот так?
— Не все кредитками меряется, Задрыга! Было большее. И коль не вернуть, при чем
башли? Ими память не заклеешь. А и тебе не понять. Но не дергайся, не вылупайся,
может, и тебя фортуна достанет. Тогда глянем, что затрехаешь, — не выдержал
Гильза, едва терпевший подрастающую Задрыгу. Тогда он впервые молча пожелал ей
попухнуть на любви.
Капка не обратила внимания на новых ребят, привезенных к Сивучу, хотя среди них
были ее сверстники и те, кто постарше. Задрыга смотрела на них с откровенной
насмешкой. Ведь всем им предстояло прожить у Сивуча годы, а она здесь —
последние дни.
Задрыга решила на завтра сходить в город, прибарахлиться. Чтобы появиться перед
своими в полном блеске. Сивуча предупредила заранее. Тот согласился. И
Капитолина легла спать пораньше.
Уснула быстро, словно в пуховую перину провалилась в предвкушении завтрашнего
дня. Во сне увидала свою малину, раздухарившихся фартовых. Опять удачу обмывают.
Вон сколько пустых бутылок под столом валяется. Шмары вьются вокруг законников
яркими ночными бабочками, цветут улыбки на пьяных лицах. Все пьют за Капку.
Значит, ее приезд, ее возвращение обмывают, в дело они пойдут уже с нею.
Но кто это назвал ее стервой? Кто посмел пригрозить, что натянет Задрыге глаз на
жопу? Кто обещает заткнуть кентелем в сраку? За что? — напряглась Капитолина,
ища глазами духаря.
— Нет! Это шмаре адресованы комплименты. Капке не насмелятся такое насовать, —
внезапно почувствовала холод, пробежавший по телу, и только хотела натянуть на
себя одеяло, тут же была выброшена из постели.
— А ну, сука! Вытряхивайся в гостиную, пропадлина гнилая! Гнида вонючая!
Отваливай к своим паскудам! — врезался кулак в висок и выбил Задрыгу из темной
спальни в освещенную гостиную.
Задрыга не понимала, сон это или явь? Ущипнула себя. Почувствовала боль.
Выходит, разбудили. Не померещилось. Глаза Капки налились кровью.
Пятеро мужиков выколачивали из комнат всех обитателей дома. Связанный Сивуч
лежал на диване. Из разбитого носа текла кровь.
— Что им надо из-под нас? — спросила глухо.
— Заткнись! — подскочил к ней кряжистый, потный мужик, намерившись врезать в
ухо.
Капка взъярилась. И взяла того «на кентель». Быстро налетев на него, головой в
пах саданула. Да так, что у мужика глаза под лоб закатились.
— А, курва! — услышала за спиной. Напряглась, как учил Сивуч. И рослый молодой
мужик взвыл не своим голосом. Ухватившись за пах обеими руками, катается по
полу, матерясь.
Тонкое, сверкающее лезвие ножа впилось в левую руку чуть выше локтя. Капка
отскочила к столу, схватила тяжеленный графин. Попала. Рассекла голову. Мало
показалось. Налетела ураганом. Ребром ладони ударила по горлу один раз. Человек
широко открыл глаза и рот. Но воздух застрял. Перекрыла Задрыга кислород. Мужик
хрипел громко, страшно. Капка наступила ногой на горло, тот затих.
— Ложись, Задрыга! — закричали сверху. И услышала свист пули, потом возню,
кто-то упал с лестницы второго этажа, грузно ударился об пол гостиной. Дернулся
и затих. Последнего — пятого, нагнали во дворе, Капка с Мишкой. Сбили с ног и
заволокли в дом за ноги, матеря и пиная.
— Откуда сорвались? Зачем возникли? — зависла Задрыга пяткой над пахом мужика,
грозя раздавить все всмятку.
— С паханом ботатъ стану. Ты, сучье семя, сгинь! — ответил глухо.
Капка не сдержалась. И резко опустила ногу…
Мишка развязал Сивуча. Тот смущенно крутил головой.
— С малины они! Все здешние, брянские. Уже в который раз хазу шмонают. Кто-то
банк тряхнул. Видно, гастролеры. Я этим по молодости развлекался. А они ко мне
возникли. Доперли, ровно я и теперь в дела хожу, вас натаскиваю. Их менты
гребут, а они на мне отрываются. Всех вас со мною имеете замокрить хотели. Чтоб
не мешали им дышать. Да сорвалось. Теперь других жди. Не задержат с визитом. За
кентов начнут мстить. Раньше было то же. Обшмонают, насуют и смылись. Нынче им
не обломилось. Жмуров получат. Теперь держись, — вздохнул старый фартовый.
— «Зелень» поставим стремачить, — предложила Капка.
— Сами наехали, вот и схлопотали. Другие нарисуются, гоже насуем, — грозил
Гильза.
— Ништяк! Всем вам тыквы отвернем, — услышали все трое.
Оклемавшийся налетчик стоял неподалеку, отплевывался кровью, буравил Задрыгу
злыми взглядами.
— Схлопотал, падла! Мало тебе? Еще вкину! — вскочил Гильза и подошел вплотную.
— Духаришься, сявка? Погоди, ты еще на разборке взвоешь! Уделаю, как маму
родную…
Гильза сунул кулаком в печень. Налетчик рухнул на пол.
— Не стоило его метелить. Он уж свое отпел. Долго не протянет, — отмахнулся
Сивуч и тихо продолжил:
— Не они страшны. Менты могут нарисоваться. Коли банк обчистили, лягавые нас не
обойдут. Линять надо. Чем шустрей, тем лучше.
— Куда линять? За мной приедут. Где найдут?
— Надыбают. Не впервой. Допрут враз, где мы канаем, — успокоил Сивуч Капку.
Внезапно скрипнув, отворилась дверь. Все обитатели дома, даже налетчики,
умолкли.
— А что как лягавые? — вырвалось невольное у кого-то.
— Попухли кенты? Чего же хазу не стремачишь, Сивуч? Иль вконец мозги посеял? —
шагнул в дом пахан всех фартовых Брянска по кличке Дрезина.
Он уверенно прошел в гостиную.
— Что за шухер? — спросил оглядевшись.
— За банк ко мне возникли. Разборку править вздумали. Вот и схлопотали падлы, —
ответил Сивуч.
— Банк? А ты при чем? Уже надыбали, кто тряхнул. А потом, какой шпане
дозволялось тыздить фартового? — глянул на двоих налетчиков, пришедших в себя
после стычки с Капкой.
— Махаться с Сивучем кто велел? — оглядел Дрезина шпану. Те молча опустили
головы, не смея ответить пахану. Боялись…
— Передайте своему Крысе, чтоб сегодня хилял на разборку ко мне. С вами уже
новый кент потрехает, напомнит фартовый закон, — багровело лицо Дрезины.
— А ну! Отваливайте! Вместе со жмурами! Вон из хазы! И если узнаю, что хоть один
пидер сюда возник, всю малину разнесу! Усекли, паскуды?! — грохнул басом.
Шпана молча уходила, унося с собой жмуров.
— Выручил ты меня, — сознался Сивуч тихо.
— Пацан твой — посланник, вовремя успел. Шустрый. Кто б другой кентов бы
прислал, чтоб проучили шпану. Тебя — самому захотелось вытащить.
— Да уж не первый раз они меня трясли. Раньше — обшмонают и сматываются. Нынче
всех оттрамбовали. Даже «зелень». Новых пацанов и то отметелили. Одному мне
отбиться трудно. Ходули подводят. Так их Капка-Задрыга наша оттыздила
по-фартовому.
— А чья она? — оглядел Задрыгу Дрезина с любопытством.
— Черная сова. Там ее отец паханит. Файный кент! Фартует с малолетства. Семь
ходок. Шесть побегов. Всю жизнь в розыске, — рассказывал Сивуч.
— А эту кралю каким ветром ему надуло? Иль баруха порадовала?
— То без шороха. Никто не допер. А в малине о том вслух не ботают, — ответил
Сивуч.
— Натаскал ее? — спросил Дрезина.
— Шикарная кентуха! В деле — кремень. Махается за троих законников. «Перо» и
«пушка» в клешни ей врастают. Будто с ними родилась. Во всем секет. Сделал я
Черной сове подарок. Она и пахана за пояс заткнет, — хвалился Сивуч.
— А рука чего перевязана у нее?
— Пером шпана достала, — осмелела Задрыга. И спросила:
— Лягавые могут к нам возникнуть?
— Нет. Дышите спокойно. Мусорам не до вас. Они доперли, кто банк колонул. По
всему городу шмонают. Вот потому никого из хазы не отпускай покуда. Пусть
лягавые остынут. Тогда можно, — предупредил Дрезина.
Задрыга пропустила предупреждение мимо ушей.
Она накрыла на стол. Вертясь рядом, поняла, что Сивуч и Дрезина — старые кенты.
Вместе фартовали, тянули ходки. Даже бежали вдвоем с Печоры. Потом их много лет
бесполезно разыскивали милиция и угрозыск.
Капка видела, как охраняют Дрезину фартовые, как уважают и берегут.
Они пришли к дому Сивуча вместе с паханом и сразу стали вокруг дома зоркими
стражами. Каждый шелест и шорох на слуху. А ведь не просил о том пахан. Сами
вызвались. На глаза никто не лезет, не прется в дом. Знают, не ровня они пахану,
вот и не суются.
Ждут кенты молча. Надо будет — всю ночь, без звука простоят на стреме, не
доверив пахана никому.
Дрезина даже не смотрел в окно, не оглядывался по сторонам, держался уверенно,
спокойно. И Капка завидовала его хладнокровию, умению держать в руках всех
законников города. Для себя она решила держаться вот так же, как Дрезина. Не
дрогнув ни одним мускулом и нервом.
До глубокой ночи просидели за столом двое старых кентов. Им было что вспомнить.
В прошлом они не раз выручали друг друга. Такое не забылось и сегодня.
Молча прислушивалась к их разговору Задрыга.
Дрезина ушел от Сивуча под утро. Едва Капка убрала следы ночных визитов в доме,
тут же собралась в город.
— Ты куда намылилась, мамзель? — нагнал ее Мишка за порогом дома. Задрыга
оттолкнула его грубо и ответила:
— Флиртовать похиляла. В городе фраеров полно. А то тут, среди вас — хорьков
сопливых — задохнуться недолго.
— Ну, шмаляй, Задрыга! — пожелал ей Гильза шепотом какой-то дряни и, вернувшись
в дом, не разбудил Сивуча, не предупредил об уходе Капки.
Сивуч спал безмятежно. Да и чего ему было дергаться, если сам Дрезина соизволил
навестить его. Второго такого случая никто и не припомнил бы. А раз пахан
побывал, свою печать на Сивуче поставил, знак всем малинам — не трогать и даже
не дышать в сторону Сивуча. Но Сивуча…
Он проснулся, когда солнце покатилось на закат. Позвал Задрыгу, чтоб ужин
сообразила. Но та не вышла, не появилась в дверях. И Сивуч, решив, что не
услышала, занята на кухне или во дворе, вышел из комнаты, крикнул во все горло:
— Капка! Задрыга! Твою мать! Где ты вошкаешься, свинячий выблевок! А ну! Хиляй
сюда живо!
Но Задрыга не откликнулась, не пришла. Вместо нее в гостиную вбежал Гильза и
сказал, что Задрыга как уперлась утром в город, так до сих пор и не вернулась.
— Ты что ж не застопорил ее? — испугался фартовый долгому отсутствию девчонки.
— Пытался, она так шматканула, что я зубами в стенку влип. Да еще трехнула —
флиртовать похиляла, с нами ей не по кайфу. Хорьками обложила. Я и не стал
будить. Пусть хиляет. Наломают ей рога фраера — поостынет, — криво усмехнулся
Гильза.
— Так и вякнула? — побагровел Сивуч.
— Век свободы не видать, если стемнил, — поклялся Мишка.
— Ну, курва вонючая! Двухстволка мокрожопая! Прихиляешь, ходули вырву! —
пригрозил Сивуч и решил не искать Задрыгу. Во всяком случае до утра не
вспоминать о ней. Он плотно поел, занялся с пацанами. До полуночи и впрямь не
вспоминал о Капке.
Пока вокруг него крутились мальчишки, беспокойство не одолевало. Едва ребята
пошли спать, страх подступил к горлу.
Сивуч знал, чем ответит он за девчонку перед фартовыми из Черной совы. Они без
лишних слов вытащут его на разборку и отдадут мокрушникам, чтоб ожмурили.
Им не докажешь, что Капка — своевольна и капризна, что хуже ее он не видел
пацанов. Что у нее собачий норов и паскудные привычки, что отняла у него кучу
нервов и здоровья. Что он отвечал за ее знания, но похоть сдержать не в его
возможностях.
Пахан малины и все фартовые ответят на это коротко — взялся, брал башли, значит,
в ответе за все. Не сберег, платись своим кентелем и не дергайся… И любая
разборка их поддержит.
Сивуч достал бутылку. Выпил. Думал расслабиться. Но не получилось.
— Да что это я? Ничего не случится с лярвой! Небось, закадрила какого-нибудь
фраера и лижется теперь где-то в лесу. Фартовые и шпана ее не тронут. Дрезины
зассут. А с фраерами — сама управится. Да и кто к ней намылится? Страшна, как
сто чертей! Морда суслячья. Жевалки из пасти выпирают. Ни бровей, ни ресниц…
Лопухи, что сковородки! Шнобель — колени почешет не сгибаясь. Такую перед банком
поставь — охрана со страху сама ожмурится. Малине и пальцем для этого не шевели.
Только сумей башли выгрести. И унести. Если Задрыгу средь города поставить, все
пацаны поверят, что баба-яга существует на самом деле. Ее за башли показывать
можно сорванцам, чтоб враз тихонями стали. И сколько на этом огрести можно!
Особо, если по городам возить. В наморднике! Только вот кто своему кровному худа
пожелает? Задрыга не только с виду безобразна. Ежели и пасть отворит? Сколько с
ней промудохался… Светскому обучал. Воспитывал в мамзели. Да разве дано барбоске
летать голубем иль порхать бабочкой? Ни в жизни! Чуть что не по кайфу — такой
хай откроет, малине не устоять на катушках. Всех перебрешет паскуда! Не-ет!
Фраера не приклеятся к этой заразе. Свои яйцы пощадят. Оно хоть и ночь, а харю
видно. К тому ж, бабьего в ней маловато. Ни спереди, ни сзади. Такие — никому не
по кайфу, — успокаивает себя Сивуч.
Но сердце не уговорить.
Тихо за окном, ни звука во дворе, не слышно посапывания из спальни Задрыги,
— А вдруг лягавые попутали? — пришло в голову внезапное.
— Не может быть. Она — пацанка. Таких не заметают. С виду хуже обезьяны. Возраст
небольшой. Кто подумает о ней хреново? Пожалеют безобразие в юбке! Да и с чего к
ней мусора прикипятся? Она башли взяла. Выходит, тыздить ничего не собиралась.
Да и музей помнит. За него вкинули и ей. В одиночку фартовать не решится. Мала.
Так, поглазеет. И возникнет. Засиделась она с нами, одичала. А вырвалась и
ворвалась, — думает Сивуч. И ждет…
Когда совсем рассвело, фартовый не выдержал. И, разбудив рыжего парнишку, послал
к фартовым, чтобы пронюхали, надыбали Задрыгу.
— Не враз беги. Дождись. Узнай, что с нею? — просил фартовый, отправляя пацана.
Тот, вырвавшись из дома от постоянных занятий, помчался в город бегом, как на
крыльях, мечтая, урвав свободную минуту, дорваться до мороженого и нажраться
вдоволь всяких сладостей.
Сивуч смотрел вслед мчавшемуся в город мальчишке и был уверен, что к обеду тот
вернется вместе с Задрыгой.
— Уж фартовые весь Брянск на уши поставят, а вернут домой пропадлину. Уж я ей
тут вломлю поперек хребта, — думал он.
Но ни мальчишка, ни Капка к обеду не вернулись. И фартовый встревожился не на
шутку.
К вечеру Сивуч уже не мог находиться в доме. Вышел во двор. Сел на табуретку.
Неотрывно смотрел на дорогу, ведущую из города. Но на ней — никого. Никто не
показывался, не торопился к Сивучу. И фартовый вздумал ночью пойти в город.
Он уже начал собираться, когда под окном услышал быстрые шаги посланца. Он
вихрем влетел в дом. Один… У Сивуча внутри похолодело:
— Что с нею? Где Задрыга?!
— В мусориловке. Замели ее лягавые. Еще вчера. Кенты только сегодня пронюхали.
Велели тебе не соваться из хазы. Сами попытаются вырвать Капку. Пока не
пронюхали, за что сгребли. Она в предвариловке канает. Алкаши видели. Точно
описали. Там рядом вытрезвитель. Трехали, что тыздили Задрыгу мусора целой
кодлой. А она их поливала по фене так, что все ханыги со смеху усирались. Ну, а
менты своего оставили на стреме, чтобы не смылась Капка. Видать, отмочила
лафово, иль доперли, кто она, коль закрытую в камере стремачат и ночью.
Сивуч рухнул на стул. Этого он боялся больше всего на свете.
— Нет, не велели тебе возникать, если не хочешь все испортить. Так кенты велели
передать, — напомнил пацан, заметивший, как Сивуч начал одеваться.
Фартовый снял рубашку. Швырнул ее на стул и, заложив руки за спину, заходил по
комнате. Иногда он смотрел на часы, выходил во двор. Но к трем часам ночи
свалила его усталость. Он прилег в гостиной на диван и уснул не раздеваясь.
Проснулся от того, что кто-то настырно трепал его за плечо, вырывал из сна
грубо.
, Сивуч выругался спросонок и, услышав собственный, мат, проснулся. Вспомнил, от
чего он валяется на диване.
— Ну и здоров кемарить! — услышал за спиной удивленное. Он повернулся и увидел
фартовых.
— А Капка? Где Задрыга?
— Гони магарыч!
— Навар на бочку!
— Мечи положняк! — посыпалось со всех сторон.
Фартовый протер глаза и ответил гулко:
— Вначале — Задрыгу покажите. Потом про навар потрехаем.
— Ишь, шустряга! Колись на башли! Твою кентуху и за червонец никому не загонишь!
Когда получишь ее — про должок память посеешь. А и куда ее денешь? Обратно в
ментовку не воротишь. Лягавые, поди, до сих пор усравшись канают. Так и не
доперли, что стряслось? — хохотали фартовые.
— Да что она отмочила? — не понимал Сивуч.
— Валяй сюда, Задрыга! — крикнул один из воров, и Сивуч, не веря глазам, увидел
Капку, словно ни в чем не бывало выплыла она из спальни лебедушкой, в куцем
платье, рыжих туфлях, крупные красные бусы на шее. Будто и не покидала дом.
Сивуч кинулся к ней. Капка зажмурилась, ожидая крепкую затрещину. Но вместо
этого обнял ее фартовый накрепко, словно родную дочь к себе прижал:
— Падла облезлая, сучка гнилая, гнида недобитая, параша ржавая! Ну где тебя,
паскудную носило? Чтоб ты через пасть до конца жизни просиралась! — пожелал
беззлобно.
Капка поняла, колотить не будет. Весь запал выпалил в брань. И теперь ей
опасаться нечего. Она уверенно подошла к столу.
— Ну, ботай как влипла? Да не лепи лажу! — потребовал Сивуч.
Фартовые сели вокруг послушать подробности случившегося еще раз.
— А ничего особого! Я хиляла по улице, как любая фря. Глазела на барахло в
витринах. Возле одной — застопорилась случайно.
— Да! Возле рыжухи! Витрину в ювелирке приметила! — дополнил кто-то из фартовых.
— А ты не суй свой шнобель в мою сраку! — обрубила его Задрыга и, словно ни в
чем не бывало, продолжила:
— Ну, возникла я там. Глядь — кое-что стоящее имеется. По кайфу пришлось. Хотела
за башлями вернуться, но тут перерыв наметился. Бабы-продавцы гоношиться начали,
выкидывать из ювелирки толпу. Ну, я не могла позволить, чтоб меня, словно овцу,
выперли оттуда. В это время уборщица одна уже смылась. И халат свой оставила на
стуле. Когда все бросились выгонять толпу, я к этому халату. Натянула и
бочком-бочком за прилавок. На меня и внимания никто не обратил. Все в
раздевалку. Халаты побросали и ходу на обед. Я огляделась понемногу. Вокруг
никого. Я тихо сработала. Набила полную сумку рыжухи. Ждала, когда бабье с
перерыва прихилияет, чтоб незаметно смыться. А тут, минут за десять до них,
вернулась уборщица, что раньше всех на обед сорвалась. И давай она свой халат
дыбать повсюду. Я ей его на прилавок тихо положила. А она — кривая падла,
ботает:
— Хочь я и косая, но точно помню, только что сюда смотрела — халата не было.
Нет, я так не оставлю, будь хоть сам черт, не дозволю своим халатом играть. И
позвала охрану. Те смеялись над бабой. Все осмотрели. А я за коробки надежно
забилась. В жизни не надыбали б, если б не собака. Уборщица ее позвала. Овчарку.
Та меня враз за барахло, за самую что ни на есть жопу — вытащила. Хорошо, что я
успела сумку вытряхнуть в ящик. В самый последний миг. Когда собака уже
ползадницы отгрызла. Так-то и выволокла всю подранную. Меня тут же в лягашку
сдали. Мол, воровка она, обыщите внутри и снаружи. Она, мол, стерва, кольца и
серьги живьем глотала. А у нас потом недостача будет…
В магазине мне вломили не спрашивая, как и зачем я у них оказалась. Скопом
трамбовали, пока лягавые возникли. Те враз дали сапоги понюхать. Вбили в машину
и в лягашку прикатили. Обшмонали снизу доверху. Потом, сами себе не поверив,
цирк устроили. Наголо меня раздели и в душ под брандспойт отправили, чтоб я
выронила все, чего у них не брала. Ну да ничего из меня ценного не взяли, кроме
вони. Загнали в камеру, залив мне в глотку силой стакан слабительного. И каждые
два часа в парашу чуть не с кентелями ныряли. Моим дерьмом в жизни еще так никто
не интересовался, — хохотала Задрыга нервно поеживаясь.
— Хавать не давали. Только пить. Когда из меня одна вода пошла, поняли, что
ничего из меня не выдавить, никаких улик и вещественных доказательств. Взяли
меня на сапоги, чтобы признала попытку к воровству, приготовление, умысел. Но и
это сорвалось. Но я почуяла, что сил мало остается и сыграла в приступ
эпилепсии. Долгий, затяжной… Получилось натурально. Они меня водой обливали,
паром обдавали, нашатырь давали нюхать, уколы пытались сделать. Все без понту.
Уговаривать пытались, били, материли, грозили. Я вошла в роль и, наверное, под
конец это был настоящий приступ. Пена пошла клочьями. Вонючая. Я их всех
избрызгала. Меня не могли удержать пятеро ментов. Когда я заказала себе
эпилепсию — была в кабинете следователя. Как очутилась в душевой — не помню.
Было холодно и пусто. Я — одна. Уборщица мне барахло принесла. Сказала, что
скоро за мной из психушки придет машина. Увезут надолго. Я испугалась, что
перегнула палку. Стала плакать. Она пожалела. Я попросила у нее разрешения
сходить в туалет. Она, конечно, позволила. Только вышла — кенты наготове. В
коридор вошли. Хотели ментовку, как кубышку расколоть. А повезло слинять без
кипежа. Никто не видел и не хватился. Меня на десяток шагов в сторону отвели, в
«тачку» и аля-улю… Слиняла из ментовки. Не будь фартовых — сама бы смылась.
Пешком. На час позже возникла б. Но непременно сорвалась бы…
— Ишь, падла, заливает! Да чтоб тебя с ментовки снять, мы двоих лягавых
оглушили. Дежурили они. Кто ж лягашку без стремачей оставит? Телефоны им
обрезали. И оперчасть закрыли своим ключом. Там два десятка лягавых до утра не
выберутся наружу. Железную дверь не вышибут ни за что, — не выдержал пахан
фартовых и добавил:
— Сам секи, у нас ключи от каждой камеры лягашки имеются. От всех кабинетов.
Даже от ханыжника. Тут же открыли клетку, а Задрыги нет. Кентели кругом пошли.
Думали успели мусора в тюрягу ее сунуть. Одного лягавого припутали в коридоре —
он на душевую указал. Чтоб не помешал Задрыгу вытащить, оглушили его. А тут
смотрим, и она возникла. В охапку и на хазу. Пофартило, что лягавые изнутри не
закрылись на ночь. Обычно они так делают и оставляют ключ в замке. Вот тогда
попробуй возьми ежа за яйца голыми руками! — рассмеялись фартовые.
— Файно Сивуч натаскал Задрыгу полудурку из себя ломать! Алкаши ботали, когда
она об пол колотиться стала, лягавые затрехали, мол, в ювелирном у ней тот
приступ начался. Потому закатилась под прилавок. Даже не почуяла, как овчарка
полжопы откусила. А тут шмары магазинные вломили ей. Ну и понесло девку на
полную катушку. Вовсе мозги поплыли. Мол, будь она нормальной, разве оторвалась
бы на следователе матерно? А уж покатила на него файно! Всего вывернула. У
мусоряги все отсохло от удивления! — хохотала малина, восторгаясь выучкой
Задрыги. А та отвернулась на секунду, будто замерла.
— Капка, ты чего7 Иль опять отчебучить вознамерилась? — смеялся Сивуч.
Задрыга повернулась к кентам. Фартовые, глянув на нее, онемели от ужаса. Волосы
на головах зашевелились.
Лицо Капки перекошено. Глаза закатились так, что одни белки видны были. Голова
тряслась. Рот безобразно открыт, перекошен, посинелый язык вываливается, словно
нет ему места во рту. Задрыгу будто жестокие судороги одолели. Плечи, спину,
ноги скручивало в спираль.
Из носа, изо рта текло вонючее, липкое. Задрыга пошла на кентов буром, крича
дико:
— Чего возникли, падлы? Канать негде? Метитесь вон, козлы, лидеры плешивые! Чтоб
вас менты в лягашке в параше приморили б! Чего яйцы сушите? Иль слабо в дела
хилять? Навар со старого хорька сорвать решили? Отваливайте шустро, паскудные
мудилы! Чтоб вам шмары все поотрывали!
— Во дает Задрыга!
— Кой хрен! Крыша у ней поехала!
— Точно, мозги поплавились!
— …Вашу мать, кобели облезлые! Чего толчетесь, мудозвоны треклятые?! — схватила
стул и только сделала шаг к фартовым, Сивуч за руку перехватил:
— Кончай, Задрыга, комедь ломать! Все в ажуре! Классно ломалась в сдвинутую.
— Вот это да! А я за верняк принял! — удивлялся пахан малины, глядя на
улыбающуюся, нормальную Капку, какая уже успела вернуть по местам глаза, рот,
язык. И голова ее уже не дергалась. Скрюченные руки и ноги выпрямились.
— Нарисуйся в побирушку! — потребовал Сивуч.
Капка мигом нацепила серый старый платок. Села на пол,
поджав под себя ноги, затряслась всем телом, мелко, часто. Глаза косыми стали,
лицо моментально собралось в морщины и стало похоже на печеное яблоко.
— Вот это класс! Увидел бы, не поверил, не признал бы Задрыгу! — восторгались
фартовые.
А та встала, скрипя всеми костями, причитая и охая, хромая на обе ноги, пошла к
кентам, гнусавя занудливо и жалобно:
— Подайте старухе на пропитание. Помогите, люди добрые! — руки кентов невольно в
карманы зашмыгали.
— Тьфу ты, черт, вовсе с панталыку сбила! — рассмеялся один из воров, вспомнив,
что перед ним — Капка.
— Лафово настропалил «зелень»! — хвалили законники фартового, жалея, что их в
свое время такому не обучали. А уж как пригодилось бы, как выручило бы умение
ломать комедию.
•— Без этого нынче совсем невпротык! Вон малина Гнилого, пацана ты для них
сделал, так теперь они на большой
дышат. Наметили себе точку, вначале пацана туда воткнут. Он, змей, возле банка
побирался. Слепым прикинулся. Зенки на макухе держал. И все запомнил хорек.
Когда инкассаторы башли привозят, сколько охранников, когда открывают и во
сколько закрываются… А через два дня колонули кубышку подчистую. Пацан навел.
Его даже лягавые от банка не выпирали. Поверили, что и впрямь слепой. Он же
знал, куда смотреть. И в нужное время зенки из лба выкатывал. Теперь Гнилой с
кентами в Сочи приморился, небось. Башлей, хоть жопой хавай. Нам бы такую лафу!
Ведите пацана! Отшлифую, наловчу, тоже задышите файно, — предложил Сивуч.
— Ты не всякого берешь. Особых примариваешь. Где взять такого? Сами не
присмотрели. А тех, какие у нас шестерят, ты не возьмешь, — завздыхали
законники.
— Что верно, то верняк. Всякого — не приморю. Уж если возьму канаться, только
того, кто вором родился. Их — бестий — судьба метит! — усмехнулся Сивуч. И,
указав на Задрыгу, продолжил усмехнувшись:
— Вот эту мамзелю, едва сюда привели, она давай дом шмонать. Я ее припутал, дал
легонько по сраке. Она такой вой подняла — вся малина переполошилась. Думали —
мокрят Задрыгу. Она же, сучка грязная, из хари своей паскудной козью морду
скорчила и вопит так, что в хазе стекло зазвенело, как сявка зубами — на
разборке. Да так жалобно, что меня пробрало. Я к ней — прощения просить. А
Задрыга вывалила брехуна по самые колени и ботает:
— Манала я тебя, старый пидер! Прихиляет пахан, натянет глаз на жопу, чтоб не
махался. И клешни твои, вонючие, вырвет. Допер, мудак гниложопый, мартышка
немытая?
— Я ее за лопухи и к пахану! Мол, забирай выродка от греха подальше. А Капка
повернулась, свинячью улыбку изобразила. И давай меня старого передразнивать —
гузном трясти, ноги раскорячивать, сморкаться и вонять! Всего вывернула! —
сознался Сивуч под громкий хохот.
— За это я и взял стерву! Готовая кентуха! Все чисто обделывает. И все ей легко
дается….
— Актриса! — похвалил пахан.
Никто из фартовых не мог предположить, как буйствовала, как негодовала, как не
любила эти занятия Задрыга, пока не рассказал ей Сивуч о некоторых случаях из
жизни малин, чьи пацаны умели ломать комедию.
— Тебе, мамзели, куда ни шло… Хоть побирушку иль дурку изобразить. А вот пацану
попробуй старушечьим скрипом ботать. А надо было. В меховом магазине прикипелась
в уборщицах старая алкашка. Ее, сукотку, за блевотин в покупательском зале
пинком из магазина вышвыривали. А тут — товар пришел. В магазине четыре склада.
В какой с них товар сгрузят? Ведь там — соболь, норки, горностай, песцы,
кунички! Аж дух прохватывало! Та алкашка все за бутылку ботала. Тут же —
ужралась до визгу и попала в горячке ночью в больницу. Не вытащить ее оттуда.
Вот тут-то и сработал пацан. Обрядился под старуху. Его и запихали в складе ажур
навести. Он дурака не валял. Заодно все высмотрел. На пластилин снял отпечаток
складских ключей. И чтоб ты думала? Все, как по маслу прошло. Без шухера!
— И никто его не рассмотрел?
— Кому был нужен? Он голос той алкашки точь-в-точь скопировал. Бабка с ума б
спятила, услышь свое повторение. Когда мех увели со склада, Лягавые и продавцы
мозги посеяли от удивления, как это воры склад открыли, не ломая замка? И все ту
ханыгу винили, мол, видно, она ключи не раз теряла по пьянке, а воры и уследили,
воспользовались.
— Ну голос подделать не сложно. Это много кто умеет, — отмахнулась Задрыга.
— Много умеют? Он своим умением громадные башли огрести помог. А дарма уметь —
без понту. Секи про то. Всякая наука должна давать навар, — щелкнул ее по лбу
Сивуч.
Задрыга умела сыграть в дебилку. Но не любила, когда на эти занятия приходили
пацаны. Им нравилось смотреть, как Капитолина преображается в полнейшую
кретинку. Та требовала, чтобы пацаны не мешали и ушли. Но Сивуч отмахивался и
говорил — пусть учатся, от них помехи нет.
Мальчишки лишь поначалу молча наблюдали за Задрыгой.
Та, поковырявшись в носу, тащила палец в рот и обсасывала его с причмокиванием,
повизгиванием, что конфету. Почесываясь, ловила кого-то в голове, раздирая
волосы всей пятерней. По-свинячьи чесала бока и спину об углы. Все это не
вызывало эмоций у ребят. Смеяться начинали, когда, задрав ногу, Капка начинала
обкусывать ногти с пальцев ног, потом, повалявшись с боку на бок, лезла пальцем
в задницу. Чесала, ковырялась там, похрюкивая от наслаждения, закатывала глаза,
высовывала язык от восторга. Потом тянула этот палец к носу. Долго его
рассматривала, обнюхивала, лизала, даже не морщась.
Мальчишки хохотали до слез. К концу занятий все они всерьез верили, что Задрыга
чокнутая.
Та, вдобавок ко всему, ловила себя за что-то на спине, злилась и хохотала совсем
как дура. То начинала плясать.
словно в горячке, задирая ноги выше головы, то скручиваясь в спираль, то
выгибала ноги в колесо, дергалась, плевалась, несла какую-то чушь. Брызгала
слюной, строила дурацкие рожи пустоте.
— Кончай, Капка! Хватит трандой зелень дразнить! — обрывал Сивуч девчонку и
прогонял пацанов.
Потом они лазили по деревьям, лестницам и шпагатам. Учились удерживать
равновесие на тонкой жердочке, быстро и бесшумно спускались с крыши по тонкой
веревке. По едва заметным выступам поднимались по стене дома опять на крышу и
тем же путем опускались обратно во двор.
Сивуч учил их не бояться высоты, держаться на ней легко и свободно. Приучал
часами лежать в земле. Научил нырять на большую глубину и проплывать, не
показываясь на поверхности, значительные расстояния.
— Все это сегодня для будущих побегов! Из тюряг и ходок, — объяснял зелени. И
та, понимая, сколь серьезно их будущее — не роптала.
Они умели переносить любую жару и холод. Проскакивали сквозь огонь костра, не
опалив ничего и не обжегшись. Они умели отличить на слух все звуки и
ориентировались ночью, как днем, даже в лесу.
Сивуч натаскивал их на все случаи нелегкой фартовой жизни. Он учил их драться
свирепо и коротко, метать ножи без промаха.
В глухом подвале, похожем на бункер, учил стрелять. Пацаны с завязанными глазами
умели собрать и разобрать любое оружие, прекрасно стреляли и метали на слух
ножи. Они знали морзянку, умели шифровать и расшифровывать письма. Сивуч учил их
бегать быстро и легко, как тень, перемахивать в прыжок через высокий забор.
Показывал, как надо бесшумно, быстро и без порезов выдавить любое стекло,
собраться в дорогу за минуту, переодеться в мгновение.
Фартовый заставлял «зелень» запоминать, как можно быстро поменять внешность с
помощью нехитрых приспособлений. Учил, как сделать любую печать, подделать и
выправить документы.
За годы жизни у фартового ребята постигли столько, что без помощи Сивуча не
познали бы за три жизни. Он давал им столько, сколько почерпнул от жизни сам…
Все фартовые считали Сивуча кубышкой секретов. И нередко приходили к нему за
советом.
Сивуч помогал им всегда Но сейчас расслабились законники. В доме фартового им
хорошо.
Сивуч тоже расчувствовался. Рассказал ворам, как при
шли к нему представители гороно, пронюхавшие, что здесь в доме живут дети и не
ходят в школу.
— Задрыге тогда семь зим было. С год как малина ее у меня приморила. Ну, а
пацаны — постарше» Уж и не допру, где моя зелень засветилась. Только возникли с
понтом. Замести хотели. В приют. Мол, ты — Сивуч — старый уголовник, От властей
тебе веры нет. Отдавай детей! Покуда не попортил их вконец, — рассмеялся
фартовый скрипуче.
— Как от них отмазался?
— Да запросто, как два пальца обоссал. Дал знак своим пацанам. Они усекли. Я их
на тот случай уже подготовил. И коли я звал их во двор по имени, а не по кликухе
— что-то смазалось и надо ломать комедь… Первой Задрыга нарисовалась. Она, как
услышала про приют и школу — враз обоссалась. Рожу перекосила, землю грызть
стала. Я ее давай успокаивать, темнить, что в приюте лафово, а она визжит, как
свинья под пером. Ну, тут баба ихняя на помощь мне пришла. Хотела Задрыгу по
кентелю погладить. Капка как хватила ее за руку, хуже собаки. Та аж через голову
перевернулась, взвыла, и ходу от Задрыги. Та ногами, руками бьется. Истерику
ломает. А тут пацаны вылезли. Все в гавне измазались. Сели на землю и Васька
запел нашу «Кто сказал, что Федя лизожопый?» А Гильза — про Ваньку-холуя. И чтоб
понятней было, штаны с себя сорвал и хреном играет. А он у него — по колено, как
у пахана. Крутит им и заливается на весь белый свет, Зенки так по углам
разогнал, ни дать ни взять — малахольный.
— Васек среди двора раком встал. И ну пердеть. Да так- громко, заливисто. С час
вонял, покуда гости не смылись. Все удивлялись, как это я с ними управляюсь?
Ведь дефективные! Таких, конечно, в приют нельзя. В школу — и тем паче. Их
только привези, всю детвору матерным песням научат. Докажи потом комиссиям, что
не сами научили ребят ругаться И все спрашивали, откуда они у меня взялись? Я и
ответил, мол, оба пацана — мои, кровные, только вот мать меня с тюрьмы ждать не
захотела. Детей в дурдом сдала под чужой фамилией. Да я их сыскал. Вот ращу
нынче. Грехи замаливаю. Зачем своих детей, какие ни на есть, подкидышами делать?
А Капку племянницей назвал. Мол, сестре тоже не повезло. Девку родила и померла.
Мужик враз смылся. Я и забрал к себе — до кучи. Ращу, сколько сил есть, —
закурил Сивуч.
— Не возникали больше?
— С них и этого дозарезу! Моя «зелень» как доперла, зачем прихиляла комиссия,
такое отмочила, что я охренел! — признался Сивуч и продолжил:
— Взять решили ту комиссию на гоп-стоп. Окружили и давай — к бабе под юбку
полезли с визгом, мужиков искусали, исщипали, задергали. Я их еле оторвал. Без
оглядки смотались. Обещали помощь на них присылать. Да куда там! Небось, до
конца года отчихаться не могли. С тех пор не возникают.
— А помнишь, с переписью прихиляли двое фраеров? — напомнила Задрыга и
рассказала:
— Возникли они под вечер. Темнело во дворе. Я пол мыла. Ну и засекла, кто-то
чужой шмыгнул. Пацанов предупредила. Сивуч за дровами в сарай вышел. Я помоями
их облила. И как принялась вопить на незваных гостей, ничему не были рады.
Записать забыли. Я не зная, зачем возникли, с лопатой на них поперла.
— А если б свои нарисовались? — спросил кто-то из законников.
— Своих знают. Их не спутают ни с кем, — отмахнулся Сивуч.
Он умолчал, как посланный однажды в город Гильза приволок за собою «на хвосте»
милицию.
Мишку Сивуч послал к законникам. С устным посланием. Пацан, ничего не
подозревая, нырнул в фартовую хазу. А за нею следила милиция, насмелившаяся
взять «малину» целиком. Гильза, передав законникам все, что велел сказать Сивуч,
поспешил из хазы. И, едва выскочил из двери, его схватили, потащили к «воронку».
Фартовые враз услышали, как кричит Гильза, и выскочили из хазы через окна.
Мишка, едва его подволокли к машине, укусил милиционера за руку и, почувствовав,
что пальцы ослабли, вырвался и помчался за город, забыв в страхе, чему его учил
Сивуч.
Гильза мчался без оглядки, быстрее машины, гнавшейся за мальчишкой на приличной
скорости.
Мишка, шмыгнув в дом, закрыл двери на засов и, побелев с лица, успел
предупредить Сивуча о милиции, севшей на хвост.
Фартовый тут же велел ему спрятаться. Стал на пороге, дубом загородив дверь:
— Обыск? А чего шмонать меня? Я весь — вот он! — хохотал в лица.
— Не пыли мозги, сержант! Не выводи из себя! — поднял за шиворот ретивого
милиционера и спросил:
— Где у тебя, падла, ордер на обыск моей хазы? Нет его! Ну и отваливай, покуда
на катушках стоишь!
Крыть было нечем. Сивуч прекрасно знал свои права. И милиция укатила в город,
матеря фартового. Она знала, пока возьмут ордер, возвращаться к Сивучу смысла не
будет. Он
найдет куда и как спрятать пацана. Фартовый на целый год вернул его малине.
Оставшихся учил всему. Забывчивость наказывал строго.
Он вбивал в память каждого, что коль вошел в дверь, выходи через другую. Никогда
не пользуйся одной дверью дважды. Прежде чем войти, остановись, оглядись,
прислушайся, не приволок ли кого на хвосте.
Линяя не забывай, что затеряться, смыться от погони проще на многолюдных,
городских улицах, а не на пустынной загородной дороге, где менты чувствуют себя
паханами.
Ближе к ночи, когда вымотавшаяся «зелень» валилась с ног, Сивуч брал в руки
уголовный кодекс и заставлял ребят вникать в суть статей.
— Да не кемарь, кляча! — толкал в бок Задрыгу. Та уже храпела, прислонившись
спиной к стене.
— Зачем мне твой кодекс? Я в ходку не влипну! — отмахивалась сонно.
Сивуч незлобно отвешивал затрещину и продолжал:
— Уж если кто из вас попухнет в деле, помните, не только фартовый закон
запрещает кентов валить, а и сам Кодекс. Видите, за групповую кражу срок чуть не
вдвое больше, чем вору-одиночке. Даже если вместе загребут, отказывайтесь друг
от друга, мол, не знакомы, не кентовались, поделыциками не были…
И пацаны запоминали. Их умению, ловкости и сообразительности завидовали молча
законники. Понимали, что малины, имеющие таких ребят, живут много спокойнее.
— Ладно, Сивуч, кайфово у тебя канать, да только смываться надо. Лягавые,
небось, прокемарились. И теперь шмонают, кто их закупорил? К нам на хазу
наведаться могут, Встретить надо. Чтоб там без нас мамзелей не обидели, не
увезли к себе. А пристопорить некому…
— Что с меня? — понял Сивуч по-своему пахана малины.
— А ни хрена! Но… Если сыщется у тебя подходящая зелень, какая по случайности
без пахана приморится, сделай милость, дай нам знать! Лады? За нами не сгорит.
Навар знатный отвалим! — пообещали законники и вскоре ушли от Сивуча, прячась
перелеском, пошли в город. Светало. Фартовые не хотели, чтобы даже по
случайности кто-нибудь увидел их.
Задрыга, как и ожидала, не избежала наказания. Сивуч, хорошо изучивший девчонку
за годы, не дал завалиться в постель, загнал в подвал, где мальчишки с радостным
визгом забросали Капитолину землей. Сивуч не разрешил ей вставать раньше вечера.
Фартовый злился, что лучшая ученица попала в милицию. Засыпалась в ювелирном. И
что горше всего — сама не смогла уйти. Это ударило по самолюбию. Сивуч не терпел
проколов. Капкины неудачи отозвались болью в сердце. Выходит, хреново готовил,
коль «зелень» сыпется. Фартовый вздумал заняться с пацанами более жестко.
Когда во дворе стемнело и отмытая, поевшая Капка села напротив, фартовый начал
учить девчонку, как быстро отделываться от наседающей толпы.
— Да что ты меня гоняешь? От баб я вмиг отделалась бы. Но там овчарка
прикипелась ко мне.
— По переносице надо было долбануть, она у них слабая. Чуть врежешь — клыки в
сторону.
— А как успеть, если зенки с меня не сводила?
— Ложный выпад. Быстрый. И хрясь по переносице! На все полсекунды. Овчарки —
самые трусливые из псов. Это помните. Любая дворняга — смелей и злее их. У
овчарок мозги слабые, память сеют. Потому команды им часто повторяют. Трудно с
ними тренерам. Овчарка может, как вшивый сявка, предать, бросить хозяина, а все
из-за куска мяса. Голода они не терпят. Потому, сколько ее ни тызди, служит
тому, кто кормит и в ком силу чует. Слабого сгрызет. К овчарке не смей жопой
поворачиваться. Зенки в зенки. Она взгляда ссыт. Махорки боится как огня. И еще
знай, натрешься багульником, особо ходули, овчарка ни за что не возьмет след.
Усекла? То-то. Вруби в кентель, никакие мусора, прокуратуры и прочее дерьмо не
могут арестовать или сделать обыск без ордера! Ты можешь не впустить их иль
послать по фене. Но файнее, если слиняешь вовремя, — учил Сивуч Капку, втай
надеясь, что не попадется девчонка в эти лапы.
Задрыга интересовалась всем. Чем старше становилась, тем больше вникала во все
тонкости фартовой науки.
Но однажды она проснулась от осторожного условного стука в дверь. Крепко спала.
Но ожидание приезда своей малины жило в ней всякий миг. Капка сорвалась с
постели. И тут же вылетела в гостиную. Сивуч уже вышел открыть двери. Тихо
закрыл их за вошедшим. Тот потоптался в коридоре, пытаясь что-то объяснить
хозяину, фартовый провел гостя в дом и, увидев проснувшуюся Задрыгу, нахмурился:
— Уже стремачишь, лярва9 Хиляй кемарить! Чего торчишь, как пидер на параше?
Отваливай, дай потрехать без твоих лопухов.
Но Капка не ушла… В вошедшем она узнала законника из своей, отцовской малины. Но
почему он один? Где остальные? С чего он отворачивается от нее?
Задрыга подошла вплотную:
— Боцман, где пахан? — спросила жестко, коротко, глядя в глаза фартовому. Тот
понял, не отвертеться, придется не через Сивуча говорить, а рассказать самой
Капке, что случилось.
— Замели наших, кентуха! Подчистую накрыли. Заложила всех паскудная баруха!
Лягавым с потрохами выложила, — прошел в гостиную крутя головой.
Капка шла за ним тенью. Ей не верилось в услышанное.
— А что — слинять не могут? Трехай, где они теперь? — охрип голос Капки.
— На Колыме! В номерняк их воткнули. Едва из-под «вышки» вытащили твоего пахана.
И не только его, еще двоих… по пятнадцать вломили. На особняк. Там амнистий не
докукуешься.
— За что? На чем попухли? — удивилась Капка.
— Во Владивостоке. Кубышку брали. Этот ювелирный мы лет пять назад трясли. Нас
чуть не накрыли мусора. Едва успели сорваться. Взбрело в этот раз попытать
счастья. И повезло! Нам надо быдо сразу смываться. Но лягавые оцепили все
выезды. Легли на дно у барухи. Решили примориться ненадолго. Ну, пахан по
молодости кадрил с нею. А тут вздумал с другой погреться. Со шмарой. Баруха
решила отомстить. Трехнула, что за водярой похиляла. И верняк, много выпивона
приволокла. Но не только. Вякнула лягавым за навар про нас. Те дождались пока
окосеем. И накрыли. Бухих в жопу. Линять никто не смог. Всех замели.
— А ты как уцелел? — сверкнула глазами Задрыга.
— Я в ту ночь у портовой шмары канал. Когда к барухе на утро хотел возникнуть,
шестерка наш меня притормозил, трекнул, что было ночью.
— А стремачи? Их не было? Как без них осталась малина? Почему шестерка цел? — не
понимала Задрыга.
— Всех взяли. Враз. И стремачей первых. Шестерка под столом бухой кемарил. Его
не увидели. Когда шухер поднялся, он там и прикипел. Вылез, когда кентов увели.
Мы с ним вдвоем остались.
— Еще баруха! — презрительно напомнила Задрыга.
— Эту падлу я замокрил. Перед тем, как слинять. Короче, после суда. От глотки до
пуза пером расписал. За кентов.
И за тебя, — понурил голову законник.
Он сидел рядом с Задрыгой, курил, временами коротко матерился, вздрагивал. Капка
сидела понуро, потерянно, о чем-то напряженно думала, соображала.
— Ты с паханом трехал перед отправкой? — повернулась к Боцману.
— Накоротке.
— О чем?
— О тебе. Й о всяком.
— Что велел мне трёхнуть?
— Просил побыть у Сивуча…
— Пятнадцать лет? Ты что? Крыша у вас покосилась иль звезданулись? Попухли, как
козлы! Не как законники! На барухе! Просрали волю, общак! Загремели на Колыму,
да еще мною паханить после всего? Ну уж хрен всем вам в зубы! — покрылось
пятнами лицо Задрыги.
Нет, она не ломала комедию. У нее впервые началась настоящая, жестокая боль. Она
скрутила Капку в спираль, и та почувствовала, что у нее имеется сердце. Наверное
маленькое, но очень больное…
Неподдельные, настоящие, злые слезы лились по худым щекам. Задрыга кричала на
Боцмана, обвиняя во всем его одного:
— Навар прожопил! Выходит, на халяву сработали! Мусора забрали всю рыжуху!
Долбодуи треклятые! Притырить не сумели! Кто к барухе навар прет? Где канают,
там не трахают баб. А уж коли приморились, могли без шмары прокантоваться! Иль
горело у всех? Козлы! Псы поганые! Да от вас паршивый сявка отмылится! Гавно —
не законники! Все мозги просрали!
— Ну, ты, полегче на поворотах! Не то вмажу по соплям, враз очухаешься! Ишь,
хайло разинула, мокрощелка висложопая! Нам указывать надумала! А ты, кто есть?
Выблевок! Огрызок нашей похоти! Вот и захлопнись, ротастик вонючий! Благодари
судьбу, что я возник! Мог хрен забить на тебя! Мне самому дышать нечем. А все
пахан! Свое и мое просрал! Мою долю тоже замели. И не вою! Его костыляй! Он
посеял удачу!
— Теперь гоноришься передо мной! Чего ж пахану не ботал вот так? Он бы живо душу
твою достал! Ты про то знаешь, потому канал заткнувшись. Нынче хвост
распускаешь! Да кому сдался? Какая малина тебя в фарт возьмет, в долю?. Никто с
тобой в дело не сдышится. Слабак! Кентов выручить не мог. Базлать годен, а на
дело — хрен!
— Заткнись, Задрыга! — подскочил Боцман и замахнулся, чтобы, как когда-то в
детстве, охладить и образумить Капку. Но… Не тут-то было.
Задрыга подпрыгнула мячиком, коротко ударила ребром ладони. Законник рухнул на
пол без сознания.
— Стерва ты, Задрыга! Так и не научилась гостей принимать. Ну кто своих
трамбует, скажи? Зачем его оттыздила?
Я ж трехал, своих не метелить. Вламывай, врубай фраерам. На законника клешни не
сучи! Законом запрещено! — ругал Сивуч.
— Ему можно, а мне нет?
— Он — фартовый! Ты — вне закона. Потому он мог! Тебе — нельзя! — напомнил Сивуч
и, принеся в кружке воду, вскоре привел в себя Боцмана.
Задрыгу уже не трясло. Она сидела за столом задумчиво.
— Ну, что надумала? — охнув, сел Боцман рядом.
— В малину надо линять. Пора завязывать с комедью. В дела пойду, фартовать с
кентами.
— Эхе-хе, Задрыга! Долгонько тебе до кентухи! В закон враз не берут. Помяни мое
слово — в сотнях дел побываешь, не одну ходку оттянешь, прежде чем станешь
фартовой. Огнем и пером проверяют законники. А уж врубать тебе будут на каждом
шагу. За все разом. И за норов твой засратый. За всякий кипеж. И под жопу выбьют
не раз из малин. За то, что кроме себя никого не видишь, не имеешь уважения к
законникам. Мурло твое — сявки не раз почистят по слову фартовых. Но и то, если
возьмут тебя в малину. А это тоже под большим вопросом.
— Меня хоть нынче, с руками оторвут. Хотя бы в брянскую малину. Они у Сивуча
просили «зелень», какая без пахана останется. Вот и нарисуюсь, — ответила Капка.
— Верно припомнила. Ботали про такое законники. Но хотели пацана. Про тебя трепу
не было. Бабу вряд ли приморят у себя. Эти кенты тертые. Погоди духариться. Да и
подумать надо, вспомнить. Много ли у них проколов было? На чем горели? Кто чаще
в ходку влипал — старье иль молодняк? Кого подкидывали лягавым? Посылают ли грев
в ходку? Берегут ли долю тюряжника? Сколько кентов у них под «вышку» загремело?
Выкупает ли, выручает ли пахан кентов с тюряг и зон. Часты ли у них разборки? И
главное — какой положняк с дела отваливают на шнобель? Не пронюхав всего этого,
мылиться не стоит, — сказал Сивуч. И продолжил:
— На халяву не влипни. Иные малины пацанам долю не отваливают. Так и канают за
жратву и выпивон. Разве тебе по кайфу такое? — спросил законник Капку. Та
головой покачала.
— Не дергайся, Задрыга! Мне тебя пахан поручил. Я и надыбаю малину, какая
возьмет в долю. Главное, чтобы пахан кайфовый был, удачливый и честный.
— Мана все это! Зачем Задрыге прикипать к чужой малине? Вдвоем с ней фартовать
станем, пока наши в ходке. Дождемся своих — опять вместе задышим, — предложил
Боцман.
— Ну уж хрен! Ты пахана просрал. Из прокола не вы тащил. Нет веры тебе! Не пойду
с тобой в дело! Сам дыщи! Без меня! — наотрез отказалась Капка.
Сивуч, глянув на нее, заговорил.
— Раз вы не сговорились, дышите врозь. И я трехну, на месте Задрыги тоже от тебя
откололся. Гони адресок пахана! И давай по разным стежкам, — протянул руку. И
Боцман, написав адрес, вложил его в ладонь Сивуча, собрался уходить.
Он уже поднял с пола чемоданчик, оглянулся на Капку, предложил тихо:
— Ты остынь. Я через пару дней возникну. Захочешь, заберу с собой. Не прогоришь,
клянусь мамой!
Капка ничего не ответила, отвернулась к окну, заметила черную фигуру во дворе.
— Кто-то возник. Уж не мусора ли стремачат?
— Не дергайся. Это наш шестерка. На стреме я его оставил, — успокоил Боцман и
вышел из дома не прощаясь.
— Стемнил он что-то. Сердцем чую. Не раскололся…
— Не отвалил. Это верняк! Не верю, чтобы Боцман без навара остался. Он хуже
любой барухи. За жадность из малин вышибали. Фартовые скупых не терпят. Этот
саму скупость обсосет. Его и твой пахан хотел за-это из малины выбить. Да кенты
уломали. Мол, оботрется. Вкинем пару раз, он и сыщет мозги, что жадность даже
фраера губит. Но а с тобой, Задрыга, я сам все устрою. Ты только не дергайся, не
заводись, — попросил Сивуч.
На следующий день, когда Капка занималась вместе с пацанами, Сивуча кто-то тихо
окликнул. Фартовый оглянулся. Пошел от ребят — с полянки, к кустам багульника.
Тихо исчез из вида. А поздним вечером привел домой гостя.
— Сколько же ты в бегах? — спросил его удивленно.
— Скоро два десятка будет.
— Да уж посеяли память о тебе, — рассмеялся Сивуч,
— Я тоже так думал. Да обмишурился. Чуть не влип. Смылся. Пофартило, что нигде
не засветился. Налегке смотался. Не успел навестить мента. У меня на него
«маслина» давно припасена. С того дня. А он, гад, и теперь под стремой дышит.
Во, бздилогон! Не живет и не откидывается. Свет коптит. Ну я его все равно
достану! — грозил гость неведомо кому.
— В малине, иль сам фартуешь? — спросил Сивуч.
— С кентами. К тебе — по делу. О нем с духа на дух потрехаем, — предложил гость
И увел Сивуча из гостиной.
Капка уже спала, когда фартовый разбудил ее и попросил коротко:
— Выдь ненадолго.
Задрыга влезла в брюки нехотя. Вышла вяло, застегивая на ходу рубаху.
— Вот эта! Она подойдет! — указал на нее Сивуч;
Повернувшись к Задрыге, сказал твердо:
— Кенты в дело тебя берут. Хорошую долю отвалят. Но когда сладите, сюда хиляй
шустро. Ждать стану. Не тяни резину. Слышь? А теперь отваливай! Что от тебя
нужно, кенты трехнут, — подтолкнул Капку к гостю. Тот встал, кивнул Задрыге на
выход и пошел впереди сутулясь.
Задрыга плелась следом. На окраине города фартовый остановился. За весь путь он
не обронил ни слова. А тут, будто спохватился.
— Тарантул я. Кликуха моя такая. Не отклеивайся, шуруй со мной. Дело клевое.
Коль обломится, в обиде не будешь.
Законники решили тряхнуть городской ломбард.
Задрыга никогда не была в нем. Знала понаслышке. И оказавшись перед мрачным,
двухэтажным домом, почувствовала себя беспомощной.
— Как забраться внутрь? — думала она.
— Хиляй следом! — тронул кто-то за плечо.
Фартовые обошли фасад дома.
— Там сигнализация, — услышала Задрыга короткое.
Законники объяснили Капке, что ей надо влезть в ломбард через форточку, открытую
на втором этаже. Это окно — единственное, не подключено к сигнализации. Ей нужно
открыть его. Все остальное сделают законники.
Капка подошла к дому вплотную. Ощупала стену из бревен. Легко взобралась наверх.
Пролезла внутрь через форточку. И распахнула окно.
Она уже достала «коготь» — металлический заостренный крюк, с помощью какого
легко взбиралась и опускалась по стенам, но услышала над ухом голос Тарантула:
— Постремачи тут. Мы живо…
Задрыга тихо прикрыла окно. Ждала…
Фартовые исчезли бесшумно, словно растворились в ломбарде. Лишь опытное ухо
улавливало легкое движение. Законники действовали быстро.
Через полчаса все было готово. И Капка, опустившись следом за фартовыми, уходила
от ломбарда без оглядки. Она только теперь вздрагивала, запоздало испугавшись,
понимая, что это было настоящее дело, а не занятия в доме Сивуча.
— Ты куда? Хиляй с нами, — услышала Задрыга, когда свернула на загородную
дорогу.
Ее позвали в темный, сырой подвал заброшенного дома.
Пятеро кентов, сбившись в кучу, рассматривали при фонаре украденное. Капка тоже
подошла. Увидела кучку колец, цепочек, медальонов, браслетов. Золотые часы и
царские монеты, серьги, броши, кулоны…
Все это переливалось, сверкало разноцветными огнями радуги. Задрыга ойкнула от
удивления и восторга.
Законники вздрогнули от неожиданности, обложили Капку матом. Та обиделась,
потребовала пошустрить с долей.
— Какую тебе долю? Ты что? На вот! — выделил ей лысый, худой кент тонкую золотую
цепочку и добавил:
— Отваливай!
Задрыга онемела:
— Ты что? Охренел? А ну, гоните долю! — опомнилась Задрыга. И протолкнувшись,
хотела сама взять приглянувшееся. Но ее отшвырнули:
— Заткнись, курва! — саданул лысый вор ногою в бок.
— Какая доля! Мы тебя с ментовки доставали! Иль мозги проссала? Иль на халяву
проехать хочешь? Теперь ажур! Должок отработала! Смывайся! — хихикнул лысый.
— Чего ж враз не пустили, когда сама хотела слинять, зачем мозги сушили долей? —
не унималась Капка.
— На случай шухера тебя подкинули бы! — рассмеялся из угла Тарантул.
Задрыгу затрясло от злобы. Она понимала — ее надули. И кипеж не поможет. Вломят
так, что мало не покажется. А положняк все равно не дадут.
Капка умолкла. Подняла цепочку. Сунула в карман брюк. Подумала немного.
Огляделась. Законники считали добычу. Вытирали пот со лбов. Вот лысый, берет в
сторону отложил. Делит навар на пятерых, поровну. Капка берет к себе потянула.
За спину спрятала. И молча выскользнула из подвала.
Быстрой тенью вернулась к ломбарду. Там никого. Оставила берет лысого под окном
и еще быстрее припустила обратно.
К Сивучу вернулась, когда только занялся рассвет.
— Чего так долго? — удивился фартовый и велел Капке туг же тщательно вымыть
обувь, в какой ходила на дело.
— Зачем? — изумилась девчонка.
— Чтобы соскоб почвы с подошв не могли идентифицировать с той, что возле
ломбарда. Усекла? И цепочку от греха дальше занычь в лесу, — злился, слушая
Задрыгу.
Она рассказала Сивучу обо всем. Но умолчала о берете. Задрыга сама испугалась
своей выходки. Но злоба на тот момент одолела разум.
— Прикокают, если узнают. А и не могут не догадаться. Ведь фартовые в деле
ничего не сеют. Так Сивуч говорил. Враз допрет до малины, кто высветил. И тогда
— крышка! Размажут… В куски, на ленты пустят. Допрет, за что я им насрала. Но и
меня дышать не оставят. Файно, если без мук, враз ожмурят. А коли нет? Сами не
станут размазывать, сявкам велят. Уж те не промедлят. Им все дозволено. И
сильничать, и пытать, коли в жмуры отправлять. Насядут кодлой. Не то душу, кровь
по капле выпускать станут, чтоб другим неповадно было, — дрожит Задрыга.
— Чего колотишься? Иль страх из задницы к горлянке подступил? Так всегда бывает,
когда впервой. Потом проходит. И уже не трясет. Угомонись…
Капка совсем было решила рассказать Сивучу все. Но испугалась, что старый
фартовый придушит ее своими руками.
До обеда все прислушивалась к звукам за домом. Вздрагивала от голосов и шагов за
спиной. Но к вечеру не выдержала. Подошла к Сивучу:
— Потрехать надо! — дернула за руку. Тот занимался с зеленью и велел ей
обождать.
Но едва фартовый решил передохнуть, к дому подкатил «воронок». Капка замерла в
ужасе.
Лицо ее задергалось, перекосилось.
— Обыск! Живо всех ублюдков во двор! — торопили милиционеры Сивуча, сунув в руки
ордер на обыск.
— Что случилось? — не понимал фартовый. Но шестеро оперативников уже вломились в
комнаты. Двое стали перед дверями и окнами с оружием наготове.
— Кого прячешь, Сивуч? Зачем к фарту вернулся, — вводили в дом двух здоровенных
овчарок. И тыча им в носы берет лысого, просили:
— Ищи!
Капка, сцепив зубы, сидела на земле, поджав под себя ноги. Каждый нерв в струну
натянут.
Как бесконечно долго длится этот обыск. Задрыга подкатывается поближе, чтобы
услышать, о чем переговариваются возле дома двое милиционеров.
— Он за нож схватился. Там я его и огрел наганом по башке. Не сбежали. Вовремя
прижучили. Вот только еще кто- то остался.
— Не-ет. Пустой номер. Всех накрыли. Разом. В одном купе. Интересно, куда они
уехать собрались?
— А как рыжий к окну кинулся? Здорово я его поддел?
— Тарантул не ждал! Явно струхнул, когда собак увидел…
— Ты хоть глянул, что они в ломбарде сперли?
— Следователь прокуратуры всех выгнал. Понятыми взял двоих, чтобы описать
изъятое.
— Вот житуха! Даже это нам не доверяют. Головами, жизнями рискуем и не знаем, за
что?
— Мы не верим и нам не доверяют…
— А черт с ними. Прокуратура всегда на готовом работает. Себя честнягами
считают. Нас лрезирают гады! Но без нас шагу не сделают. Ловить воров — мы,
доставлять — тоже мы, а премии — прокуратурам. Они дело раскрыли! Велика забота
ворюг расколоть? Чего мудрого? Вкинули им, чтоб жарко стало!
— Да зачем? Яйцы в дверь зажать, все вылепит. Где был и не был виноват…
Задрыга поняла, милиция поймала не всех. Но почему их сюда занесло, к Сивучу?
— Нет никого в доме, — вышли из дома оперативники.
— В подвале пошли проверим, — предложил один из них. Взял собаку за поводок. Та
повела носом, понюхав ветер из леса. И зарычала.
Капка глянула на овчарку, но та смотрела мимо девчонки, куда-то в кусты.
— Отпускай ее! — крикнул кто-то из оперативников.
Как только собака освободилась от поводка, помчалась
мимо девчонки — в лес. Молча, без лая, решила нагнать кого-то.
Милиционеры, забыв о Сивуче, бросились в лес. Треск кустов, топот ног вскоре
начали стихать.
— Слиняли кенты! — улыбался Сивуч. И вдруг услышал дикий вопль, потом визг
собаки, брань. А вскоре увидел, волокут из леса оперативники кого-то за ноги.
Капка в комок сжалась, узнала лысого. Весь искусанный овчаркой, ободранный, в
крови и в грязи, он вприщур глянул на Задрыгу и процедил сквозь зубы, словно
адресованное овчарке:
— Не слинять суке от разборки малины! Распишут пером, как маму родную! А сам
доберусь — в ленты пущу! За подлянку, что лягавым высветила!
Капка отвернулась. Будто ее не касались угрозы лысого. Милиция, подумав, что вор
грозит собаке, взяла его на сапоги, затолкала в машину. Закрыла наглухо. Оставив
у Сивуча следователя угрозыска, машина укатила в Брянск.
Следователь задал Сивучу много вопросов. Фартовый отвечал скупо.
Нет, он не знал и никогда не был знаком с человеком, взятым милицией неподалеку
от его дома. О краже в ломбарде ничего не слышал. С фартовыми города не видится
и не общается. Не знает, почему вор оказался вблизи его дома. Мало ль кто в лесу
шляется! Никого у себя не укрывал и не собирался прятать, что и обыск
подтвердил. Живет на скудную пенсию, да тем, что лес дает. Грибы и ягоды…
Следователь понял, что большего от Сивуча не добьется. Вскоре ушел от фартового.
И Сивуч, проследив, что следчий и впрямь пошел в город, позвал Капку.
— А ну, колись, за что лысый тебе разборку посулил, почему замокрить вздумал?
Капка смотрела на фартового, впервые боясь открыть рот. Тот сдавил плечо,
потребовал жестко. И тогда Задрыга созналась во всем.
Сивуч слушал багровея.
— Грозили они мне. Будто шмаре. Обещали долю. Взамен, как собаку отогнали от
навара. Ну пусть бы вякнули, что отработать надо. Я и не ждала бы ничего. И так
смыться хотела. Они меня «хвостом», взяли. В прикрытие. Я отомстила за все, —
вдавила голову в плечи, ожидая жестокой трамбовки.
— Лажанулись кенты… Мне Тарантул клялся привести тебя и приволочь положняк…
Натрепались? Сорвали куш и ходу! Будто последний день в фарте? Иль посеяли, что
их разборка везде достанет. На зелени жировать вздумали? — дрогнули руки.
— Не ссы, Задрыга! Они первыми закон нарушили. Облажались, как фраера! Но и ты —
падла! Не так надо было. Не мусорам фартовых засвечивают. А на сход вытаскивают.
Это — страшней всего! Сход решать должен. А ты — просрала! Там паханы решают за
фартовых! Никто не слиняет от их слова. А теперь как дышать? Лысый всем
растрехает, как малина попухла, из-за кого кенты накрылись. И тебе колган
отвернут шутя. Единое, что спасет, вырвать кентов из мусоряги. Но как? Это нам
не по силам, — нахмурился Сивуч. И подумав, добавил:
— Теперь в любой миг подлянку жди. Она никого в доме не обойдет.
— А при чем ты и пацаны?
— Я тебя учил. И их — с тобою одинаково. Потому всех притянут.
— Я знаю, как кентов из лягашки вырвать. Но… Когда они смоются, могут нас
размазать? — спросила Задрыга.
— Кто их душу знает? Но лучше тебе в это не соваться, — одернул девку Сивуч. И
добавил:
— Ну и стерва же ты, Задрыга! Ну и падла! Редкая паскуда! Как доперла до такого?
Как отмочить успела, зараза! И такое обстряпала, не став взрослой! Что ж с тебя
выйдет, когда вырастешь? — удивлялся искренне, неподдельно.
В этот день, едва Капка уснула, ушел из дома Сивуч. В город — к фартовым, по
делу…
Глава 2
Капка-дочь пахана
Никто из фартовых малины даже по бухой не смог бы предположить, как легко вышел
на их след следователь угрозыска.
Законники знали, что в спецкартотеках прокуратуры и милиции хранятся все
сведения о них. Еще бы! Каждый был судим по четыре-пять раз, все считались
рецидивистами. А потому, не только биографические данные помнил следователь
уголовного розыска — Виктор Федорович Васильев, а и особые приметы, почерк
каждого.
Васильев всегда выезжал на место происшествия сам. Работал без помощников. И
только в случае крайней необходимости просил привезти сысковую собаку.
Вот и в то утро, едва вошел в ломбард, попросил — никого не входить, не шуметь.
Как ни хитры, как ни изощренны были фартовые на всякие уловки, но и они не могли
предусмотреть мелочей, каких оказалось вполне достаточно, чтобы узнать, кто
побывал здесь минувшей ночью.
Низкорослый, кряжистый Тарантул как всегда не смог дотянуться до верхнего
стеллажа и воспользовался стулом. На его пыльном сиденьи отпечатался след обуви
тридцать пятого размера. Подобного размера обуви не имел никто из фартовых
Брянска.
Васильев, едва вошел в ломбард, сразу почувствовал резкий запах «Шипра». И
понял, в деле был Фрося — здоровенный, рыжий вор, какой любил сбегать из зон и
тюрем переодевшись в бабу, умел часами говорить женским голосом. И, если бы не
страсть к «Шипру», избежал бы многих неприятностей.
Увидев вскрытый без инструмента ящик и крышку от него
с торчащими гвоздями, понял, в деле был Лимон. Только он умел вырвать любые
гвозди без усилий и шума.
Следователь увидел и следы Князя. Тот всегда с фонарем ходил в дело. Круглый
след от него так и остался на пыльной полке.
— Хорошо, что уборщица здесь ленивая, — подумал Васильев выйдя из ломбарда и,
позвав оперативников, приказал одному срочно привезти служебную собаку,
остальным — никого не подпускать к ломбарду, пока не завершен осмотр места
происшествия.
Овчарка тут же нашла берет. И взяв след, понеслась к вокзалу.
Фартовые не ожидали для себя беды и послали лысого Пузыря в буфет купить в
дорогу жратвы и выпивки. Тот с радостью ухватился за деньги и выскочил из
вагона. До отхода поезда оставалось двадцать минут.
Растолкав очередь, пролез вперед. Хватал кульки, пакеты. Совал их по карманам. А
когда вышел на перрон, увидел возле вагона милицию и овчарку.
Ноги задрожали. По спине полил пот. Он еле удерживал в руках покупки. Они
показались ему наручниками, когда увидел, как милиция выводит из вагона кентов.
— Живей! — подталкивали их в спину кулаками и вели к машине, стоявшей за
вокзалом.
Пузырь постоял в растерянности совсем немного. Чтобы не привлечь к себе внимания
пассажиров и провожающих, свернул за здание вокзала. Следил, как заталкивают в
машину законников. Вон Фросе — пинка дали, торопят. Лимона кулаком вбили в
«воронок». Двое Князя волокут. И только один милиционер стоял около машины, не
трогая никого. Пузырь пригляделся. И… замер. Увидел в его руках свой берет.
Он понял все. Оставив на траве все покупки, незаметно свернул в обратную сторону
и вышел на многолюдную улицу. Здесь он чувствовал себя вне опасности.
Пузырь шел к Дрезине. Зная, что только он может помочь. По его слову фартовые
города постараются достать из милиции его кентов.
Но пахан еще спал. И стремачи не решались его будить ни по чьей просьбе. Тем
более, что разговора требовал не пахан малины, а обычный законник, почти никому
неизвестный Пузырь.
— Возникни к вечеру. Тогда, может, выслушает. Теперь — рано. Отваливай, не
мозоль зенки. Не приведись, не в духе встанет.
Пузырь пытался убедить стремачей, но те служили пахану, и все остальные для них
не существовали, если Дрезина к ним не благоволил.
Фартовый ждал. Дрезина проснулся поздно. Услышав от стремачей о Пузыре,
отказался трехать с ним, передав через шестерок:
— Просравший кентов не может просить подсос. Такого на разборку выдернуть надо.
Пусть сам выручает кентов, если дышать хочет. А Дрезина — не мама родная для
всякого, пусть он и вор…
Лысый, вне себя от ярости, выскочил от стремачей. Злоба перехлестывала через
край.
Без денег, без доли, без малины и пахана, он никому не был нужен.
— Куда деваться? Как дышать? Как распорядиться свободой, подаренной самой
судьбой? — думал лысый и вспомнил о берете в руках милиционера. И не раздумывая
заспешил за город, к Сивучу. Там, дождавшись темноты, думал свести счеты с
Капкой. Уж он вытащит ее из дома! Поспрошает, как успела снюхаться с лягавыми и
засветить малину.
Пузырь шел осторожно, часто оглядываясь, прислушиваясь к каждому звуку за
спиной. Он боялся погони и засады. Потому шел медленно, иногда перебегал от
дерева к дереву.
Приблизившись, он наблюдал за домом Сивуча из зарослей. Не хотел появляться
покуда не стемнело.
Малина Князя, оказавшись в милиции, тоже ждала ночи. Фартовые понимали, что
оставшись на воле, Пузырь постарается достать их отсюда. И, если сам не сможет,
обратится к законникам города, к Дрезине.
— Одно хреново, башлей у Пузыря нет. А на халяву кентов не сфалуешь. Залог
нужен. Где он его сорвет? Если только с Сивуча за шкуру Задрыги. Не захочет
старый хрен, чтобы Пузырь расписал ее. За эту лярву с него Черная сова не то
шкуру сдернет, а живьем на погосте зароет, — говорил Фрося.
— Нам тоже не пофартит, если суку ожмурим. Пахан совы — зловонный козел. Память
у него длинная. А клешни того длинней, — поддержал Тарантул.
— Пузырь теперь, верняк, лоб расшибает, чтоб башли надыбать, — подал голос
Лимон.
— Хрен там! Этот хорек, поди, теперь Сивуча трясет. Другой стежки нет. Либо
башли с него сорвет, либо к Дрезине, слово замолвить, — отозвался Князь.
Никто из фартовых даже не предполагал, что весь их разговор, каждое слово,
внимательно прослушаны, записаны на пленку.
Именно этот разговор подтолкнул следователя поехать к Сивучу вместе с
оперативниками.
Ему хотелось узнать, за Что Пузырь должен убить Задрыгу? Почему Сивуч будет
отвечать жизнью за девчонку перед самой свирепой бандой — Черная сова? Что
связывает их всех между собой? — недоумевал Васильев, но знал наверняка: ни
Сивуч, ни Пузырь, ни тем более Дрезина, даже Задрыга не станут говорить с ним ни
о чем…
Он знал заранее, кроме презрительного молчания, или отборного мата — в лучшем
случае, он ничего не услышит в ответ на свои вопросы.
Васильев понимал, что Сивуч следит за ним. А потому шел по дороге в город,
никуда не сворачивая, хотя очень хотелось ему узнать, пойдет ли фартовый к
Дрезине, а если нет — что предпримет, на какой шаг решится?
Виктор Федорович был убежден — Сивуч связан с городскими малинами. Но эту связь
вот уже много лет никак не удавалось проследить и доказать. Свое убеждение к
доказательствам не пришьешь. И Васильев выжидал, где оступится, где оплошает
законник, знавший о городских ворах абсолютно все.
Васильев вернулся в горотдел милиции. Распорядился, чтобы Пузыря ни в коем
случае не впустили в камеру к малине, а отвели бы в дальнюю — одиночку,
предназначенную для особо буйных задержанных.
Едва присел, зазвонил телефон. Начальник милиции предупредил, что за бандой
Князя пришла машина из тюрьмы. И следствие по делу передается прокуратуре.
— Так что подготовьте все протоколы, все имеющееся и завтра утром — гора с плеч…
Пусть у прокуроров голова болит! — рассмеялся в трубку.
— Ничего себе! Мы их взяли! Всех до единого! А прокуратура опять готовое из рук
берет! — досадовал следователь. И выглянул во двор, хотел увидеть, как забирают
из милиции малину Князя.
Коли прокуратура забирает дело, решили всех пятерых законников вывезти одной
машиной.
Их выводили по одному.
Вначале Пузыря вытолкали во двор, впихнули в машину грубо, под окрик. Потом
Тарантула. Тот озирался вокруг, пытался оглядеться, его поторопили. Вывели
Лимона. Тот шел враскачку, не спеша. Его подтолкнули, и Лимон взъярился. Сцепил
кулаки, бросился на оперативника, головой ударил в лицо. Крики, мат, кровь — все
сплелось в один клубок.
Васильев, да и все оперативники знали, что именно Лимон убил четверых
милиционеров и чудом избежал «вышки».
Лимон рассвирепел. Он не терпел, когда его материли. Тем более не мирился с
унизительными пинками. Все оперативники, пытавшиеся приблизиться к фартовому,
тут же отлетали в разные стороны.
В это время из дверей милиции вывели Князя и Фросю.
Сидевшие в машине законники сбили охрану, кинулись к забору. Князь и Фрося,
оттолкнув конвой, рванулись к воротам.
— Стой! Стреляю! — предупредил старик-охранник и выстрелил в Князя в упор. Тот
будто споткнулся на бегу. Упал, переломившись в коленях, ткнулся лицом в асфальт
двора и затих…
На миг фартовые словно оцепенели. Оперативники бросились к Князю. Но поздно…
— Ну, пидер, не дышать тебе до утpa! — процедил Фрося. И внезапно для всех
бросился на охранника, вскочил ему на плечи, рукой за забор ухватился и только
хотел перемахнуть, кто-то из оперативников опередил, нажал курок…
Фрося мешком свалился вниз. Тяжело ударившись о землю, поднял облако пыли.
Судорожно дернулись ноги. Они еще бежали на волю. Но сердце, словно устав от
жизненной суеты, остановилось.
— Ну? Кто следующий?! Давай, фартовые! Пуль на всех хватит. Заодно закопаем.
Смелей! — зло выкрикнул оперативник.
Тарантул, стоявший к нему ближе всех, поддел оперативника кулаком в подбородок
так, что тот улетел к стене здания.
Тарантул уже вскочил в воронок и скомандовал своим:
— Давай, кенты, отваливаем без шухеру! Без нас лягавым разборку учинят, за
каждого тряхнут из шкуры. Нам не стоит об гавно клешни марать!
Законники скрипя зубами сели в машину.
Трое вместо пятерых. Тарантул, Лимон и Пузырь ненавидяще смотрели на
милиционеров. Двоих убили — на глазах… Такое навсегда остается в памяти.
Их везли в тюрьму под усиленным конвоем, которому был дан приказ — в случае
попытки к бегству — стрелять на месте. А коли фартовые города попытаются
застопорить, чтобы вызволить своих, стрелять и в тех, и в других…
Но по пути никто даже не оглянулся на машину, и конвой благополучно доставил
законников во двор тюрьмы.
Васильев успокоился, едва ему позвонили, что задержанные доставлены в тюрьму.
Спокойно пошел домой, радуясь за оперативников, что эту ночь они проведут
относительно спокойно.
Город надежно окутывала тьма. Она сделала его таинственным, непредсказуемым…
Спешит домой следователь милиции. По городским улицам, а не без оглядки, не без
страха. Всякое может случиться в ночи. Тьма не каждому друг и помощник. Потому и
торопится человек. Чуть что-то подозрительное — рука сама к кобуре тянется. А
вдруг!
" Совсем иное дело — Сивуч! Этому тоже не сидится. Идет напролом, через ночь — к
Дрезине. Что ему ночные шорохи и голоса? Всего уже отбоялся за свою жизнь.
Теперь ничто не испугает, даже сама смерть.
Сивуч идет тяжело. Болят ноги. Каждый шаг отдает болью во всем теле. Но не пойти
— нельзя…
Если б речь шла о собственной шкуре, еще сто раз подумал бы, идти или не стоит.
Но в том-то и беда, что с его Задрыгой, первой девчонкой-ученицей, могла
расправиться фартовая малина.
Обидно до чертей, что Капку накололи на положняке. Теперь она заречется на
фартовое слово доверять. Хотя… Если Дрезина откажется вступиться за Задрыгу,
законники Князя не промедлят, пришьют девку, как муху на стекле! И уж о каких
делах, запретят вспоминать о ней.
Сивуч сворачивает в знакомый переулок, шепчется со стремачами, окружившими его
со всех сторон. Вот один из них оголтело бежит к хазе, предупредительно
постучав, вошел, через минуту выглянул и позвал:
— Хиляй сюда, Сивуч!
Фартовый не заставил повторить приглашение, тяжело ступая,» вошел в хазу пахана.
Стоял у порога, пока не услышал:
— Валяй сюда, кент!
Сивуч прошел в дальнюю комнату, где за накрытым столом канал Дрезина, жестом
пригласивший законника за стол.
— Давай бухнем, кент! Стряхни все горести. Пошли их… Покуда дышим, надо
радоваться!
— Нечему! — прервал Сивуч, отказавшись от угощения.
— Что так шарахнуло? — изумился Дрезина. И отставив в сторону бутылку коньяка,
бросил коротко:
— Трехай, коль по делу возник!
Сивуч говорил, тяжело роняя слова, вбивая их, как гвозди:
— Меня б надули — хрен с ними. Я уж всякое видел. Но «зелень» околпачивать, да
еще законным, значит, крышка нам приходит. Фартовое слово, тем паче — клятва,
дороже рыжухи ценилась во все времена. А тут… Нахавались до гроба, девчонку
пахана, какой ходку тянет, на халяву в дело стаскали, козлы вонючие! Не ждал
такого от Князя! — возмущался Сивуч.
— Полегше, кент! Жмура не трогай. Замокрили его лягавые нынче. И Фросю… Во дворе
мусориловки. Слинять хотели. Их маслинами тормознули…
Сивуч тяжело вздохнул.
— Помяни без зла. Файные кенты были. Особо Фрося! Он всех моих шмар в своей
глотке хранил. Бывало, как начнет трехать, я вокруг него хожу, не могу поверить,
что мужик бабьим ботает и все заглядываю, ну где он разом столько блядей
притырил. Да и удачливы были оба! Земля им пухом! — выпили разом.
— А Пузыря вытащим на разборку вместе с Тарантулом. Это я тебе обещаю! — сказал
Дрезина. И продолжил:
— Должок в зубах принесут…
— Да я не все тебе трехнул, — продолжил Сивуч и рассказал пахану, что случилось
дальше.
Хозяин брянских малин, слушая Сивуча — трезвел. Лицо из добродушного, улыбчивого
собралось в хмурые складки, побледнело.
— Ты сопли не размазывай тут. Ишь, защитник возник! Мала, ботаешь? Мала, да
паскудна! Как доперло до подлюки кентов лягавым сдать? Кто ее настропалил? —
грохнул громом над головой законника.
— Сама доперла, лярва. Уссавшаяся со страху прихиляла. Не могла не отомстить.
Так и вякнула. Но она «зелень». Не высветила б, если б не надули. А значит, они
в ответе! — настаивал Сивуч.
— Заткнись, гнилая кадушка! Не тебе решать! Паханы свое слово скажут. Нынче же
соберу их. Они не промедлят. А ты Задрыгу не притырь, надыбаем ее. И коли паханы
велят размазать, не дергайся, мой тебе совет. С Черной совой я разберусь. Сам.
Ее пахана притяну к ответу, что устроил бы он тому, кто его малину запродал бы
мусорам? Ты секешь, что он вякнет?
— Сначала ботни — за что? — возмутился Сивуч.
;— На то фартовый сход имеем! И не ей, суке, решать, как законников лажать! Ишь,
гавно собачье! Отмочила, лярва! Да я такую стерву своими клешнями размазал бы
без жали! — сдавил край стола побелевшими пальцами и встал, давая понять, что
разговор закончен.
Сивуч трудно вышел из-за стола.
— Дозволь возникнуть на сходку. Сам хочу паханам трехнуть, как дело было, —
попросил тихо.
— Мне не веришь? — изумился Дрезина.
— Не то! Ждать их слова, тяжко будет. Тут же — сам услышу, — признался честно.
— Ладно! Рисуйся! Заметано! — согласился пахан зло.
Сивуч пошел к двери, волоча ноги. Не оглянулся. И Дрезина матерясь, закрыл за
ним дверь, словно из пушки выстрелил.
— Ну, что пахан ботал? — встретила Сивуча на крыльце Задрыга. Она все поняла и
ждала возвращения фартового.
— Хреновы наши дела, Капитолина! Замокрить тебя хотят за кентов. Пока на сход
положимся. Я сам возникну к ним. Но станут ли меня слушать? Дрезина весь зашелся
лютостью. А тут еще менты замокрили Князя и Фросю. Во дворе мусориловки. Те
слинять вздумали. Да не обломилось. Теперь — в тюряге все. Оттуда достать
невпротык! Мылились не раз. Да все срывалось. Вот и бухтит Дрезина, что из-за
тебя кенты попухли.
Задрыга сидела молча, дрожа от ужаса перед наступающим днем. Быть может, он,
последний, в ее короткой жизни? И никто, ничто не спасет ее от расправы…
Вдруг ее ухо уловило тихие шаги, крадущиеся к дому. Задрыга насторожилась,
легонько ткнула локтем Сивуча. Тот прислушался. Велел девчонке уйти в дом.
— Сивуч, — услышал законник тихое. По голосу узнал отца Задрыги.
— Хиляй! Я тут! — вышел Сивуч навстречу. И вздохнув, сказал:
— Ох и вовремя ты сорвался!
Два законника почти до рассвета просидели в гостиной.
Сивуч рассказал пахану, что случилось с его Капкой. Тот, как убежал с Колымы.
— Теперь меня по всем Северам дыбают. Шмонают все притоны. А я по чужим ксивам
смылся.
— Башли где взял на дорогу? — удивился Сивуч.
— Тряхнул кой-кого! Хватило сюда возникнуть. А дальше— главное воля, башли
будут, — отмахнулся равнодушно.
Сивуч смотрел на пахана и верил, этот не засидится без дела. Жаден, хитер,
ловок. Недаром и кликуха у него — Шакал. Второго такого сыскать трудно. Капка —
вся в него. И внешне, и характером.
— Теперь ты сам к Дрезине нарисуешься? — прервал Сивуч молчание.
Пахан кивнул коротко, ответил глухо:
— Потрехаю с ним Старые счеты напомню кой-кому.
Капка, поговорив с отцом, спокойно спала. Прошел страх, улеглась дрожь; Отец
рядом. Он не даст ожмурить ее, — успокоилась Задрыга. Она рассказала ему о
Боцмане. О первом деле. Но пахан слушал вполуха. Он думал о предстоящем сходе.
Весь день Шакал нервничал. А едва время пошло к вечеру, отправился в город,
настрого приказав Задрыге не высовываться из дома никуда, покуда он не вернется.
Подойдя к Сивучу, попросил тихо, чтоб Капка не услышала:
— Вдруг мне не пофартит на сходе, ты вступись за Задрыгу. Не дай ожмурить. Одна
она у меня. Большего навара не урвал. В ней моя кровь. Сбереги. Как кента
умоляю, — положил руку на плечо и добавил:
— Она сама с тобой рассчитается. Вернет должок. Мне твое сегодня не оплатить. Но
если обломится…
— Все так дышим. Я не сявка! Чего уламываешь? Хиляй на сход. Ты там слово
имеешь, — ободрил Сивуч и перекрестил в спину уходящего Шакала, попросил Бога об
удаче для пахана.
Тот, едва вошел в город, запетлял закоулками. Все прислушивался, оглядывался,
чтобы не приташить «на хвосте» к хазе пахана кого-нибудь из фраеров.
Едва стремачи узнали Шакала, тут же поспешили сообщить о нем Дрезине. Тот
обрадовался:
— Слинял козел с Колымы! Волоки сюда гада! — вспомнил о Задрыге и побагровел.
Он не шелохнулся, когда вошел Шакал. Не встал навстречу, не улыбнулся. Всем
видом показывал неудовольствие.
Шакал иного приема и не ожидал.
— Разреши слово? — попросил твердо, едва ступил на порог. Дрезина коротко кивнул
головой.
— Слинял с ходки. Вчера ночью возник сюда. Канал у Сивуча.
— Один смылся? — перебил Дрезина.
— Втроем. Те у шмар приморились. Сивуч о том не знает. Теперь нас четверо вместе
с Боцманом. Можно в дело. Да и «зелень» поспела. Пора и ее к фарту клеить, —
говорил, не сводя взгляда с Дрезины. Тот, словно поперхнулся, закашлялся,
заерзал на стуле и спросил.
— Тебе Сивуч разве ничего не ботал про Задрыгу, что она отмочила?
— Вякнул! — усмехнулся Шакал одними губами и прошел к столу спокойно, уверенно:
— Ты, Дрезина, меня знаешь не первый день. Кто к моей
малине прикипался, давно уж в жмурах… Не давал никого наколоть на деле и
положняке! В доле не облапошил. Слово держал. На халяву не бренчал на кентов. А
уж клешни распускать ни с хрена считал западаю для любого фартового. За такое
колганы откручивали лягавым. Своим — нарушившим закон — подавно перо воткну…
— Ты это о ком? — опешил Дрезина.
— О Тарантуле и Пузыре! Они Задрыгу трамбовали ни за хрен. Когда положняк
сорвать хотела. Обещанный под клятву. Такое не спущу!
— В тюряге они! Кому грозишь? — усмехнулся Дрезина.
— Достану их оттуда. Для разборки в своей малине!
— С ними — валяй! А вот с Задрыгой — мы решим! И попробуй дернись! Распишу
мигом! — пригрозил Дрезина.
— А ты меня не бери «на понял». Тарантул моей малине давнишний должник. За ходку
на Печоре, из какой его кенты доставили. Так и не отбашлял. Тому уж много
времени. Сам нигде не пофартил, не потрафил нам.
— А Задрыгу с мусориловки выдернули? Иль мозги посеял, иль Сивуч не трехал про
то?
— Мусориловка не Печора!
— Завязывай тут бренчать! Что файно, а что — прокол! Вон паханы возникают. Им
ботай! — указал Дрезина за окно.
Шакал оглянулся на входивших фартовых. Он знал почти всех. Иные приветливо
здоровались, поздравляли с возвращением на волю, другие сдержанно кивали, угрюмо
молчали, подпирали стены спинами. Без разрешения Дрезины никто не имел права
присесть.
— Располагайтесь, кенты! — распорядился Дрезина и, оглядев фартовых, сразу
сказал, почему собрал сход столь спешно:
— «Зелень» должна знать свое место. И соблюдать наш закон! А фраернувшихся — за
душу! — сверкнул глазами в сторону Шакала.
Паханы переглянулись. Никто из них не рисковал сказать свое слово.
Известный всем фартовым — Медведь, и тот башку увернул. Будь кто другой — череп
в пыль измял. Тут же — Черная сова… Не раз из рук ментов выдергивала, уводила от
него погоню, беря на свои плечи лягавые «маслины», клыки овчарок.
Сколько раз, вернувшегося из ходки, принимала в долю, до возвращения своих
кентов. Никогда не обижали при дележе. Вступались, как за своего, не попрекали.
Крутит башкой Медведь. Нет, он не лажанет Шакала…
Сивый Тоже молчит. Чёрная сова его малину «в гастролях» выручила, когда одесские
законники взяли «на перья» за то, что чужаками влезли на их территорию. Не
ожмурили, но попороли всех. Черная сова не дала ожмурить. Вступилась. Отняла.
Отбила, помогла вернуться в Брянск. Навар Шакал не требовал. Дал оклематься.
Разве такое забудешь?
Сапер вздыхает. Этот лажанулся перед Шакалом давно. Еще в Воркуте. В ходке.
Зажилил хамовку, когда Шакал заболел. Думал, откидывается вовсе. И его пайку
стянул. Тот с неделю без сознания канал. И все ж оклемался, одыбался, задышал.
Помнил все. Но не вякнул на Сапера, не лажанул. Не высмеял слабину и голод. А уж
за это кенты не пощадили б…
Жмот ногтями заинтересовался. Словно век свои клешни не видел. Никого вокруг не
слышит.
Жмот свое помнит. По бухой в ресторан возник. Спутал шмару с официанткой. Забыл,
где прикипел. Полез под юбку. Девка — в крик. Жмот с нее тряпки сорвал в гневе.
Кто-то ментам засветил. Шакал с кентами выручили. Уволокли из- под носа у
лягавых.
Маленький Карат чуть под стол не лезет. В ходке лажанулся. Нарушил фартовый
закон. Наколол пацана в зоне, сделал подружкой. Силой взял. Шакал пронюхал. Но
не забрызгал. Попробуй теперь вякни — разложит, как маму родную, и глазом не
сморгнет.
Лысый Чита косится на Шакала. Черная сова у его малины все пенки сняла. А вякни,
свои же разделают под шиш. Шакал — падла! От него не знаешь, что ждать. Вон, по
молодости, полез Чита к шмаре. Она подружкой Шакала оказалась. Кто мог подумать?
Так пахан Черной совы бухому Чите подсунул ночью баруху, втрое старше Читы. Тот
утром увидел бабку, собственными яйцами чуть не подавился. А Шакал смеялся:
— Бабку тоже уважить надо. Кому, как не тебе согревать их по ночам, лечить от
полового радикулита?
С тех пор целый год староебом звал. Едва не сменил Чите кликуху. Конечно, стоило
б Шакала оттрамбовать за прошлое. Но не жмурить. Нет! — пыхтит Чита.
Подслеповатый Гнида задумчиво уставился на Шакала. Он не только его, всю Черную
сову перекрошил бы, до единого кента. Не взяли в бега, когда слиняли с Печоры.
Да и потом, все жирные, наваристые точки сами почистили. Малине Гниды оставили
мелочь. Сам Шакал Гниду не уважает. Не кентуется. Брезгует, держит за падло.
Высмеивает. Хотя Гнида стал фартовым много раньше. А Шакал все скалится:
— Смотри, Гнида, чтоб тобою ненароком по тяжкой не попользовались фартовые — в
ходке!
Гнида рассвирепел. Но Шакал и того хуже отмочил. Взял его с кентами в дело,
Дрезина велел. Все шло как по маслу. Банк тряхнули начисто. Но линяя, задел
кто-то сигнализацию. Милиция тут же загоношилась. Одного пришлось по кентелю
погладить. Пока «сидоры» с купюрами сбросили вниз кентам, тот милиционер
очухиваться стал.
— Давай Гниду вместо кляпа затолкаем в пасть лягавую! — предложил Шакал кентам.
Те, не подумав о шутке, ухватили Гниду за душу. Тот вырвался. Вылез из банка. И
все мечтал отплатить Шакалу за ту шутку.
— Ну так что вякнете? — спросил Дрезина у паханов.
— Как ты, так и мы! — подал голос Гнида.
— Чего заткнулись? — не понимал пахан.
— А что трандеть на халяву? Лажанулся не Шакал, его зелень. Он за нее не
отвечает. Да и кенты не в чести. Фаршманулись, как последние фраера! Если не
думали давать долю, на хрен клялись, да еще и трамбовали? Нет! Тут поровну
отмочено. Если Задрыгу наказывать, то и этих так же надо! — предложил Медведь.
— Ишь, шустрый! Итак кенты по ходкам канают. А ты раскидался! — возмутился
Дрезина.
— Одну Задрыгу брать за душу? Это уже не по фартовому! Лажанулись все! Тут либо
всем отпускать, либо каждого за жопу брать! — вставил Сапер.
— Они — фартовые! А Задрыга кто? Разве ровня законникам? С хрена одним разом?
Если ей теперь спустить, что дальше отмочит? Чьи кентели покатятся? — подал
голос Гнида.
— Твои! — твердо ответил Шакал.
— С хрена звереешь? Враждовать в моей хазе7-повысил голос Дрезина.
— Слово есть, — ответил Шакал, и оглядев всех, остановил взгляд на Гниде,
заговорил веско:
— Гниду вы знаете все. Я тоже считал его честным вором. Но…
— Завязывай, Шакал! Лажать кента — западло! Почему до схода молчал? Теперь,
когда он вякнул не по кайфу тебе, решил его фаршмануть? — наливались кровью
глаза Дрезины.
Гнида осмелел, почувствовав поддержку, вприщур глянул па Шакала. Усмехался
злобно.
— Почему Дрезина кенту хайло заткнул? Может, серьезное вякнет. Ведь вчера из
ходки. Когда успел бы трехнуть? — вступился за Шакала Жмот
— Он здесь до сходки возник. Нет у меня веры в запоздалое слово, — осек Дрезина
и спросил.
— Так что надумали, кенты?
Худосочный, желтолицый Пузо ерзал на стуле, поглядывал в окно. Ему плевать на
все, лишь бы успели кенты тряхнуть меховой. Сегодня туда товар завезли. Пахану
не терпится глянуть, что приволокут фартовые, какой навар возьмут? Что ж до
Шакала, он мало знал его, их тропинки не пересекались. Ему хотелось скорее
слинять отсюда — к своим. Только бы у них выгорело.
— Чего дергаешься, как на еже? Иль — вякнуть хочешь? Вали! — предложил Дрезина.
— Кончайте разборки! Жизнь и без них коротка. Решайте скорее!
— А и правда, чего резину тянем?
— Кенты? Я тоже за то! Коль сход решит — так уж по чести! Нет в деле вины одной
Задрыги! И я так думаю, что старый Сивуч не сумел ей в мозги вложить дозволенное
и запретное. Коль так, надо наказать Задрыгу и забрать ее от Сивуча!
— В малину ее! В Черную сову! В делах живо оботрется и допрет до всего сама!
— Верняк! Пускай Шакал от нее волком взвоет! — пожелал Гнида, испугавшийся
попереть против всех.
— Ас кентами Князя как будем? — спросил Дрезина.
— Я же ботал до схода, берусь вместе с кентами достать их из тюряги! — перекрыл
голоса всех Шакал.
— А для чего тебе их выручать? — удивился Дрезина.
— У нас свои счеты! — оборвал Шакал.
— Закон нарушать?!
— Не дергайся! К тебе их приведу! Всех троих! — пообещал Шакал и повернувшись к
паханам, сказал:
— В этой ходке канал со мною в бараке один фартовый по кличке Тюря. Вряд ли кто
из вас, кроме Гниды, знает его. Они отбывали в Сибири. В номерной. Три года
назад. Вместе в бега намылились. Слиняли из зоны. Неделю в тайге блудили, в
снегах. А когда нашли дорогу, Тюря уже ходули поморозил. Хилять не мог. Хамовки
мало осталось. Но Гнида есть Гнида! Все забрал у кента до последнего сухаря. И
бросил одного. В снегу… Живого. Но обмороженного! Тюря просил убить, чтоб не
досталась душа зверю.
Но Гнида рассмеялся. И ушел. Целую ночь тот отбивался от волков. А утром его
нашли местные жители. В нем уже жизни почти не осталось. Взяли они Тюрю,
выходили. На ноги поставили. Да кто-то из деревенских высветил. За ним
приехали. Замели по новой. Те жители деревни Тюре и теперь грев посылают. Ждут
его. А не фартовые… Не бросили, не прохиляли мимо, не вырвали последнее из
зубов. И ту, мороженую пайку, не отняли у обессилившего. Да за такое! — скрипнул
зубами Шакал.
— Из закона Гниду!
— Чем докажешь? — остекленели глаза Дрезины.
— Вот письмо Тюри. Он просил передать его сходу. А потому, даже если он тут и
слова не вякнул, такое я не занычил бы! — отдал письмо Шакал.
— Из паханов и из закона его — гада! В шею гнать! — зашумел сход.
Дрезина, читая письмо, бледнел:
— Кенты! Шакал не все знает. В письме большее, — и стал читать.
Гнида попытался незаметно выскользнуть. Его прихватили у двери напористые руки.
— Куда мылишься, недобитая?
Гниду выкинули из хазы лицом в пыль, без сознания. Сход вывел его из паханов и
закона, а стремачи, услышав вмиг сообщили малине о решении паханов.
— Клевая судьба твоя! — сказал Дрезина Шакалу, когда тот поздней ночью покидал
хазу пахана.
— Какой раз из ходки срываешься?
— Ни одной до конца не канал. Самое-самое два месяца! Некогда! Меня Задрыга
ждала! Ей я, как видишь, нужен!
— Будто воля дешевле, из-за зелени он смывался! Во, ферт! Ну хиляй к Задрыге! И
научи не сеять мозги в делах! — подобрел Дрезина и, придержав Шакала, сунул ему
пачку сотенных:
— Не ссы! Не кропленые. Одыбаешься, вернешь, — подтолкнул к двери.
Шакал пришел к Сивучу далеко за полночь. Капка не дождалась. Она спала,
свернувшись в клубок, от чего-то вздыхала, всхлипывала во сне.
Шакал присел рядом. Смотрел на дочь. Как выросла и изменилась его девчонка… На
худом лице не детские морщинки пролегли. Уголки губ горестно опущены. Сиротство
и одиночество наложили свою печать. Губы нервно подергиваются, дрожат плечи.
Волосы косицами прилипли к вискам. Что заботит ее? Что будоражит сны? Видно,
трудно ей жилось. Вон ладошки все в мозолях. Колени сбиты — в болячках и
царапинах.
— Капка, моя капелька, кровина моя горькая. Почему твоя доля корявее моей? Жила
бы мать, не знала б ты беды,
не училась фартовать. "Была б как все, обычной фраерихой. Теперь вот судьбой
мечена. И никуда от малины и от фарта! Скоро в дело нам. Последние спокойные сны
видишь. Как дальше сложится? Дай Бог, чтобы никто раньше времени не отнял у тебя
жизнь. Сегодня я тебя защитил. А не станет меня, кто вступится, если сама слабой
будешь?
Шакал смотрел на дочь. В ней он узнавал себя, совсем мальчишкой. Вот таким же
был, неказистым, страшненьким, угловатым и грубым, так похожим на голодную
обезьянку, сбежавшую из зоопарка.
Шакал долго стыдился своей внешности, над какой потешались все вокруг. И только
он знал, сколько потребовалось усилий, чтобы заставить окружающих уважать себя,
считаться не с внешностью — с личностью.
И вскоре оценили его кулаки, злые шутки. Перестали насмехаться, задевать
мальчишку. А он постепенно входил во вкус, понимая, что толпа глупа и труслива,
признает и уважает только силу.
Шакал был умен. Но это свое качество он прятал подальше, зная — окружение
смирится и признает многое, но не превосходство.
Именно потому держался наравне со шпаной, взрослыми парнями, рано начал курить,
выпивать, приставать к девкам.
Но… Выпивал он мало. Никогда не терял голову, не делал ничего лишнего. Играл во
взрослого. Каким был на самом деле, знал только он сам.
Девки вначале отталкивали от себя Шакала, называя шелудивой шелупенью. Не
замечали всерьез. Мальчишка искренне страдал от такого невнимания. Но случаю
угодно было все резко изменить. И здоровенный, кудрявый парень, спевший под
трехрядку похабную частушку об одной из девок, был тут же жестоко избит Шакалом,
какой вовсе не ухаживал за этой девчонкой. Она была на три года старше. Он
просто вступился за ее честь, за имя и достоинство.
— Коль девка не любит отступи. Но не мсти по-грязному. Не порочь мужичье! А
впредь услышу, самого испозорю, да так, что ни одна на тебя смотреть не станет.
Девка будет женой и матерью. Ей имя чистое — важнее чем нам! Вот только
защититься трудно от тех, кто старушечий, пересудный язык имеет. Прикуси его,
иначе с корнем вырву, из самой жопы, — пригрозил обидчику.
И чудо! Уже в этот вечер он перетанцевал со всеми девками, водившими хороводы,
пришедшими на гулянье. Они сами приглашали его, забыв о внешности и молодости.
В эту ночь он целовался на сеновале сразу с тремя. Но ни
слова похвальбы не слетело с его губ. В компании парней он не опорочил ни одну.
Зато в темных углах и на сеновалах, в кустах и в душистых стогах сена истискал
многих девок.
Подвалил и к той, что была общей забавой мужиков. И несмотря на зеленый возраст,
удивил бабу своей прытью. Та сама всему селу растрепалась, как неутомим в
постели конопатый, дерзкий мальчишка. С тех пор даже бабы посмеивались, видя его
возле какой-нибудь девахи.
В доме Шакала все шло гладко, пока жила мать. Она не ругала сына. Жалела молча,
что рожица у него от роду слегка помята. И заставляла есть.
— Авось, поправишься, красавцем станешь. И вовсе отбою от девок не будет, —
уговаривала сына. Она не перегружала детей работой. Жалела. Всюду она сама
управлялась. Но силы оказались не бесконечны…
Когда матери не стало, отец привел в дом чужую тетку и велел звать матерью. Вот
тогда он и ушел из дома. Навсегда…
Уже через год стал махровым вором. Нет, он не стопорил, никогда не был
налетчиком, не признавал майданщиков и прочую воровскую шпану. Ему, так считали
все, повезло сразу. Он попал в фартовую малину.
Случилось все в один день.
Уводил «хвост» милицию от законников. Шустрый был пацан. Шакал шел ничего не
подозревая. О своем думал. Куда голову приклонить? Ночь наступала. А тут погоня.
Милиция гонится за пацаном. Тот налетел на Шакала, сбил с ног. Упали оба.
Вскочили. Уже вдвоем рванули от погони в темень чужих дворов и подворотен.
Оторвавшись от погони, остановились дух перевести на пустыре за городом. Там —
фартовые ждали. Увидели новичка. Подумали «утка». Решили в деле проверить. И на
другой день тряхнули банк.
Новичок оказался проворным и всем пришелся по душе.
Ведь только он мог додуматься так ловко обчистить банк. И даже удивился, что это
никогда не приходило в голову фартовым.
— Зачем всем лезть в банк? Там двоих, наверное, хватит. Шума меньше будет, —
предложил тогда парнишка. И влез в банк не с черного или служебного входа, а с
крыши. На нее — по дереву взобрался. Потом на чердак. Тенью в подвал, описанный
законниками.
Ключом, сделанным по слепку, легко открыли дверь. Вынесли всего два мешка с
сотенными купюрами. И через час уже обмывали удачу.
Свою долю отдела он взял себе сам. Сказав пахану жестко:
— Я своей работе цену знаю. А ты что делал, чем помог? Хреном груши сбивал?
Пахан хотел выбросить нахала. Но фартовые вступились Не дали в обиду, оставили у
себя.
Вместе с Шакалом они мотались по гастролям целый год, пока не попались на
ювелирном магазине в Полтаве. Там их взяли всех сразу, вместе с паханом.
Потом был суд. И в первую ходку на Урал повез товарняк малину вместе с Шакалом.
Ни машинисты поезда, ни сопровождающие, ни конвой так и не увидели как, когда и
где исчезла из вагона малина. Две доски в полу оторваны… Конвой с ног сбился.
Сообщили по всем постам. Но никто ничего не видел.
Малину разыскивали долго и безуспешно. Фартовые давно уже забыли, куда собирался
их доставить хмурый конвой.
Они, обмыв очередную удачу, лапали в притонах шмар.
Что им милиция? Жизнь коротка, ею надо уметь восторгаться. И Шакал дорожил
всякой минутой.
Через пару лет он почувствовал, как люто ненавидит его пахан малины. Он караулил
всякий промах и никак не хотел принимать Шакала в закон. Тот долго терпел. Но
однажды в гастролях, когда малина дорвалась до Ростовской кубышки, Шакал не стал
вступаться за пахана. И ростовские законники пустили в клочья чужого пахана.
Остальные сбежали от расправы без царапины.
А вскоре Шакал был принят в закон. Еще через год — паханом малины, какую сам
назвал Черной совой.
Эту малину знали все. У одних она вызывала липкий ужас, у других — жгучую
зависть.
Черная сова… Ее кенты носили на шеях золотые медальоны с изображением черной
совы из черного бриллианта.
Все ее кенты имели на всякий случай помимо липовых ксив свою кубышку, куда
откладывалась доля.
С самого начала, отступив от закона и воровских правил, видавшие всякое —
фартовые оговорили себе на старость возможность иметь угол и долю. Ее они
увеличивали и собирали на старость. Какою она будет? Все ли доживут до нее?
Шакал был лучшим из паханов. Фартовые малины уважали его и слушались. В Черной
сове крайне редко случались разборки. Здесь не спешили принимать в закон и ни
одного кента за все годы не вывели из фарта.
Случались и здесь проколы. Но меньше и безболезненнее, чем у других. Если
кого-то из законников заметала милиция, кенты старались достать своего, рискуя
даже жизнями.
Малина Черная сова всегда была притягательной для воров всех возрастов. Здесь не
мокрили отколовшихся, старых фартовых. Давали им дышать, лишь бы не настучал на
фартовых. Иным даже грев давали, чтоб не голодал и не нуждался в старости.
Шакал жил как все. Легко и беззаботно, пока не встретил ту, которая стала
матерью Задрыги.
Была ли она чьею-то шмарой, Шакала не интересовало Он увидел ее в ресторане, за
маленьким столиком.
Бледная, худая, она что-то торопливо ела. Когда подошел Шакал, придвинула
тарелку к себе поближе, будто испугалась, что кто-то отнимет еду.
Он сел напротив. Кенты наблюдали за паханом.
Шакал заказал много еды и выпивку. Предложил разделить с ним ужин. Та не ломаясь
согласилась. Познакомились Разговорились. Из ресторана он увез ее на такси
поздней ночью. С тех пор стал частым гостем у нее. Забыл о шмарах.
Любил ли он ее? Конечно, но по-своему, как собственность. Иначе не ходил бы к
ней.
Шакал не спрашивал, был ли кто-нибудь помимо него у нее в гостях? Любит ли она
его? Такое ему в голову не приходило. Он слишком был уверен в себе, чтобы
сравниться с другим. А потому не ревновал, не требовал признаний в любви. Не
просил ждать, когда суды приговаривали к срокам. Он долго не задерживался в них.
Сбегал по пути или из тюрьмы, бывало из зоны.
Вот так однажды, вернувшись с очередной удачей, услышал, что его мамзель —
беременна.
— Не могу я быть отцом. Не дано такое. К чему темнить?
— А я не для тебя, для себя рожу. Твое повторение.
— Иль меня тебе мало, иль застопорить возле юбки намылилась? Верняк вякну, все
бабы умные, умеют избавляться от этого. И ты скинь. Если хочешь, чтоб я с тобой
кадрил. А нет — слиняю — пригрозил не шутя.
Но она не испугалась. Не сделала аборт. И родила Капитолину. Как и мечтала —
отцовскую копию.
Шакал, глянув на девчонку, онемел от удивления. Словно в уменьшенное зеркало
глянул. И полюбил ее сразу, без слов…
Ни в чем не знала нужды Задрыга. Мать любила дочку и радовалась, что отец
признал ее. И не упрекает, что оставила ребенка. Наоборот, заботливым стал,
внимательным. Тепла в нем поприбавилось, будто сердце оттаяло.
Имя дочери он дал сам. Из сотен одно выбрал. Самым звучным и нежным оно
показалось.
Все было бы нормально. Но… Женщины и сами не знают,
откуда в них берутся внезапные болячки. Она тоже — не предполагала. Не пошла к
врачам вовремя. Когда обратилась, было уже поздно.
Были ль у нее родственники — Шакал не знал. Хоронили ее фартовые Черной совы по
своим законам. Никого чужого не подпустили к покойной. И дочь унесли. В хазу,
чтоб не видела смерти матери, не испугалась ненароком.
С тех пор Капка росла в малине…
— Родная моя, мартышка… Капка моя… Дурочка… Какой пустой была бы жизнь без тебя,
комочек мой бедный. Мало видимся. Много думаем друг о друге. Зато теперь вместе
станем фартовать. Так сход велел, — усмехается пахан и гладит дочь по голове.
Задрыга вскакивает в ужасе.
Кто трогает ее? Кто посмел войти в спальню?
Она бросается на человека, не продрав глаза со сна. Чувствуя, что схвачена
накрепко, всадила головой в лицо.
— Капка! Остынь, лярва! — услышала знакомый голос И клацнув зубами возле уха,
успела сдержаться:
— Это ты, пахан? — спросила хрипло, почти проснувшись И тут же получила
затрещину.
— Не кидайся на своих! Пора научиться отличать! — встал Шакал. И велел строго:
— Живо собирайся! Смываемся! Насовсем!
— Меня не замокрят? — спросила Задрыга отца.
— Ботали, мол, рановато «зелень» косить! Подождут, посмотрят, какая зараза из
нее вырастет в Черной сове. Велели у себя приморить.
— Во, кайф! Выходит, вместе в дела ходить будем? — обрадовалась Задрыга,
выкатившись из спальни через минуту уже одетая, готовая в дорогу.
Прощание с Сивучем было спешным, коротким.
— Спасибо тебе, кент! — обнял Шакал старого законника и, пошуршав в кармане,
отделил от пачки сотенных половину, отдал старику.
— Днями нарисуюсь, — пообещал Шакал. Сивуч кивнул молча. Притянул к себе
Задрыгу. Обнял, прижался щетинистой щекой к острой мордашке. Капка отскочила
дикой кошкой, не привыкла к нежностям.
— Ладно, отваливайте! Бог с вами, в пути, — пожелал коротко. И выйдя за порог,
долго вслушивался в стихающий звук шагов.
Капка была единственной девчонкой, какую учил законник всем фартовым
премудростям, готовая к жизни трудной и суровой.
Все ли он предусмотрел? Это покажет будущее, в нем мало что можно предвидеть и
предугадать.
Уходит Задрыга. Навсегда. С отцом, вряд ли она придет когда-нибудь к Сивучу.
Вряд ли навестит.
Холодна ее душа. Нет тепла и сочувствия. Настоящий шакаленок. Такие по голоду
кровных родителей не щадят. Разносят в клочья. О чужих совсем не помнят. Вон как
спешны шаги ее. Ни разу не замедлила их, не оглянулась. Уже запамятовала. Девка.
Волос длинный, память короткая. Но эта — зубаста. Такую из жизни никто не
вышибет, — улыбнулся законник и, вздохнув, ушел в дом, плотно закрыв за собою
двери.
Капка вместе с отцом вскоре оказалась в хазе, где двое кентов из отцовской
малины уже навели марафет, приготовили на стол. И, поглядев на часы, сказали,
что с минуты на минуту ждут Боцмана. Он, мол, уже рисовался…
— Дело есть. Малину Князя с тюряги достать надо. Самого, вместе с Фросей —
лягавые расписали. Трое законников канать остались без пахана, — сказал Шакал.
— На хрен они нам? — услышал в ответ.
— Должок меж нами. За Капку. Да и Дрезине слово дал. Вы ссыте, обойдусь сам —
ответил резко.
— Кого бы другого достать! А от их лидеров — зенки сгниют смотреть на них!
Вонючки — не фартовые! На хрен кентоваться с ними!
— Завязывай треп! Я слово дал! — осек Шакал кентов.
В дверь боком протискивался Боцман. Он нес кульки и
свертки, сгрузил их на стол.
— Задрыга! На стрему! — велел Шакал Капке и указал на дверь.
Девчонка, вильнув глазами на стол, скорчила недовольную рожу.
— Шустро выметайся! — грохнул по столу кулаком пахан так, что на нем все
задрожало, посыпалось.
Задрыга молнией вылетела в дверь, закрыла ее поплотнее, прижала спиной. Таким
злым она еще не видела Шакала. И поняла по-своему, что не терпит Шакал
непослушания.
Капка стремачила хазу так, как учил Сивуч. Саму ее никто бы не приметил, а вот
она видела всех. Кто тут живет, кто мимо идет, каждого запоминала.
Задрыга внимательно следила, чтобы никто чужой не подошел и не вошел в хазу.
— Хоть бы похавать кинули, — подумала девчонка, придержав урчащий живот.
Время пошло к вечеру, когда в приоткрывшуюся дверь
высунулась голова Глыбы. Он позвал Капку в хазу. Сам остался стремачить,
медленно курил, прислушивался, присматривался, что делается вокруг.
Капка тихо скользнула в дверь. Встала возле стены, ожидая, когда позовут к
столу.
Еще Сивуч учил, что законники не едят за одним столом с теми, кто не принят в
фарт. И Капка понимала, это правило — без исключений.
Боцман указал ей на табуретку. Потом подал на тарелке хлеб и колбасу, сыр и
творог.
Огурцы и помидоры подвинул Таранка. Молча, взглядом приказав схарчить все без
остатка.
Капка села возле стены, на полу. Ела жадно, подбирая крошки. Она так
проголодалась, что из горла поневоле вырывался стон.
Шакал глянул на дочь через плечо. Увидел, что все съедено вмиг. Велел сухо:
— Хиляй на стрему!
Капка только потянулась к воде, тут же отдернула руку, выбежала из хазы, молча
обидевшись на отца.
Лишь глубокой ночью позвали девчонку внутрь. Капка успела продрогнуть и вся
тряслась.
— Угомонись. Че дрожишь, будто к мусорам влипла. Давай слушай, что я тебе ботну!
— рассмеялся отец, и притянув дочь к себе, заговорил:
— Кентов нам выручить надо! Из тюряги достать. Слышь, Задрыга? И ты с нами
похиляешь. Сгодишься там.
— Мы тюрягу будем трясти? — изумилась Капка.
— На кой она нам усралась? Нынче утром кентов повезут на допрос в прокуратуру. В
машине, секешь? А по пути мы застопорим. Доперло до тебя?
— В машине конвой!
— А что он нам? Не его достать нужно! Фартовых обычно закрывают в кузов для
надежности. Случается, оставляют им одного конвоира, второй — в кабине с
шофером. Из тюрьмы в город ведут две дороги. Одна — через лес. Вторая по
открытому месту, но через реку. Вброд не решатся. Не перескочат. А мост —
жидкий. Да и место безлюдное — пустое Слинять там тяжко. Притыриться негде.
Придется вплавь смываться.
— Одно лихо, пахан, все ль кенты Князя в воде держатся. Дошло до меня, что
Пузырь топором плавает, — засомневался Таранка.
— Кончай трехать! Достанем и доставим. Пусть он мне тогда откажет в банке.
Тряхнем и слиняем. В Чернигов и в Полтаву, там мы давно не возникали! —
усмехнулся Шакал.
— Зачем по деревням? — удивился Глыба.
— По городам нас лягавые шмонать будут. Или ты по УГРО соскучился? Давно тебя
там вместе с мудями в дверях зажимали?
— Ой, блядь! — невольно взвыл фартовый, вспоминая прошлое.
— То-то! В глуши нас накрыть не. обломится мусорам.
— Это Полтава — глушь? Чернигов? — изумился Таранка. И рассмеялся, ощерив
редкие, черные От чифира зубы.
— Клянусь последними жевалками, там рыжухи — хоть жопой ешь! Барухи махровые и
пархатых полно! А кентов! Насшибаем на полную малину.
— Кончай заливать! Хиляем! — осек Шакал. И Черная сова, едва прикрыв дверь хазы,
растворилась в темноте.
Задрыга шла след в след за паханом, легко, не шурша, не спотыкаясь, словно
скользила в темноте. Ни шагов, ни дыхания не слышно. Шакал радуется, что так
хорошо вымуштровал Капку Сивуч.
Когда пришли к мосту, Шакал велел всем спуститься вниз. Там, под тихий шелест
воды, законники выбили несущую опору. Теперь по мосту не только проехать, а и
пройти стало опасно. Хотя внешне ничего не было заметно.
— Теперь бы никто их не опередил.
— Хоть бы лесом не повезли их, — крутил башкой Глыба. А Боцман, сплюнув в
сторону, сказал пренебрежительно:
— Коль суждено, достанем!
Фартовые сидели под мостом, прислушивались к каждому звуку и шороху.
Вот и рассвет занялся вдали. Над рекой туман поплыл белыми рваными клочьями.
Капке так хочется спать. Голова сама на плечо валится. Все тело, словно ватное.
Но кемарить нельзя, щипает себя Задрыга за плечо. И снова вскидывает голову.
Вот и солнце встает. Лучи в глаза лезут, вышибают слезы. Нельзя спать.
— А что если «воронок» в воду ухнет? Как кентов достанем?
— Их не в «воронке», в ЗАКе повезут. Это как два пальца! В тюряге нет воронов,
там только падлы! — перебил Глыбу Таранка.
Едва утро набрало силу, Шакал велел кентам занять свои места.
Задрыга следила за дорогой. Она, завидев машину, должна сразу предупредить
кентов. Те вмиг окончательно вышибали
основную и боковые опоры. Как только машина въезжала на мост, она тут же падала
в воду. Дальше — все просто… Законники умели в секунды вытащить из машины своих.
Капка первой увидела грузную черную машину, неспешно идущую к реке. Задрыга
подала знак малине и замерла. ЗАК свернул в сторону от дороги, ведущей к мосту,
и шел к реке, ковыляя и хромая на всякой выбоине.
Капка похолодела. Шофер решил переехать реку вброд, не доверил мосту и вот-вот
подойдет к спуску.
Задрыга бросилась в воду не раздумывая.
Фартовые, глянув на нее, не сразу сообразили, что произошло. И только увидев
барахтающуюся в воде Капку, поняли, что придумала. А девчонка кружа в воронке,
ныряла в воду с головой, то снова выскакивала, судорожно дергаясь, махала
руками, кричала во все горло.
— Тону! Помогите!
Машина уже вошла в реку, когда водитель заметил Капку и осторожно, нащупывая
дно, вел машину поближе к тонущей. Та визжала, выла, изображая страх ломала
комедию. Из зарешеченного окна смотрели на Капку смеясь трое воров из малины
Князя. Она их узнала сразу.
— Спасите! — дрожала, хрипела горлом Задрыга, и единственный охранник — не
выдержал. Выскочил из кабины, бросился вплавь на помощь. Необычная ситуация
возникла. Нельзя проехать мимо беды.
Едва приблизился к Задрыге, та ухватила охранника за руку, словно нечаянно,
рванулась к нему, округлив глаза, внезапно резко поддала коленом в пах.
Охранник мешком пошел на дно. На помощь ему, не понимая что случилось, бросился
водитель. Он так и не увидел, кто так больно ударил ему по шее ребром ладони.
Через пару минут на реке все было тихо. Лишь старый ЗАК, уткнувшись тупой мордой
в воду, удивленно таращился на берег глазами-фарами. До него оставалось совсем
немного. Да не повезло, не довели, не дожили. Лишь трое воров, выскочивших из
утробы машины, бросились очертя голову подальше от машины и реки, следом за
Черной совой.
Едва Капитолина лишила сознания водителя, Шакал бросился к машине. Капка уже
нашла ключи в кармане охранника, передала Шакалу. Тот открыл дверцу, выпустил
кентов, сказав короткое:
— Хиляем к Дрезине…
Фартовые Черной совы не любили тех, кто хоть однажды увидел их в лицо. Потому не
вытащили на берег водителя и
охранника. Дали реке расправиться с ними, а сами торопливо заспешили в город.
Дрезина, узнав, кто просится к нему, распахнул дверь. Сам вышел навстречу:
— Ну, Шакал! Ну и пес! Вякнул и заметано! Достал! Как же ты увел их?
— Задрыга! Она доперла, что отмочить надо! Сами другое мастырили! — признался
пахан.
Когда Дрезина услышал, как удалось малине вытащить законников Князя, оглядел
троих фартовых и глухо сказал, обращаясь ко всем:
— Задрыгу беречь! На стреме — не морить, в шестерках — не держать! Она — наша!
Пусть фартует, Сивучья подмена. Ишь, какую кентуху Подарил, хмырь облезлый! А мы
ее мокрить хотели. Она ж, во, падла, чище всех сработала! Одна! За всю малину! И
вы — отныне обязанники ее, — ткнул в сторону кентов Князя.
— Возьми их, Шакал, к себе! Если душа лежит. Пусть у тебя фартуют, — предложил
Дрезина.
— Нет! Я не возьму! Они Задрыгу трамбовали. Неровен час, вспомнится и размажу
всех. Не хочу закон нарушать и клешни марать. Я тебе слово дал. Я его сдержал.
За Задрыгу — отпахал. Теперь я не должник. И Задрыга чиста перед ними.
Расквитались. Теперь разбежимся, как катяхи в луже. Кентоваться с ними не будем.
Душа не лежит, И в обязанниках не сдышимся. Пусть срываются от меня. Не то, коль
бухну, все им вспомню, — отвернулся Шакал.
— Воля твоя, — согласился Дрезина тут же.
— У меня к тебе слово. Но без ушей, — попросил пахан Черной совы. И уединившись,
настоял, чтобы разрешил Дрезина тряхнуть банк Черной сове. Тот, немного
покуражившись, согласился, оговорив и свою долю от дела, если оно выгорит.
Милиция Брянска сбилась с ног, разыскивая сбежавших воров. Никто не мог понять,
как сумели фартовые остановить машину, утопить водителя и охранника, сбежать
среди белого дня?
А Черная сова уже забыла о недавнем, замышляла новое дерзкое дело. Шакал даже о
кентах Князя не вспоминал, а уж заботы милиции его никогда не трогали.
Между тем, на помощь милиции города прислали опытных районных сотрудников. Среди
них известен был один. Он проработал в угрозыске всю свою жизнь. Но возраст
сделал свое, и человека отправили в район, спокойно дотянуть до пенсии.
Знали, за этим человеком охотилась шпана и фартовые. Не раз его зажимали с пером
в темной подворотне. Стреляли из-за угла. Но судьба в последний момент, словно
всем в насмешку, сохраняла, вырывала из рук смерти. И человек снова жил и
работал, назло замышляемым расправам и врагам.
Он знал в лицо всех блатных города, помнил каждого фартового, проходившего по
делу в брянском УГРО. Этой его феноменальной памяти боялись все воры.
Николай Дмитриевич Степанов ничем особо не выделялся. Разве только тем, что при
нем законники не задерживались в Брянске, зная, Степанов — накроет внезапно. Из
его лап — не вырваться. Слишком хорошо он знал законников. Оттого провести его
было почти невозможно. Он был упрям и неподкупен.
Услышав о побеге из машины троих фартовых, он сразу сказал, что уйти им помогли
свои же законники.
— Кто именно вытащил, сказать сложно. На это мог решиться любой, даже не
состоящий в законе. Одно удивительно, что водитель и охранник умерли не от
ножевых или пулевых ран. А значит, сами вышли из машины. Не предполагали исхода
и не знали о грозящей опасности. Следовало бы подумать о какой-то уловке,
хитрости. Но что это устроено фартовыми — сомнений нет! — сказал он вслух и
продолжил:
— Вспомните, кто освободился, кто — в бегах. Эти за навар на все пойдут.
Вот тут кто-то невзначай сказал о Шакале и его кентах из Черной совы.
— Ну нет! Шакал — не столь глуп, чтобы вернуться туда, где был много раз судим,
где его все знают. Залег теперь на дно. Пережидает время. Он скоро не объявится.
Вероятнее — в гастролях мотается, — возразил следователь Васильев.
— Шакал? Он никогда «не уходил на дно». Не прятался и не боялся никого! У него
прочная малина. А главное — самая свирепая и непредсказуемая — Черная сова!
Дурная слава о ней от Мурманска до Магадана облетела все зоны.
— Что ж вы ее не выловили в свое время?
— Много раз. Иначе не был бы он судим. Но в том-то и беда, что попав в тюрьму
иль зону, вскоре уходил в бега вместе со своими фартовыми. Шакал слишком хитер,
изворотлив. Но… Постоянен в одном — люто ненавидит милицию.
— Не ново! Все они нас ненавидят.
— У этого еще и повод есть! Он о нем всегда помнит. Когда его первый раз поймали
наши оперативники, чуть не убили в дежурной части. Вместе с ним был такой же вор
—
ровесник Шакала. Так вот тому «конвейер» опера устроили. На глазах Шакала.
Десятеро одного петушили. Обоим в то время лет по двадцать было. С тех пор Шакал
милицию не проходит мимо. Чуть малейшая возможность — убивает тут же. За того
кента. Тот умер. В дежурке… Перед смертью так всех нас клял…
— Ну, знаете, Николай Дмитриевич, я не столь чувствителен и сентиментален, как
вы. И воров, да еще мстителей, предпочитаю изучать не на воле, а за решеткой. И
коли он в Брянске, наши осведомители помогут его найти и упрятать, там и узнаем,
кто виноват в смерти конвоира и водителя…
— Удачи вам! — пожелал Степанов и уходя посоветовал:
— Если надумаете появиться в Заломах, этот район давно обжит шпаной всяких
мастей, то не объявляйтесь там в форме. И оперативники должны это учесть. Помимо
успеха в задуманном, вы сохраните жизнь себе и сотрудникам, — предупредил
коллегу.
Тот ничего не ответил, но вызвав осведомителя, долго говорил с ним, закрывшись в
кабинете.
Осведомитель работал санитаром в санэпидстанции. Отлавливал бродячих собак и
кошек. Занимался этим много лет. От него за версту несло псиной, и даже алкаши,
ночующие под заборами, обходили его за версту. Егора это не смущало.
Поговорив с Васильевым, он шмыгнул из милиции в безлюдный проулок и со всех ног
помчался домой. Назавтра ему предстоял трудный день.
…Эта ночь выдалась по-особому глухой и темной. Свет уличных фонарей казался
тусклым. Он не освещал тротуары и пешеходов, он едва справлялся с темнотой,
навалившейся сверху.
Улицы города быстро пустели. Редкие машины, прошуршав шинами, торопились уйти
поскорее от надвигавшейся ночи.
К полуночи город будто вымер. Ни звука, ни огонька, ни человечьей фигуры вокруг.
Даже деревья стояли молчаливо, боясь пошевелить ветвями. Все уснуло в кромешной
тьме. Город стал похож на громадное, молчаливое кладбище с домами-могильниками.
И ни одно даже опытное ухо, ни один зоркий глаз не мог бы увидеть или услышать
шагов людей, крадущихся закоулком. Вот они остановились. Вдавились в стену,
замерли, вслушиваясь в ночь.
— Задрыга, давай! — послышалось тихое. И маленькая, железная «кошка», невидимо
свистнув веревкой, впилась в решетку окна банка на третьем этаже.
Форточка в нем никогда не закрывалась. Не подключалась и сигнализация. К чему?
Ведь здесь был туалет. Кто в него полезет? Так думали все.
Капка, а за нею Таранка быстро взобрались на окно, влезли в форточку. По
винтовой служебной лестнице спускались, затаив дыхание.
Вот «сундук», подвальная комната, где лежат деньги. Охрана совсем рядом — слышны
тихие голоса, чье-то похрапыванье.
Таранка тихо, не дыша, проходит в служебную столовую, из нее боковая дверь ведет
в архив. Он примыкал к подвальному складу и имел общую вентиляцию, какая много
лет не работала, а потому была демонтирована. Осталась лишь дыра в стене,
забитая фанерой. Ее Таранка снял легко, без шума. И тут же протолкнул внутрь
Задрыгу…
Та управлялась быстро, отличая наощупь, как учил Сивуч, мешки с сотенными
купюрами.
— Пять… По одному на кента. Больше нельзя. Жадность фраера губит, — вспомнила
Задрыга и послушно вылезла из подвала, сыпанув туда горсть махорки.
Уходя, она засыпала ею свои следы и следы Таранки. Тот вылез из форточки после
Задрыги. Легко спустился вниз. Шакал, подбросив веревкой, отцепил «кошку» и
малина вскоре растворилась в ночи, вернулась в хазу.
Глыба радовался больше всех… Когда-то мальчишкой- ремесленником строил этот
банк. Тогда он был совсем другим человеком. Не думал, что знание объекта
пригодится совсем для других дел. А ведь этот банк обживался и обустраивался на
его глазах. Фэзэушники помогали носить мебель. Им верили. Им рассказывали, каким
будет банк. И ребята старались, помогали взрослым. Верили, что этот банк и
впрямь — народный. Стоит только принести накопленные — как на них пойдут
проценты.
По половине из заработка приносил сюда Глыба. Работая на стройке по две смены.
Во всем себе отказывал. Даже в кино не ходил. Запасных носков не имел. Все клал
на счет в сберкассу. Она тогда была на первом этаже банка. Ох, как мечтал тогда
мальчишка о мотоцикле с коляской! И о том, как обставит свою комнату, какую ему
обещали в новом доме.
— Привезу Настю! Поженимся с нею. В городской квартире ей понравится, — думалось
ему.
Четыре года прошло. Вклад на книжке и впрямь вырос. Решил Глыба поехать в
деревню за невестой. Собираться начал. А тут объявили о денежной реформе. От
вклада остались жалкие гроши.
Глыба тогда чуть не свихнулся. Ему долго не верилось в
случившееся. Государство, где он родился и вырос, так люто обмануло и ограбило
его. Ведь каждая копейка вклада была щедро полита его потом. Сколько раз
отказывал себе в еде… Одевался хуже всех. Берег, копил на будущее. А его отняли…
В тот день он напился с горя до беспамятства. Просадил всю зарплату. И костылял
власти на весь пивбар. Случайные собутыльники кивали. Когда из-за соседней
стойки подошли двое, собутыльники уволокли Костю подальше от беды. Он плакал и
пил. Он долго не мог смириться с реформой, перестал верить в слова и обещания,
его тошнило от газет и радио. Он материл портреты и памятники. Он жил одной
мечтой — отомстить за брехню.
Послушав его, Шакал поднял Глыбу с парковой скамьи среди ночи. Взял в стремачи,
не вдаваясь в подробности. Малина в тот день трясла универмаг. И Глыбе пришлось
отбиваться от троих милиционеров. Кто-то из кентов задел сигнализацию. Фартовые
сбежали. А Глыба, раскидав в злобе милицию, побрел за город. По пути его нагнал
Шакал…
— Вот твоя доля! — сунул в руки пачки денег. Костя онемел. Понял, с кем
повстречался, кому помогал. А Шакал сказал тихо:
— Это за отнятое! Свое вернул! Ты — не украл, лишь возместил. Секешь?
— Дошло! — выдохнул Костя. И поплелся за Шакалом. Через ночь, через годы, через
тюрьмы и зоны, через радости и муки. Он ни разу не пожалел, что связал свою
судьбу с Черной совой. У нее не было реформы. Здесь кенты держали слово. Никто
никого не обжимал на положняке, в беде друг друга не бросали. И даже в тюрьмы,
зоны, присылали еду, одежду, деньги.
Глыба навсегда запомнил случай, врезавшийся в память. Загремел он в ходку на
пятнадцать лет. В саму Воркуту увезли его хмурые конвоиры. А через два месяца
вызвали его на личное свидание с матерью.
Когда Глыба вошел в комнату, чуть дара речи не лишился, узнал Шакала одетого в
бабье.
Вместо сисек — пачки чая, вместо задницы — грелка с водкой. На животе — мешок с
купюрами. Он и помог… Вырвал Шакал Глыбу из зоны на вторую ночь. Увез в
купированном вагоне к морю, к малине. Заставил забыть все.
Глыба всегда помнил тот случай. И Шакала, который вмиг понял удивление кента. И
чтобы тот не выдал ненароком, кинулся на шею, со словами:
— Сынок, родный цыпленок! — целовать стал.
Глыба долго смеялся, вспоминая то свидание. Конечно, не
его одного вытаскивал из ходок Шакал. Все кенты были ему обязаны. Пахан никогда,
никому не напоминал о своем.
Молчал и Глыба. Лишь радовался, тряхнуть банк в Брянске было его заветной
мечтой. Ведь именно в нем остались отнятые реформой деньги. Именно там обманули,
отняли все, посулив красивую сказку, бросили в пропасть.
Глыба торжествовал. Он отомстил. Вернул свое с лихвой. Не шевельнув пальцем, не
голодая. Костя дрожал от радости.
Нет у него квартиры, лишь тюремные камеры, да холодные шконки в зонах стали его
пристанищем. Давно вышла замуж Настя. За другого. Теперь уж, видно, свекровью
стала, а может и бабкой…
Она забыла Костю. Да и он уже совсем редко вспоминал ее. К чему пустым голову
забивать? — накрывает на стол, поторапливает Задрыгу. Та вдруг остановилась, в
окно уставилась. Внимательно следила за мужиком, какой гнался с сеткой за
собачонкой. Та удирала от мародера с визгом. Вот она забилась под порог хазы
Шакала. Мужик развернул сетку и длинной ручкой выковыривал псину из-под порога.
Прислушивался, что творится за дверью.
Задрыга тихо вышла в коридор. Резко открыв дверь, сшибла с ног Егора. И ухватив
сетку, изорвала, изломала в щепки.
— Чего тут шаришь, ворюга вонючая? Что высматриваешь? Или шею давно не ломали
гавенной кучке? А ну! Пошел вон! Не то бабам скажу! Они тебе живо яйцы вырвут! —
кричала во все горло.
— Да тихо ты! — приложил палец к губам. И сказал шепотом:
— Ты не ори, как оглашенная. Мне другие нужны. Слышь, может видела? Говорят,
ворюги тут скрываются. Мужики! Днем спят, ночами город грабят. Слыхала про
таких? — подошел к Задрыге поближе. И вытащив измятый рубль, пообещал:
— Расскажешь, на конфеты дам…
Задрыга засопела, уставившись на рубль, закрутила острым задом на чурбаке, шумно
сглотнула слюни.
— А ты меня возьмешь с собою воров ловить? — спросила тихо.
— С этим милиция управится и без нас, — ответил ей на ухо.
— Я сама не знаю, но от мамки слышала, что все воры теперь на кладбище прячутся.
В город показываться боятся. Зато мимо кладбища — не проходи. Всех ловят. И
детей…
— Это брехня! Зачем ворам дети? Ты такая большая, а в
глупости веришь? — удивился Егор. И заглянув через плечо девчонки в коридор,
спросил:
— А ты чья будешь? Что-то я тебя никогда раньше не видел здесь.
— С деревни мы. Недавно сюда перебрались, — наблюдала Задрыга за Егором. И все
думала, как с ним разделаться, как вдруг внезапно ее одолел приступ кашля.
— Что это с тобой? От чего так заходишься? — удивился Егор.
— Чахотка у нас. Семейная болезнь. Оттого с деревни уехали. Нас там никто к себе
не пускал. Заразы боялись. У мамки, когда кашель одолевает, кровь с горла идет.
А меня за это из школы убрали. Сказали, ни к чему учиться. Все равно скоро
помру…
Егор, услышав это, подскочил как ужаленный, заспешил к повозке.
— Дядь! Рубль дай! На конфеты! Ведь обещал! А то собак выпущу! — пригрозила
Капка. Но Егор ударил кнутом по бокам лошадей. Те взяли с места рысью.
Далеко-далеко разносилась мужичья брань.
— Послали, матерь вашу, к беркулезным, какие не то землю, воздух портят! Они и
без вас, милиционеров, скоро на погосте будут. Тоже мне — воров искать отправили
серед инфекции! Я еще себя не проклял, чтоб заразу подхватить! Сами воров ищите
в своих Заломах. С меня будя! Не свихнулся! И на собачках проживу! — Мчался,
поднимая пыль по дороге.
Задрыга вернулась в хазу хохоча.
— Фискал засветился! Осведомитель от лягашки! — рассказала фартовым, что
случилось во дворе.
Законники Черной совы слушали молча. Не смеялись.
— Срываться надо! — хмуро обронил Глыба, оглядев кентов.
— Смотаемся. Но прежде Дрезине долю надо отвалить, — напомнил Шакал и разделив
долю пахана на всех кентов, повернулся к Задрыге:
— Мы к Дрезине хиляем. Помнишь его хазу?
Капка кивнула.
— Туда возникнешь, если совсем хило будет. Доперла? Менты могут сюда
притащиться. Отмылься от них. Коли приморятся — на крыльце ведро оставь. Мы его
приметим!
— Куда им после сявки! Они за свою шкуру держатся! — не поверил Таранка.
Боцман потрепал Капку по голове, сказав короткое:
— Отдохни от нас, кентуха!
Фартовые ушли, не ожидая наступления темноты. Шакал
решил, вернувшись в хазу, собраться в дорогу и уехать из Брянска надолго.
Законники шли под «маскарадом». Их невозможно было узнать даже опытному
следователю. Парики, накладная борода у Шакала, усы и бакенбарды, изменившие
лица до неузнаваемости. Они понимали, милиция не сидит сложа руки. И будет
искать их повсюду.
Фартовые заметили нездоровое оживление на городских улицах. Жители уже узнали о
случившемся в банке и разносили слухи, один другого невероятнее:
— Всю охрану убили изверги! Никого в живых не оставили! Вот дожили! Скоро из
дома не выйдешь! — охала толстуха среди улицы, рассказывая встречным об
услышанном.
— Да никого не убили! Деньги унесли и все! — оборвал мужик из окна.
— Кто бы дал им так запросто украсть! Знамо, без крови не обошлось! — не
соглашалась баба.
— Говорят, из Ростова воры приехали. Их уже поймали. Десять бандитов!
— Слыхал, всех собак отравили, свет обрезали, телефоны и сигнализацию отключили!
Вот скоты! Работать и жить как нормальные люди не хотят! — размахивал руками
старик, сидя на скамье среди старух.
Глыба, проходя мимо, зубами скрипнул. Эх, сказать бы старому козлу, — подумалось
невольное. Но прошел мимо молча.
То тут, то там, в машинах и пешком, сновала по улицам милиция, вглядываясь в
лица горожан, словно впервые их увидела. И фартовые, от греха подальше, скрылись
в боковые проулки — тихие и неприметные…
Следователь Васильев с нетерпением ждал возвращения Егора. Тот, едва вошел в
кабинет, злобой зашелся, мол, зачем милиция его здоровьем рискует. И рассказал о
случившемся.
Виктор Федорович слушал усмехаясь. Не верил. Засомневался молча:
— Ну, какая баба поедет из деревни в город лечить туберкулез? Там — все готовое
— и молоко, и хлеб, и воздух — не сравнишь с городским. Там и домишко имелся, и
родня… Ну, была бы баба одна, тут же — с девчонкой! Да ее в больницу вмиг бы
уложили и не выпустили б, либо вылечили, либо схоронили. Это точно! Надо
проверить, послать кого- то! Но кто пойдет, услышав такое? Если только самому
вместе со Степановым нагрянуть? Но и тут прокол получился. Осведомитель сказал,
что ищет воров. Девчонка, если связана с фартовыми или шпаной, конечно, уже
сказала им, зачем
приезжал Егор, и те успели уйти. В Заломах их искать бесполезно. Да и кто из
законников, обобрав банк, будет дожидаться милицию? Такого не бывало. Но ту
девчонку стоило бы повидать. Если она сказала правду, что ж, пойму и сомнения
развею, а если нет — прослежу за ней, — решил следователь и, взяв- двоих
оперативников, пошел 6 Заломы.
Капка давно прибрала в хазе. Как Сивуч учил. Деньги малина спрятала неподалеку в
заброшенном подвале, закидав его сверху старым хламом.
Задрыга играла с черной собачонкой, когда та вдруг насторожилась, прислушалась и
бросилась к двери с лаем. В окно постучали. Громко, настырно. И голос снаружи
сказал требовательно:
— Пожарная инспекция!.Откройте для проверки!
Капка вышла с ведром в руке. Оставила на крыльце. Дверь
спиной придержала, оглядев незваных гостей спросила:
— А бумажка есть, что вы — пожарники? Разрешение на проверку имеете? Если нет —
не пущу, мамка не велит. Ругать станет, — держала двери не шевелясь.
— О нас по радио предупреждали, — нашелся Васильев.
— И о ворах по радио говорят. А я откуда знаю, кто вы?
— Воры не стучат. Они сразу входят, — встрял оперативник.
— Я не знаю, как кто входит, мне мамка никого не велела пускать.
— А где она? — спросил Васильев.
— В городе. В больницу пошла. Она там лечится. И мне таблетки приносит.
— Какие? — насторожился Васильев.
— Горькие.
Капка сразу поняла, кто пришел к ней в хазу. И напряженно думала, как избавиться
ей от непрошенных гостей.
Васильев спрашивал ее, из какой деревни приехали они с матерью, где она училась?
Задрыга усмехнулась:
— Вы печку проверять пришли или нас с мамкой? — съязвила тут же.
Оперативники, потеряв терпение, оторвали девчонку от двери. Вошли в хазу под
громкий вой Задрыги.
— Помогите! Воры!
И тут же, будто по сигналу, из всех дверей выскочили алкаши и мелкая шпана. Всех
их щедро подкармливал Шакал. Узнав в пришедших следователя милиции, взялись за
колья, дубинки. Взяли в кольцо, плотное, непробиваемое.
— Чего к девчонке пристали? Что нужно от нее? Силовать хотели? — поднял первым
дубинку махровый забулдыга, какого не раз колотили в вытрезвителе опера.
— Лягавые собаки! — взвизгнула какая-то ханыга за спинами мужиков.
— Бей мусоров! — пронеслось над головами.
Никто не хотел слушать Васильева. Заломская свора облепила чужаков. Ненависть к
ним сидела в каждом. Всякий заломец носил отметины милиции на судьбе и теле, на
своей биографии и подмоченной репутации.
— Не трогали мы ее, не обидели! — пытался образумить толпу Васильев. Но его
слова не убедили, не остановили никого. Нужен был повод. Им стал приход милиции.
Васильев знал, слышал, что в Заломах, случалось, расправлялись с милицией. А
потому безоружными туда не появлялся никто.
Едва его достали колом, следователь вырвал из кобуры наган.
Направил в ударившего. Тот вмиг отрезвел. Выронил из рук кол, умолк.
Примеру Васильева последовали оперативники.
— Кирюхи! Нас на пушку берут! Эй, кореши! Лягавых припутали! Давайте зароем их
тут! — орала толпа, не рисковавшая подойти к милиции вплотную.
Как ни паскудна эта жизнь, но она лучше смерти. С нею не хотели расставаться и
пропойцы, даже за хорошее угощение от Шакала.
Да и Васильев, увидев пустую комнату, потерял всякий интерес к проверке,
понемногу отходил от крыльца, внимательно следил за толпой. Нет, в этой своре он
не узнал ни одного законника или шмары. Одна городская накипь. Среди таких не
живут фартовые. Им это западло, вспомнил фартовое словечко, и отступив на
городскую дорогу, остановил первую машину, вместе с оперативниками вернулся в
отделение, где дотошный Степанов, расспросив о неудачном визите, громко и обидно
смеялся.
— На рожон полезли, коллеги? Терпения не хватило? Зачем надо было врать?
Пожарником назвались! К чему? Да нас в Заломах не только люди, всякая собака
знает! Ведь вы не только собой, сотрудниками рисковали. Куда ж воров поймать?
Противник умнее вас! А значит, проиграли вы! Воры кентов берегут куда как
больше, чем вы своих сотрудников. С девчонкой спасовали. Она вам нос утерла! На
простом, банальном приловила. Вы это должны были предвидеть. Скажите спасибо,
что без потерь вернулись. Но теперь вам в Заломах показываться нельзя. Это я вам
всерьез советую.
— Почему?
— Оружие вы достали. Там такое помнят долго. И не прощают. Скажу прямо, это дело
вам не потянуть. Не сердитесь, коллега! Но методы у вас не те, и опыта не
хватает…
Васильев, потирая ушибленное плечо, молча поклялся самому себе довести до конца
дело по побегу малины Князя… Он даже не подозревал, на чей след вышел. И вздумал
уже завтра послать в Заломы другого осведомителя. Хитрого пьянчугу — Гошу…
Пока Васильев со Степановым обговаривали, как лучше пристроить в Заломах «утку»,
Черная сова уже уезжала из Брянска.
Фартовые вернулись в хазу к полуночи. Узнав от Задрыги, что произошло в их
отсутствие, законники дали шпане положняк за защиту. Но упрекнули за хреновую
стрему, мол, почему к хазе подпустили? Сказав, что такие стремачи малине не по
кайфу, будут менять хазу, где за такой же навар шестерки своими жевалками
лягавых порвут.
Алкаши просили остаться, клялись, что станут стремачить файно. Но законники
погрузили в легковушки свое барахло и укатили не прощаясь.
— Пусть думают, что мы обиделись, а они — навар потеряли. Злей с лягавыми будут.
Не спустят им и наш отъезд. С кого теперь им тянуть на выпивон и хамовку?
Придется самим дергаться. А знай они, что мы линяем из Брянска, магарыч
потребовали бы. У нас — все кропленые купюры — банковские. На них шпана
попухнет. В лягашке затрамбуют. Повесят им на кентели — банк. А если не докажут,
приклеют связь с фартовыми. И тоже упекут. Зачем им это горе? Пусть дышат на
воле.
— А у тебя были деньги Дрезины, — напомнила Задрыга.
— Я их Сивучу отдал. Все. За тебя! Пофартил мне старый хрен. Уж не лажанулся с
тобой. Вот и я… фаршмануться не хотел. Доволен остался, — улыбался Шакал,
внимательно следивший за дорогой.
Дважды останавливали машину сотрудники милиции. Но увидев прилично одетых людей,
отпускали извинившись.
За две ночи машины далеко увезли фартовых. Из Брянска— в Одессу. Прямо к морю, к
солнцу, на горячий пляж… Задрыга ликовала. Она еще ни разу не видела моря.
Только слышала о нем от Сивуча. И девчонке так хотелось самой хоть раз увидеть
его, притронуться, как к чуду — к соленой волне, погладить белопенный загривок и
долго загорать на песчаном пляже до цвета шоколада, забыв о всех горестях и
несчастьях, оставшихся далеко позади.
Задрыга не могла дождаться, пока отец рассчитается с водителями. Те, глянув на
деньги, вернули их Шакалу, потребовали другие купюры. И Задрыге отчего-то стало
страшно. Пропала радость встречи с морем, сердце сдавило тяжелое предчувствие
беды.
Капка видела, как взъярился отец. Он не любил, когда нарушалось обговоренное. Не
терпел, когда кто-то навязывал ему условия и диктовал свое. Он не терпел
безвыходных ситуаций. Здесь же не фартовые, не паханы, фраера решили взять верх.
И требовали, коли получат кроплеными, то пусть законники отвалят вдвое больше
назначенной платы.
— А ху-ху, не хо-хо? — рассвирепел Глыба, тесня водителей обратно в машины.
Остальные фартовые подошли к багажнику такси, чтобы взять чемоданы, но шофер
отказался открыть багажник до тех пор, пока фартовые не рассчитаются.
Шакал зверел. Лицо его стало белее белых машин. Он огляделся по сторонам. И
Капка уловила в его взгляде отчаяние.
Оно и понятно. Здесь не замокришь. Место не безлюдное. Хоть и мало отдыхающих,
но вон они, лежат на песке. Пусть слов не слышат, но увидят… Да и не положено по
закону мокрить фраеров, если они не засветили…
— У тебя денег куры не клюют.
— Чего жмешься?
— Мы вас от тюрьмы и лягавых из-под носа увезли. А вы скупитесь?
— Заткнитесь, падлы, не в башлях соль. Но чтоб меня трясли фраера? Такого не
будет! — зазвенел натянутой струной голос пахана.
— Не уломаем тебя, сговоримся в другом месте. Там нам за вас хороший куш
отвалят! И торговаться не станут, — ухмылялись водители.
Капка пошла на пляж. Уныло оглядела отдыхающих.
— Нет, не обломится мне кайфовать, как падле на море, Смываться будем. Иначе
засветят мусорам эти вонючие водители-фраера! — нагнулась к песку, зачерпнула
полные горсти,
Как она мечтала отдохнуть на море! А мечты, как песок, сквозь пальцы исчезают. И
вдруг…
Задрыга заспешила к своим. В глазах холодный огонь застыл.
— Да что ты, пахан, жмешься? Отвали им, пусть проваливают, — рассмеялась хрипло.
И, подойдя к водителям вплотную, резко и точно, как учил Сивуч, бросила им в
глаза песок.
Мужики не ожидали для себя такого исхода. Они коротко вскрикнули. Но им тут же
забили рты кляпами. Из кармана водителя Таранка достал ключи от багажника.
Глыба с Боцманом затолкали водителей в одну машину и успокаивали:
— Ни одной падле не удавалось нас наколоть. Кто много хочет, тот хрен сосет!
Доперло? Молите Бога, что дышать оставили за ваше трандение. А поднимете кипеж,
или к лягавым сунетесь, живыми зароем, из-под земли надыбаем козлов!
Шакал тем временем разговаривал с таксисткой бабой. Она, пользуясь передышкой,
обедала. Пила молоко, отламывала хлеб.
— Отдыхаешь? — спросил Шакал.
— Клиентов нет. Вот и бичую, — ответила отмахнувшись.
— А ты не знаешь тут тихого, сытного места, где нам — геологам, отдохнуть можно?
— поинтересовался пахан.
— Хоть жопой ешь такого удовольствия! Садитесь, родненькие! Доставлю живо! Но…
Сколько мне дадите?
— Не обидим! — пообещал Шакал и позвал кентов, велел поторопиться.
Фартовые управились быстро. Уложили чемоданы, мигом вскочили в машину.
— Многовато вас! Оштрафуют, — испугалась таксистка.
— Мы нигде не разлучаемся. Не бойся. Устроемся кайфово. А за перегруз отвалим
вдвое, — пообещал пахан.
Капка последней отошла от машины, в какой ослепшие водители проклинали судьбу и
пассажиров — за случившееся.
Шакал не заплатил им ни копейки. Из принципа — за подлость наказал. Даже на
бензин не кинул. И мужики с кляпами во рту, с руками, связанными за спиной,
кляли без слов, вслепую, всех и самих себя. Они не могли позвать на помощь,
выйти из машины.
А Черная сова уже забыла о них. Примостившись на коленях троих кентов, спал
Таранка. Впервые за свою жизнь сидела на коленях отца Задрыга.
Капка смотрела в окно, вслушиваясь в разговор законников с таксисткой,
назвавшейся Ниной.
— Скольких я перевозила за свою жизнь, со счету собьешься. Все были довольны
отдыхом, теперь каждый год приезжают. И не лезут в санатории или на курорты.
Враз меня ищут. Я их устраиваю и дешевле, и удобнее, — похвалилась Нина.
— Нам тоже захолустье по душе. Но чтобы похавать имелось. Сама видишь, девчонка
с нами — ребенок! Она море впервой видит. Пусть ей здесь все понравится.
— Куда Денется? Каждый год проситься сюда будет. Загорит, отдохнет, фруктов
налопается всяких. И следующим летом всех вас за! горло возьмет, чтоб снова сюда
привезли. Девка-то у вас, видать, настырная, с характером! — оглядела Капку
бегло и вздохнула:
— Наверное, моей Наташке ровесница. Но она не отдыхает. Дел дома прорва.
Постирать, приготовить, убрать, в огороде и в саду успеть, с коровой, поросятами
и курами управиться. Да старую бабку доглядеть. Ослабла та глазами. Вот и
успевай поворачиваться всюду. Я на работе целыми днями. Она одна кругом, —
вздохнула баба.
— А мужик твой где? — поинтересовался Шакал.
— Тоже в геологах… Ищет, что не терял. Носят его черти по свету, не пойму где?
Убежал он, кобелище, к другой бабе. Отдыхать она сюда приезжала. Снюхались и
смотались. Он мне слова не сказал. Через розыск нашла его. Он, гад, уже
расписаться сумел. Ну и потрох!
Законники рассмеялись.
— Не помогал тебе деньгами? — спросил Шакал.
— Какой там? Через полгода запросил телеграммой деньги на дорогу. Вернуться
решил, осчастливить. Да только я ему по самое плечо отмерила. И никаких денег!
Уехал и хрен с ним! Боялась, что в беду влип! А из-под блядской юбки пусть сам
выбирается. Но не ко мне!
— А почему?
— Уж коль повадился таскаться, теперь не отучишь. Мне ни к чему такое гавно!
Заразу притащит. На что морока? Итак жизни не видала.
— Муж, какой ни на есть — защита, — не соглашался Шакал.
— Он — защита? Ой уморил! От кого меня защищать? Кому нужна? Целыми днями, как
барбоска, мотаюсь!
— А если выручку отнять захотят?
— Да на мою выручку только алкаш позарится. С таким я и сама управлюсь. Нынче
клиентов нет. Они — летом. Когда отдыхающие есть, без меня найдется кого
тряхнуть. А мне лишь раз в этом году повезло. Фартовых отдыхать везла. Вот они
заплатили! По-королевски! Не трясли пыль в штанах. Не звенели медяками.
Сотенными дали! Я их на базаре разменяла. И жили мы припеваючи, — хвалилась
таксистка.
— Откуда знаешь, что фартовые? Может, геологи или ученые?
— Их менты искали. И меня трясли, не видела ль я таких? Да что ж я — чокнутая,
что ли? Они так мне заплатили, а я выдам? Ни за что! И ни слова лягавым! А к
ворам смоталась.
Предупредила, чтоб в наши места не совались. Они еще денег дали. За добро мое. И
смотались. Милиция лоб расшибла, их искала. А я радовалась.
— Что ворам помогла?
— Они у меня ничего не украли! Зато милиция, точно мародерствует. Каждый хмырь
норовит бабки сорвать даже с меня — с каждой ездки. Прикипаются ко всему.
Шкуродеры проклятые! Все нервы вымотали! Да если б мужики были, как те воры! Они
мне руку поцеловали. Звали подружкой. Французские духи подарили, каких я в жизни
не имела. У кого они их взяли, мне дела нет. Только эти — не шпана! Галантные,
воспитанные, культурные люди. Ни одного плохого слова от них не слышала! Не то
что мусора! У них одно имя всем — падлы! Так кто из них настоящий мужик? Те,
кого ворами назвали? Тогда мой бывший мужик кто есть? Последнее гавно! И менты,
зная его адрес, скрывали от меня. Потому что бухал он с ними!
— Он у тебя в ментовке работал? — насторожился пахан.
— Нет! Они нам на отдых посылали людей. Держали у себя в летних комнатах
отдыхающих. Теперь уж нет, отказалась. Некому возиться с ними. Живем на
заработок. Себе спокойнее стало.
— А воров пустила б?
— К себе — нет!
— Почему?
— Нельзя! Лягашка напротив.
— Что ж, так и будешь жить одна? — спросил Шакал Нину.
— У меня дочь. А значит, уже не одной в старости оставаться. Она не бросит меня,
как отец.
— А вдруг?
— Двух одинаковых бед в одной семье — не случается! — усмехалась женщина, ведя
машину уверенно, на хорошей скорости.
— А ваша жена где? Смотрю, девчушка — копия. Почему без матери?
— Устала ждать. Оставила нас! — почувствовала Капка, как дрогнула рука отца.
— Значит, тоже сиротствуете?
Шакал отвернулся к окну. И шофер сменила тему:
— Нам еще с часок ехать. Я вас отвезу в Солнечногорск. К моей приятельнице. У
нее вам хорошо будет. Свой огород и сад, своя корова и куры. Мужик в лесничестве
работает. Спокойные, пожилые люди. Там вам никто не станет мешать. На пляж в
плавках ходить будете. Глушь и тишь. Одно плохо — развлечься негде. Мало там
теперь людей. Бабы старые. Больные. Один кинотеатр. Да и тот на открытой
площадке. Хулиганов тоже нет. Не воруют. Живут тихо.
— Милиция за порядком следит, — глянул на нее Шакал.
— Они везде! — отмахнулась баба. И свернув за сопку, закончила спуск с
серпантина.
— Закурить бы! Да сигареты дома забыла, — пожаловалась таксистка.
Глыба тут же вытащил из кармана пачку «Явы», подал бабе. Та, заехав под сопку, в
сторону от дороги, остановила машину, села перекурить на траве.
Фартовые вышли размяться, расправить руки и ноги.
— Почему машину прячешь? — спросил Шакал.
— Боится, чтобы не угнали, — предположил Глыба.
— Дурак дядя! От милиции так прячу. Они на вертолетах облеты делают. Вроде за
порядком следят. А засекут мою тачку, завтра придут четвертной требовать.
— За что?
— Магарыч с заработка! Они давно с нас кровь пьют. Доют всех, — жаловалась баба.
Едва все разместились, над сопкой и впрямь показался милицейский вертолет. И в
рации такси послышалось:
— Кого везешь, Нина?
— Геологов. На отдых, — ответила таксистка.
— Сколько их?
Шакал взял бабу за руку, показал три пальца. Та согласно кивнула, поняла:
— Трое их. Трое!
— Где взяла в машину? — послышался вопрос.
— В Ялте, — шепнул на ухо Шакал.
— В Ялте сели ко мне!
— Куда везешь их?
— В Рыбачье! — выдохнула баба.
— Ну, давай! Вези! Да не гони свою телегу, чтоб на обратном пути не развалилась!
— послышался смех из рации. Баба выключив ее, заматерилась грязно. Капка
вытирала со лба капли пота. Ей показалось жарко.
Шакал открыл стекло. Машина, выйдя на ровную дорогу, летела стрелой. И через
полчаса въехала в Солнечногорск.
Нина быстро проскочив длинную улицу, остановила машину у последнего дома, с
какого начинается или заканчивался поселок.
Просигналив трижды, постучала в калитку:
— Вера! Возьми на отдых! — сказала усталой женщине,
выглянувшей из сарая. Та вытерла руки о передник, подошла. Открыв калитку
настежь, тихо пригласила пройти.
Пока фартовые носили в дом чемоданы, Шакал отвел в сторону Нину. Дал пачку
полусоток. Та ахнула:
— Все мне? — не поверила глазам.
— Тебе, голубушка! Тебе, касатка!
Таксистка кинулась на шею пахану. Звонко расцеловала его.
— Спасибо, родной!
— Если лягавые спрашивать будут, молчи! Поняла?
— Из меня не выжмут. Уже пытались. Кто ж кормильцев продает? — тряслись руки
бабы, не верившей в счастье.
— Езжай, Нина! Хорошая ты женщина! Может, когда-нибудь увидимся? — улыбался
Шакал.
— С радостью! Ты меня на стоянке ищи. Иль в таксопарке. Я вам всегда рада буду.
Авось, да не все в жизни плохо. Не всегда теряем. Пора и находить! Друг друга, —
подарила лукавый взгляд. Села в машину и моргнув фарами, будто попрощавшись
навсегда, исчезла в конце улицы.
Задрыгу вместе с Шакалом поселила хозяйка в маленькой уютной комнате. Застелила
постели свежим бельем, принесла молока.
— Отдыхайте, — топталась у порога.
Шакал повернулся:
— Вы что-то хотели? Деньги я вам завтра отдам. Все сразу.
— Сколько дней вы будете здесь? — спросила женщина.
— Не знаю пока. Но не больше недели.
— Милиция требует паспорта отдыхающих на временную прописку. Если больше трех
дней…
— Да кто же знает, что нашим парням взбредет, может, завтра уедем, — рассмеялся
пахан.
— Зачем же так скоро? У нас неплохо. Можем телевизор дать. Футбол посмотрите. И
море рядом. А паспорта, ну ладно. Уплачу десятку штрафа. Невелика беда! —
вспомнила вовремя, как осталась довольна расчетом таксистка.
Вскоре она ушла. Фартовые поужинали во дворе дома, обвитом зеленью со всех
сторон. Отсюда сколько ни гляди, соседний дом не видно. Хмель и плющ, кусты
малины и смородины, пышные розы встали стеной, скрывая людей друг от друга и от
любопытных глаз.
Когда вернулся с работы хозяин, приведя на поводу огромную овчарку, фартовые тут
же пригласили его за стол. Тот посадил псину на цепь, приказав строго:
— Сторожи!
Собака села, послушно уставившись на улицу, провожая рычаньем всякого прохожего.
Когда законники поев вышли из-за стола, Шакал велел им стремачить ночью дом по
очереди. Первым стал Таранка. Он сел спиной к завалинке в густых зарослях роз,
под самым окном ничего не подозревающих хозяев, открывших на ночь обе створки
окна. Фартовый слышал все их разговоры, каждый звук:
— Странные люди эти приезжие. Не похожи на отдыхающих, — говорила хозяйка.
— Мужики, как мужики, — ответил лесник.
— Паспорта на прописку не дали.
— Оглядеться хотят. Может, не понравится здесь, поедут в другое место.
— Многовато у них вещей для мужиков, — вставила баба.
— Не тебе их таскать. Может, харчи за собой возят. Иль купили чего-нибудь.
Отдыхающие, сама знаешь, все не без придури. Нам — лишь бы платили за
проживание. А там, не наше дело.
— Боюсь я их. Сама не знаю с чего вдруг, но какие-то они непохожие на всех..
— А мне по душе! Нормальные люди. Угощали щедро. Коньяком, не вином. Руки не
дрожали, когда наливали мне. Значит и в расчете не будут жаться. Да и выбора
нет. Кого Бог послал, за тех спасибо, — выдохнул хозяин скрипнув постелью.
Долго не спали Шакал с Задрыгой. Тихо переговаривались в темноте:
— С «пудрой» ты поспешила на этот раз. Я хотел с таксистами иначе. Увезти их
подальше от пляжа и города. А уж там потрехать по душам, — говорил пахан.
— Не сфаловал бы ты их. Они без башлей с места не сдвинулись бы. Это верняк. Не
пальцем деланы фраера. Сорвать хотели при свидетелях. Неподалеку от пляжа. А
взяли б бабки, кой понт им с тобой ехать? Зашмаляли б сами — с ветром, без нас.
Они доперли, кого везли, — отозвалась Капка.
— Одно хреново, видели они нас. Могут вякнуть ментам, описать всех. Начнут
дыбать по югу. А мы — приметны, высказал опасение Шакал.
— Что ж, выходит, потрафить им стоило? Дать бабки? Но тогда фартовые тебя за
пахана держать не стали бы. Да и фраера, забрав кропленые, засветили бы всех нас
в ментовке. Еще и от лягавых навар получили б.
— Не заложили б, едино их попутали б с купюрами. На бензоколонке иль в
магазинах. Они живо раскололись бы.
А теперь чем докажут, что законников везли? Зенками? Да им любая шмара могла
такое отмочить, — успокаивала отца Задрыга. И не дождавшись согласия со своими
доводами, продолжила:
— Вот замокрить их, это точно, невпротык было. На пляже видели, как все вышли из
машин на своих ходулях. Враз бы на нас указали. Отъехать — не сфаловали бы ни за
что. «Пудра» была последним шансом.
— Можно было заткнуть их в машину и увезти, — не согласился пахан.
— Я усекла, зачем их Глыба к багажнику прижимал. Но много было бы шума. Они не
сявки, им не прикажешь, махаться стали бы, базлать. Тебе это по кайфу?
— Зато когда их выволокут из машин, нас шмонать будут.
— Не стоит дергаться. Они хоть и фраера — дышать хотят спокойно. Линяя, ты им
трехнул, что с ними утворишь, если засветят.
— Им это уже до жопы. Зенки накрылись, как дышать? В больнице до самого погоста.
Так чего им?
— Жизнь! Слепой всякого шороха ссыт. Так меня Сивуч учил. Посеявший жизнь
наполовину, остальное — зубами держит. Кемарит, когда кто-то рядом. Да и раскинь
мозгами, в карманах у них — ни хрена. Таким менты не помогают. Без навара кто
лоб подставит? Бортанут их обратно и все. Вякнут, мол, сами набухались. Я ж не
на холяве торчала. Целую бутылку коньяка выплеснула в машине. Вонища адская.
Лягавые поверят в то, что сами засекут. Да и мы туг не на цепи. Чуть шухер —
смоемся.
— Таксистку трясли по рации мусора. Секла? Нас шмонали.
— Граница рядом! Всех трясут. Те фраера не могли допереть, куда мы смылись, — и
подумав добавила:
— Таксистку менты тряхнут. Сама промолчит. Но потребуют показать башли, какие мы
ей дали. И тогда — крышка! — дрогнул голос Задрыги.
— Нинка — баба перец! Не покажет. Она допрет. Вывернется! Своя в доску. Из-за
нее дергаться не стоит, — отмел сомнения Шакал.
Заснули они, когда в сарае хозяйки в третий раз пропел петух…
Задрыга проснулась оттого, что солнечные лучи били ей в лицо.
— Пора вставать! — вскакивает Капка из постели, предвкушая, как она сейчас будет
купаться в море. Но…
В дверь комнаты тихо постучали. Шакал проснулся мигом. Вскочил в брюки, рубашку
застегнул на ходу. Приоткрыл дверь. В нее бочком вошла хозяйка. Извинилась за
беспокойство. Переминаясь с ноги на ногу, она не знала с чего начать. Щеки, лоб,
даже шея покрылись красными пятнами.
— Что хотела? — спросил Шакал резко.
— Радио включила. Там сказали, что разыскивают четверых. С девочкой-подростком.
И такое сказали, слушать страшно! Описали все приметы. Ворами обзывали! Вы не
сердитесь. Это не я! Милиция говорила. Обратились ко всем, кто видел этих —
позвонить немедленно в райотдел. Я вас и потревожила. Те, о ком говорили, похожи
чем-то на вас. А у меня соседи ненадежные! Мы с ними не дружим! — заикалась
женщина.
— Мы похожи на бандитов? — деланно удивился Шакал и сказал уверенно:
— Вам придется извиниться. Хотя… Мы все равно уйдем отсюда…
Капка выскочила во двор. Подошла к собаке, какую лесник не взял сегодня с собой
на работу. Она видела, как обескураженная хозяйка пошла в сарай, к корове. А
пахан зашел к законникам. Оттуда вскоре послышался громкий смех. И Капка
заметила, как переодетый в бабу Глыба уже подкрашивает губы перед зеркалом.
Овчарка охотно съела из рук Задрыги кусок колбасы, повизгивая, просила добавки.
Капка гладила овчарку, впервые забыв, что она — на стреме. Вспомнила о том,
когда собака, навострив уши, зарычала, а в калитку уже вошли двое милиционеров.
У Задрыги руки задрожали. Она онемело глянула на вошедших, отстегнула с цепи
овчарку. Та бросилась на незваных гостей.
Милиционеры выскочили за калитку и оттуда громко позвали:
— Вера!
Хозяйка вышла из сарая с полным ведром молока. Увидев милицию, нахмурилась:
— Чего вам?
— Постояльцев имеешь?
— Немного. А что случилось? Хотите подбросить отдыхающих?
— Твоих глянуть хотим! Возьми собаку на цепь! — перекрывая лай овчарки, просили
из-за калитки.
Баба посадила овчарку на цепь. Пропустила милицию впереди себя, указав, где
остановились отдыхающие.
Милиционеры вошли не стучась. Капка протиснулась следом.
Едва дверь открылась, как Задрыга услышала
— Вот и кавалеры пожаловали. А нам говорили, что тут скука адская. Проходите
мальчики! Очень мило, что вы сами пришли познакомиться с нами! — щебетал Глыба
— Катька! Халат запахни. Это тебе не на профиле! Чужие люди пришли. Постыдись! —
ломали комедию фартовые.
— А ты помолчи! Я на юг загорать приехала. Хватит мне указывать, — отозвался
Глыба и опередив милиционера, открывшего рот, предложил:
— Присядьте!
— Да мы, наверное ошиблись. Мужчин ищем. Четверых!
— Мужчин?.Вы что гомики? — делано удивился Глыба.
— А что это? — не сразу поняли милиционеры.
— Сексуальное меньшинство! Педерасты! — щеголял ученостью Глыба.
— Чего?! Да мы отпетых бандитов ищем! Они в наших местах вчера объявились. Нам и
сообщили. Мы — с проверкой! — гаркнул милиционер постарше.
— Выходит, я тоже мужчина? — сложил Глыба губы бантиком. И, бросив томный взгляд
в сторону молодого милиционера, добавил:
— Я бы доказала, кто я есть, но вот беда, потекла не ко времени. Из-за того
загар пропускаю, на море не пошла.
— Документы покажите! — потребовал милиционер постарше.
— Извольте! — подал Глыба паспорта.
Сколько ни копался в документах, ничего подозрительного не нашел.
Фартовые всегда имели при себе надежные ксивы.
— Зря людей потревожили, — краснел под взглядами Глыбы Катьки второй милиционер.
— Сержант! Нам поступил сигнал, и мы обязаны его проверить! — одернул старшина.
И вернув паспорта, попросил:
— Покажите свой багаж!
— Пожалуйте! — вытянул Глыба чемодан из-под койки. Открыл его. Милиционеры,
глянув, смутились. Под одеждой увидели бутылки коньяка, кофе в банках, икру
лососевую, шоколад.
— Кем работаете? — изумились оба.
— Геологи все! — отозвался Боцман.
— Еще имеется багаж? — не отступал старшина. И услышал рядом глухой стук.
Задрыга сыграла в обморок. Она лежала не дыша, пустив из уголков глаз тихие
слезы.
— Ой, дочке плохо! Скорее воды! Откройте окно! Воздух нужен ей! — заметались
вокруг Задрыги законники.
— Тьфу, черт! За заработком ребенка не досмотрели! С ног валится на ходу! Лучше
меньше получать, зато жить у нас — на юге! — посочувствовал старшина. И
извинившись, первым вышел из комнаты.
Сержант, потоптавшись, так и не дождался больше томного взгляда Глыбы, вышел за
калитку, все еще обескураженный.
Задрыга, едва гости ушли, тут же пришла в себя.
— Смываться надо, — сказала грустно.
— Не сегодня. Завтра слиняем. Иначе на хвост сядут. Заподозрят, с чего это мы
так спешно сбежали? — предложил Таранка.
— Вы что? Хотите, чтоб сержант нынче вечером у калитки серенады мне пел? Иль я
не видел, как он смывался? Топтался, как обосранный! Чего тут прикипать? Гавно —
не место! Отваливаем! — настаивал Глыба.
Задрыге дали всего час, чтобы она ополоснулась в море.
Капка блаженствовала в сине-зеленой воде. Она ныряла, выскакивала из воды, снова
ныряла, бросалась с размаху на горяченный песок и смывала его в море.
Девчонка плескалась так азартно и торопливо, увлеченно и радостно, что даже
Шакалу было жаль обрывать сверкающую сказку, короткую, как детство, которое так
и не увидела его дочь.
Малина Черная сова была уже в полном сборе. Черное такси терпеливо стояло у
калитки. Пахан любовался Капкой. Но фартовые были настроены иначе. И
подскочивший к самой воде Боцман гаркнул:
— Кайфуешь, падла? Мозги посеяла, лярва кудлатая? А ну! Шустри, мать твою в
дышло! Пока нас менты не попутали!
Задрыга пулей выскочила на берег. И как была — мокрая, вся в песке, в соленой
пене, села в машину.
— Отваливаем! — кивнул Шакал водителю и таксист повел машину в Симферополь.
Оттуда самолетом в Ростов. Так решила малина.
По дороге несколько раз останавливались. Покупали у торговок фрукты, чтобы
разменять кропленые. Когда денег оказалось достаточно, Шакал разговорился с
водителем.
— Да нет, народ у нас неплохой. Радушный. Считайте, вся страна здесь отдыхает. В
день десятки тысяч людей со всего света прибывают. Среди них есть и подонки. Вон
я по радио слышал, что сделали они с таксистами из Брянска!
Один — умер! Задохнулся. Ему кляп глубоко в рот затолкали. А вытащить не мог —
руки были связаны и у него и у напарника. Пока к ним подошли, открыли машину,
уже вечер был, один мертвый, второго еле откачали. Ужас, что он рассказал, тот
шофер! Просто не, верится, что такое у нас случилось.
— Что произошло? — спросил Таранка, ломая комедию полного неведения.
— Воров они увезли из Брянска. Но поняли не сразу. Когда далеко уехали. Хотели
их в милицию сдать. Заявить. Но те под страхом расправы их держали всю дорогу. А
когда приехали, ослепили их песком. И не заплатив ни копейки, избили обоих
зверски. Заткнули рты, связали руки и бросили в машине беспомощными. Сами
смотались куда-то. Вот милиция теперь ищет повсюду тех бандитов. Да и то сказать
надо, столько отмотали мужики, чтоб получить горе! Да я сам,
• встреть тех гадов, шеи им свернул бы за свою шоферскую братву! — скрипнул
зубами таксист.
— Я не знаю никого из них. Но кто-то явно темнит, — сказал Шакал. И продолжил,
не заметив удивленный взгляд водителя:
— Если они хотели засветить воров, то я не поверю, что за все время поездки они
не смогли застучать. Где-то ели, по нужде останавливались. Да и не по пустой
дороге, наверное, катили. Тут всякий холм обжит. Юг… Кругом люди. Кто рискнет на
виду человека загробить? Нет, тут что-то лажовое! Темнил тот мужик. Хотя… Кто их
знает! — увидел троих парней, стоявших поперек дороги. Они явно решили
остановить машину и тряхнуть всех сидящих в ней.
Водитель побледнел, крутнул баранку в сторону, пытаясь объехать нежданное
препятствие.
— Это они! Те, кого ищут! — повернулся водитель к Шакалу и попросил, клацая
зубами:
— Башку пригни! Прострелят!
В ту же секунду пахан услышал выстрел и громкий хлопок простреленной камеры.
Машину занесло на обочину.
— Конец! — выдохнул таксист. Лицо его посинело. Руки вцепились в руль. Трое
парней неспешно, вразвалку подходили к машине.
— Что делать? — уронил голову водитель. Шакал кивнул фартовым. Все вместе они
вышли из такси.
Пахан оглядел рэкетиров. Усмехнулся губами. Сказал коротко:
— Не дергайтесь! Хиляй в сторону, потрехаем! — и подойдя вплотную, сказал:
— Всех подряд трясете, фраера? Иль с выбором?
— А ты, что за хмырь? — попытался взять Шакала за шиворот громадный, волосатый
парень.
К нему Глыба наклонился, шепнул на ухо несколько заветных слов. Все трое
отпрянули. Стали извиняться.
— Колесо оживить надо! — напомнил Боцман.
— На этот случай запаску имеем, — выкатили из кустов запасное колесо. Заменив
простреленное, тут же отошли от машины, освободив проезжую часть. А когда не
веривший в свое счастье таксист завел машину и вырулил на трассу, парни даже не
оглянулись на уходящее такси.
— Как вам удалось их остановить? — приходил в себя водитель.
— Все просто. Я никому не грожу скрутить шею, как вы. Даже о рации забыли.
Просто сказал, где работаю и какие у них будут неприятности. Как видите,
подействовало, — ответил Шакал.
Пристыженный водитель умолк надолго. До самого Симферополя.
Лишь въехав в город спросил:
— А вы почему о них не сообщили по рации? Своим! Чекисты их живо скрутили б.
— Эта работа милиции. Она не входит в нашу компетенцию. У каждого свои права и
обязанности! Да и с чего вы взяли, что мы чекисты? — усмехался Шакал. И до
самого аэропорта хранил молчание.
Водитель наотрез отказался взять деньги за дорогу, сказав, что обязан жизнью
нынешним пассажирам.
Капка не испугалась встречи на дороге. Она не хотела одного, чтобы кто-то из
троих болванов пустил «маслину» в затылок фартовым, когда водитель пытался
смыться от стопорил.
Она грустила всю дорогу, что море для нее стало коротким, чудесным сном. И вряд
ли ей удастся скоро увидеть его вновь.
Задрыга спокойно вошла в самолет, словно много раз летала на таком же. Она
смотрела в иллюминатор, не поворачивая головы к Шакалу. Девчонка тогда впервые
пожалела, что не живет как все обычной жизнью и простыми бесхитростными
заботами. Она поняла, что при мешках денег можно быть несчастной.
Иначе отчего скатились по щекам скупые слезинки? А может, это море брызнуло на
них с волос последние не высохшие капли?..
Шакал сидел рядом и не беспокоил, не отвлекал дочь. Понимал ее состояние и
обиду.
— Ростов! — объявила стюардесса, когда Задрыга, незаметно задремав, припала к
плечу пахана.
Девчонка резко отпрянула, давая понять, что примирение между ними еще не
состоялось.
— Обязанники мы твои, за псину. Уж очень вовремя ты се с цепи отпустила. Те пять
минут спасли всех нас, — прижал к себе Капку. Та любила такие слова, смягчилась,
забыла обиду и спросила:
— Ты видел, как морда у хозяйки вытянулась, когда она увидела Глыбу в маскараде?
У нее зубы на сиськах висели. Она даже трехать не могла. Жопой выдавилась из
комнаты и все башкой крутила, уж не привиделось ли ей?
— Если б ты не шарахнулась в обморок, пришлось бы нам кисло. В других майданах
груз кропленый. Его не покажешь. Кайфово, что ты вовремя доперла! Отбила всякую
охоту к проверке. Да и не ко времени, стыдно ее проводить в такой ситуации, —
трепал дочь по плечу. Та блаженствовала, сам пахан в чести держит. А такое
дорого стоит. Это Задрыга знала. Шакал не любил хвалить и хвалиться. Он отмечал
достоинства кентов и молча поощрял их.
На слова был скуп. Ценил их выше башлей и рыжухи. Это знали все законники Черной
совы.
Капка, как и вся малина, видела, провожая своих недолгих постояльцев, вышла за
калитку недавняя хозяйка. По деревенской привычке держала в карманах передника
грубые красные руки. В. правой сжимала полусотку. Разменял для бабы Шакал на
выносном базаре у торговки стольник. Заплатил за проживание щедро, по-царски.
Бабе, ох, как не хотелось расставаться с такими постояльцами. Мужики они или
бабы, или все вместе, чего не случается с людьми, хорошо заплатили ей. Хозяину
бутылку коньяка подарили. Сыщи теперь таких отдыхающих? Эх, если бы не соседи
треклятые! Спугнули людей, обидели. А все черная зависть на чужые доходы. Она
осечку дала. Да глупый бабий язык, обидевший подозрением порядочных людей. Перед
ними даже милиция извинилась за беспокойство. Нет, надо отгородиться глухим
забором от соседей, — решила баба. Но всего этого не узнали и не услышали
фартовые. Они сказали, что едут отдыхать в другое место, более цивилизованное,
культурное.
Задрыга успела услышать такое. Ей вовсе не хотелось в шумные многолюдные города,
где людей больше, чем капель у дождя. Где злые, равнодушные, плачущие лица
встречаются чаще улыбающихся.
— Эй, Задрыга! Хиляй буром! Чего плетешься, как обоссанный хвост? — подбодрил
девчонку Боцман, Та
вспомнила, куда и зачем они прилетели — заторопилась к выходу.
Капка слышала о Ростове много, еще от Сивуча. Старый законник, вспоминая этот
город, даже глаза закатывал от блаженства. Называл его уважительно, не иначе как
папой… И причмокивал, словно там ему жилось, как мухе в медовой банке. А начинал
вспоминать, так даже у пацанов шерсть дыбом становилась от страха. Одни
поножовщины и кровь, водка и бабы, менты и стрельба. Это Сивуч называл ласково —
фартовой судьбой.
— Ростов — большая малина! Это фартовый город! Там проходили сходки законников и
разборки с непокладистыми паханами малин! Там принимали «в закон» и выводили из
него. Там делили территории и назначали паханов. Там была негласная воровская
столица — рай для фартовых, ад — для мусоров. Там дружба с законником держалась
в чести у горожан, какие шли к ворам со своими заботами, прося их помощи и
защиты.
В Ростов никто не попадал случайно — сам по себе. И не покидал его без ведома и
требования фартовых, державших в своих жестких клешнях даже городскую элиту.
— В Ростове не зевай! Всякий шаг — проверка! Там видят все и всех! —
предупреждал Сивуч, и Задрыга вспоминала все, чему училась долгие годы.
— Каждый фартовый должен иметь третью руку! — вразумлял Сивуч.
Задрыга понимала, о чем говорил старик. Все законники Черной совы имели при себе
«перья» и «пушки». Никогда, даже во сне не разлучались с ними. Фартового, если
он бухой, могли разбудить два повода — свисток лягавого, и если кто- нибудь
пытался прикоснуться к оружию. Любой законник тут же вскакивал на катушки,
готовый к трамбованию целой кодлы. Оружие было вторым сердцем. Его берегли пуще
головы, его украшали, о нем складывались песни, ему приписывались удачи или
провалы. Оно было третьей рукой всякого вора.
На что угодно могли играть в очко или рамса — законники. На башли, на желание,
закладывали барахло, проигрывали своих шестерок и сявок, но никогда на кон не
ставили оружие. Законник скорее согласился бы остаться без ушей и пальцев на
ногах, но не лишался «пера» и «пушки», считая западаю ставить на них даже в
самой азартной игре.
Задрыге такое оружие пока не позволялось. Она еще не была принята в закон. В
Черной сове его носили только фартовые.
Но… Задрыга, как и вся прочая воровская «зелень», могла выбрать что угодно,
помимо «пера» и «пушки», какими научил ее прекрасно пользоваться старый Сивуч.
Одни пацаны выбирали себе камень, обвязанный веревкой. И прекрасно им владели.
Спицы и шилья — отточенные до идеального. Задрыга выбрала для начала
велосипедную спицу. Отточила ее тоньше иглы и всегда держала за поясом.
Тяжело свыклась с нею. Несколько раз сама поранилась во сне. Спица казалась
громоздкой и слишком опасной. И Капка присматривалась, какое оружие выбрать, —
кого взять в кенты.
Она пыталась смастерить что-то из колючей проволоки, вязальных крючков.
Испытывала их на бродячих собаках и кошках, какие завидев Задрыгу издалека,
уносили от нее ноги с диким воем. Ее они считали отпетой живодеркой. Но Задрыгу
не удовлетворяли испытания. И она снова что-то точила, выстругивала, примеряла,
испытывала на очередной громадной псине и снова, вся искусанная, придумывала
новое, пока не остановилась на своем. Обычная с виду хулиганская рогатка, из
какой по настроению стреляла Капка деревянными, железными и даже костяными
стрелами. Короткие и легкие, они всегда попадали прямо в цель. И причиняли
жестокую боль.
Особо невыносимы были деревянные стрелы — из березы. Они оставляли много заноз в
теле. Оно начинало воспаляться, загнивать в том месте, где попала стрела.
Капка испытала это на Боцмане. Тот целый день караулил Задрыгу. А поймав, избил,
и пригрозил утопить в параше.
Весь следующий день малина выковыривала занозы из толстой задницы Боцмана. Рану
промывали водкой, чтоб не было заражения. Это злило законников больше всего.
Когда Задрыге надоела брань, она посоветовала Боцману окунуть зад в таз с
кипятком несколько раз. Боль пройдет и нарыва не будет, — говорила девчонка,
пожалев фартового.
Тот от этой жали зубами скрипнул. Попросил, чтоб она на себе показала, как это
провернуть. Капка удивилась:
— Не у меня болит! Зачем мне жопу ошпаривать? — и видя, как мучается Боцман,
решила остановиться на рогатке. С нею она прилетела и в Ростов.
Слегка прикрыв ее рубашкой, нащупала, сколько стрел в запасе. И вышла из
самолета.
— Задрыга, не крутись меж катушек, хиляй следом! — одернул Глыба девчонку,
оглушенную шумом большого аэропорта.
Законники ждали багаж. Нервно курили, оглядывали улетающих, провожающих.
Здесь в аэропорту скопилось много народу. И фартовые не обращали на них
внимания. Их беспокоило необычное скопление милиции, такого тут раньше не
бывало.
Милиционеры проходили в багажное отделение, разговаривали с работниками
аэропорта, смотрели списки, оглядывали прилетевших пассажиров.
Когда по ленте транспортера пошел багаж с симферопольского рейса, пассажиров не
впустили самих. Багаж им выносили по номерам талонов. Милиция зорко следила за
багажом и получателями. Фартовые вмиг сообразили — их секут. Шакал тихо
переговаривался с кентами:
— Срываемся, пахан, линяем, пока не попухли! Хрен с ними — башлями! Воля дороже!
Отваливаем, — уламывали фартовые Шакала. Тот начал колебаться.
И вдруг Задрыга приметила, как здоровенный парень лезет в карман плаща девушки,
стоявшей у дверей багажного отделения.
— Вор! Держите вора! — взвизгнула Капка, указав милиции на парнягу. Тот бросился
наутёк. Милиционеры — за ним. расталкивая пассажиров, ринувшихся в багажное
отделение.
Фартовые Черной совы вмиг оценили ситуацию, и воспользовавшись ею, вырвали свои
чемоданы, и продравшись через густую толпу, вышли из здания аэропорта под топот,
крики, свистки милиции, шум погони.
Вон где-то вдребезги разлетелось стекло. Кто-то выскочил со второго этажа
аэропорта, вскочил на ноги. Огляделся дико. Глаза кровью налиты, рот перекошен,
лицо белое, в руках нож.
Капка тут же узнала карманника.
Фартовые Шакала уже погрузили багаж в такси, влезли в машину. Ждали зазевавшуюся
Капку. Она смотрела, сумеет ли уйти от погони карманник? Тот увидел Задрыгу.
Дикий рев вылетел из его глотки. Он хотел броситься к ней, отомстить, но что-то
случилось с ногами. Они отказывались держать тело. Подкашивались, раздираемые
дикой болью. Еще миг. Что-то сверкнуло перед глазами Капки, впилось в тело
непереносимой болью.
Задрыга ухватилась за машину, чтобы удержаться. Она видела, как упал лицом в
землю карманник. На него насела милиция. Скрутила руки за спину, надела
браслеты.
— Ну. сука, надыбаю тебя из-под земли! Размажу, как падлу! — хрипел карманник.
В глазах Задрыги стыло небо Оно отчего-то быстро темнело. Крутилось кругами.
Сначала медленно, потом быстрее. Л вот и волчком заплясало.
Волчок был единственной игрушкой детства. Он снова вернулся.
Капка хочет остановить синий волчок. Но он почернел. Вырвался из ослабшей ладони
и исчез…
Задрыга не знала, как оказалась она на широком кожаном диване, накрытом
белоснежной простынью. Ей очень хотелось пить.
Капка попыталась встать и не смогла. Боль свалила, отняла сознание.
Сколько она пролежала на диване — не знала. Очнулась оттого, что кто-то
осторожно переворачивает ее на бок. Капке делали перевязку. Седой человек в
марлевой маске смотрел на девчонку строго из-под роговых очков:
— Терпи, — попросил или приказал тихим голосом. И взяв щипцы, захватил ими кусок
ваты, окунул в йод, смазал что- то на боку Задрыги.
— Серьезно задел! Да и крови потеряно много. Но человек крепкий. Должна выжить,
— говорил глухо кому-то или самому себе.
Марлевые, белые салфетки мелькали одна за другой.
— Обезболим тебя и уснешь, — взял в руки шприц.
Задрыга хотела выругаться, убежать от уколов. Она не
любила и боялась их. Но не могла и пошевелиться. Губы запеклись, их невозможно
было разодрать. Язык сухим сучком обдирал нёбо.
Капке хотелось узнать, где она и что с нею? Но слова застряли в голове и не
проходили в горло.
— Спи! Выздоравливай! — услышала она над самым лицом и увидела, как человек
положил пустой шприц в стерилизатор.
— Во, падла! Кайфово управился старая плесень! Я даже не почуяла, что и куда он
мне засобачил! — подумала Задрыга и тут же стала проваливаться в мягкий белый
снег, одно удивило, он был очень теплым и нежным. Он не обжигал, как гот, по
какому босиком заставлял ее бегать Сивуч,
— Я с тобой! — услышала у самого уха голос, похожий на отцовский. Но никак не
могла открыть глаза. И не увидела… А может, ей послышалось, показалось… Ведь не
будет Шакал сидеть рядом с нею. У него свои дела. Поважнее Задрыги. Ему всегда
некогда.
Но так хочется, чтобы именно пахан оказался теперь рядом. Но нельзя… Законники
не прощают слабостей друг другу. Пахану и тем более их не спустят.
Не станет Капки, возьмут у Сивуча пацана. Обученного всему. И через неделю вовсе
забудут, — текут по щекам слезы. Их не остановить. Они изнутри, из самой середки
пробились проклятые. Ведь не от боли. Ничего уже не болит. Просто не хочется
умирать. Хотя и жить вроде бы ни к чему. Разве только увидеть еще разок море! Да
и оно, наверное, привиделось ей.
Капка вздрагивает:
— А может, я откидываюсь? Насовсем? Может, мне уже не вскочить на катушки? И
приморят меня на погосте, одну, среди совсем чужих. Никто ко мне на могилу не
прихиляет, не пожалеет, что так шустро накрылась. И старый Сивуч не возникнет.
Он на халяву жалеть не станет даже самого себя. Вот разве Мишка Гильза? Сколько
лет под одной крышей морились, махались, базлались. А незадолго до отъезда
что-то случилось. И понравился пацан. Нет-нет! О том ни звука! У фартовых нет
любви! Кто даст волю сердцу — теряет удачу, а потом саму жизнь! — так учил
Сивуч.
Потому старалась не смотреть в его сторону, не слышать голос, не знать о нем
ничего
Но, словно черт в бок толкал. Назло всему, поворачивала голову в сторону Мишки.
Он стал замечать перемену. Удивился. Потом и сам почему-то не сводил с нее глаз…
— Потому что других девок рядом не было. Одна. Вот и смотрел, как на чучело. Был
бы выбор — не оглянулся, — ругает себя Капка.
— Видел он девок. Всяких. Да не потянула душа. На нее смотрел. Не все в роже!
Нашел, увидел в Задрыге что-то иное. Но тоже смолчал. Ни слова не обронил. Так и
расстались молча. Теперь уж, вряд ли суждено встретиться…
Плачет Капка О Мишке и о море. Молча, сквозь зубы и веки.
Как мало прожито, как много пережито…
Холодеют синие губы Зубы намертво сцеплены. Ни звука сквозь них. Дыхание еле
угадывается
— Жива ли она9
— Видишь, плачет! Выходит, жива!
Задрыга не слышит, ничего не чувствует. Она далека отсюда, от всех земных забот
малины. Она теперь в саду, громадном и красивом, где много цветов и стрекоз, где
птицы и бабочки одна другой прекраснее — порхают вокруг Капки, поют веселые и
смешные песни.
Задрыга даже о рогатке забыла совсем. Зачем она ей? Девчонка кружится вместе с
мотыльками, боясь наступить на цветы. Ей никого не хочется обижать, потому что
вокруг все
добры и любят ее, как никто и никогда в жизни. Она не видела раньше ничего
подобного. Ей так не хочется покидать этот сад. Да и зачем? Ведь никто не гонит
Задрыгу отсюда, все рады ей.
И вдруг она слышит голос Сивуча. Он доносится издалека, из маленькой черной
тучки, что спряталась в густой кроне дерева:
— Чего сопли пустила, безмозглая вонючка? Носишься тут, как гавно в проруби! Иль
дел не стало? Иль на халяву тебя, мокрожопую, в люди вывел? Чего, хвост задрав,
позоришь, дура, кровь фартовую? Завязывай с кайфом! Пора в малину отваливать! К
кентам!
Капка хотела спрятаться от этого голоса, обидных слов. Но он находил ее повсюду
и хохотал над самой головой, в уши, он оглушал, гнал из сада:
— Ишь, приморилась, зараза облезлая! Лярва доходяжная! Отпаши то, что за тебя
пахан выложил, а уж потом отваливай! А ну! Шмаляй, лахудра немытая! Осколок
дурной ночи! Бухая блевотина! Чего прикипела здесь? Тут чистые дети канают. А ты
кто?! — напомнил Капке самое больное.
Задрыга мигом очнулась. Открыла глаза.
Где сад и стрекозы? Где та мелодия, что лечила душу? Где та прозрачная голубая
легкость? Неужели это был лишь сон? Но почему пахнут цветами того сада ее руки?
И лицо влажное от росы? Где сон, где явь?
— Ну, вот и оклемалась наша стерва, — услышала Капка голос Боцмана и поняла, что
явно не спит.
— Ты не канай, змеюка подлая! Уж неделю, как приморились с тобой! Пора и на
катушки! Кончай на игле и колесах дышать! Хамовку файную имеем! — вставил Глыба.
— Ты не ссы! Мы того карманника уже замокрили. Шакал его припутал. И как саданул
ему перо! По самую, что ни на есть… Он и накрылся. Пока сдыхал, услышал, за кого
с него душу выпустили!
— Его менты накрыли, — удивилась Капка.
— Верняк! Но шпана его вырвала. Из лягашки, в ту же ночь. За навар. Привели к
нам на хазу. Тут и ожмурили враз, без трёханья… Так что тебе теперь за двоих
дышать! — поддержал Таранка.
Капка порадовалась, что фартовые не оставили без мести случившееся. Не пожалели
денег. И не просто вломили, а убили карманника, посмевшего метнуть в Задрыгу
нож.
— До нас не сразу доперло. Ты около «тачки» стояла Мы уже «на взводе», ждали,
когда шмыгнешь в машину. А ты согнулась, как старая трешка, и мурлом пропахала
возле колеса. Шакал поднял. Глядь — перо торчит в тебе. Карманник рыгочет. От
радости усирается. И менты уже к нам намыливаются, какие карманника попутали.
Пахан тебя сгреб в охапку, шмыг в тачку, и оторвались мы от лягавых. А ты без
памяти, посеяла все. Шакал тебя на хазу приволок. А мы — врача надыбали. Самого
кайфового по ножевым ранам. Он средь фартовых уважение имеет. Многим жизнь
заново дал. Он и вырвал тебя у смерти. Ты у него неделю канала. Тяжелой была.
День и ночь возле тебя няньки в стремачах сидели. Нельзя было трогать,
перевозить. Едва оклемалась. Натерпелись мы страха. Теперь живи! — радовались
кенты.
Глава 3
Лихая судьба
Капка скоро начала самостоятельно есть, вставать с постели, ходить по комнате.
Она все еще чувствовала боль в левой части тела. Карманник задел что-то очень
важное. И Задрыга нередко просыпалась среди ночи от судорог, сводивших сердце, и
от страха, донимавшего ее.
— Это пройдет со временем, — успокаивали фартовые, начинавшие уже тяготиться
разговорами о болезни Задрыги. Та почувствовала. Замкнулась. И снова стала
прежней. Отказалась «от колес», навязанных врачом, лечилась методом,
подсказанным Сивучем. И вскоре впрямь встала на ноги.
Девчонка уже знала от малины, что приехали они в Ростов очень кстати. Что через
пару недель тут собирается сход фартовых, где будет выбран сам маэстро. Пахан
всех паханов и фартовых, главный вор, самый уважаемый из законников. На этом
сходе должны будут собраться воры от Мурманска до самого Сахалина. Все они уже
оповещены, всех их ждут в Ростове с нетерпением.
— Ох и будет сходка! Последняя такая была двадцать один год назад, когда
назначали недавно умершего маэстро. Ох и кент он был! Ломовик! А хитер, падлюка,
хуже нашей Задрыги! — вспоминал Глыба восторженно.
— Я его один раз в жизни видел. Когда меня паханом Черной совы сделали. Он со
мной ботал обо всем. Что я умею, где ходки отбывал, как и с кем линял, какие
дела проворачивал, какие навары имел, сколько в общаке имею, сколько кентов в
ходках канают, посылаю им грев или нет? Какой положняк даю приморенным кентам —
какие из ходок возникли и привыкали к воле заново? Сколько на главный общак
отвалю? Все я ему выложил. Все ему по кайфу пришлось. К одному прикипелся, что
зоны плохо знаю, тюряги, штрафные изоляторы не нюхал, в одиночках не канал.
Законов ходок не знаю. И хотя судимостей до хрена, ни одну ходку больше двух
месяцев не тянул. Линял шустро. Он меня тряс, мол, колись, как пофартило
смыться? Я трехал…
— Я тоже мозги посеял от дива, как слинял ты с Колымы? Из последней ходки? Не
ботал о том ни разу. Хоть теперь расколись! — просил Боцман.
— Почему я? Пусть Глыба с Таранкой вякнут. Вмёсте срывались с зоны! Есть о чем
ботать! — усмехнулся Шакал и подсел к Задрыге, сделав вид, что разговор ему не
интересен. Пережитое давно стало прошлым. Стоит ли его ворошить?
Глыба и Таранка были иного мнения. И чуть возникал повод, любили рассказать, как
убегали из зоны.
— В тот раз нам прямо в суде вякнули, что упекут на самую что ни есть Колыму, к
черту на кулички. И намекнули, что живыми оттуда не выберемся. А все потому,
мол, что гавенней нас в свете не надыбать. Лаяли нас рецидивистами, бандитами,
отходами от фраеров. Вот это последнее хуже плевка обиженника стало. Мне легше
было бы парашу Через соломинку схавать, чем такое! — побагровел Глыба и выдохнув
сказал:
— Да ты и сам все это слышал и пережил.
— Но как вам удалось всем троим слинять оттуда, с зоны? — не отстал Боцман.
— Погода выручила. Сам сек, какие там бураны были. Самолеты перестали почту из
Магадана привозить. И тогда ее начали доставлять на собачьих упряжках. В мешках.
Мы все трое в больничке канали. Поморозились. Ну и засекли, когда каюр возник во
дворе зоны. Скинул он мешки, охрана их в спецчасть уволокла. Пока собрали
обратную почту в мешки, мы доперли. Вышли из больнички и того якута, что почту
возил, приласкали трепом. Угостили спиртом, какой сперли в медчасти. Каюр
выжрал. Сел в нарты и кемарит. Охрана ему мешки с почтой вынесла. Нас отогнала.
Мол, чего тут шляетесь? А якуту предложили чай попить на дорожку. Согреться. Он
и похилял. Охрана мешки побросала в нарты и тоже в спецчасть. Кому охота яйцы
морозить на колотуне? Ну, а мешки в зоне все одинаковы. Нырнули мы в больницу,
вытряхнули грязное белье из мешков. И ждем, когда последний охранник от нарт
слиняет. А он, гад, словно чуял, прикипел надолго. Тем временем буран свирепеть
начал. Мы уже прибарахлились. Намылились в бега. Свет погасили. Прикинулись
будто кемарим. Охранник увидел, что в нашем окне темно и в караулку шмыгнул,
погреться. Уложили мы вместо себя в койки белье из прачки. Сами — в мешки и в
нарты
залегли. Лежим, бзднуть не смеем. А колотун уже до печенок достал. Каюра все
нет. Продирает нас мандраж за все разом. Что если якут лишь по утру смываться
вздумает? Мы в сосульки превратимся, — усмехнулся Глыба.
— Да нет! Другого ссали! Что нас вместо писем унесут в спецчасть на ночь, раз
каюр ночевать остался, — вставил Шакал.
— Вам легко трехать. Я трясся оттого, что сидор, в какой я влез, почти пустой
был. Охрана, будь посветлее, вмиг разглядела б. Но буран вовсе ошалел. Темнело
быстро. Меня с нарты сдувать стало. Но тут якут возник. Спросил у оперов, будет
ли еще почта? Все ли письма погрузили? И начал нас увязывать, чтобы не растерять
дорогой. Крепкие веревки были у него. Чуть не задушил меня, пропадлина! —
обругал каюра Таранка.
— Короче, вывез он нас из зоны, ничего не подозревая, кто у него за спиной
приморился. Мы канали сколько нас хватило. Потом я вздумал «перо» в ход пустить.
Веревки душу передавили. На них только лягавых мокрить, а каюр нас — фартовых,
чуть не размазал. Попробовал достать «перо» и хрен в зубы, клешней пошевелить не
могу. Намертво зашпандорил, падла. Чую, и кенты приморены крепко. И не секу,
далеко ли от зоны слиняли? Слышу снег под нартами скрипит. А когда колотун уже
душу достал, не стерпел, позвал якута. Тот со страху еще быстрей своих псов
погнал. Как потом вякал, думал, шайтан его окликает. Когда доперло, что за
спиной у него шайтаны загибаются, застопорился гад! — говорил Шакал.
— Ну и трясся он, когда узнал нас! Аж позеленел! Мы его уломали, пофартили.
Пузырек спирта раздавили на четверых, уже на подходе к Магадану. Там мы слиняли
от него. И этой же ночью тряхнули начальника зоны — бугра недавнего.
— Вы к нему в хазу возникли? — удивленно перебил Боцман Глыбу.
— Ну да! Только в неровен час. Этот кабан на своей «параше» кайфовал. Даже не
почуял пропадлина. Один канал. Даже шмару не имел. Мы его там и размазали. Тихо…
Ксивы выгребли. Прибарахлились и ходу. Ночью на судне ушли.
— У него ксивы ожмурившихся зэков были. Целый ящик. Верняк, сбывал за башли.
Иначе, на кой хрен сдались?
— Да ты ж мозгами раскинь? Он и нам вякал, до смерти в зоне приморить. Потому
погнал нас тогда на пахоту без робы, чтобы откинулись шустрей. Когда нас
привезли в зону помороженных, конвой шерстил, зачем живыми доставили всех троих?
Не могли, мол, дождаться пока ожмуримся.
— С чего на вас он наезжал? — спросил Боцман.
— В делах наших особые пометки были. Мол, направляем к тебе тех, какие обратный
адрес не должны помнить. Он из дресен лез от старания. Но не обломилось ему.
Слиняли. Фортуна помогла. И едва до Урала — там легче. Зима еще не свирепела. До
дышали до Брянска.
— Лихо нам врубили тогда в суде!
— Все за ментов ожмуренных! За них из нас души вытряхивали. Из-за «сундуков» и
«кубышек» фартовых в особняк не сунут. Этот режим особого содержания для тех,
кого не враз, а медленно мокрят, годами. Ведь зэки в бараках так и вякали, что
оттуда никто ни разу на волю не выскочил. Только вперед катушками. А там — все
едины, — выругался Глыба.
— Ас той ходки как слинял ты, Шакал? Когда тебя на Сахалин увозили? —
полюбопытствовал Таранка.
— О том меня и маэстро спрашивал. Мол, вякни, как обломилось слинять? Я и
трехнул, как было, — усмехнулся пахан. И рассказал:
f — Повезли нас «в телятнике». Хвост у товарняка чуть ни на километр. Зэков — с
десяток вагонов. В Москве нацепляли со всех городов и мест. В вагонах кто
разберет. Всякой шушеры до хрена. Одни — не впервой, другие — как целки? Одни
плачут, сопли до колен, другие курят и ночами. Третьи — плевали на все и всех.
Но был один — падлюка! Не мужик, засранец! Его, если выставить на базаре,
последняя шмара не захотела б. Гавном назвать, чью-то жопу обидеть можно. Этот
козел влип за усердие. Инженер-строитель. Ну и хорек! Какая задница придумала
его на свет высрать? Всех рожают! Этот! Только через жопу свет увидел. И мозги у
него, понятно, из гавна были! Мудак тот заставил строителей дом зимой достроить.
И к весне сдал его под заселенье! Раньше срока — на год! Премию получил. Люди
въехали. А на третий день ночью дом до самого фундамента рассыпался. Сколько
людей погибло, жуть! А этот мудак вякал, мол, он не виноват. Не дал дому
выстояться в зиму и не виноват! Когда его забирали, он винил жильцов. Каков
козел? Мол, они вбивали гвозди в стены, нарушили структуру! Ну да хрен бы с ним,
если б не был он вонючкой! Сколько я на свете дышу, не встречал еще такого
хорька! У него не только из пасти, даже из шнобеля и лопухов несло, как из
немытой сраки, И вскоре в вагоне всякого виноватого клали на ночь рядом с этим
козлом. Проигравшиеся давали себе обрезать ухо, отрубить палец, только чтобы не
ложиться рядом с бздилогоном. Те, кто ночью о бок с ним кемарили, до утра не
выдерживали. Задыхаться начинали. Другие — блевали, не терпя зловония. Не мужик
— гнилая параша! — сплюнул Шакал брезгливо и продолжил:
— И была у этого мудилы подлая привычка, когда все за стол садятся, он тут же —
на парашу. Приморится и кайфует, гад, рулады его за вагоном слышны. Но это
ладно. А вонь такая, словно не баланду хаваем, жопу обиженника опорожняем
собственными языками. Многие из-за этого хавать не могли. Валились с катушек. А
охрана лыбится! Мол, мы того вонючего мудака, как великую драгоценность беречь
станем. Как редкий алмаз, за большой навар отдадим в зону, где отпетые негодяи
будут. И этого хорька, на все годы, до самой смерти, под бок на соседнюю шконку
приморим. Я как услыхал такое, сердце мне сдавило. Понял, мне грозит конвой. А
ведь довелось по незнанию рядом с тем гнильем лечь, — сознался Шакал.
— Насморк был. Зэки решили, не почую! Так через полчаса насморк как рукой сняло.
А в голове — звон, будто угорел. И тошнота к горлу комом подступила. Ну я враз
засек, от чего все приключилось, сорвал паскуду и выкинул с нар, вниз, на пол к
конвою под бок и уснул тут же. Когда мне им грозить вздумали, усек, надо
смываться, либо того хорька замокрить. Третьего выхода — не может быть. Мы к
Челябинску подъезжали как раз. Я и усек, как побег устроить. Ну да как ни
мылься, не светило мне. Конвоиры, а их двое на вагон пришлось, зенки на меня
уставили. Предупредили их, это верняк, что я своего случая не упускаю. Ну, сели
мы вечером хавать. Кто где приморился. Этот мудозвон враз на парашу вскочил.
Окорячил ее и завел свою музыку. Я ему, падлюке, трехаю, чтоб заткнулся. У нас
дыхание от его вони перехватило, глаза на лоб полезли. А конвой хохочет. Ему по
кайфу те концерты были. Но… Тут одного из наших на блевотину поволокло. Умолили
мы охрану двери приоткрыть. У мужика, аж сердце заклинило. Понял конвой —
загнуться может зэк. Ну, мы его к двери поближе подтащили. И я не сдержался. Как
раз неподалеку от того козла был, он будто назло, завелся, как паровоз. И откуда
в такой гниде столько вони — не пойму. Ну и врубил ему по самые. Хотел всю вонь
разом с душой вышибить. Была не была! Чем из-за него задохнуться, лафовей под
«вышкой» откинуться, подумалось тогда. А вонючка — кентелем в стену вагона
врубился и парашу перевернул. На себя и на конвой. Я и выпрыгнул на ходу, пока
конвой гавно выплевывал. Обоим охранникам на мурло попало из параши — в зенки. Я
только глянул и ходу. Никто опомниться не успел. Поезд через секунды в тоннель
вошел. Так что мне пофартило. Я с полотна скатился и в реку. Нырнул и пошел по
течению — вниз. Слышу, поезд застопорили. Весь конвой, наверное, вывалил меня
дыбать. Да где там… Я
им как привиделся. И теперь фортуну благодарю, что засранцы на свете дышат. Без
него как смылся б? — рассмеялся Шакал.
— Таранка, а как ты слинял из Магадана? — спросил Глыба кента о побеге из зоны,
о каком он сам ничего толком не знал.
— Мне не с конвоем махаться довелось. И волю свою я у волка из зубов вырвал, —
вспомнил тщедушный кент и продолжил:
— На трассу нас погнали мусора. Пахать вместе с работягами. Я — сачковал, держал
закон. За это — хавать не давали конвоиры. Но злее их был колотун. До горла
достал. Я и вздумал, файней откинусь, чем фраерну закон. Ну и приморился на
сугробе. Как в снег мурлом воткнулся — уже не помню, не слышал, как меня в землю
кинули, приняв за жмура. Охрана или зэки — не знаю того. И сколько там канал —
один Бог ведал. Но оклемался. Видать, согрелся в могиле И не пойму, где я и что
со мной. Кругом темно и тесно. Понял, не на шконке в бараке, не в шизо. И
доперло… Жуть взяла. Базлать начал. Дышать захотел. Слышу, кто-то сверху
ковыряется, помогает. Я клешнями пытаюсь дергать. И, мама родная, глядь, волчье
мурло надо мной висит. Рычит, паскуда, что пахан, — усмехнулся в сторону
Таранки.
— Я его по фене обложил. Он умолк, на меня таращится Тут я взвыл, мол, чего
сачкуешь, курвин сын? Выгребай шустрей! А он, пропадлина, приморился рядом
покемарить Ждет, когда накроюсь. Ну, думаю, хрен в зубы! Давай сам шевелиться.
Клешни выволок. Потом и ходули. Там и весь выбрался. Закидал могилу свою, ровно
в ней морюсь. А волк не линяет. Как конвой, зараза, по пятам… Я его землей,
мерзлыми комьями отгонял. Отскочит, взвизгнет, залижется змей и опять ко мне. Ну
я сообразил, что линять шустрей надо Рассвет наступал. Зэков должны скоро
привезти на пахоту. И похилял. Волк — за мной охранником хиляет. Когда
невмоготу— бросался на меня, — закурил Таранка.
— На мое счастье, старый попался зверюга. Молодой — в клочья бы пустил враз.
Сшибить с катушек тогда — легко было. Видать он, лярвин кобель, не хуже меня,
давно не хавал. Вот и плелись мы, не зная кто кого вперед схарчит. Я от него на
ночь на дерево залезал. Чтоб не свалиться, меж сучьев устраивался до утра Чуть
свет — опять волоклись бок о бок Сколько дней — не помню. Якуты подобрали. Не
высветили Две недели поднимали на ходули. Я чуть оклемался — и пахан возник… Он
увез…
— А волк? Как же он тебя не схарчит — удивилась Задрыга
— Зверюга людей почуял. Раньше чем они появились. Якуты те охотниками были. Волк
запах оружия издалека чует. Видел я, как он застопорился, шнобелем закрутил,
взвыл так, даже мне зябко стало. И ходу от меня. Ровно шпана от законника. Не
оглянулся. Только его и видел…
Шакал, слушая кента, усмехался. Он помнил, как прикинувшись Таранкиным отцом,
приехал в зону. На свидание. А ему ответили, что сынок умер. Шакал тогда чуть
дара речи не лишился. И попросил показать могилу. Охрана привела. Указала, где
закопали Таранку. И тогда Шакалу взбрело в голову раскопать, убедиться самому.
Благо, конвой и зэки далеко от этого места ушли.
Когда пахан увидел, что могила пуста, понял, ломал комедию его кент. Искать его
надо среди живых. И вскоре нашел законника. Целый год не брал в дела. От Таранки
одно звание осталось. Кожа и кости. На человека не был похож. Казалось,
прикоснись и рассыплется на кости.
Шакал когда покинул зону, в какой его кент в жмурах числился, по поселкам
проскочил, выспрашивая, нет ли завалящих мужиков для артели старателей. Ему и
подсказал один алкаш искать среди беглых, какие у охотников и оленеводов
прижились. Там они через пяток дней встретились. Таранка узнал Шакала по голосу.
И позвал…
Плохо видел тогда законник. Голод и холод лишь чудом не доконали. Живуч
оказался. Вот тогда, прямо из снегов, из юрты, сгреб в охапку. И через десяток
дней привез на море. Денег не пожалел, нанял сиделку и врача. Снял для кента
комнату. Часто навещал фартового. Пока тот не окреп полностью, не забирал его.
Таранка и теперь, хоть годы прошли, помнит доброе Шакала.
— А почему мы Черная сова? — поинтересовалась Капка, давно караулившая момент,
когда разговорившиеся кенты раскроют ей тайну названия малины.
Шакал строго глянул на дочь, приказав взглядом — замолчать. Но… Глыба не
заметил:
— Вообще тебе уже можно про то вякнуть, — усмехнулся широкой, простоватой
улыбкой и продолжил:
— Влипли мы в зону всей малиной. Попутали мусора. Впаяли на всякий шнобель по
четвертному и в Сибирь захреначили. Мы все вместе уже лет пять фартовали. Но
своей кликухи малина не имела.
— Ты короче трехай! — встрял Боцман. И продолжил:
— Вздумали слинять. А для того — тайгу поджечь. Чтоб не потеряться — совиным
голосом окликать друг друга. Так и отмочили. Подпалили файно и слиняли. Конвой
все зенки просрал. Пожар тушили. А мы следом за зверями. Выскочили и ходу… Нас
сгоревшими посчитали, — хохотал Боцман.
— А почему Черная сова? — не успокаивалась Задрыга.
— В том пожаре иной совы не могло быть. Там небо черным стало от копоти и дыма.
Охрана, слыша совиный крик наш, внимания не обращала. Сов хватало в тайге.
Только они от дыма и огня враз лес покинули. А нам по кайфу пришлась затея. С
тех пор, где нужняк, так вот и окликаемся. Другой, чужой малине, наших голосов
не повторить, и тебе надо тому наловчиться. Время пришло. Голосом своей малины
должна вякать. Когда лягавые вблизи иль фраера в кольцо берут. Тот голос —
сигнал. Но секи про тон его. Резко и коротко — шухер, тихо и мягко — на деле —
значит пора шевелиться! Громко трижды — линяй! Вот так это надо! Запомни! —
прокричал голосом совы, и Задрыга тут же повторила услышанное.
— Лафово! Вот так и маячь! Ну без понту не дери глотку! — предупредил Боцман
Капку.
Девчонка слышала, что на сходку малина собирается основательно. Она начнется
вечером. Сколько дней продлится — никто не знал. Но все были уверены, что после
«ее обмыть встречу и разлуку на несколько лет, а может, и на всю жизнь, пойдут
законники в ресторан. Там будет весело.
Капка всей душой вздрагивала именно оттого, что кенты пойдут в ресторан. И тоже
без нее.
— На сходку нельзя! А в ресторан почему не вместе? — допытывалась зло.
— Еще чего?! Ишь, доперла? Ты что — шмара? Фартовая? Ты — зелень! А коли так, не
рыпайся! Хазу стремачить надо. Без дела не приморим. С нами — рано. Созрей! В
фартовой бухой компании — тебе не место! Будь в хазе! За стремача! Не то вломлю!
— разозлился Шакал. И Задрыга отодвинулась от него на другой конец стола.
Рестораны… Именно там, чаще всего, попадают фартовые в лапы милиции. Это Задрыга
слышала от Сивуча.
— Секи, Капка, не надо мозги иметь, чтоб допереть, какая публика правит кайфом?
Фартовые нынче мозги сеют. Откупают ресторан на всю ночь. Самых клевых
официанток и поваров фалуют в обслугу. Музыкантов, какие феню знают. И наши —
колымские, печорские, сибирские и сахалинские лагерные песни. Фраера их не
слышали. А лягавые, едва до их лопухов феня дошла, тут же в кучи сбиваются и на
законников прут. Воронками ресторан в кольцо берут. И законников всех разом
накрывают. Те потом допирают в ходках, кто их засветил? Да никто! Сами себя! Не
надо базлать во всю глот
ку на весь город про Колыму и Сахалин! Фраерам этих песен не понять. Все это
своей шкурой пережить надо. Ну, коли сумел и там выжить и на волю выскочить,
сумей молчать! Так нет! Чуть бухнут, и понесло в разнос! Да так, что не услышать
этой фартовой попойки мусорам — мудрено. От нее стекла в конце квартала, дрожат.
Все вокруг спят. А ресторан, что новогодняя елка — весь сверкает в огнях. И всяк
фартовый в нем, как на ладони. Редко веселятся законники, но громко. Оттого и
коротко. Когда взрослой станешь, не бухай в ресторане. За короткую эту радость —
волей и жизнями многие поплатились, — говорил Сивуч, предостерегая Капку от
беды.
Та слушала, запоминала. И уж если не удается ей отговорить фартовых от
ресторана, вздумала во что бы то ни стало увязаться за ними. Но… Получился
прокол. Кенты дружно, как никогда, грубо оборвали ее просьбу, может, оттого, что
не хотели рисковать девчонкой в очередной раз.
Она с грустью смотрела, как собираются кенты, как тщательно бреются, надевают
новые рубашки, костюмы. Ничего не забыли, оглядывают себя в зеркало.
Капка выглядывает в окно. Ей уже скучно. Там внизу какой-то мужик крутится. С
самого утра. На их окно смотрит. Едва встретился взглядом с Задрыгой, нагнулся,
словно чей-то чинарик поднял. Капка ему деревянную стрелу пустила — в задницу.
Мужик подскочил, закрутил задом. Выдернул стрелу, поломал, погрозил Задрыге
кулаком. Она указала на него фартовым. Выдала, что он тут с утра ошивается.
Кенты усмехнулись, мол, тут нынче одни законники приморились. Чей- то сявка
стремачит хазу. Не стоит дергаться. Это Ростов. Тут все свои.
Капка хотела поверить. Но сердце не соглашалось.
Она еще попыталась набиться на ресторан, но Боцман молча сунул ей кулак под нос.
Задрыга поняла, обиделась и замолчала, отложив в память зарубку на Боцмана,
какому вздумала отплатить при первом удобном случае.
— Что же отмочить паскуде? Что учинить из того, что я ему не делала? — думает
Капка, закрывая на задвижку двери за кентами, уходившими на сходку.
Капка оглядывается. Смотрит, что имеет она под руками.
не хочется повторять свои прежние козни.
Конечно, можно было бы натянуть колючую проволоку на матрац. Потом накрыть ее
простынью, одеялом. Боцман не заметит. Но… Это уже было. Фартовый в тот раз ей
уши
— чуть не оторвал. Осторожным стал. Целый месяц проверял койку и стулья. Недавно
лишь забылся. Гвозди в подушку она ему подкладывала с детства. И у кента вошло в
привычку, прежде всего на ночь хорошенько встряхнуть подушку. Даже ток подводила
к его койке. За что получила знатную трепку от пахана.
Тертое стекло, случалось, сыпала ему в ботинки. Он высыпал и грозил Задрыге
разделаться с нею как следует.
Она ненавидела Боцмана с малолетства, стойко, люто. И никогда не упускала случай
устроить ему пакость. Пахан пытался отучить ее. Но Капка не могла отказать себе
в удовольствии подгадить Боцману, пусть даже за это получит крепкую трепку, но
это будет потом, после того, как Боцман в очередной раз взвоет от боли.
Негашеную известь сыпала ему под подклад фуражки, а хлорку — в подклад пиджака.
Все это теперь казалось ей безобидными шалостями, на какие не следовало обращать
внимания. Ей хотелось устроить настоящую пакость, после какой он стал бы бояться
Задрыги, уважать ее и считаться с нею, как с настоящим, взрослым кентом.
Капка внимательно осматривает дверь. Она, как никто другой, знает, что
возвращаются фартовые в хазу всегда одинаково. Первым входит пахан. Боцман —
последним. Он резко хлопает дверью, закрывает на все запоры.
— Лучше было б, если бы он возникал первым, — думает Задрыга. Но… Вскоре,
оглядев обналичку, улыбнулась одними зубами:
— Ну, держись, падла, Боцман! Доведу тебя до мокроты, — достала из чемодана
узкое, сверкающее лезвие ножа. Ручку к нему собирался заказать Шакал у хорошего
мастера, здесь — в Ростове. Но Капке ждать некогда. Она хочет отучить Боцмана
совать ей кулак под нос. И вставляет лезвие за обналичку двери.
Задрыга отодвинула обналичку, чтобы при захлопывании дверей лезвие тут же
пригвоздило к полу ногу. Капка много раз проверила, как срабатывает ее проделка.
Осечки не было. Лезвие выскальзывало из паза только при дверном толчке и на
открытие не выпадало. Капка понимала, если Боцман придет совсем бухим, перо
может хорошо порезать ему руку. Но это лишь отрезвит, решила она. И закрыв дверь
на ключ, вытащила его из скважины, чтобы фартовые сами открыли, ; своим ключом,
поверив, что Задрыга кемарит.
Девчонка глянула в окно. Там ни души. Темно и пусто. Капке надоело слоняться без
дела. Она погасила свет и легла в постель.
Кенты уже, наверное, в ресторан похиляли. Все вместе. Там, Сивуч говорил, баб
полным-полно. Всяких. Верняк, потому меня приморили здесь — одной канать. Чтобы
блядей не видела. А может, закадрят какую-нибудь шмару? Но куда они ее денут?
Сюда не притащут. К ней — не похиляют сами. Хотя… Может, сегодня сходка не
кончится. Пахан трехал, что дел много. И трепу будет… Ни на день. Одной ночи не
хватит уложиться, — думает Задрыга.
— А кого паханы в маэстро возьмут? Может, Шакала? Но нет, пахан ботал, для того
много надо! У него кишка слаба. Все самые-самые с десяток ходок имели. Все
знали. И уже не такие молодые, как пахан. А вот кентов в малину нашу — сфалует.
Это верняк! — засыпает Задрыга и вдруг отчетливо слышит шаги на лестничной
площадке. Они остановились у двери. Затихли. Кто-то шарит по замку, ищет
скважину.
— Нет, не наши! — прислушалась Задрыга. Она знала, пахан без возни, вмиг
вставлял ключ в скважину.
— Чего копаешься? Разбудишь эту паскуду! Живей и тихо! — увидела тонкий луч
фонаря, ударивший в замочную скважину.
Капка сжалась в комок. Ключ в замке повернулся. Двери открылись и Задрыга,
привыкшая к темноте, увидела двоих.
— Где эта блядь? — услышала девчонка глухое.
— Ты дверь закрой. Вопить станет, чтоб никто не слышал.
Дверь хлопнула. И в ту же секунду кто-то рухнул на пол,
— Ты чего? Вставай! — тормошил упавшего напарник.
Капка тихой кошкой выбралась из-под одеяла. Пока второй мужик искал фонарь в
руках упавшего, Задрыга сшибла его с ног. Вцепилась в горло намертво.
— Ну, с-сука! Не я, другие тебя натянут и пришьют! Не слиняешь от нас за Вальта!
— вырвался мужик из-под Задрыги. Та нажала на глотку изо всех сил.
Мужик затих. Капка связала его. По рукам и ногам, как учил Сивуч, не доверять
быстрой смерти. Случается и в этом ломать комедию даже шпане.
Задрыга трясясь включила свет, Вытянувшись во весь рост, лежал на полу мужик.
Лицо «под сажей». В темени головы торчал конец лезвия. Оно глубоко пробило
голову и лишило жизни сразу.
Маленькая лужица крови возле головы. Даже не верилось, что так случилось. Капка
смотрит на второго. Тот хрипит. Пытается вытолкнуть из горла застрявший комок
воздуха Ему это не удавалось, пока не повернул голову набок и с ревом
освободился от удушливой спазмы. Он тут же открыл глаза увидел Капку
— Кайфуешь, стерва? Пропадлина чумная! Думаешь, от
мазалась от нас — выкидыш обиженника! Я тебе еще пущу шкуру на ленты!
— Ты еще воняешь? — подошла девчонка к столу, взяла отцовский нож из ящика и,
подойдя к непрошенному гостю, предупредила хрипло:
— Хайло раскроешь, размажу!
— Ты? — мужик согнул в коленях связанные ноги. Вскочил. Но Задрыга тут же
схватили табуретку. Ударила углом в грудь.
— Канай, покуда добрая! — улыбнулась зловеще.
Мужик извиваясь пытался достать ее ногами.
Задрыга отошла к стене, смотрела на того, кого убила
невольно. Ее тошнило от вида бледнеющего лица, западающих глаз, синеющих губ.
— Зачем они возникли? Унесли смерть Боцмана. Не приведись такого. Пахан не
посмотрел бы ни на что, разорвал бы в клочья. Но как лезвие угодило в кентель? —
не понимала Капка и решила никогда не шутить с «пером».
— Отпусти! Слышь, заморыш! Пальцем не трону тебя, клянусь мамой! — попросил
второй мужик, увидев, что его напарник не шевелится.
— Канай тихо. Будешь вякать — ожмурю, как этого, — указала на мертвеца и,
уперевшись ногами в пол, с трудом вытащила лезвие из головы покойника.
— Мать твоя — параша гнилая! Ты ожмурила Крота? — изумился напарник мертвеца и
вновь попытался вскочить на ноги.
Капка вогнала в него с десяток деревянных стрел. Она всадила их одну за другой,
услышав град угроз.
— Всей кодлой в очередь тебя пропустим. А потом утопим в сраной отхожке. За все
разом!
— Ты не додышишься! — рассмеялась Задрыга.
— Я не дотяну, другие тебя прикончат. Ты приговорена шпановской малиной к
ожмуренью. И сдохнешь, как последняя сука за то, что высветила мусорам нашего!
— Заткнись! — прикрикнула Капка, услышав, как к дому подъехала машина. Она
выглянула в окно. Облегченно вздохнула. Из такси выходила малина — Черная сова…
Задрыга включила яркий свет. Открыла двери. Фартовые, глянув, заторопились в
хазу.
Шакал вошел первым, как всегда. За ним кенты.
— Смотрю, ты не скучала тут? С чем возникли эти фраера? — спросил пахан криво
усмехаясь.
— Сам их тряси, — выдохнула Задрыга и уже не дрожа села ближе к Таранке.
Шакал закрыл дверь. Велел Боцману развязать незванного гостя. И поставив того к
стене, приказал глухо:
— Колись, падла! Чей есть? Зачем возник сюда?
— Лось моя кликуха! Малина решила замокрить вон ту паскуду за нашего кента,
какого мусорам заложила. Не мы — другие ее застопорят. Это верняк!
— Кто пахан твоей малины? — перебил Шакал.
— Мы сами себе паханы!
— Выходит, сброд фраеров? Тогда все проще. Зароем вместе с этим жмуром в одной
могиле. Понемногу сам откинешься. Как ничейный. За таких спросу нет.
— И тебя замокрят, — процедил сквозь зубы Лось.
— Боцман, крикни сявок! Пусть падаль уберут! — выстрелил в упор. И обтерев
наган, спрятал за пояс.
Через десяток минут кенты закрыли дверь за сявкой, убравшим все следы нежданного
визита.
— Смотри, Задрыга, усек я, как перо оказалось наверху. Доперло, кому мастырила
месть. И за что… Завязывай с этим, пора взрослеть. В дела ходишь фартовые.
Кончай быковать со своими, — потребовал Шакал строго.
— Я уже зареклась. Чего теперь кипеж открыл? Мне и так до горлянки достало. Еле
дождалась вас. А ты бочку катишь. Хватит наезжать. Если б не это перо, меня б
уже в живых не было. Оно спасло, — и Капка рассказала все как было.
— Круто взялась шпана. Надо проучить! — встал пахан. И позвав из-за двери сявку,
велел ему смотаться к шпановскому пахану всего Ростова.
— Передай ему, я — Шакал, пахан Черной совы, хочу говорить с ним. Завтра. В
десять утра. Там, где сегодня была сходка! Если не прихиляет — пусть обижается
на себя!
— Уехать бы отсюда! — подала голос Задрыга.
— Захлопнись! Что нас — фартовых, шпана трясла? Чтоб мы из-за нее линяли из
Ростова? — сжались кулаки Шакала, и в глазах сверкнули свирепые огни, за какие и
получил свою кликуху пахан.
Капка вобрала голову в плечи. Знала, злить Шакала опасно. Доводить до ярости —
рисковать головой. Капка тихо легла в постель.
Она проснулась поздно, когда все законники давно встали. Девчонка увидела отца,
разговаривающего с незнакомым человеком. Тот слушал Шакала, иногда о чем-то
спрашивал. По всему было видно, что оба обсуждают что-то очень важное.
— Сегодня я разборку соберу. Узнаю, кто надоумил Лося. Я не велел им стопорить
Задрыгу. Не посылал сюда никого. Да и зачем? Нашел бы возможность с вами
трехнуть. Без перхоти. Ну да тряхну я своих, надыбаю, кто меня по ставил в
дураки, — пообещал вставая гость.
Шакал положил перед ним пачки денег…
— Это твоя потеря. Потрафь на замену. Пусть толковые будут мужики. И мне пару
шестерок надыбай. В обиде н оставлю. И знай, купюры кропленые, — предупредил
Шакал.
— Иных башлей не держим. Все фаршманутые. Но мы не фраера. Не дергаемся. А сявок
сегодня пришлю. Файные мужики. Костьми лягут за своих. Проверены, — уверил гость
пахана. И глянув на Капку, добавил тихо:
— Враз нам надо было с тобой свидеться. Сам секи, шпана тоже уважение ценит…
А вечером к ним постучали. Двое мужиков стояли в дверях, не решаясь войти.
— Нас пахан прислал. Насовсем к вам, — сказал лысеющий, круглолицый человек,
оттеснивший за спину длинного худого мужика.
— Как кликухи ваши? — спросил пахан, окинув обоих внимательным, придирчивым
взглядом.
— Его Жердь, — толкнул локтем стоящего сзади мужика. И ткнув себя пальцем в
грудь, сказал:
— А меня — Краюха!
— Давно в малине шпановской канаете?
— С пацанов. Мы ростовские.
— Как платил вам пахан? — спросил Шакал.
— Сами шевелились. Пахан наш получать любил. Раздавал лишь зуботычины, в мурло.
Редко когда со стола перепадало. Так иль нет? — толкнул Краюха локтем Жердь. Тот
торопливо закивал головой.
— У меня свой закон в малине! Стремачить, шестерить будете. В дело — ни ногой.
Доперло? Хазу стремачить, нашу кентуху! Чтоб пальцем к ней никто не прикоснулся!
— Не то она кентель любому откусит! — добавил Боцман. Он, узнав, что с ним могло
вчера случиться, всю ночь не спал, ворочался. Весь день косился на Задрыгу и
только недавно в себя стал приходить.
— Вот башли вам! Хиляйте прибарахлитесь. Одно секите! Бухать вам — когда
позволю! Сами накиряетесь, выпру из малины без трепу, — предупредил пахан.
Жердь и Краюха взяли пачку полусоток.
— На барахолке прибарахлитесь. Усекли? Завтра с утра до темноты управьтесь. На
ночь — сюда. И больше ни шагу от хазы! — велел пахан, отодвинув сявкам часть
ужина.
Сявки ушли в коридор. А Задрыга, едва закрылась за ними дверь, спросила отца:
— Как ты секешь? А не разделаются они со мной за жмуров из своей малины? Здесь
им меня достать, как шиш обоссать.
— Не трепыхайся, Задрыга! Они за все годы от своего пахана не имели столько,
сколько им на барахло отвалено. Да и почетно шпане в фартовой малине дышать. Не
часто такое обламывается. Они теперь душонки выложат, чтоб их не выперли отсюда.
И нынче прежнюю малину забудут. Что им она? Да и жмуров оплатили им. Дали бабки,
чтоб помянули, а на остальные — новых сфаловали. Все в ажуре! Нет больше обид.
Уважили шпану. И она кайфует. Потому что она — ростовская. А в своем доме никого
обжимать нельзя. Чтобы и дальше дышать лафово — к тебе никого не допустят.
Доперли мое слово. Свои, прежние их кенты, если вздумают счеты с тобой свести,
эти двое им глотки порвут. Да и пахан их, слово мне дал, — успокоил Задрыгу
Шакал и вместе со всеми кентами снова стал собираться на сходку.
— Ты займись, чему тебя Сивуч учил. Чтоб не отвыкла, не посеяла. Теперь уж не
сама канаешь. Стремачи имеются. Дрыхни спокойно! — сказал уходя.
Задрыга занималась до глубокой ночи. Когда устала до изнеможения, решила
передохнуть. Ей хотелось дождаться кентов. Но когда они вернутся, девчонка не
знала.
Тихо перешептывались в коридоре сявки. Капке так хотелось поговорить с ними.
Тоскливо одной. Но знала, нельзя ей с ними общаться, ронять достоинство и честь
малины. А потому решила лечь спать. Заранее зная, как облают ее кенты, если
пронюхают, что говорила на равных с сявками.
Задрыга выглянула в окно. Там никого. Глухая ночь. Успокоенная отцом, что сявки
ее стерегут, оставила окно открытым, чтобы к приходу малины проветрить комнату.
Да и самой ночью дышать свежим воздухом.
Капка открыла дверь в комнату отца. Там было строго и мрачно. Плотно сдвинуты
тяжелые занавеси. Девчонка оглядела замаскированные чемоданы. По привычке
закрыла комнату на ключ, положила его в ящик стола.
Сявки сявками. А башли! Их никому пахан не доверил! — усмехнулась Капка. И
погасив свет, легла в постель.
Едва закрыла глаза — привиделось море. Зеленые волны сверкают на солнце, качают
Капку на своих упругих спинах, обдают белой пеной. Они что-то шепчут ей. Тихо,
ласково. О чем говорят? Пытается понять их голос. Но тщетно. Волны будто катают
девчонку по бескрайнему простору. Вокруг —
ни души. Где берег? Его тоже нет. Исчез из виду. Унесли ее волны, украло море
Задрыгу у малины и несет куда-то, смеясь и играя.
Капка испугалась. Хочет закричать, но в горло попала горько-соленая вода. Она не
дает дышать, кричать, звать на помощь.
Задрыга в ужасе дергается. Еще немного, и она утонет. — Пойдет на дно — в
непроглядное брюхо моря. И ее никто не сыщет, не спасет. Капка пытается крутнуть
головой, чтобы выплюнуть воду. Но не может. И в страхе открывает глаза.
— Да кончай ты с нею! — услышала Капка отдаленное. И чьи-то руки на секунду
ослабли, чтобы ухватиться за горло понадежнее.
— Нет тут башлей. Занычили не здесь! Тряхни сикуху, чтобы вякнула! — услышала
Капка сквозь звон в ушах. И тут же кто-то хлестко ударил по лицу:
— Колись, падлюка! Где пахан башли притырил? — спросил мужик, заросший щетиной
по самые уши.
Капка едва привстала и со всей силы ударила головой в лицо державшего ее мужика.
Тот, прокусив язык, зашелся воем. На крик вломились из коридора сявки. Включили
свет.
Капка вмиг приметила «кошку», вцепившуюся в подоконник. Именно к ней бросились
застигнутые врасплох трое воров. Один из них тут же махнул в оконный проем, но
Капка опередила, подскочила в один прыжок, схватила со стола полную бутылку
коньяка, коротко, резко опустила на голову вора, уже начавшего спускаться вниз.
Он рухнул на землю мешком, без звука, без стона. Оставшегося трамбовали сявки.
Они вмиг изукрасили в синяки лицо вора. Загнали в угол, отбивали печень. Иногда
отлетали сами, пропуская встречный кулак.
Задрыге опротивело смотреть на затянувшуюся драку. Сивуч за такое зелень
наказывал. Не признавал законник долгих потасовок. И ребят учил короткой
расправе. Капка вихрем налетела. Сшибла с ног. И перекинув через себя, заломила
руки вору за спину. До хруста, до стона. Вывернув их, велела сявкам связать
гостя. И, что-то почувствовав, быстро оглянулась на того, какого первым выбила
из дела, «натянув на кентель». Тот уже оклемался… Пригнувшись, приготовился
всадить Задрыге нож в спину. Та отскочила в сторону в последний момент. Вор уже
не смог остановиться. Еще миг, и прощайся сявка с. жизнью. И стал бы для Краюхи
первый день в новой малине — последним. Но Задрыга помешала. Успела подскочить,
врезать в дых головой. Отбросила к стене. Вор глаза закатил.
Задрыга, вырвав из-под него нож, встала над вором в коротком раздумье. Он хотел
убить ее…
— Не мокри, оставь пахану! — услышала голос Жерди. Задрыга улыбнулась зубами,
глянула в лицо тому, кто хотел убить ее. Тот корчился от спазм. Капка нагнулась,
держа наготове нож.
— Канаешь, падла? — спросила хрипло. Увидела перекошенное злобой лицо,
рассвирепела. Двумя короткими взмахами отсекла уши вору. Тот скорчился, пытаясь
скорее продохнуть. Задрыга легко вскочила ему на живот, подпрыгнула и с силой
встала обеими ногами на пах, оттолкнулась тут же и, став на пол, смотрела
улыбаясь, как извивается на полу мужик, прокусывая от боли собственные кулаки и
губы. Сине-фиолетовое его лицо, измазанное кровью, было ужасно.
Сявки связали его. Хотели унести из хазы. Но Задрыга не велела. Приказала
оставить обоих воров до возвращения малины.
— Жмура из-под окна уберите. С этими я без вас справлюсь! — выставила обоих
холодным тоном.
И Жердь, и Краюха, закопав разбившегося насмерть, а может, убитого Капкой вора,
тряслись от ужаса перед увиденным.
— Если эта сикуха злей зверя, то какая же сама малина? — вздрогнул Краюха всем
телом.
— Влипли мы с тобой! За нее пахан с живых нас шкуры спустит. За недогляд! — тихо
вторил Жердь.
— Их Боцман вякал, что кентели она откусить может. Думал, куражится. Да вижу —
всерьез трехал. Ей не пофарти, душу выбьет зараза! — вздыхал Краюха, не зная,
что делать? Бежать обратно в свою малину пока не поздно, либо вернуться в
коридор. И подождать возвращения фартовых.
— Линяем от них! Вернем башли и пропади оно все! Шкура одна. Ее с кровью
сдернут. Я откидываться из-за зелени не хочу. Смываемся, покуда все башли на
месте, — предложил Краюха.
— Надо пахану их вернуть. Он дал. Не то бздилогонами облают. Мол, зассали,
пахану не вякнув, смылись, как фраера, — удерживал Жердь.
— Да и свои теперь скалиться станут. Лажанутыми базлать начнут, — повернул Жердь
к подъезду. И, глянув вверх, увидел в окне Капитолину. Она стояла в проеме —
тщедушная, совсем беспомощная с виду и смотрела туда, откуда должны были
вернуться законники
— Но ведь ее размазать хотели! — вспомнил Краюха. И пожалел Капку в душе.
Задрыга между тем не скучала. Она тренировалась на «мишенях». И всаживала
костяные и деревянные стрелы в обоих воров. Они вскрикивали всякий раз, как
только стрела приносила нестерпимую боль. Капка повизгивала от восторга, когда
воры скрипели зубами от боли.
— Держись, козел безухий! Пидер сявки! Шмарья затычка! Облезлый хорек! — пускала
очередную стрелу и тут же подскакивала, вырывала из тела вора, крутнув перед тем
так больно, что из глаз мужиков слезы сами лились.
— Ой, мамзели! Плачете, бедненькие мои, — смачивала коньяком полотенце и швыряла
в лица — избитые, кровоточащие.
— Змея! Паскуда! Чтоб ты сдохла на помойке!
— Все псы бродячие потравятся! — вставлял второй.
— Пока до меня смерть достанет, вас уже давно не будет, — усмехалась Капка и за
обидные слова хлестала связанных тонкой, крепкой веревкой, удары которой не
выдерживала одежда — лопалась, рвалась, секлась.
— Уж лучше замокри враз, чем вот так по жиле тянешь! — взмолился не выдержав
безухий.
— Легко отделаться захотел? Как бы не так! — рассмеялась Задрыга, примеряясь
пустой бутылкой в голову. Тренировалась на меткость, чтобы не забыть уроки
Сивуча. Там мишень была неподвижной. Чучело, набитое опилками. Оно не кричало от
боли. И заниматься с ним было неинтересно.
Сявки, вернувшись в коридор, наблюдали в замочную скважину за развлечением
Задрыги.
У Краюхи не только спина, весь вспотел от переживаний. Всякое видел, сам
считался жестким мужиком. Но на такие детские забавы не был способен.
Жердь, глянув в скважину дважды, долго опомниться не мог. Все думал, как
расправится с ним девка, когда он провинится?
— Это не вприглядку вздрагивать. Своей шкурой платиться, — вздыхал горестно,
тяжело.
Капка веселилась до самого утра, пока не вернулась из ресторана Черная сова.
Шакал едва вошел в хазу, мигом протрезвел. Хорошее настроение улетучилось. Меж
бровей складка пролегла.
— Опять?!
— Они через окно влезли. Мамзель не стала закрывать. Мы не услышали. На крик
ворвались, — заметно волновался Жердь.
— С вами потом потрехаем, — процедил сквозь зубы. И узнав от Задрыги
подробности, спросил безухого:
— Кто наколку дал?
Вор молчал.
— Боцман, развяжи ему хайло! — велел Шакал.
Фартовый вытащил нож, разодрал рубаху на воре, медленно крутил нож перед
глазами, потом вогнал в плечо вора и повел вниз к ребру, обгоняя струю крови.
— Кто наколку сделал вам? — спросил пахан второго вора. Тот задергался, закрутил
головой, взвыл:
— Вякну, душу выпустят.
— Не трехнешь, я размажу! — пообещал пахан.
— Проговорился по бухой шпановский пахан нашему, что у вас башлей, как грязи.
Нашему в кентель моча стукнула. Сфаловал нас. Мы и клюнули…
— Как кликуха пахана?
— Седой.
— За что зелень жмурили? Кто велел вам? — прищурился Шакал.
— Башли не могли надыбать Ее хотели тряхнуть, чтоб вякнула. На «понял» брали.
Но. если б знал, как она разделает нас — ожмурил бы… Сам. Была минута! —
сознался вор.
— Пахан ваш где прикипелся — перебил его Шакал.
— Хаза неподалеку от толкучки, — начал вор.
— Погоди! Сявкам вякнешь, — позвал из коридора Жердь и Краюху.
Когда те поняли, где искать Седого, Шакал велел им:
— Передайте, чтоб мигом тут возник. Иначе через час будет поздно. Да выкуп за
кентов не сеет прихватить! Я погляжу, как их оценит сучий сын. Живей хиляйте, —
нахмурился пахан. И когда сявки зашуршали по лестнице, велел Боцману развязать
обоих воров. Те, не веря в собственное счастье» сели на полу, прижавшись спинами
к стене. Стоять не могли. Когда Задрыга проходила мимо, оба вздрагивали,
вжимались в угол
— Не даст Седой за нас выкуп Нет у него башлей. Это верняк! Иначе зачем мы тут
оказались? Непруха нас попутала. Лучшие кенты — в ходках. А сам Седой стареть
стал. В дела не ходит Проколов много, Не хочет в тюряге откинуться.
— Без кентов вовсе невпротык. Ни дышать, ни сдохнуть!
— Давно с ним кентуетесь?
— С самого начала только с ним
— В ходках были7
— Влипали. Я трижды, он — два раза тянул
— Много кентов у Седого?
— Хватало. Теперь швах… Попухло много.
— Седой в законе давно?
— Его лет десять назад приняли.
— Мокрить приходилось вам кого-нибудь? — спросил Шакал.
— Нет. Без жмуров фартуем.
— Седой слиняет из малины, куда сунетесь?
— Чего ему линять? Да и без него не пропадем. Не он нас, мы его держим, —
вставил безухий.
— Тогда хари отмойте, — указал Шакал на умывальник в коридоре.
Капка удивленно смотрела на пахана, не понимая, чего он тянет с ними.
Когда воры, тихо постучав, вернулись в комнату, Шакал спросил:
— В какие дела ходили?
— Налетчики мы. Без стопора работали. Всегда…
— Сколько в ходках канали?
— Я — двенадцать зим, он — восемь.
— Многовато, — выдохнул Шакал.
— В общаке долю имеете? — спросил обоих. Воры головы опустили:
— Давно общака в малине нет. Ослаб Седой. А сами, что сорвем, то и спустим.
Клевый навар редко обрывается. Хотели твою хазу тряхнуть, башли не надышали, на
зелень нарвались. Она у тебя хуже стопорилы — зверюга. Ее на разборки — колоть
лажанутых! Всю душу вытрясет живодерка! — жаловался безухий.
В это время в комнату постучали, и в хазу вошел хмурый, седой старик. Все лицо в
морщинах, как в рубцах.
— Пахан! — вздохнули воры.
Шакал указал гостю место напротив себя. И спросил холодно:
— Неужели фортуна так обидела тебя, что своих кентов послал ты меня тряхнуть?
Фартовый фартового? Иль закон наш посеял?
— Не гонорись, Шакал! В твои годы я ни в чем нужды не знал. И малину имел — не
чета твоей. Кентов под сотню. Всем навара хватало. Общаку любой банк позавидовал
бы. Да фортуна тоже шмара, старых не уважает. Посеял я удачу. То верняк. Но и
твоя молодость не вечна…
— Секу про то. Своих старых кентов не бросаю. Даю им долю. Но на своего
законника никогда руку не подниму! Не нарушу закон. Западло фартовому своих
обжимать! Тебе — старой плесени, и подавно!
— Не возникай, Шакал! Я не пацан, чтобы ты на меня наезжал! Сам умею! Нынче твой
верх! Попутал моих кентов!
— За то, что ты своих налетчиков послал в мою хазу — с тобой сход разберется. По
закону! А вот с твоими кентами как будем? На халяву — не верну. Допер? Сколько
за них положишь? — усмехнулся Шакал.
— Ни хрена!
— Тогда я их не верну тебе!
— Куда денешь? К себе приморишь? — рассмеялся Седой.
— Они — обязанники мои. Хочу — замокрю или заложу их, другой малине загоню за
навар или обменяю на других. Вариантов тьма. И у тебя нет шансов получить их на
халяву.
— Выходит, оставляешь без кентов? А как дышать буду?
— Это сегодня сход решит. Там тебе про все трехнут. Не я! Паханы! И новый
маэстро! Й до решения схода я их не отпущу к тебе! Не ожидал, что ты так
испаскудишься! И на меня пошлешь своих. Чего же ждешь от меня? Я не баба. Жалеть
не стану. Всякому фартовому — своя судьба! И даром не спущу твою подлянку! —
встал Шакал, давая понять, что разговор закончил.
— Шакал! Я нарушил закон. Но башли можно сделать. А вот — жизнь! Она одна. Мне
уж недолго канать. Но ты и это забираешь. Кто ж из нас больший падла?
— Давай за кентов выкладывай. И разойдемся тихо! Громким трепом их не выкупишь.
Я всякое вяканье слыхал. Признаю тихий шелест купюр. Он убедительней трепа. Ты
зовешь себя паханом. Выкладывай. И отваливай вместе со своими! Не скули здесь! —
злился Шакал.
— Поверь на время! Я надыбаю башли! На фартовое слово — верни кентов! — просил
Седой.
— Чтоб ты послал их трясти законных?! После всего, кто ж слово твое уважит? Г
они бабки, Седой! И не ломай комедию!
— Пустой я, — взмолился пахан.
— Тогда отвали! Ты — не на паперти. Я — не Бог! — напирал Шакал.
— Простите, кенты! — повернулся Седой к ворам.
— Пахан! Не оставляй нас здесь! — взмолились оба.
— До вечера попытаюсь башли найти, — пообещал Седой кентам и Шакалу. Тот
усмехнулся, глянув в спину Седому, обронил.
— Не позднее начала сходки. Ни минутой позже! Усек?
Седой, споткнувшись о порог, вышел из хазы, проклиная собственную старость.
— Жердь! Краюха! — позвал Шакал. И указав на воров, велел их накормить и
следить, чтобы не сбежали.
— Кентели отверну, коли слиняют эти! Не сможете приморить, замокрите, коли
намылятся смыться, — разрешил пахан.
Воры дрогнули, увидев, как при этих словах, глянула на них Задрыга. У безухого
во рту пересохло от предстоящего вечера. Что-то утворит зелень… Благо, что
теперь руки и ноги свободны. Но Капка, словно прочла его мысли и предложила
Шакалу:
— А пусть стремачи свяжут падлов, зачем рисковать? Так всем по кайфу будет. И
тебе, и мне! И стремачам.
Но сявки возразили:
— Не тронут «зелень» и не смоются. Ручаемся, пахан. Пусть без паутины дышат, —
вспомнили вчерашнее с дрожью.
Задрыга глянула на отца. Тот согласно кивнул головой, разрешив ворам остаться
без веревок.
Боцман предупредил их, что Задрыге в случае чего разрешена воля. Она и себя
сумеет защитить и обязанников застопорить…
— Может, надыбает Седой башли? У Циклопа иль у Гнилого сорвет? —
переговаривались воры тихо. И ждали… Но напрасно. Не пришел за ними пахан. Не
принес выкуп. Не повезло. Видно, никто не поверил старику. Не захотел помочь.
Налетчики до последней минуты ждали его. Но когда Черная сова ушла на сход,
ждать стало бесполезно.
Воры остались в коридоре вместе с сявками, ожидая, что сделает с ними Шакал,
вернувшись со схода.
— Канаете? — внезапно открылась дверь хазы, и Задрыга, оглядев всех, процедила
сквозь зубы:
— А кто в хазе марафет наведет? Чего тут разложились, козлы? Шустрите, падлы!
Стремачи и налетчики встали спешно. Понимали, зелень за всякое промедление
взыщет.
Капка сегодня была в плохом настроении, и ей не хотелось заниматься. Она злилась
на пахана и вздумала досадить ему.
— Эй, фраера! Как кликухи ваши? — спросила у воров.
Безухий, протиравший оконные стекла от пыли, услышав
голос девчонки, едва удержался, чтобы не упасть вниз головой.
— Фингал я! — отозвался послушно.
— А этот — Заноза! — указал на второго, протирающего пыль на столе.
— Меня — Задрыгой зовут! — объявила Капка.
— Это верняк! Самая подходящая кликуха у тебя! — не
сдержал язык Фингал, и тут же получил в задницу железную стрелу. А Капка, как ни
в чем не бывало, говорила:
— Меня с детства так назвали. Кажется, Боцман. Говорил, капризной была.
— И это столько лет тебя терпели? — изумился Заноза.
— Пахан — мой отец!
У воров отвисли челюсти. Опомнясь, Фингал процедил:
— Кажись, зелень, покруче будет…
— Это гавно, как я вчера играла с вами! Вот когда меня в закон возьмут, тогда не
стану ботать с фраерами! Сама допру, как управиться.
— А тебя трамбовали когда-нибудь? — спросил Фингал.
— Еще как! Пацаны! Целой кодлой! И Сивуч врезал не скупясь. Так отваливал —
катушки сдавали. И я не ныла! Назло всем — улыбалась! Ночами, когда одна была,
случалась слабина. И то ненадолго.
— Ну ты им, верняк, душу достала? — спросил Фингал.
— Когда фартило, — отмахнулась Задрыга.
— А меня в детстве часто колотили. И дома, и на улице. Всегда в синяках и шишках
ходил. Оттого кликуха такая, за прошлое. Хоть со всеми обидчиками давно
сквитался, от кликухи не отмазался, — сознался Фингал простодушно.
— Я, если один на один, злей собаки. Но с кодлой не всегда получалось. Пацаны
тоже тертые были. Умели махаться файно.
— А тебе по кайфу трамбоваться? — удивился Заноза.
— Самое лафовое дело! Вот только теперь не с кем стало, — вздохнула Капка.
— А у тебя ровесники-кенты были? — спросил Фингал.
— Где б их взяла? Мы на одном месте долго не канаем, — ответила Капка
погрустнев.
— А у меня были кенты. Да только не стало их…
— Ожмурились? — спросила Капка
— Да что ты! Когда воровать начал, сам отошел от них.
— А разве фраером быть лучше? — изумилась Задрыга.
— Кто знает… Одно верняк, всяк в своей шкуре дышит и держится за нее. Фраера
становятся ворами, когда припечет. А вот воры фраерами — никогда Они сразу в
жмуры хиляют. Вот и допри — кем файнее быть?
— Выходит, ты смылся от фраеров потому, что стал вором? — допытывалась Задрыга
— Конечно! Фраера — не кенты! — согласился Фингал.
— Кончай трандеть! — не выдержал Заноза. И заговорил запальчиво:
— А чем ты файней фраеров. Иль два пуза держишь? Иль
в жопе две дыры? Одну требуху голодом морил сколько раз? И не только в ходке!
Чего уж там на фраеров клепать? Хватало проколов у самих… Вон мы на пахана
сколько пахали? А он за нас не надыбал ни хрена, стольник не положил! Вот тебе и
фартовый! Да видел я его — на погосте приморенным. Выйду с обязанников, я его…
За все разом тряхну, если додышит, паскуда! — побагровел Заноза.
— Сами дубари! Кентели посеяли. Разнюхать надо было, куда премся, а не ломиться,
как пидер в парашу! — осек Фингал напарника.
— А чего вы не хотите в нашей малине примориться? — удивилась Капка.
— Твой пахан нас не оставит фартовать. Заложит иль обменяет на других. А по
бухой — размажет…
— Нет, Шакал не быкует. И до усеру не надирается, — вступился Краюха, глянув
краем глаза на Капку, той понравилось услышанное.
— Если пахан и кенты захотят вас оставить, вам повезло, — добавила Задрыга.
— А ты? Что вякнешь пахану? — уставился Фингал на девчонку.
— Я — зелень… Меня не слушают, — слукавила Задрыга,
— А как подумаешь?
— Да хрен меня знает! — призналась честно.
Четверо мужиков выдраили хазу до блеска, сели передохнуть на полу. Задрыга
позволила.
— Хочешь я научу тебя в очко и рамса играть? — предложил ей Заноза.
— Умею.
— А в шахматы? — спросил Жердь.
— Могу. Но не по кайфу. Я в чучело хочу!
— А это как? — удивился Фингал.
— Стань к двери спиной! — подошла к столу Задрыга.
— И что? — выполнил просьбу Капки налетчик. Та открыла ящик стола. Достала три
ножа. И не успел Фингал открыть рот, ножи один за другим, коротко сверкнув,
воткнулись над головой и плечами, подрагивая рукоятями, словно успокаивали
человека.
Фингал боялся моргнуть. Он будто прилип спиной к двери и не шевелился. Глаза и
рот широко открыты. Он не находил слов. Все выскочили из головы.
— Теперь руки подними! И не дергайся! — скомандовала Задрыга, достав из стола
ножи, и обложила Фингала по бокам, впритык, не задев даже рубашку. Тот стоял ни
жив ни мертв…
— Файно работаешь! — нашелся Краюха, еле сдерживая стучащие зубы.
— А теперь пусть Жердь встанет! — потребовала Капка
— Почему я? Краюха толще и моложе! — отнекивался стремач.
— Шустрей! — нахмурилась девчонка, и едва Жердь стал к двери — выпустила вокруг
него железные стрелки.
— Не промазала! Вот бы Сивуч видел это! — выдернула стрелы.
Капка следила, чтобы никто из четверых не приметил, не вошел в комнату отца. Там
деньги! Но ни стремачам, ни налетчикам было не до того. Они не знали, что
взбредет в голову, этой взбалмашной девчонки, и боялись ее больше чем пахана.
— А на «кента» умеешь играть? — спросил Заноза.
— Нет не играла. Научи.
— Тогда кто первый? — повеселел налетчик.
— Ты ботай правила! потребовала Задрыга.
— Ну вот, смотри! Я сел на пол. Глаза закрыл правой рукой. А левую — вверх
ладонью на правое плечо положил. И вот я должен угадать, кто из вас мне по
ладони хлопнет.
— Иди в жопу! Пока я отвернусь с закрытыми зенками, ты вместе с Фингалом
смоешься! Вот и хлопнет мне пахан. Да так, что мало не покажется! — усмехнулась
Задрыга.
— Лады! Ты смотри, как мы станем угадывать, сама не садись! — согласился Фингал,
лишь бы Капка свое не придумала.
Первым сел на пол Заноза. Зажмурился, выставил ладонь и тут же но ней с треском
ударил налетчик.
— Фингал! — угадал Заноза.
Краюха пальцем поманил Капку, предложил ударить. Та не удержалась. Шлепнула.
— Зелень приложилась!
Потом стремачи били по ладони. Заноза угадал всех и ни разу не ошибся.
После него сел на пол Краюха. Он дважды ошибался. И потому его долго продержали
на полу. Увлеченная игрой, не выдержала и Задрыга. Села на пол.
Мужики, щадя худобу, лишь слегка задевали ладонь.
— Заноза! — угадала девчонка.
— Краюха! — узнала по дыханию.
— Фингал!
— Мимо! — рассмеялись мужики.
В это время дверь в комнату открылась. Вошли кенты Черной совы. Их не услышали.
Увлеченные игрой взрослые люди.
будто на миг вернулись в детство, беззаботное и светлое, украв у трудной жизни
минуту радости.
— Жердь!
— В точку!
— Краюха!
— Мимо!
И вдруг стало тихо. Так тихо, словно все разом онемели, спугались и разучились
дышать.
Шакал стал напротив Задрыги. Та не поняв, от чего все умолкли, открыла глаза и
похолодела от ужаса. Пахан был белее снега. Он сорвал дочь с пола. За грудки
поднял в руке Отшвырнул в угол, сказав короткое:
— Падла!
И весь день не замечал ее, не разговаривал, не видел, будто Капка перестала
существовать.
Но это Задрыга… Она понимала, за что схлопотала от пахана и притихла в углу,
прикусив язык. Она слушала Шакала. А тот, повернувшись к налетчикам» говорил,
пересиливая ярость:
— Сход вывел Седого из паханов. Из закона тоже выперли! Не фартовый он теперь.
Хотели его на разборку за то, что вас послал. Да я его не отдал! Старый пидер не
выдержит трамбовки. Не стал с него шкуру драть. Из нее башли не смастырить.
Велел на глаза не попадаться!
— А мы как? — выдохнул Фингал.
— Вас к разборке приговорили. У шпаны. Их пахан вякнул, о чем с Седым ботал.
Лишнего не трехнул. Не доперло, что Седой на падло пойдет. Как с паханом ботал.
А ваш — паскудник — мозги с голодухи посеял. Но вы-то знали, куда прете!
—. Ни сном, ни духом! Век свободы не видать! — поклялся Заноза.
— Заткнись! Пока я говорю! — цыкнул пахан.
— Я выкупил вас от разборки! В обязанники мне отдали обоих. Насовсем. Сход так
решил…
Налетчики стояли плечом к плечу, тряслись. Не зная, что лучше, сдохнуть на
разборке от рук шпаны, либо здесь — в малине — загибаться медленно. Вон ведь и
пахан — шакал шакалом. Родную дочь загробить мог. Вон как ее швырнул в угол.
Небось, утробу отбил. Хоть и родная. Чего же им от него ждать? Обязанникам?
Каких имеет право замокрить в любой миг?
— Но у меня малина! В ней силой не держу никого. Не то это! Фарт — не игра!
Обязанник, как лед под ходулями! Веры не будет, надежности не жди! А потому не
стану вас морить.
Хиляйте! На волю! Отпускаю! Но… Если стукнет в кентели еще раз клыки на нас
поточить, размажу обоих!
— Отпускаешь?! — не поверил в услышанное Глыба.
— Тебе охота волка под боком держать? Коль под примусом им дышать у нас? Они ж
всю жизнь нас ненавидеть станут. Беде нашей — радоваться. Пусть отваливают. В
малине лишь кенты дышат. Обязанники фортуну отпугивают…
Фингал тут же засуетился, собираться стал. Застегнул рубаху, искал ботинки в
углу. Их снял, когда полы мыл.
Мужик нагнулся, чтобы поднять ботинок, почувствовал, как что-то больно впилось в
задницу. Схватился, выдернул стрелу. Глянул на Капку. Та тихо лежала в углу,
свернувшись калачиком, и налетчик заметил на ее щеках слезы.
Задрыга плакала впервые по-детски. Глотала слезы… Но от чего? От боли, какую
причинил Шакал? А может, не хотела расставаться с этими двумя мужиками, с какими
забылась в игре… Может, они, не зная того, запали ей в душу, стали первыми
кентами, с кем иногда можно сбежать из фарта в детство…
Фингал скорчил ей рожу, как когда-то дразнил ровесников. Девчонка тихо
рассмеялась.
— Чего возишься? Шустри! — перехватил Боцман прощание Фингала с Задрыгой.
Налетчик обулся;
— Спасибо, кенты! Век ваше добро не забуду. И, коль обломится удача, надыбаю
вас. Сам уплачу за себя.
— Посеешь память! — усмехнулся Глыба.
— Воля на халяву — ходкой пахнет! В обязанниках дышать, что в браслетках на дело
идти. Когда мне поверили — я не фраер, отпашу должок! Клянусь мамой!
Шакал, не желая слушать его, отвернулся к Глыбе, заговорил о своем.
Фингал и Заноза поспешно выдавливались в дверь.
— Эй! Пристопоритесь! Вот вам на первое время, пока прикипитесь у кого-нибудь.
Теперь без пахана остались. И без башлей. Дышите сами! — дал деньги обоим.
Налетчики не верили глазам.
Когда за ними закрылась дверь, Боцман громко рассмеялся:
— Не больше дня, клянусь волей, возникнут эти падлы! Проситься станут, чтоб
взяли их…
— Нет! Эти не прихиляют! — обрубил Шакал.
— Их, не фартовых, законники знают. И уважают больше Седого…
— Это за что? — удивился Таранка.
— Слово держать умеют. С фартовыми в делах были. Надежными назвали их.
— Зачем же прогнал?
— Отпустил. Вольные бывают надежны. Обязанник — всегда прокол. Даже если не
будет виноват в провале, шишки все равно на него летят.
— Новый маэстро — свирепый черт! Как узнал о Седом, враз ожмурить велел. Еле
уломал, — качал головой Шакал
— Не стоило его вытаскивать, — встрял Таранка.
— Заткнись! Седой по молодости меня выручал. По мелочам. И все ж… Не помянул
того. Но я не посеял кентель.
— Зачем тогда про него вякал? — не понял Глыба.
— Затем, что по закону так! Да и что за пахан фартовый, коль с рук налетчиков
хавает? Одряхлел, шуруй в откол, не вяжи никому клешни и ходули. Как честный вор
дыши, а не облапошивай своих! Звание пахана, законника не дал ему вконец
изгадить. Того я хотел. А зла на него не держу. Ему нигде уже не фартит.
— Скажи, пахан, сколько мы еще в Ростове канать будем? — спросил Глыба. Капка
тоже любопытно подняла голову из своего угла. Ей тоже хотелось знать об этом.
— С неделю еще. Надо кентов присмотреть в малину. Новых. Вместо наших плесеней.
Они свое отфартовали. Теперь кайфуют. А нам — дышать дальше. Где ж кентов
надыбаем, как не здесь — в Ростове? Тут и подсказка и выбор имеются И проверка,
прямо на месте! — улыбался Шакал.
— Приметил кого? — спросил его Боцман.
— Держу на прицеле. Хочу разузнать о них у паханов Что трехнут? Может, поладим…
…В этот вечер лишь Шакал с Глыбой ушли к фартовым. Таранка и Боцман остались в
хазе, решив передохнуть от кутяжей и шумного схода, от множества встреч.
Оба они не любили попойки еще и потому, что после них у обоих трещали головы от
боли, а удушливая тошнота, подступавшая к горлу, отбивала всякий аппетит. К тому
же и желудок Боцмана пошел вразнос. Не только в ресторан, из хазы выйти не мог
даже во двор. А потому, едва пахан с Глыбой скрылись из вида, велел Боцман
сявкам заварить чай покруче и лег на койку не раздевшись.
Задрыга с Таранкой, поиграв в рамса, отвешивали друг другу больные щелбаны. Но
вот кент перестарался. У Капки от щелбана вскочила на лбу шишка. Она потрогала
ее, скривилась от боли и ураганом кинулась на Таранку. Она сбила его с ног, и
только вздумала закрутить ему голову на спину. Боцман поднял ее за шиворот, еле
оторвал от кента. Тот лежал перепуганный насмерть.
— Ты, гавно собачье, что себе позволяешь? Иль мозги просрала? Ты кто есть?
Почему, паскуда, на фартового лапу подняла, гнида сушеная?
— Я гнида? — Капка еще висела в воздухе, в руке рассвирепевшего Боцмана, но
сумела изловчиться и со всей силы ткнула законника ногой в печень. Тот сразу
выпустил Задрыгу, облив ее матом до пяток. Он стоял, согнувшись пополам, вмиг
позеленевший. Его рвало с воем.
— Что ж ты, сучка, отмочила? Лярвина хварья, чтоб у тебя муди на пятках выросли,
зараза чумная! — испугался Таранка и бросился на помощь к Боцману. Дал ему
холодной воды. Тот пил и тут же вырывал. Казалось, из него вот-вот требуха
вывалится. Пот и слезы — все перемешалось на лице фартового. В хазе нечем стало
дышать от зловонной рвоты. Боцман терял силы на глазах. Он уже стоял на коленях
перед ведром, когда не выдержавшие стремачи вошли в хазу, и запрокинув голову
фартового, влили в рот что-то горько-вяжущее. Это был чифир. Едва попав в
желудок, он остановил рвоту, ослабил боль.
— Тяни до конца! — настаивали сявки, и Боцман, послушав, проглотил чифир залпом.
— Ложись! Успокойся! Покемарь! — уговаривали стремачи, и подведя Боцмана к
койке, уложили его.
Краюха вынес ведро. Жердь открыл окно проветрить хазу, оба не смотрели на
Задрыгу.
Таранка намочил полотенце холодной водой, приложил к печени Боцмана и посетовал
впервые вслух:
— На кой хрен вякни, кент, ты больше всех возился с этой сикухой, чтоб ее черти
в задницу бодали! Сколько раз она сдыхала, а ты ее дышать заставлял? Когда на
порог приюта подкинули зимой, а нянька, глянув на обосранную, отказалась взять,
зачем ты забрал Задрыгу с порога? Пусть бы примерзла курва! Ты ее тогда отмыл.
Молоко ей дыбал. С соски. как кента, харчил. Она тебя чуть не загробила!
Свинячий выблевок — не зелень!
Боцман лежал, уставив глаза в потолок. Ему было хорошо. Он не слушал Таранку.
Законник будто провалился в мягкую перину. До чего в ней тепло и уютно! Как
много цветов вокруг! Как оказался он в этой зеленой беседке, сплошь увитой
плющом? О-о! Какие девушки! Как они танцуют! Загорелые ноги, руки… Сквозь
прозрачную одежду проглядывают округлые бедра. Они улыбаются ему, зовут к себе…
Наверное, не знают, кто он есть и зачем здесь оказался. Иначе, не манили б, не
решается подойти Боцман. А девушки подходят ближе. Вот одна, самая озорная,
подскочила, обвила шею нежны
ми руками, заглянула в глаза Сверкнули смешливые огоньки, и она спросила голосом
Задрыги:
— Когда канать кончишь, падла? Приморился хрен собачий, как вошь на шконке!
Хиляй хавать, паскуда!
Капка не знала, что человека, глотнувшего чифира, нельзя силой выдирать из
кайфа. Можно нарваться на беду…
Боцман не проснулся окончательно. Он только поднял голову. Лицо его было
бледно-зеленым, глаза налиты кровью, губы приоткрылись, обнажив ряд крупных,
желтых зубов. Ноздри раздувались. Боцман был страшен. Он увидел силуэт, тень
Капки, вырвавшей его из кайфа, отнявшей чудесное видение.
Мужик не глядя хватил графин с водой, швырнул в девчонку. Следом запустил
табуретку. Потом бутылку со стола сорвал. А там — все, что под руку попало. Он
услышал крик, потом визг, стон. Боцман швырял на звук в. се, что могло причинить
боль. Он хотел заглушить голос, нарушивший его тишину.
Боцман рассвирепел. Широко открытые его глаза не видели ничего.
Он отупело хватал все тяжелое и бросал в Задрыгу, пытаясь ее поймать. Но Капка,
никогда не видевшая Боцмана таким, впервые растерялась и бегала от него, прячась
по углам. Вскрикивала лишь, когда он чем-то больно задевал ее.
Сявки могли бы утащить Задрыгу в коридор, и Боцман вскоре бы опять уснул. А
через пару часов, когда кайф ослабнет, фартовый стал бы нормальным человеком.
Лишь небольшая слабость и вялость напомнили бы о недавнем.
Но… Стремачи хотели, чтобы Боцман проучил Задрыгу и отплатил бы ей за все разом.
Таранка, увидев Боцмана, тоже не стал вмешиваться. Тихо шмыгнул из хазы и теперь
спокойно курил во дворе.
А Боцман разошелся. Он перевернул все койки, дыбом поставил стол. И нашарив его
ножку, ухватил, поднял, швырнул в угол, где притаилась Задрыга.
Стол, грохнув об угол, сбил Капку с ног, рассыпался в осколки на ее голове,
плечах.
— Блядь недоношенная! Мандавошка шмарья! Гнилая жопа лидера! Я тебе, курва,
вгоню кентель в транду! — ловил Задрыгу с пеной у рта.
Вот он споткнулся о кровать. Поднял за спинку. Согнул железо, как проволоку, и в
гневе запустил в угол. Попал Задрыге в висок. Та свалилась, потеряла сознание. А
Боцман буйствовал.
Он перекрошил и переломал все, что можно было испортить. Он гремел так, что
Таранка во дворе вздрагивал. Но упрямо не возвращался в хазу.
— Пусть один раз проучит, чтоб на всю жизнь хватило! — решил законник и
терпеливо ждал, чем кончится все.
Капка пришла в себя, как только Боцман, нашарив ее за ногу, хотел выбросить в
окно
Капка впилась в его плечи. И со всего маху сунула ему головой в лицо.
Боцман пошатнулся. На миг ослабил руки. Задрыга вырвалась. И ножкой стола, не
щадя, ударила по голове. Ножка сломалась пополам. Боцман остался на ногах. Он
лишь оглядывался, искал Задрыгу. Она рассекла ему кожу. И кровь струилась по
лицу фартового.
— Размажу стерву! — крикнул хрипло, шаря что-нибудь, чем можно пришибить
Задрыгу. Та увертывалась, ускользала. Но вот он снова прихватил ее за плечо.
Сдавил пятерней, как клещами.
— Попухла? Сдыхай!
Боцман сорвал девчонку с пола. Та ногой в пах ударила. Мужик рухнул на пол с
воем. Задрыга выплеснула ему на голову целое ведро воды.
Фартовый тут же очнулся от кайфа. В глазах красные сполохи от боли. От нее
дышать нечем.
— Что случилось? Откуда эта боль, — никак не мог вспомнить законник. Он катался
по полу, царапая ногтями доски, го сдавливал пах — разрывающийся от боли. В
глазах мутная пелена.
— Где я? — дико озирался, едва улеглась боль.
— В хазе! Чтоб ты через хайло до смерти просирался! — услышал из темноты угла.
— Задрыга! Зачем притырилась? Включи свет, зараза!
Когда Капка включила свет, Боцман огляделся вокруг.
— Кто это тут трамбовался? Что здесь стряслось?
Когда Капка рассказала, фартовый схватился за голову.
Только теперь заметил, что на Задрыге нет живого места. Вся в синяках, шишках,
ссадинах, оборванная. Сплошной комок боли, она едва держалась на ногах, но не
плакала. Хотя рассечена губа. От плеча до локтя порез. Гвоздь задел. В
спутавшихся волосах щепки, вата от порванных матрацев.
— Довела, стерва! На себя пеняй! Лафа, что не замок- рил, — сунул голову в ведро
с водой и позвал сявок, чтоб убрали в хазе.
Те, увидев следы погрома, долго не могли понять, с чего начать. И выносили из
хазы все подряд. Ведь ничего в ней не уцелело.
Боцман сидел на вымытом полу. Голова полотенцем обвязана, гудит. Перед глазами
карусель крутится. И он словно летит куда-то.
Задрыга умывалась в помятом тазике, ругая Боцмана по- мужичьи, грязно. Тот
кряхтел, отмалчивался.
Сявки, взяв у фартового деньги, вскоре принесли койки, постели, стол и стулья.
Даже стаканы раздобыли вместе с графином. Ложки и тарелки лишь поутру притащить
пообещали.
Они ехидно посмеивались, оглядываясь на Задрыгу, и удивлялись ее живучести.
Таранка, едва появилась постель, прыгнул в нее и вскоре захрапел. Он даже не
глянул на Капку. Жива, и ладно. Если Шакал станет за нее шкуру снимать, так не с
него.
Боцман мочил полотенце, прикладывал к голове. Ждал, когда Задрыга утихнет,
может, удастся ему до возвращения кентов помириться с нею.
Капка приводила себя в порядок. Вычесала из волос мусор. Прижгла уцелевшим
коньяком все порезы, ссадины, царапины. Приложила к шишкам вату, смоченную в
моче. Табаком остановила кровь, сочившуюся из губы. И теперь лежала, ни с кем не
разговаривая.
Она понимала, стремачи специально подставили ее и не вступились, не отняли у
Боцмана.
Потому теперь она обдумывала самое важное — месть каждому.
Что такое чифир, она слышала еще от Сивуча. Его действие увидела впервые. Она
догадалась, что стремачи чифирят. В коридоре их кто увидит? Решила рассказать
пахану. Что за стремач, какой канает от чифира ночи напролет? Он безнадюга. На
него положиться нельзя. В случае шухера — не вякнет. Кому такие нужны? И
вздумала высветить их перед малиной. Кенты, конечно, выгонят стремачей. И тогда
Капка от души посмеется.
Боцмана вывернуть за случившееся, сказав, мол, хорошо, что она, а не кто другой
под руку подвернулся. Не только искалечить, замокрить мог.
Вломит ему пахан по самые… Век будет помнить, как чифир хватать, — думала Капка
и, вскакивая, смотрела в окно. Ведь уже утро, совсем светло. А фартовых все нет.
Беспокойство девчонки росло с каждой минутой. Она уже не могла лежать в постели,
стояла у окна, не сводя глаз со двора, с дороги, по какой должны вернуться
законники.
Сегодняшняя стычка с Боцманом не прошла даром. Задрыга поняла, что сама по себе
она ничего не значит для кентов. Лишь страх перед Шакалом сдерживает законников,
да и то не всегда. Она уяснила, если что-то случится с паханом, ее в малине не
потерпят и одного дня. Выбросят. Забудут имя.
Природная хитрость подсказывала, что при таком куцем возрасте ее никто в другую
малину не возьмет. Знала — девкам не верят законники. Признают их шмарами. В
дела не берут…
Своя малина молчит. Не хотят злить Шакала. Тот делает все, чтобы дочь стала не
хуже любого фартового. Она тоже старалась изо всех сил. Но почему-то не ладила с
кентами.
Задрыга во всем винила их. И была уверена, что каждый ненавидит ее. И только
пахан… Но и он обижал не раз.
Капка сразу увидела такси. Отца и Глыбу. А с ними троих незнакомых людей. Они
тут же рассчитались с водителем и пошли вслед за Глыбой в подъезд. Шакал поднял
голову, увидел Капку, приветливо махнул рукой, улыбнулся. И заторопился в хазу.
— Наши возникли! Таранка! Ты кемаришь? Новых кентов надыбали! Боцмана под жопу
из малины выкинут! — выдала Задрыга затаенную мечту.
— Чего? — вылупился Таранка, замахнулся на Задрыгу. Но в это время в хазу вошли
кенты.
— Что стряслось тут? — нахмурился пахан, едва переступив порог.
Капка взахлеб стала рассказывать о своих горестях. Ее перебил Таранка, потом
Боцман встрял.
Задрыга показывала отцу рассеченную губу, все синяки и шишки.
Шакал слушал молча. Потом подошел, дал девчонке крепкую пощечину и процедил зло:
— Еще протянешь клешню к законнику, с корнем, из задницы вырву! Усекла? Кто он и
кто ты! Посеяла? Со шпаной играешь, роняя звание, со своими — никак не
сдышишься! Хиляй с глаз! Падла! — толкнул ее в свою комнату и закрыл на ключ.
Капка мигом взяла со стола пустой стакан. Приложила дно стакана к двери, ухо к
краям стакана прижала. Сивуч учил так подслушивать все разговоры. И до нее
донеслось отчетливое:
— Ты, Боцман, тоже мудак! Зелень сколько раз малине помогла! Сам Дрезина ее
зауважал! С чего гробишь сикуху? Иль посеял, что она с Таранкой банк тряхнула?
На эти бабки все дышим. Ей своей доли до конца жизни хватило бы!
— Пахан, она всех достала! — не выдержал Таранка.
— Оттого и достает, что добра от нас не видит! Короче,
кончайте ее трамбовать! Она кто против вас? Шмакодявка жалкая! И вы не можете
стрехаться с нею? Как же с новыми законниками скентуетесь? Вот, принимайте!
Сфаловал, Хлыщ, Пижон, Тетя!
Новые кенты рассказывали, где и с кем они фартовали. В каких делах были. Где
отбывали ходки.
— Знаем мы и Дрезину, и Сивуча. Да и других… Кентовались с Черной кошкой. Но
недолго. Накрыли мусора. Чуть под «вышку» не влипли. Защитник отмылил. На
четвертак кинули. Под Архангельском приморились, — рассказывал кто- то из
новичков.
Задрыга не выдержала и, стукнув в дверь; попросила зло:
— Хавать дайте!
Шакал открыл дверь, выпустил Задрыгу молча. Та оглядела новых кентов. И сделав
реверанс, представилась:
— Капитолина!
Боцман от хохота чуть со стула не свалился, схватился за живот:
— Ну, отмочила, Задрыга! Мать твою в задницу! Что барышня возникла, стервоза
облезлая!
— А ты падла, Боцман! Чего «зелень» поливаешь? Она нам уважение подарила свое!
На том спасибо ей, что сердцем нас приняла. А ты с чего рыгочешь? Видно, не зря
она тебя колупает. Сам к ней не прикипайся! — вступился Пижон. И указав на нее
пахану, предложил негромко:
— Прибарахлить бы ее!
— Пусть мурло заживет, тогда мы ей потрафим, — отмахнулся Шакал.
Капка, услышав такое, взялась за свою внешность рьяно. До глубокой ночи меняла
примочки и компрессы. Ей так хотелось посмотреть город, вырваться из прокуренной
хазы на волю, одеться нарядно, чтобы прохожие позавидовали ей хоть раз в жизни.
Но память тут же выволокла из глубины слова Сивуча:
— Старайся не обращать на себя внимание фраеров, берегись зависти толпы. Помни,
когда на тебя начнут оглядываться, считай, что ты попухла! Ладно бы сама!
Малину, кентов подведешь. Они того не спустят на халяву…
— А я просто прибарахлюсь. Как фраера. Чтоб не выделяться, — решила Задрыга.
Целый день фартовые были заняты своими делами, и никто из них не обращал
внимания на Капку. Они уходили, возвращались, кто-то появлялся, снова убегал.
Задрыга слышала лишь обрывки разговоров, из каких поняла, что кенты меняют
кропленые деньги на надежные.
Слышала девчонка, что пахан уговорил ростовского барыгу за хороший навар
поменять все разом. И теперь ждет завтрашнего вечера.
Капка слушала разговоры законников, она поняла, что малина, оставив в Ростове
кропленые деньги, собирается покинуть город. Здесь, как сказал Шакал, Черной
сове не разгуляться. Да и новый маэстро, узнав, что Черная сова недавно тряхнула
банк, запретил ее кентам фартовать в Ростове. Дать возможность законникам других
малин выйти из непрухи.
Шакал, услышав это, не захотел остаться здесь, решил смотаться быстрее, чем
хотел. И теперь малину сдерживал лишь барыга, на встречу с ним пахан послал
Глыбу и Пижона.
— Стремача нам объегорь, пахан! — пудрил нос Глыба, одеваясь в бабу.
— Краюху берите! — согласился Шакал.
— Необкатанного в дело? Нет, пахан, этого не надо. Дело тонкое. Здесь верняк
нужен. Давай Задрыгу! — подморгнул законник Капке и предложил:
— Заодно прибарахлим мамзель!
— Валяйте! — согласился Шакал. И вскоре все трое направились в город, к дому
барыги.
Задрыга шла позади Глыбы, взявшего под руку Пижона. Тот нес саквояж с деньгами.
Законники переговаривались вполголоса.
Не доходя до дома, фартовые послали Капку посмотреть, все ли спокойно у барыги?
Нет ли рядом ментов и стукачей? Готов ли к встрече барыга?
Девчонка тихо подходила к дому, делая вид, что оказалась тут случайно. Она
несколько раз прошла мимо двора, играя мячом, купленным по дороге. Капка не
сразу подошла к глухому забору, прислушалась, что творится во дворе? Там было
тихо. Задрыга прильнула к калитке. Уставилась в щель. Никого…
Девчонка сняла крючок с петли и, тихо скрипнув дверью, ступила на дорожку,
ведущую к дому.
Тишина, притаившаяся вокруг, настораживала. Ни голоса, ни смеха, ни брани. Капке
от чего-то хотелось повернуть назад. Но что она скажет кентам? Их не убедишь
одним предчувствием. И Задрыга заставила себя позвонить в дом. Трижды, раз за
разом, Как велели законники.
Капка увидела, как дернулась в окне тюлевая занавеска. Кто-то разглядывал ее в
окне.
Девчонка огляделась вокруг. С недоверием отступила к кусту роз. Оглядела его.
Хотела уходить. Но услышала шаркающие шаги за дверью. Седой, костистый человек,
удивленно оглядев, спросил:
— Тебе чего здесь надо?
Капка увидела: за спиной человека кто-то проскользнул, стал за дверь,
притаившись, вслушивается в каждое слово.
Барыга удивленно смотрел на девчонку. А та, вместо обусловленного, спросила:
— Дяденька! У моей мамы сегодня день рождения, можно мне для нее срезать у вас
немножко роз?
— Чего?! С ума сошла? Я для твоей мамы их растил? — удивился тот. И хотел уже
захлопнуть дверь перед носом Капки, бросил напоследок:
— Иди отсюда, нахалка!
— Тогда я сама сорву, раз обзываешь, меня! — поджала губы обидчиво и свернула с
дорожки к розовым кустам. Старик выскочил следом. Он нагонял девчонку, но та
ускользала и, отбежав к самой калитке, повернулась лицом к барыге, спросила еле
слышно:
— Гостей ждете? — у барыги брань горло заклинила. Он оглянулся на дверь в дом,
взялся за калитку, выдавив Задрыгу со двора с руганью, сам следом вышел и тихо
сказал:
— Через два часа, в горсаду, у лесной избушки буду! — и снова взорвался руганью.
— А кто у тебя? — спросила Капка тихо, зная, что встреча законникам назначалась
в доме.
— Свои. Но не стоит так много гостей сразу, — ответил тихой скороговоркой и
закрыл калитку.
Капка вернулась к кентам, рассказала о встрече с барыгой. Предложила отказаться
от него, выйти на других.
— Стоило бы взглянуть, кто нас застопорить хотел? Что за свои? — высказался
Глыба. И велев Капке проследить за стариком, все же настоял на своем и пошел в
горсад.
Капка, едва фартовые смешались с прохожими, подошла к двоим мужикам,
разговорившимся на дороге, постояла возле них, потом подсела на скамейку к
бабам. И все это время внимательно следила за калиткой барыги.
Оттуда суетливо вышел мужик. Не оглядевшись, он торопливо свернул за дом барыги,
потом на боковую улицу й словно провалился, исчез из вида.
Капка вернулась к дому барыги. Она что-то проглядела: Калитка уже была закрыта
на замок снаружи. Значит, хозяин ушел. И девчонка приуныла.
Правда, фартовые показали ей кратчайший путь к горсаду, но где искать там лесную
избушку?
Капка перелезла через ограду горсада. Поленилась обходить. И плелась по аллее,
глядя по сторонам.
Лесная избушка… Но кого здесь о ней спросишь, если в горсаду ни души, а Задрыга
здесь впервые.
Она оглядывает пустые скамейки, лодки, беседки, сдерживает урчащий живот,
расходившийся не ко времени, ругая себя за тарелку слив, какие проглотила с
самого утра. Теперь вот желудок взвыл не своим голосом.
— Конечно, кто про меня вспомнит, что хавать надо? Целый день не жравши! — с
тоской вспомнила Капка. И вдруг резкая боль в животе остановила девчонку.
Задрыга сворачивает к кусту, но в это время на аллее показалась влюбленная пара.
Девчонка прикусила губу, решила переждать их. Но парень с девушкой облюбовали
соседнюю скамейку, и Капка поняла, что уйдут они не скоро.
Она пошла напролом через кусты, подальше от глаз, в глубь горсада, где можно
будет избавиться от боли в животе и спокойно дождаться кентов на выходе из
горсада.
Задрыга прет буром. И вдруг видит троих мужиков, распивающих под кустом бутылку
водки.
Они не обратили внимания на Задрыгу. А та, чуть не плача, обругала их про себя
последними словами.
Увидев перед собой что-то вроде врытого шалаша — пустующего и одинокого,
кинулась к нему со всех ног. Капка даже не огляделась. Не прислушалась.
Осторожность потеряв, помнила лишь о боли, сводившей судорогой тело. И вдруг
услышала отчетливое:
— Нашла место, сволочь! Иль до туалета донести не могла, скотина!
Задрыга оглянулась. Из просторного, темного угла шалаша на нее бранился кто-то,
шелестя листьями, ветками, травой.
Капка встала не спеша, решив досадить обитателю, какого приняла за бездомного
пьяницу. Но тот зашипел громко, зло:
— Да проваливай отсюда живее, вонючка проклятая!
— Тише! Идут! — услышала Капка второй голос и поневоле сжалась в привычный
комок. До ее слуха долетел звук приближающихся шагов. Выглянув, она увидела
Глыбу и Пижона.
Капка выскочила из шалаша и, оглянувшись на законников, трижды прокричала
голосом совы.
Фартовые насторожились.
Капка приметила, как мигом отрезвев, выскочили на аллею трое собутыльников. Двое
— из шалаша, какой и называли лесным домом.
Капка поняла все и без слов
Обоих законников ее малины решили взять на гоп-стоп налетчики и стопорилы
города.
— Не трепыхайтесь, кенты! — взяли в кольцо мигом и сужали круг.
— Тряхнетесь сами иль помочь? — осклабился рыжий здоровяк, подойдя ближе других
к Глыбе.
— Кайфовый маскарад! — дернул законника за кофту Тот, подождав, пока другие
подойдут ближе, подцепил рыжего кулаком в подбородок.
— Эй, кореши! Фартовые наших трамбуют! Гастролеры. На ростовских наезжать
вздумали? — бросилась на законников шпана.
Пижон двинул в висок здоровенного, лысого парнягу. Тот пошатнулся, но устоял на
ногах, выхватил из-за пояса нож.
Пижону явно мешал саквояж. Задрыга видела, как трудно ему отмахиваться одной
рукой, и ждала удобный момент. Но… За ним следила не одна Капка.
Глыба, одетый в бабье, отмахивался с трудом. Он явно не был готов к такой
встрече. Парик наезжал ему на глаза, юбка трещала по всем швам. Кофта
расстегнулась, обнажив волосатую грудь, на какой смешно топорщился набитый ватой
лифчик.
— Мажь гастроль! — вопил очухавшийся рыжий.
— Вломи паскудам! — сверкнули ножи в руках Шпаны.
— Ну, суки, держись! — вырвал из-за пояса юбки свой нож Глыба и, коротко
взмахнув им, распустил живот рыжему. Тот свалился под ноги дерущихся.
Кто-то задел руку Пижона. И из нее струилась кровь. Капка, улучив миг, когда
шпана отвлеклась на стоны рыжего, вырвала саквояж из рук Пижона.
За нею бросился лысый. Задрыга побежала к ограде. Мужик за нею. Капка внезапно
отскочила в сторону, чувствуя, что расстояние сократилось до опасного.
Тяжеленный саквояж тянул к земле, мешал бежать. Девчонка кинулась под ноги
лысого. Тот споткнулся, упал плашмя. Капка ударила ему по горлу ребром ладони.
Оглянувшись на дерущихся, увидела, как к ним из глубины горсада спешит милиция.
— Кенты! Лягавые! — крикнула Задрыга и, мигом перемахнув через забор, выскочила
из горсада.
Следом за нею Глыба и Пижон свалились на тротуар. И не обращая внимания на
взгляды прохожих, торопились уйти поскорее и подальше от злополучного места.
Глыба быстро и привычно поправил на ходу парик, застегнул кофту, остановив
первое такси, сел с Капкой на заднее
сиденье, поторопил Пижона. Тот успел увидеть милиционера, перемахнувшего забор
горсада. Но заметить такси тот не успел.
В этот же день малина Шакала сменила хазу. О случившемся пахану рассказали
сразу. И тот в эту же ночь разыскал всех, кто застопорил законников в горсаду.
На глухом пустыре вдали от городского шума собрались фартовые Ростова на
разборку. Городская шпана уже не впервой трясла законников, и потому они
вздумали навсегда отучить ее от наскоков.
— Кто дал наколку вам? — спросил шпану Шакал. Но налетчики не ответили.
— Вкинь им, Пика! — кивнул Шакал пахану шпаны Ростова. Тот медлил. Но
почувствовав на себе тяжелые взгляды законников, подозвал сявок. Велел разжечь
костерок. Достал веревки. И начал вязать петли.
— Колитесь, падлы! Сами вякайте, кто подбил вас, кто уломал на фартовых хвост
поднять? — проверил прочность петель.
— Барыга уломал?! — поднял Глыба одного из налетчиков за шиворот. И подержав в
воздухе, разжал пальцы.
Мужик грохнулся тяжелым мешком, что-то отбил себе на утрамбованной земле,
скрипнул зубами.
— Колись, пидер! Не то хайло на жопу сверну! — пообещал законник из малины
Черемухи.
— Да чего их уламывать, кенты? Замокрим гнид и крышка! — предложил пахан
ростовских законников.
— Это шустро! Но кто-то их наколол? Пусть трехнут, — не соглашались остальные.
Четверо налетчиков и барыга сидели связанные, плечом к плечу.
— Надевай сандали! — подал Пика сявкам петли. И, развязав барыгу, накинул ему
одну петлю на шею, вторую — на ноги. Повернув мужика кверху задом, связал петли
одним узлом. Барыга взвыл от удушья и боли.
— Чего? Не по кайфу? Я ж еще ничего не сделал. А ты воешь? Ну-ка, ботай козел,
уламывал шпану на законных вонючую клешню поднять? — прошелся по спине барыги
раскаленным прутом. Тот завопил. Но тут же получил сапогом в бок.
— Кончай трандеть! Тебя только погладили! Колись!
— Седой просил. Он сбил с панталыку! Навар обещал, если Шакала тряхнут! — не
выдержал барыга.
— Седой? — подошел к налетчикам Глыба. Те молчали.
— Шпану тряхнуть стоит! — предложил резко. И тут же с
налетчиков сорвали сявки одежду. Разложили на земле связанных.
— Чье слово слушали?! — подошел Пижон.
— Седой подбил! — не выдержал налетчик на спине горящих головешек из костра.
— Седой? — глаза Шакала сверкнули зелеными огнями.
— На разборку пидера!
— Размазать паскуду!
— Замокрить гниду! — зашумели фартовые. И вскоре с десяток законников вызвались
приволочь Седого сюда — на разборку, не позднее чем через полчаса.
До самого утра разыскивали бывшего шпановского пахана. Но не нашли нигде. Седой
исчез, словно сквозь землю провалился.
— Где должна у вас быть встреча?
— Где вас ждет Седой? — взялись законники за барыгу и налетчиков.
— Сам обещал возникнуть. Утром. Прихиляет ко мне! — не выдержал барыга ударов по
ребрам сапогами.
Его развязали. Обрезали петли. И Шакал, подойдя вплотную, сказал:
— Хиляешь «с хвостом». Вздумаешь слинять, «маслину» схлопочешь враз. Канай в
своей хазе, вместе с кентами. Когда Седой возникнет, не спугни. Он нам живой
нужен. Допер, падла? Коль из-за тебя слиняет, свою шкуру и душу тут оставишь! Я
тебя мокрить буду. Сам! Своими клешнями. Не смоешься и на погосте!
Вместе с барыгой законники отправили двоих фартовых.
Измордовав налетчиков до неузнаваемости, законники не стали их убивать. Бросили
развязанными на пустыре, пригрозив, если застукают их около фартовых, замокрят,
как сук.
Фартовые по одному, по двое уходили с пустыря, растворялись в узких проулках,
толпах горожан, спешивших на работу, в общественном транспорте. Вскоре на
пустыре не осталось ни единой живой души. Расползлись и налетчики по ближним
подвалам. В нынешнем состоянии им не до промысла на кого-то, самим бы отдышаться
и выжить.
Вернулась в хазу малина Шакала. Пахан решил задержаться в Ростове на день, чтобы
увидеть, как прикончат сегодня вечером на разборке Седого.
Недавнего фартового искали все малины города. В пивнушках и притонах, у алкашей
и тихушников. Весь ростовский сброд был поднят на ноги, чтобы отыскать Седого.
Но его не было нигде. Не объявился он и у барыги. Тот прождал его три дня, не
вылезая из дома. Но бесполезно. Седой исчез.
И большинство фартовых подозревали Шакала, говоря, мол, пришил где-то фраера
втихаря, а теперь не колется.
— Если б я замокрил, чего бы тянул резину? Давно бы смылся из Ростова! Мне
зачем? — удивлялся пахан. И вздумал послать кентов в городской морг.
Вместе с Глыбой и Таранкой туда заспешила шпана. Увидеть, своими глазами
убедиться хотелось каждому.
На лавках и топчанах, на столах и в леднике лежали покойники. Молодые и старые.
Одни уже готовые к погребению, вымытые и одетые, другие — недавние. Около одних
— родственники толпились. Плакали неутешно. Другие — лежали одиноко, забытые
всеми.
Посланцы разборки остановились возле одного. Худой мужик с седой головой
точь-в-точь был похож на Седого. Но лицо не опознать. Все разбито, искромсано.
Даже волосы в крови запеклись. Пальцы рук судорожно скрючены. Ноги подогнуты от
неимоверной боли. Видно, от жестоких мучений скончался. Глаза под лоб закатил.
— Шакал пришил! — уверенно сказала шпана. Фартовые головами качали. Похоже, что
пахан приложил руку. Но когда успел?..
О покойнике сказали, что нашли его в подвале многоэтажки вчера ночью. Никто за
ним не приходил. В доме жильцы не опознали покойного. Документов при нем не
было. Милиция, оглядев, видно, не захотела рыться в спецкартотеке. Сказав, если
труп не заберут, похоронить за счет собеса. Так ответил ворам хмурый санитар и
не посоветовал обращаться к врачу-патологоанатому, какой из усердия мог
позвонить в милицию. А уж те не, промедлят! Докажи потом, что не убивал? На
кого-то нужно эту смерть повесить, чтоб не осталось преступление нераскрытым.
Шакал, выслушав упреки разборки, решил сам убедиться. И едва глянув на труп уже
раздетого мужика, сказал уверенно:
— Это не Седой. Тот жив. Этот жмур не без его клешней тут оказался. Хитер
падлюка! — скрипнул зубами и добавил:
— Под маскарадом дышит. Решил этим жмуром прикрыться, чтобы его не дыбали
малины. Но где он приморился, гад? — думал Шакал.
Он дотошно расспросил Задрыгу, что за мужик вышел от барыги, когда девчонка
следила за домом. Но нет. Капка видела не Седого. И ответила, что у гостя барыги
рост был ниже и в плечах жидковат. Он немного старше Седого. И скорее походил на
бесцветную мышь.
Шакал пробыл в Ростове еще неделю. Каждый день он искал Седого. Но бесполезно. А
в городе между тем начались повальные облавы на фартовых. Одна за другою
сыпались малины. Их брали целиком, вместе с паханами, выгребая навары, общаки,
доли. Законников арестовывали прямо в хазах. Не успевших проснуться,
опохмелиться, натешиться шмарами. Законникам надевали браслетки-наручники и
везли в тюрьму пачками.
Милиция словно ожила, не спала ни днем, ни ночью. Она осмелела, набрала силу и
потеряла страх перед фартовыми.
Такая перемена не осталась незамеченной малинами. Они поняли, в угрозыск попал
кто-то новый, специалист, знаток законников.
В малинах прошел слух, что в Ростов из Магадана припехал сам колымский волк —
Игорь Павлович Кравцов. Его пригласили для борьбы с ворами. А ему, дескать, ни
знаний, ни опыта не занимать. Всю жизнь провел среди зэков на Колыме. Но работал
в прокуратуре, не в ментовке. Знал Мага-, дан, но не Ростов…
— Законники ему верят. Может, какой-нибудь раскололся, засветил всех нас? —
наивно предположил Пика.
И только Шакал не верил в легенду, рассказанную шпаной.
— Колымского волка я знаю. Он с ментами не кентуется. Это верняк. Тут кто-то из
своих… А кто кроме Седого? Он — падла — ссучился! — предположил вслух. Но шпана
враз загалдела:
— Седой — паскуда, но не стукач!
— Не темни, Шакал! Старика замокрил, теперь поливаешь?! Западло — жмура
обсирать!
— Что трехать в пузырь! Слови на горячем, потом вякай, кто ссучился?
Шакал понял, ему не верят. А и найти Седого стало невозможно. Оставаться в
Ростове было все опаснее. И малина «Черная сова» надумала покинуть Ростов
поздней ночью, уехать в Новосибирск, погулять по Омску и Томску, потом махнуть в
Хабаровск, Владивосток. А там видно будет, решили фартовые. И едва начало
темнеть, отправил Шакал Тетю, Глыбу и Таранку взять билеты на скорый поезд.
Кенты ушли, увезя с собой багаж. Условились, что как только все будет на мази —
прислать Таранку.
Шакал видел, как законники остановили такси, сели в него, укатили на вокзал.
Задрыга знала, почему именно так поступил пахан. Еще Сивуч учил, никогда не
выходить из хазы всей малиной. По одному, по двое… В случае прокола кто-то все
равно останется на воле, а значит, малина будет дышать. По той же причине не
советовал держать общак в одном месте, в одних руках. Кого-то припутали,
оставшемуся на воле есть на что канать. Особо предупреждал от ошибки, на какой
сгорели многие законники — никогда, ни в одной кассе не брать билеты одному на
всю малину. Трое должны это провернуть. И ехать надо в разных вагонах. Неудобно,
зато безопаснее. Пока двоих — троих забирают, остальные смылись…
Всем этим советам старался следовать Шакал.
Вот и теперь, собравшись полностью, оглядывает хазу. Не останется ли тут следов
пребывания малины? Но нет. Сявки постарались. И теперь ждут, когда уйдут
законники, чтобы закрыть хазу, отдать ключи.
Вон и Таранка объявился. Помаячил клешней и тут же исчез.
Шакал отправил вниз Боцмана, Хлыща и Пижона, сказав, что через десяток минут
возникнет на станции вместе со стремачами и Задрыгой. Законники забрали
последний багаж, оставив пахану лишь саквояж, и, выйдя за дверь, быстро и тихо
спускались по лестнице.
Шакал лишь на секунду задержался у двери. Он слышал, как фартовые спустились с
лестницы, пошли к выходу. Он уже хотел закрыть дверь хазы, как до его слуха
долетел легкий шум, защелкиванье наручников.
Шакал мигом схватил саквояж, растерявшуюся Задрыгу и, бесшумно проскочив
лестницу, закинул на чердак саквояж, следом Капку, заскочил сам и, пробежав его
весь, остановился перед бельевой веревкой, увешанной еще мокрым бабьим тряпьем.
Переоделся. И, затолкав свою одежду в саквояж, спустился с Капкой с чердака.
Они вышли из крайнего подъезда дома. Притаились на миг. И свернув за угол,
выскользнули на улицу, в ночь.
Задрыга, оглядываясь на Шакала, обвязанного платком до бровей, тихо
посмеивалась. Непривычно… В таком маскараде видела отца впервые. А тот приметил
воронок, стоявший неподалеку. Там, в кузове, трое кентов. Их охраняли двое
милиционеров.
Шакал оглянулся на подъезд дома, где и его ожидали четверо милиционеров. Грязно
выругался. Велел Задрыге спрятаться за дерево. Сам расстегнул рукав. Девчонка
увидела сверкнувшее лезвие. Оно впилось меж лопаток охранника. Тот, охнув, упал
ничком. Второй, склонившись над ним, — уже не разогнулся. Свалился рядом.
Шакал в прыжок оказался у машины. Звякнул отмычкой, распахнул дверь, сказал
коротко
— Линяем!
Три тени выскользнули из машины. Вот пахан передал саквояж кому-то. Капку кто-то
из фартовых ухватил на плечо. Несется рысаком через ночь. Далеко позади
послышались милицейские свистки. Они уже никого не могли испугать.
— Нет, по железке не линяем. Попутают. Кто-то нас высветил. На колесах сорвемся,
— предложил Шакал.
— А кенты? Они приморились на станции, — вспомнил Хлыщ.
— Задрыгу пошлем…
Капка вернулась скоро:
— Ждут кенты. Они на проходящий взяли. Он через двадцать минут уходит. Лягавым
Не успеть.
Шакал, помедлив немного, согласился. И вскоре оказался в купе вместе с Задрыгой.
Бабьи тряпки Шакал выбросил по дороге. И девчонка, увидев отца в обычном —
успокоилась. Она знала, выйди пахан в своей одежде, охрана «воронка» обязательно
приметила, обратила бы на них внимание. Лишь одежда сбила с толку, выручила,
помогла уйти.
Шакал темнел лицом, глядя на уходящий перрон и провожающих. Он высунулся в окно,
чтобы вдохнуть побольше свежего воздуха, и тут же отпрянул от него. Прямо на
перрон выскочил воронок. Из него высыпала милиция.
Свистки, крики, брань взвились столбом. Но поезд уже набирал скорость. Машинист
вел состав на зеленый свет. Других сигналов он не признавал и не подчинялся им.
— Седой, курва! — вырвалось невольное сквозь зубы.
— А почему ты в того жмура не поверил? Ведь все трехают, что он — Седой! Ты один
ботаешь, что тот не откинулся. Откуда знаешь? — спросила Капка Шакала.
— У фартовых своя память. Не в мурло друг друга помнили. Его изменить, как два
пальца обоссать. Тому даже тебя Сивуч научил. Мы знаем дела, наколки, татуировки
каждого. Доперла? Так вот у того жмура не было меток Седого. Хотя не фраер. Но в
законе не был. Всяк пахан, пусть он и последний козел, метку имеет, — показал
Задрыге указательный палец с выколотым тонким перстнем. — Когда выкидывают из
паханов и закона, этот палец прямо на сходе отрывают мудакам. Седому тоже
вырвали. А у жмура все пальцы на клешнях целы. Секешь?
Задрыга кивнула головой.
— Он ссучился? — спросила тихо.
— С ментами канает падла! Это верняк! Кто ж с мусоров мог допереть про хазы? Он
высветил. Каждую. И законников заложил.
— Зачем? Ведь надыбают его и ожмурят! — втянула девчонка голову в плечи.
— Не минет падлу сучья смерть! Да только он это знает и тырится у лягашей, не
высовывая шнобель из ментовки. Оттуда всех достал. Решил паскуда, что в Ростове
одни фраера дышать будут. Да хрен ему! Ростов — папа! И мы его лягавым не дадим.
Ну, а Седому канать негде стало. Никто не взял в малину. Кентов не осталось. А
дышать охота. Вот и стал дешевкой. Сам сдался лягашам. За баланду! Ну и этим
подавится. Найдется петля и на его шею.
— А если его поймают, что сделают Седому? Замокрят враз?
— Кто знает, где фраер ожмурится? Но если в фартовые клешни влипнет, не
выскочит. Пришьют, как пса…
— Пахан, к тебе можно? — протиснулись в купе Глыба и Боцман. Они смеясь
рассказали, как встретили в вагоне Фингала и Занозу.
— Кенты Седого — твои обязанники! Ты их хоть помнишь? Они в одном вагоне с нами.
Тоже смотались из Ростова. Теперь намылились в Мурманск. Рыбаков на гоп-стоп
брать. Ну, умора!
— Мы своих сявок не сберегли. Оставили вместо себя ментам. Много их было у
дверей. Всех не уложишь. А без стремачей кисло. Если уломаются, пусть клеются к
нам. Но сами. Без примуса. За своими я через месяц заскочу. Достану! Ну и эти не
помеха! Пусть дышат…
— Они намекали на это. Твое слово им передадим.
— О Седом ботали?
— Вякали. Но тут тебе лишь допереть. Мы не волокем в том, о чем трандят
налетчики. И коли в малину их берешь, пусть колятся у тебя, — настаивал
простовато Глыба.
Заноза и Фингал вскоре шмыгнули в купе. Капка, увидев их, в комок сжалась.
Знакомство вспомнила. Отвернулась от налетчиков. Но не пропустила ни одного
слова.
Они сразу сказали, что остались вдвоем. Никто не взял их к себе в малины
фартовать, а потому решили махнуть в Мурманск. Там прикипеться.
Пахан слушал молча, не обрывал. А потом спросил их:
— Где Седого посеяли? Почему его с вами нет?
— Лажанулся он. Сам знаешь. Но мы его не бортанули.
Когда он со схода возник, мурло его белей кентеля стало. Мы ему хамовку, выпивон
сунули. А Седой сидит не видя. И молчит, как усрался. Всю ночь вот так. Потом,
под утро, как чумной стал. О себе растрехался. Съехал. Крыша перегрелась. Иль на
сходе его по кентелю огрели? Сам с собой развякался.
И все пустое! Потом, ни с хрена, на подоконник влез. И ботает, что он дышал на
халяву и завязать хочет.
— Мы думали, на «понял» берет. А он и впрямь, сиганул в окно. С четвертого
этажа! Мы вниз. Там толпа. Мы сдрейфили, что на нас повесят его смерть, и
смылись. А он не откинулся, на кучу опилок угодил. Ходули лишь повредил, да
тыква — сотрясение. Сам ботал, что из окна выскочил. Его в психушку замели. Он
там канает. И ему оттуда не вырваться до гроба. Никого к Седому не пускают. Даже
глянуть на него не дают. Мы пару раз пытались прорваться. Сорвалось. Плюнули.
Решили сами дышать, — рассказывал Фингал.
— В психушке? Достали его менты. Это та же мусориловка! Там они с ним что хочешь
утворят. Слыхал я о дурдомах, — покачал головой Шакал и добавил:
— Ох и вовремя мы смотались из Ростова! Ох и кстати!..
Заноза и Фингал сами попросили Шакала взять их в малину. Пахан согласился,
предупредив, что у Черной совы имеются свои законы, какие соблюдают все без
исключения. Нарушившие выбрасываются из малины. О тех законах новым расскажут
кенты. И, если стремачи, обмозговав и взвесив все, решат прикипеться, пусть
скажут.
— Только тыквами секите, а не пустой требухой. Она в фарте — не кент! —
предупредил Шакал. И все же на следующий день налетчиков Седого взяли в Черную
сову.
Капка знала свое положение в малине, но с новыми стремачами держалась холодно.
Помнила, как ей попало за них. А те относились к Задрыге, как к равной.
Шакал учил Капку фартовым премудростям. Наверстывал упущенное либо забытое
Сивучем.
— В дело малина берет стремачей. Без них — невпродых бывает. Даем долю, если
самим обломился навар, если выгорело, как хотелось. Но дальше — шабаш! Стремач
кто есть? Он чуть выше шестерки! У него зенки и лопухи должны пахать без отказа!
И баста! В хазе им места нет! Секешь? Они при кентах дальше порога ступить не
могут. Сесть и подавно. Потому что кенты — законники, а стремачи — блатяги. За
одним столом с нами — западло! Но и вламывать им из куража — не моги! Они — наша
воля! Засеку, что врубаешь им — сам трамбану! Без лишнего трепа! — предупредил
пахан Капку.
Задрыга молча согласилась.
Когда малина приехала в Москву, девчонка попросила повозить ее по городу.
— Тебе на кой хрен? — изумился пахан. Капка ответила, что хочет приглядеться к
магазинам, о каких много слышала от фартовых.
Честно говоря, девчонка просто устала от поезда, от суеты, толкотни и шума.
Хотелось почувствовать под ногами твердую землю, немного расслабиться перед
длинной дорогой в Сибирь, куда Черная сова решила отправиться вечером, поездом
дальнего следования.
— Уломала! Отваливаем! Пора прибарахлить нашу мамзель! — вызвался Глыба, не
ожидая просьбы Шакала, тот лишь головой кивнул едва приметно, отправив вместе с
ними обоих стремачей.
Вскоре Задрыга ехала в такси по широким, пыльным улицам. Оглядывалась на
бетонные громады-дома, смотревшие на приезжих заспанными окнами. Казалось, они
не умели улыбаться, как окна в других городах.
— В ЦУМ! — коротко сказал водителю Глыба, тот согласно кивнул. А Задрыга так и
не-поняла, куда же они направляются?
Но вскоре оказалась в гуще кипящей очереди. Девчонку закружила толпа.
Кто покупает? Зачем толпятся? Где что продают? Задрыга перестала понимать.
Худая, костистая баба наступила ей на ногу острым каблуком и наорала на Капку
зло. Та окинула ее ледяным взглядом, решила проучить жестоко. Пристроившись
сзади, вскоре выгребла дочиста содержимое сумочки. Не успокоилась. И тихо
отстегнула браслет с ее руки. Тут же отошла подальше, понимая, что баба вскоре
хватится. Та и впрямь завопила так, что в хвосте очереди услышали.
— Что случилось? — переглядывались люди.
— Наверное, пристали к женщине?
— Воры проклятые! — визжала баба.
Глыба глянул на стремачей. Те развели руками. Фартовый и не заподозрил Задрыгу.
А та смеялась в душе. Не зря же Сивуч учил этому искусству карманника. На всякий
случай. Может, пригодится? Хотя, конечно, фартовые этим не занимаются. Но уметь
— надо.
— Хиляем отсюда! — потянула она Глыбу, заметив, что на крик бабы уже бежит
милиция.
— Теперь стой! — придержал законник и, оглядев Задрыгу, удивился несказанно,
откуда у той взялись такие пышные груди?
Очередь, между тем, накалялась. Баба стенала, засыпала всех своими бедами,
топила в слезах. Милиция пристально оглядывала очередь, ища подозрительных.
Вот взгляд бабы скользнул по Капке, остановился на ней.
— Она была рядом! — указала на девчонку. Задрыга презрительно фыркнула. Подняв
пустые руки, сказала зло:
— Чокнулась, дура!
Двое милиционеров подскочили к Капке.
— Что тут толчещься?
— Со мной она! — рявкнул Глыба.
— Пройдемте в отделение!
— Зачем? Я там ничего не посеял. Мало что кому взбредет? Тогда всю очередь
берите! Чего к ребенку пристали? — насупился Глыба.
— И верно! Озверела баба! Дитя обижает. Она все время тут стоит, — вступился
Заноза, делавший вид, что не имеет отношения к Капке.
— Вся зарплата пропала! — заламывала руки баба.
— Граждане, пройдемте в отделение! — повторил милиционер. Но в это время с
хвоста очереди надавили так, что Глыба еле на ногах устоял, а Капка и вовсе
исчезла в толпе и, выгрузившись в саквояж к Фингалу, вернулась к Глыбе уже у
прилавка, вся растрепанная, истерзанная и злая.
Милиционеры остались у входа в магазин. Они уже потеряли интерес к бабе, какая
чудом зацепившись за двери, осталась у входа. Милиционеры прогоняли нищих,
изредка бросая взгляды на выходивших из магазина.
Глыба, заметив это, разодел Задрыгу, как куклу, во все новое. Ее невозможно было
узнать. Глыба и сам приоделся. В новом костюме, при галстуке, в сверкающих
туфлях, он произвел впечатление на молоденьких продавцов.
Когда Глыба с Задрыгой выходили из магазина, милиционеры узнали их. Но ни слова
о приводе в отделение не сказали. Онемело уставились на фартового, открыто
завидуя ему:
— Вот это да! Видно, с Севера! Вон как оделись! Хоть в витрину ставь!
Задрыга шла не оглядываясь.
— Сучка облезлая! Зачем бабу тряхнула, лярва? Западло нам это! — опомнился
Глыба, уведя Задрыгу.
— Заткнись! Мне эта мандавошка ходули каблуками проткнула. Еще и хай подняла. На
халяву ей спустить? Задавится! — сплюнула Капка по-мужичьи.
Набрав в гастрономе харчей, Глыба с Задрыгой и стремачами вернулись на вокзал.
Там их ожидал Боцман.
— Пахан своего кента встретил. Колымского. Они наверху. В ресторане. Хиляем
туда. Похаваем перед дорогой. Без этого — туго. Билеты уже на кармане. Все в
ажуре…
Задрыга, наученная Сивучем, войдя в ресторан, не подсела за стол Шакала.
Устроилась у окна за маленьким столиком, откуда ей хорошо был виден каждый
входящий.
Она знала, что внизу стремачи зорко следят за лестницей в ресторан. Но… Не
доверяла им волю свою и Шакала.
Она видела всех. И по ее глазам, выражению лица, Глыба и Боцман знали ситуацию
вокруг ресторана.
Капка уже допила сок, когда взгляд ее скользнул по двери ресторана. Двое мужиков
застряли у входа. Увидев их, Задрыга онемела от удивления. Она привстала и вдруг
заспешила к двери.
— Девочка! Рассчитайтесь! — остановила официантка.
— Сюда ее счет! — грохнул Боцман, удивленно глядя на Капку. Та, выскочив в
дверь, повисла на шее Краюхи. Ничего не спрашивала, не говорила. По худым,
заросшим лицам стремачей поняла без слов, сбежали они из Ростовской тюрьмы, до
Москвы добирались товарняком. Вон как пахнет от них смолой и углем. Конечно, не
ели, не спали. Щеки и глаза запали. Еле держатся на ногах, но ни за что не
признаются.
Капка забыла обо всем. Она не любила, когда кто-то уходил из малины даже
ненадолго.
— Задрыга, дай кентам похавать, — оторвал ее от Краюхи Боцман. И подтолкнув
Жердь к двери, указал, где им лучше устроиться.
Вечером, уже в купе поезда, рассказали стремачи, как повезло им нагнать малину.
— Лягавые взяли нас на гоп-стоп прямо на выходе. Огрели по тыквам, думали, тебя
опутали с Задрыгой. И в машину не глядя поволокли. А там — менты ожмуренные.
Около воронка. Двое валялись. А мы — без памяти. Мусор прожектор включил. Чтоб
разглядеть, что случилось? Увидели падлюки, что не тех замели. И ботают:
— Вы кто будете?
— Ну, мы не пальцем деланы. Сантехниками назвались. Менты на нас матом. Чего,
мол, промеж ног мотаемся, когда они работают? Ну и спрашивают, в какую квартиру
нас вызывали. Мы вякнули на ту, что соседней с хазой была. Лягавые опять
прикипелись:
— Не видели ль посторонних в подъезде?
— А кого мы знаем? Только тех, кто вызывал, у кого ремонты делали. Нам некогда
глазеть. Работы много. Вон, у напарника внук родился. Первенец! Хотели успеть в
магазин. Да вы помешали, рассмеялся Краюха. И продолжил:
— Лягавые хотели ксивы глянуть. Да я вякнул, что на пахоту их не берем. Бережем
пуще кентеля. В хазе держат бабы. Ну, складно темнили. Нигде осечки не дали. Нас
и отпустили. Мы на вокзал. А поезд слинял. Мы на вертушках. Дважды чуть не
нагнали вас. Да не пофартило. Мандраж взял,
когда думали, что вы уже из Москвы оторвались. Попробуй надыбай в Новосибирске
вас! Мы ж гам ни разу не возникали! — улыбался уже успокоившийся Краюха.
— Они Таранку тоже за жопу хотели взять. Но он слинял от них к бабе, что мимо
хиляла, — стала рассказывать Задрыга.
— Не вякай, покуда я сам могу! — выставил Таранка острую мордочку и заговорил:
— Смаячил я кентам, чтобы вниз хиляли. А тут — менты. И ко мне подваливают.
Один, чисто бычара, кулаки сдавил, вломить, вижу, собрался. Его кулаки с мою
тыкву. Ну, раскинул я мозгой, оно, верняк, вломить я ему сумел бы. Но он не
один. Целая хевра. Со всеми не потрамбуешься, уложат. Я и приметил бабу, когда
лягавому до меня шаг оставался. Она как раз с того подъезда вывалилась, —
рассмеялся законник.
— Ох и сдобная баба! Вышло, вроде я ей маячил. Ну, пристроился сзади той
красотки, хиляю следом, от ее задницы глаз не оторву. А она у ней под платьем —
винтом крутится. Экая мордастая жопа! Отродясь такой не видал. Она оглянулась,
когда лягавые уже за шиворот меня схватить хотели. Я их призрел. Рядом с нею
пошел. Шаг в шаг. Ну и трехаю ей:
— Мадам, мне грозит смерть, если я не возьму вас под руку. Она не кочевряжилась.
Откинула крендель, я в него ухватился обеими. Лягавые с зависти чуть не
обоссались. Мне с моим ростом, только в задние щеки ее целовать. До верхних не
достал бы. Баба — краля! Кровь с молоком! А лягавые вслед глядят. Я тороплюсь от
них шустрей оторваться. Но эта баба! Я за нею еле успевал. Когда за дом
свернули, сунул ей полсотню за приятное знакомство. Она аж хайло отвесила.
Обрадовалась и вякает:
— Да за такие деньги я тебя, мой тараканчик, на руки б взяла! Жучок ты мой
навозный! Когда нужно будет, всегда подходи! — и расцеловала меня в мурло! Тут
лягавые высунулись. Поглазеть за мной. Я их приметил. Обнял бабу за шею, на мое
счастье она нагнулась. И ломаю из себя кобеля, посеявшего нюх. Аж мусорам
неловко стало, смылись они со стыда. А я в такси, и оторвался.
— А краля? — удивился Боцман.
— Она своей дорогой похиляла.
— И адрес не оставила?
— Не нужен он мне. Я по ним не болею! — отмахнулся Таранка.
Поезд, ровно постукивая колесами, увозил фартовых от столицы, подальше от шумной
толпы, от крикливых баб, ярких витрин, подозрительной милиции.
Чем дальше, тем холоднее становилось в купе. Кое-где на полянах и деревьях уже
лежал первый снег. Скоро зима. В Сибирь она приходит гораздо раньше, чем в
Москву.
Задрыга смотрит в окно вагона, поневоле поеживаясь.
Как-то сложится у Черной совы в незнакомых местах. В городах, куда едут
фартовые, бывали не все. А это, как в прорубь нырнуть Одно страшно, сумеешь ли
выскочить?
Глава 4
Седой
Его знали не только фартовые Ростова. Помнили этого человека зэки Колымы и
Воркуты, Печоры и Комсольска, Сахалина и Сибири. Куда только не увозили его в
казенную дорогу зарешеченные вагоны специального следования.
Сколько километров прошел он и проехал; неся на плечах, в судьбе и биографии
печать рецидивиста. Она коростой въелась в уголовные дела, заводившиеся всякий
раз, едва Седой выходил из зоны, после очередной ходки.
Его знала вся прокуратура и милиция. Весь угрозыск и конвой. Его помнили
свирепые охранники тюрем, следственных изоляторов и зон. Он их не запоминал.
Жалел голову и память.
Знал главное, основное. Мелочи отбрасывал.
Седому было шестьдесят. Может, чуть больше. Так считали все, кто знал его. Кроме
клички, никто ничего о нем не слышал. Было ли у него родное имя? Его вскользь
упоминали в приговорах, но почему-то не застревало в памяти. Уж очень шла ему
кликуха, с какой сжился, свыкся и полюбил.
Когда он получил ее? Все законники считали, что в малине либо в зоне получил
второе имя, как клеймо на лоб. И только он сам — Александр Земнухов, знал, как
стал он Седым…
В тот год особо пышным цветом взялись в саду яблони. Они словно чуяли, что эта
весна — последняя в их жизни, и уж коль не доведется отяжелеть ветвям красивыми,
вкусными яблоками, — порадовать себя и людей напоследок нежным, душистым цветом.
В том саду, бледнея от робкой неуверенности, сделал он предложение той, какую
любил больше жизни. Осмелев впервые, придержал за локоть. И признался, что жить
без нее не может. Она удивленно вскинула голову. Русая коса, уложенная короной,
упала на плечо. На щеках — яблоневый румянец выступил. Впервые услышала о любви.
Заслушалась. Но руку свою из его руки не вырвала. Может, от растерянности.
Он тогда решил иначе. И, уговорив стариков на спешную свадьбу, чтобы другие не
опередили, послал сватов. И, чудо! Она согласилась стать его женой…
Полдеревни родственников готовились к свадьбе. И только старая бабка Сашки
осуждающе смотрела на внука и почему-то вымаливала для него прощение у Бога.
— Неурочное время для свадьбы выбрал. Чего торопишься, безмозглый? Чай — не
девка! Не засидишься! Зачем Господа гневишь? Обождал бы, как все — зиму, мясоед!
Иль обрюхатил девку и прикрыть хочешь? — глянула на внука строго.
— Нет греха меж нами…
— Тогда обожди!
— Не могу!
— Попомнишь мои слова! Наказан будешь! Не обрадуешься затеянному веселью! Пост
нарушать воспрещено людям! — предупредила и уехала в соседнюю деревню к брату,
чтобы не быть на свадьбе, не обидеть Бога.
Никто не заметил ее отсутствия на веселье. Все село собралось в доме Земнуховых.
Гармошки, патефон — не смолкая, пели на разные голоса. Может, оттого и не
услышали грохота подступившей к порогу дома войны.
Молодых уже собрались провожать в спальню, когда к дому подъехал грузовик, и
люди из военкомата, не желая слушать ни о чем, выдергивали из-за стола гостей по
списку. И, дав десяток минут на сборы и прощание, сажали мужиков в машину.
Земнухов оказался в списке одним из первых.
— Свадьба? Невеста не стала женой? Сейчас тебя женят! Живо в грузовик! —
скомандовал мордастый лейтенант. И Сашка влез в машину, даже не успев
попрощаться.
Машина привезла их в город, к военкомату. Там Земнухов узнал подробнее о
случившемся.
Короткая подготовка к войне, и через две недели его отправили на передовую.
Из сводок Сашка знал, что его деревня оккупирована немцами, что враг идет к
Москве.
— Как там мои? Как она? Ждет ли? Любит ли? — думал человек ночами напролет. Он
так хотел скорее вернуться в свою деревню, что часто видел ее во сне.
Звягинки… Орловская область. О них в сводках отдельна! не говорили. Упоминали в
числе прочих, взятых врагом,
Земнухов дольше других не мог привыкнуть к войне. Она ему казалась дурным сном.
Именно потому не доходили письма до Звягинок. Не было и ответов.
К гибели однополчан война приучила. Сам не раз умирал в госпиталях, медсанбатах,
дважды контузило человека. Ранений не счесть. Чудом выживал. Судьба, словно
смеясь, берегла его для самого сильного удара. Он того не знал…
Он никогда не торопился так, как в те дни. Ведь война откатывала на запад, и
немцы уходили, оставляя города и села.
Не дать бы опомниться, зацепиться, перевести дух, думал Земнухов и вместе с
первыми танкистами въехал в освобожденный Орел.
— Деревня моя неподалеку. Всего восемь километров от города. Три года своих не
видел! — говорил он командиру танка.
— Завтра там будем! Увидишь! Пока окраины города очистить надо. Слышишь?
Огрызаются! — прислушался к голосу пулеметов.
В ту ночь Сашке не спалось. Слышат ли его родные, как — спешат танки очистить
землю от беды? Ждут ли? Подсказывает ли им сердце скорую встречу?
Звягинки он увидел издалека. Все тот же сизый дымок над крышами, косогор,
ведущий в деревню из рощицы, мелководный пескарник Орлик, в каком купался еще
мальчишкой.
— Скорее! — торопил водителя. Тот усмехался:
— Лечу!
— Туда! — указал рукой на спуск. И… Сердце дрогнуло. Не поверилось.
Вместо дома — пепелище. Потрескивают теплые угли… ветер разносит пепел. Сашка
глянул на сад и закричал диким голосом. На яблонях, обугленных войной, висели
его мать, отец, не ставшая женой — невеста.
— Крепись, Сашок! Война — паскуда! Она — радость не приносит никому.
Какой-то серый дедок на кривых ногах подковылял приветить освободителей. Слезы в
бороду роняет. Узнал Земнухова. Обрадовался:
— Не только твоих сгубили. Глянь сюда! — указал в хвост улицы, где не уцелело ни
одного дома.
— И возле школы все опалили, ироды. Староста Силантий учинил расправу, нехристь
проклятый! С немцами убег в Германию. Напослед поизголялся. Всех, у кого мужики
на хронте, в одночасье порешил. Не один, конечно. С супостатами. Такими, как он
— нехристями.
— Когда ж это он их? — не выдержал командир танка.
— Вчерась. Под вечер.
— Чего ж не похоронили?
— Кого? Я ж своих только что закопал. Восемь душ — извели подчистую. Бездомный
ныне, как собака.
— Неужель помешать было некому, вступиться? — спрашивал командир танка у
старика.
— Кто поможет, если люду нет? Гля, деревня, что погост. Кого не сгубили, в полон
отправили, в Германию увезли. А кто прятался, своих дожидаючи, на сук вздернули.
Я ни туда, ни сюда негожим стал. Для Германии — старый, для петли — дурной.
Потому, видать, пулю на меня и то пожалели. Гля, сколько люду извели! Около
всякого дома, беда наша. Детву и то не пощадили.
Старик всю жизнь работал кузнецом в деревне. Сашка вспомнил его. Сильный,
веселый он был человек. Был… От прошлого ничего не осталось…
Земнухов обрезает веревки, снимает их. с шеи отца, матери, невесты. Всех троих
рядом положил. В саду. Под яблоней. Где сделал предложение…
Дерево, потеряв в огне жизнь, стало похоже на большой черный крест.
Нет, не дождалось оно Сашкиных детей. Надгробием стало.
— С вашего роду одной лишь бабке повезло. Как немец в деревню прикатил, она и
померла от горя. Враз. Ведь и не мудро. Старая была. Большого горя не перенесла,
— говорил старик, вытирая слезы со щек.
— А твои дружно жили. Жена — ни на шаг от стариков. Вместе с ними на чердаке, в
подвале пряталась. Тебя ждала. Кроткая, чисто голубка. Ей бы жить, — склонил
голову перед могилой.
— Может, отобьют наших людей у немцев. Воротят их по домам. В деревню. Я жду. Не
помирать же мне псом, возле могил. Кто-то закопать должен.
— Никого, кроме вас? — удивился командир танка.
— Две старухи еще. Одна — бывшая учителка, паралик ее разбил. Ныне не ходит. И
почтарка. Та вовсе — свихнулась с горя. Я один середь их покуда.
Сашка ничего не слышал. Он стоял перед могилой на коленях. Молча, словно онемел,
он не верил своим глазам в случившееся.
Хотелось кричать. Но горло пересохло так, что дышать было нечем.
Когда Сашка снял с головы каску, голова его была белей снега.
— Седой! — вырвалось у командира невольно.
Так его стали звать все однополчане и танковая бригада, с какою Земнухов дошел
до Берлина.
Как воевал, как дожил до Победы, уже не помнил. Он твердо знал, его никто не
ждет и не встретит. А потому ожесточился, стал молчаливым и злым. Он перестал
бояться смерти. И часто первым выскакивал из танка под свист пуль. Жизнь
перестала быть нужной. Жить, сцепив зубы, не всякому под силу. И Сашка глушил
горе водкой. Ее он доставал где только можно. И высадив до дна, отключался на
время. Потом, словно озверелый, рвался в бой.
Тот последний день в Берлине он не помнил отчетливо Услышал о победе. Увидел
радость, улыбки однополчан. Его радость осталась в Звягинках, под яблоней. Она
уж не порадуется, не услышит о Победе. И выпив винтом, до дна, всю бутылку
водки, не помня, не осознавая ничего, схватил своп автомат.
Очнулся связанным в подвале. Рядом охранник. Не отвечал ни на один вопрос. Лицо
отвернул. А утром трибунал. Приговорили к расстрелу. От него Земнухова спасла
Победа. Да командир танка, единственный из всех, вступившийся за Седого
— Убийца! Мародер! Садист! — уж чего он не услышал в свой адрес и не понимал, за
что его костерят.
Убил пятерых немцев из автомата. А разве не они уничтожили его семью и все село?
Разве не они лишили его простого, бесхитростного счастья? Ведь он не знал их.
Зачем они пришли с войной? Они ушли? Но разве кончилась война? Она навсегда
осталась жить в нем. До смерти… Он не умел прощать и забывать…
Когда судили Седого, он не просил о смягчении наказания, не обещал не повторять
случившегося. Он, темнея лицом, отстегнул все ордена и медали. Положил их на
стол и обронил сквозь зубы:
— Подавитесь вы своей победой! Вы такие ж гады, как немцы, жаль, что нет у меня
автомата!
Его вытолкали взашей. В наручниках. И втолкнув в зарешеченный вагон, повезли,
как военного преступника — в Магадан…
Двадцать пять лет… Немалый срок.
Сашке было безразлично.
Он ехал, не разговаривая ни с кем, пока не подсел к нему осужденный так же, как
и Седой, недавний полковник, какого даже охрана называла уважительно —
Трофимычем.
Статьи и сроки их совпадали, как братья-близнецы. И горе — на одно лицо. Только
у полковника жена с дочкой живы. Но… Теперь под другой фамилией. Не дождалась
баба. Вышла замуж за тыловика.
А вот отца с матерью, сестру и брата отняла война. В сарае их расстреляли. Всех
одной автоматной очередью. За помощь партизанам. Староста постарался. Его
Трофимыч случайно нагнал. По пути в Германию. Не дал доехать. Вывел из
«Виллиса», все, что хотел сказал. И расстрелял в упор… Не спросил разрешения у
трибунала. Его и вернули. Уже с границы, где о победе узнал. Но без наград и
звания. Не в дом — родных помянуть, на Колыму— остудить память…
Седой зубами скрипит во сне. Днем жалобы писал. Верил, что попадут по адресу. А
через месяц в спецчасти узнал, что никто его писем не отправлял.
— Почему?! — взревел Седой и грохнул кулаком по столу так, что лампы и телефоны,
чернильница и бумаги в разные стороны разлетелись.
— Крысы тыловые! Пока мы воевали, вы брюхо отращивали?! Да попадись мне там —
всех бы в одном окопе уложил! — орал он обезумев и потеряв над собой контроль.
— В шизо падлу! На месяц! Пусть там фартовые ему мозги просифонят! — побагровел
начальник зоны.
Земнухова охранники втолкнули в холодный, сырой подвал, на бетонный пол.
Здесь негде было стать. Десятка три хмурых мужиков встретили нового площадным
матом. Но узнав, кто он — потеснились. Дали место сесть. Сами — на ногах
остались. Отдыхали по очереди.
Поглядывавший в глазок охранник вызвал одного из фартовых, передал, для чего к
ним бросили Седого. Законник послал матом, добавив, что начальник — не пахан, и
даже не фраер. А вот Седой — лафовый мужик, если такого в кенты сфаловать —
кайфово дышать станет любая малина.
Утром законников вывели из шизо, погнали на трассу. А вместо них шпану
втолкнули. Злую, горластую, наглую.
Ох и дрался с ними Седой. По нескольку раз на день. Шпана то поодиночке
наскакивала, то наваливалась кодлой даже на спящего. И однажды вывели из себя.
Разбудили в человеке зверя. И Земнухов снова обезумел. Он не чувствовал боли. Он
пошел напролом, как в бою. Он рвал, топтал, хватал за горло и свирепея бил
головами о стены, вдавливал в углы, кромсал кричащие комки в онемелых пальцах.
Он давил. За что? Шпана опетушить хотела…
Как все кончилось бы, если б не Трофимыч, взявшийся
неведомо откуда. Он вырос, как из тумана. Сказал, а может крикнул:
— Шабаш, Седой!
Земнухов припал спиной к стене. Его трясло от злобы.
— Остынь, Сашка! Возьми себя в руки!
— Да ведь это не они! Начальник зоны их настропалил! — выдал охранник.
— Ну, падла, держись! — рванулся к двери Земнухов, но двое других охранников
преградили путь, втолкнули обратно в шизо.
Целый месяц просидел здесь Седой на хлебе и воде. Вышел осунувшийся,
пожелтевший. Дрожали руки и ноги. Он еле добрел до своей шконки. К нему тут же
пришел посланник от шпановской кодлы.
— Гони на кон все бабки! Троих изувечил. Если не уломаешься, не дышать тебе в
этой зоне. Шкуру с живого спустим! — пообещал ощерясь.
Седой встал. В глазах ночь. Один раз вломил посланцу кулаком по голове и
выбросил за дверь барака, мордой в снег.
Через полчаса в барак влетела шпана. Целой бандой.
И тут взъярились фронтовики, отбывавшие сроки. Они жили в одном бараке с Седым.
И хотя не общались с ним по душам, лишь из рассказов Трофимыча слышали, задела
людей за живое наглость шпаны.
Сорвав с болтов скамьи и шконки, молча бросились в защиту Седого.
Выбросив шпану из барака, не успокоились. Пошли громить ее хазу.
Крики, стоны, грязный мат, угрозы, все перемешалось в один клубок.
Охрана, подоспевшая в барак, долго не могла разогнать дерущихся. А когда из
свалки вырвали Седого, его снова кинули в шизо.
Две недели продержали там Земнухова. И кто знает, вышел бы он оттуда живым или
нет, если бы не фартовые, увидевшие, что потерял мужик сознание. Потребовали
врача, тот забрал Земнухова в больницу.
Только встал на ноги, начальник зоны, вопреки советам врача, отправил его на
строительство трассы вместе со шпановской бригадой.
— Держись, Седой! Не сорвись! Наши участки рядом. Чуть что, крикни меня, врубим
по первое число! — говорил Трофимыч. Но… Фронтовики оказались далеко. Начальник
зоны предусмотрел. И рядом поставил фартовых. Те никогда не
вмешивались в разборки шпаны, считая для себя западло разговаривать с нею.
Свалка завязалась в обед, когда Седой подошел к кухне за баландой. Кто-то вылил
ему в лицо свою порцию и захохотал, что согрел честнягу,
Земнухов разглядел долговязого мужика, хохотавшего громче всех. Его он сбил с
ног сразу и бросился сверху, задушить серую безмозглость. Но на него навалилась
куча.
Весь перерыв разгоняла охрана дерущихся, не жалея ни кулаков, ни сапог, ни
прикладов.
Старший охраны, не пожелав вникнуть в суть, заставил бригаду вкалывать
сверхурочно еще два часа. На лютом холоде, оставшиеся без обеда, люди быстро
теряли силы и падали головой в снег.
Случись такое с Седым, шпана воспользовалась бы и добила человека. Земнухов
работал сцепив зубы.
Оглянувшись, увидел замерзающего в снегу бугра шпаны. Выдрал ломом мерзлую
корягу. И, раздолбав в куски, поджег. Подтащил к теплу умирающего.
У охраны папиросы из рук попадали от удивления. Придя в себя, заорали:
— А кто вламывать будет? Пусть норму отпашет, враз согреется!
— Гаси костер, мудак!
— С кем воюешь? Помирает он. Уж никому не враг. И норму — на небе с него
спросят. Как и с нас. Пусть согреется. Может, отойдет еще…, — ответил Седой.
— Чтоб тебя оттрамбовать?
— Пусть махается, если мужик в нем задышит. Покойников я нагляделся. В войну.
Этот — мне не враг, — подкинул в огонь остатки коряги и пошел выковыривать из
снега пенек.
Охрана пристыженно умолкла. Подтащила к теплу еще двоих, грелась и сама. А через
час скомандовала шабаш.
Шпана молча озиралась на Седого. Не наскакивала, не толкалась. Его пропустили в
машину первым, расступившись перед бортом.
Шпановский пахан так и не отогрелся.
Ночью он умер на своей шконке — в бараке, велев поставить бугром взамен себя —
Седого.
Ему об этом сказали утром. Передав дословно все, что говорил пахан:
— Крепкий мужик. Кремень. С ним до воли додышите. Другого не ставьте. Загнетесь
от глупостей. Его и своих. К Седому не прикипайтесь. На воле — в малину
сфалуйте. Оборвется такое — ваш кайф! Цимес, а не пахан! Он — кайфовей всех! Так
ботаю, потому что жаль мне вас. Линяю от фарта! От всех! Его не трамбуйте! И
бугра зоны — не слушайте. Седой ни перед кем не лажанулся…
— Он хотел трехнуть еще что-то. Очень важное. Но не смог. Дыхалка дала осечку.
Он захрипел. Зенки выкатываться! стали. И заглох, — говорила шпана, окружив
Седого.
Земнухов хотел отказаться от бригадирства. Но Трофимыч, узнав обо всем, уломал,
убедил. И Земнухов взялся.
С первого же дня шпана беспрекословно слушалась его. Выполняла каждую просьбу.
Приказывать Седой научился гораздо позже.
С начальником зоны и с операми у Земнухова так и не сложились отношения. Они,
словно стерегли друг друга, ловя и запоминая каждый промах и ошибку.
Седой не доверял им, и постоянно проверял точность учета выработки его бригады,
правильность начисления заработка, обсчет выполнения нормы на каждого человека.
За каждый процент и копейку ругался до хрипоты.
Он поселился в шпановском бараке и держал в руках всю горластую ораву, не
позволяя ей срываться ни на ком.
— Не хрен давать повод хмырям из администрации штрафовать нас за каждый прокол!
Вон, оттыздили охранника! И всех нас накололи! По десять рабочих норм сняли с
каждого! А это — десять дней воли! Секете, падлы? — набирался фени Седой.
Слушая вечерами, кто за что попал на Колыму, Земнухов стал понимать, что не
только его опалило горе, не он один отбывает срок ни за что.
— Шпана, услышав от самого Седого его историю, и вовсе потеплела. Зауважала
мужика. И предложила, выйдя на волю, скентоваться в малину.
Земнухов и думать об этом не хотел.
— Воровать? Да я в детстве такого не умел! Случалось, в колхозный сад за
яблоками пойду с ребятами, они наберут и убегут. А я обязательно попадусь
объездчику на глаза. Всю жопу солью он мне изрешетит, за себя и за сбежавших. Не
везло мне с этим. За цветами к соседу влез. Собака его чуть яйцы не оторвала! —
отказывался Земнухов. Но воры не уступали:
— Научим! Вот гляди, как надо! — показывали Сашке хитрости и тонкости своего
ремесла.
— А вдруг поймают? И опять сюда? Нет. Я работать буду на тракторе! Ведь я —
танкистом был! — отказывался Седой;
— Дурак! Мудило! Тебе честь даем! Вон, Петух, тоже трактористом вламывал на
воле. Не в малине родился. На свои копейки дышал. И все же влип сюда! А за что?
Какому-то мудаку завидно стало. И вогнал ему пыж в масляный фильтр. Трактор и
накрылся! Нет бы виновного найти — Петуха за вредительство, как врага народа, на
четвертак и сюда… Трехни, он при чем? — спрашивала шпана.
— А я шофером вкалывал. На мясокомбинате. Обнаружила ревизия недостачу. И вместо
того чтобы директора и охрану тряхнуть, из меня козла сделали! И тоже ни хрена
не доказал. Вором ни за что назвали. Семья отказалась от меня со стыда. Дети
фамилию сменили, жена замуж вышла. Вернуться некуда стало. А я то мясо раз в
месяц ел, С получки. Жена покупала… Знал бы, брал мешками! Хоть теперь не обидно
было.
— А я зоотехником в колхозе был. И как назло бруцеллезом стадо коров заболело.
Начался падеж. Нет бы выбраковать больных коров, как я просил, их на один выпас
с молодняком погнали. И… В день по три, по четыре телка дохнуть стали. Меня, как
вредителя, под суд. А я что? Стадо заразил, что-ли? День и ночь лечил. Да кто
это увидел? Ко мне не прислушались. Выходит, выгодно было кому-то меня убрать
или подставить…
— А я — пекарь! Хлеб и булки выпекал почти двадцать лет. Весь Курск их покупал и
радовался. Никто во всем городе плохого слова обо мне не сказал. Да беда
стряслась. Замкнуло проводку. Сгорела пекарня и склад! Ну а я при чем? Мое дело
— хлеб! За проводку электрик отвечать должен. Да только электрика у нас не было!
Директор экономил. Вот и берите его за жопу. Но ведь он начальство! Сумел
паскуда отмазаться. И взвалили на меня все его дерьмо! До сих пор не знаю, за
что парюсь на Колыме! А у меня и заработок, и уважение не чета твоим были.
Только теперь доперло, зря я чертоломил. Надо было трясти брюхачей таких, как
мой директор! Он — не один, слышишь, честняга? Вся Колыма от них стонет.
Долгими ночами ворочался на шконке Земнухов. Не мог уснуть. Разговоры мужиков,
застревая в памяти, не давали покоя. Он знал правдивость их рассказов. Не раз
проверил,
— На фраеров вкалывать? Задохнутся паскуды! Сколько крови они из нас высосали!
Вот им всем теперь! — отмерял по локоть бывший пекарь. И говорил, что первым
тряхнет своего директора, как только выйдет на волю.
— Уж я на его шкуре высплюсь за каждый день на Колыме! скрипел он зубами.
— А семья? — спросил Седой.
— Чья? Моя, что ль? Нет ее! Выслали из города в Сибирь,
как врагов народа. Из-за меня! Никто не дошел. Все шестеро умерли по дороге в
ссылку.
— Твою мать… — вырвалось первое сочувствие у Земнухова.
Пять лет и пять зим пробыл он в этой зоне. А на шестую — сбежал, вместе с
десятком мужиков из своей бригады, договорившись с оставшимися в зоне, где
встретиться на воле. Но и те сбежали в первый же буран, прямо с работы, перебив
растерявшуюся охрану, забрав все ее оружие.
Беглецы встретились все вместе на Урале — в Свердловске. И, пощипав горожан,
тряхнув брюхачей, поспешили покинуть враз озверевших горожан и милицию. Они вмиг
забыли, что такое гостеприимство и чуткость, с ненавистью вглядывались в лица
всех приезжих.
Седой еще не был в деле. Его малина держала. Одела и обула, обеспечила
документами и деньгами. Он жил за счет своей шпаны.
Земнухов легко свыкался со своей новой жизнью. Приступы стыда все реже одолевали
его. Совсем оставили, когда малина приехала в Курск и выловила директора
хлебопекарни. Его около дома застопорили. Затащили в подворотню. Узнал он
пекаря. Вначале по голосу. Когда петушить начали, вовсе взмолился. Обещал все
возместить, каждый колымский день. Но не поверили. И, пропустив в очередь,
раздели догола, и здесь же в подворотне задушил его пекарь своими руками, как и
мечтал на Колыме. Забрав все деньги у замученного, поехали сводить счеты с
остальными. Обидчиков было много. Ни одного не хотели упустить. Всех разыскали.
Никто не выскользнул из рук дерзкой малины, озверевших от горя мужиков.
Земнухов тоже не оставался в стороне. Он сам себе внушил, что трясет истинных
грабителей, виновников всех горестей и бед. Он резал и душил, вбивал их в стены,
втаптывал в землю кровоточащие комки. Он их не жалел, потому что они не пощадили
когда-то чью-то жизнь и судьбу.
Никому из них не хотелось умирать. Все были уверены, что люди, отправленные в
Магадан, уже никогда не выйдут на волю. С такой статьей не доживали до
освобождения. А потому никто из брюхачей не ждал мести. Она грянула внезапно.
И председатель колхоза, вытащенный ночью из дома, узнал бывшего зоотехника перед
тем, как захлебнуться в навозной жиже.
И водитель машины нашел директора мясокомбината. Измордовав его до
неузнаваемости, вырвал недавний зэк у директора все мужичье и затолкал еще
теплым в зубы:
— Хавай, падла, до погибели! Гляди не подавись! — смеялся в лицо истекающему
кровью мужику.
Седой искал трибуналыциков, отправивших его под расстрел. Их следы терялись.
Потом всплывал кто-нибудь. Но оказывалось, что тоже осужден и отбывает срок.
Того, кто оглашая обвинение и приговор, разыскивал дольше всех.
Он оказался живым и на воле. Неплохо устроился. Имел все. Квартиру, семью и даже
дачу. Вот туда и нагрянула к нему малина поздним весенним вечером. И не стучась,
вломилась в дом.
Трибуналыцик сидел у камина, читал газету в кресле, покрытом бархатом. Рядом с
ним — дочь. Уже девушка. Вскинула на вошедших испуганные, удивленные глаза. На
пушистых ресницах повисли росою слезинки. Она почувствовала — не с добром пришли
гости.
Девушка кинулась к двери. Но ее тут же поймали.
— Куда, лярва! — содрали с нее все до последней тряпки и потащили на диван,
лапая на ходу.
— Седой! Давай! Наколи ее! Хмыря придержим. Натешимся и за борова возьмемся!
— Эту отпустите! — приказал хрипло.
— Ты что, пахан? Крыша едет? А наши разве хуже были? — напомнил кто-то…
— Она ни при чем! Отвалите! — рявкнул зло.
И в бешенстве хватил трибуналыцика графином по голове, стоявшим перед ним на
столике. Тот, закатив глаза, рухнул на пол. Девушка, обезумев, рванулась из рук
шпаны, раскидала, бросилась к Седому, вцепилась в горло мертвой хваткой.
Кто-то из кодлы сунул ей в висок носком ботинка, сшиб с Седого.
— Ну, как? Посеял жалость? То-то! Одна у нее с ним кровь, — усмехнулся Петух, и
перерезав горла обоим, вытер нож о трибуналыцика.
Перевернув всю дачу, забрав все ценное и деньги, малина, пользуясь темнотой,
вскоре покинула дачу и поехала в Брянск, где жили неотомщенные обидчики
тракториста.
Уже в поезде услышали, что вся милиция разыскивает банду уголовников, сбежавших
с Колымы, чинящих повсюду самосуд…
Об этой банде говорили все пассажиры вагона. Рассказывали, что рецидивисты —
людей живьем едят.
Седой, слушая, головой качал, злясь, что за эту вот толпу он рисковал собой на
войне.
Паханом шпановской малины признал Седого фартовый сход в Одессе. И хотя в ходку
он загремел не по воровскому
делу, законники зачли ему войну как испытание десятком колымских ходок. Много не
спрашивали. Узнали, где воевал, как закончил и за что влип, не сговариваясь, не
советуясь, признали авторитет Седого, сочли равным. Его это не покоробило. Он,
отбывая в зоне, видел много себе подобных. Мало кто из них дожил до воли. Почти
все жалели о том, что оставили на войне здоровье. И Седому вспомнилось:
— Знал бы о дне нынешнем, без единого выстрела в плен бы сдался, как мой сосед.
Он теперь в Канаде дышит. Фермером заделался. Женился. Дите имеет. Мальчонку.
Помощника и наследника себе родил — продолжателя рода. Тот уж не под плуг на
коне;— трактором свой надел вспашет. Есть достаток в семье. Немцы тоже не без
головы. Видели, кого в плен брали. Только тех, кто работать умел. Вот и
отправили хозяевать на необжитых землях. Теперь они — эти наделы — не только
меня кормят. А и я тут уж попривык. Имею дом. Просторный и светлый. Все в нем
есть. О чем в своей деревне мечтать не мог. Даже машины приобрел. Пешком не
хожу. Да и куда? Мои земли за двое суток не обойти ногами. Целых триста гектаров
пашни! И все мои! Под казенную, охранную грамоту их дали. Без копейки! Лишь бы
холил да обрабатывал! А уж я стараюсь! И помогают мне все! Вот чудо! Налог не
берут! Ничего не требуют! Семена дали. Я их воротил с урожая! Ссуду дали, чтоб
скотину завел! А ни молока, ни мяса не требуют! И проценты не взяли. Теперь уж я
ссуду вернул. Хочу себе самолет купить. Прогулочный. Двухместный. Чтоб сыну с
высоты наши владенья показывать! Жаль, что вы их не видели. Вот бы порадовались
нынче за меня! — писал сосед своим родителям в Звягинки. И порадовалась семья!
Всех до единого замели в госбезопасность за связь с заграницей, с мировым
капитализмом, с предателем Родины. Лишь покосившаяся изба осталась в память от
семьи. Всех, даже стариков не пощадили, расстреляли в один день. Забыв, что
именно из этой семьи самому младшему за переправу на Днепре было посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме него трое положили головы за
Победу. Их жены, дети, родители недолго пережили. За единственного выжившего
поплатились жизнями. Знал бы тот мужик, никогда не написал бы то письмо. А ведь
всего-то, порадовать решил своих…
В Звягинках об участи той семьи все узнали. Чекисты и не думали молчать.
Выжимали на колхозном собрании одобрения сельчан, но те молчали. Лишь один дедок
— старый кузнец, какой остался один-одинешенек от большой семьи своей, выйдя с
собрания, сказал громко, во весь голос:
— Знал бы я — старый дуралей, что все так повернется, не на хронт своих послал
бы… Может, и поныне жили. И у меня теперь имелись бы живые внуки! А то ить всех
убили! В своем дому! Никто не защитил! А мне на кой хрен — судьбина песья?
Наутро кузнеца не стало. Нашли его мертвым на полу, возле двери. Судьба или
чекисты пожалели? Никто так и не понял. Похоронили его тихо.
А Седой, узнав о том, до хруста кулаки сжимал. Все понимал.
Может, потому никогда не слушал радио, ненавидел газеты и книги. Не терпел
государственных праздников.
В те дни его малина особо усердно трясла горожан, потроша карманы и сумочки
демонстрантов, торговок, кассы магазинов.
Он жил за счет своей малины, какая росла с каждым днем.
Поначалу Седой радовался каждому новому кенту. Чем больше воров в малине, тем
солидней навар, толще общак, больше уверенности в завтрашнем дне. И Земнухов все
глубже втягивался в жизнь воров.
Он уже побывал во многих делах. Научился воровать не хуже профессионалов. Все
реже вспоминалось ему прошлое, все меньше допекала совесть. Он умел не только
украсть, а и отнять, вырвать из рук, оглушив при этом жертву. Когда на него
наскакивала милиция — Земнухов был беспощаден. Он, словно сдвинутый, бросался на
нее. С ножом и с кулаками, со свинчаткой и спицей. Он мстил за свое отнятое и
оплеванное. Он никогда не щадил милицию и не оставлял ни одному шансов на жизнь.
Он сам убивал милиционеров, наслаждаясь их предсмертным стоном, криками. И
вскоре за ним увязалась слава махрового садиста.
Но именно это помогло ему вступить в закон. Фартовые, наслышанные о Седом,
заставили Земнухова поклясться на собственной крови из пальца, что никогда он не
поднимет руку на своего — законника. Не ударит, не замокрит, не предаст. И
Седой, стоя на коленях перед маэстро, ел землю, перемешанную с кровью. Клялся.
Дал слово на большом сходе — держать закон, быть честным вором.
Нет, эта клятва на крови не была пустой. Нарушивший — карался тут же, свирепо.
Свои не пощадят…
Седой тоже не имел жалости. Вот только одних не разрешал трясти — инвалидов
войны. К ним он, под страхом немедленной расправы — приказал своим не
прикасаться. Таким велел подавать не скупясь. И малина, помня один случай,
выполняла требование пахана.
А Земнухов однажды сам увидел, как кент его малины позарился на милостыню
безногого нищего, тот сидел в каталке. Вся грудь в орденах. Он побирался на
Ленинградском мосту в Орле, с утра до ночи. Люди жалели калеку и подавали щедро.
Вор, увидев полную шапку денег, схватил ее. Калека поднял крик. И тут же был
сброшен с моста в реку — холодную, глубокую Оку. Вор не знал, что пахан рядом и
увидел случившееся.
Седой нагнал его тут же. Сдавил за горло онемевшей от злобы рукой, сорвал с
моста ошалевшего и кинул через перила моста в реку, следом за нищим. Кент утонул
сразу.
Седого тут же скрутила милиция, взяв в свидетели двоих прохожих, отчаянно
защищавших Земнухова. Они и на суде выгораживали человека, называя Сашку
настоящим мужиком, на каких Россия держится. Требовали отпустить немедленно.
Грозили жаловаться, если Земнухова осудят.
Их не остановило, что Седой был судим, нигде не работает, не имеет постоянного
места жительства.
Здесь же на суде, из обвинительной речи прокурора понял Седой, что еще год назад
он был реабилитирован, и его первое осуждение признано незаконным.
Может, потому, а может, угрозы свидетелей и поддержка всех присутствующих в зале
заседаний помогла, и в этот раз дали ему два года условных за то, что не
задержал преступника, а учинил над ним самосуд, оказал сопротивление милиции при
задержании. Но прямо из процесса выпустили на волю, пожелав не попадать никогда
в руки правосудия.
Седой тут же вернулся в малину. И уже не брал в нее всех желающих. Отбирал
строго, придирчиво. Каждого кента проверял на надежность и послушание.
В его многочисленной, дерзкой малине хватало всяких людей. Были и фронтовики. В
основном те, у кого семей не осталось, кто бы мог удержать, помочь, хотя бы в
первое, самое трудное время.
С расшатанными вконец нервами, с пошатнувшимся здоровьем, одинокие и усталые,
они никому не стали нужны.
По радио и в газетах о них говорили, как о победителях, героях жестоких боев. Но
это слова. Они, как шелуха, никого не согрели заботой. В жизни они навсегда
остались сиротами. Для них так и не кончилась война.
Фронтовики заливали свое одиночество водкой. И когда пьянели, забывались, с кем
теперь связались. Рассказывали шпане о боях, об однополчанах, о прошлом, от
какого не могли отойти памятью.
В дела ходили чаще навеселе. Так было проще перед сами
ми собой. Вернувшись, напивались вдрызг. Иные трезвели уже в милиции. Потом их
отправляли в зоны. Но там, через год- другой их доставала амнистия, и мужики
вскоре снова возвращались к Седому.
Никто из них не искал другой судьбы. Они не были в законе. И спрос со шпаны не
стал жестким.
Земнухов честно делил навар. Не обжимая никого в доле. Когда кто-либо из кентов
умирал — хоронили со всеми почестями.
Лишь спустя много лет откололся от малины Седого кент. Не слинял. Пришел к
пахану. И по-честному выложил все, как есть.
— Я на войне в окопах не отсиживался. Не тырился за спины однополчан. И тут не
могу линять, как падла. Тряхну, а там думай, что ты сам на моем месте сморозил
бы, — сел перед паханом абсолютно трезвым.
— В деле был. Тряхнуть хотели одну бабу. Наводка трехала — шикарно дышит. Я и
возник с двумя кентами как всегда, ночью, под сажей. Вмиг за горло прихватил,
задавить хотел ее. И в последний миг клешни успел разжать. Узнал ее. Фронтовая
сестра. Юлька. Она меня пять раз от смерти спасала. Любил ее молча. С самого
Сталинграда. Да только в Польше крепко задело. Думал не выжила. Искал бесполезно
целых пять лет. Потом забывать стал. И уж посеял о ней память, как на саму
напоролся.
— Короче вякай! — оборвал Седой, понимая, к чему клонит кент.
— Смылись мы тогда. Ничего не взяли. А через пару дней я к ней возник. Юлька
узнала.
— Подженился, что ли? — усмехнулся Земнухов.
— Ребенка ждет. Моего! Отпусти из малины!
— Вякал ей, кто ты есть?
— Нет! Трехал, что на стройке пашу.
— Если отпущу, чем займешься?
— Я же каменщиком после ремеслухи вкалывал. Туда и навострюсь.
— Долю из общака взял?
— Нет! Сначала к тебе возник.
— А если не дам бабки?
— Обойдусь.
— Секи сюда! Коль в откол вздумал, про нас память посей. Заруби это! Коли
заложишь — разборка будет короткой. Весь твой корень в ленты пустят кенты.
— Знаю! — пресек угрозы кент. И добавил:
— К тебе тоже своя судьба грянет… Никто в малине не
вечный. Если не в тюряге загнешься, в старости — свои кенты ожмурят. За слабость
И ненужность. Никто не вступится, не даст пайку. Только кровный поделится. И не
выгонит… Ищи свою судьбу, Седой, покуда не все потеряно…
— Я — законник. С меня и спрос другой. В откол лишь на погост слиняю. Другого не
будет. А ты хиляй к своей Юльке. Долю возьми. Ботни, я велел все отдать. Дыши
фраером! Дай Бог тебе мира! — пожелал вслед.
А вскоре еще один покинул малину насовсем. Мать сыскалась. Вместе с сестрами
вернулась с Урала в свой Курск. И его отпустил Седой с миром. Без упреков и
скандала.
На место отколовшихся тут же новых взял. В малину не затаскивал и никого не
держал в ней силой.
А вот выгонять из нее доводилось пахану не раз.
Вернулся из зоны быковатый Сачок. Пять лет в Воркуте парился. Попался на деле.
Только кенты успели сбежать, прихватив барахло и башли у кладовщицы
промтоварного склада, а Сачок помимо всего подметил, что баба недурна собой.
Завалил среди комнаты. А тут соседка заглянула. Поняла. Вызвала милицию, созвала
всех соседей. Те бабы так вломили, любая фартовая разборка мелочью показалась
бы. До самой зоны мужик ходил враскорячку. Ни говорить, ни опорожниться не мог
без крика. Все отбили, отдавили ему бабы.
Седой, когда Сачок вернулся из зоны, не взял его в малину, сказав при всех:
— Мы — воры! Отнимаем что нажить можно. Но честь бабью, имя — я с самого начала
не велел засирать никакому лидеру! Это не очистить и не купить! Такие вот падлы
жен фронтовиков паскудили! Где силой, а то и принужденьем, тыловики проклятые,
баб брюхатили. Семьи разбили! Судьбы окалечили хуже войны! За то своими клешнями
не одного замочил! И ныне не жалею! Чем ты файней мусоров, какие в лягашках баб
силуют? Уломать не могут, так под наганом иль кулаком своего добиваются. И не
только баб! За что мы их пускаем в куски! За опороченное мужичье звание, за
отнятое имя! И тебя, падлу, знать не хочу больше! Брысь с глаз — козел! И не
возникай в моей хазе никогда, если дышать хочешь! — выбил Сачка кулаком за
дверь.
— Круто взял пахан на повороте! — услышал за плечом.
— Чего?! — подскочил ошалело.
— Да то! Мы — живые люди! Чего ты из-под нас хочешь? Глянулась баба! Пришлась
кенту по кайфу! Что из того? Не убыло с дуры! — осклабился худой, лохматый
стремач.
— Шмар кадрите!
— Надоели сучки!
— Заткнитесь, паскуды! Вам ботаю! Не можешь уговорить, не бери силой! За такое
не то виновного, всю малину угрохают законники, прознай они, что лажаете
воровскую честь! Пока я — пахан, не трогать баб!
— Только девок! — услышал насмешливое и, выдернув говорившего, поддел кулаком в
подбородок так, что у того зубы наружу вылезли:
— Вон, падаль, из малины! — выбил в дверь орущий ком. Другие не захотели спорить
с Седым. После того кенты его малины не попадались на горожанках. Обходились
шмарами.
Случалось, выгонял за жадность.
По фартовому закону каждая малина помогала кентам, попавшим в ходку, и тем, кто
возвращался на волю. Освободившихся брали в долю. Неважно, что он из другой
малины. Если остался один, или несколько, их кормили, поили, одевали, давали
деньги, пока этот кент не определится, в какой малине и с кем станет фартовать.
Бросать на произвол судьбы запрещалось под страхом расправы на разборке. А и
участь эта могла настичь каждого.
Понимал это и Седой. Потому выполнял закон фартовых, какой далеко не каждому из
его малины пришелся по душе. И сбежавшего из колымской ходки Шакала упрекнула
шпана, что держит его на халяву, а фартовому, мол, такое должно быть западаю.
Подвыпивший Седой мигом отрезвел. Вырвал вякнувшего из-за стола. Не в двери,
через окно из хазы вышиб. Без доли из общака. Запретил на глаза возникать.
Шакал подолгу не задерживался нигде. И тут всего три дня в малине Седого
прикипелся. Когда своих сыскал, ушел тут же, поблагодарив Седого за доброе.
Кентов злым взглядом окинул, не предвещавшим ничего доброго. Изгнанного из
малины Седого тут же нашли стремачи Черной совы. Пустили на ленты. Не только за
пахана. Знали, жадный на подлость легко согласится. Засветить, предать сможет.
Вот и убрали от греха подальше.
Седой, узнав о том, ни разу не попрекнул Шакала.
Случалось Земнухову разнимать кентов своей малины, подравшихся из-за доли —
положняка от дела. Кому-то она показалась слишком малой. И тогда пахан трамбовал
сам несогласного. Вправлял мозги до того, что раздухарившийся кент вообще
отказывался от навара, определенного паханом.
В малине к Седому относились по-разному. Одни:— уважали, другие — боялись, были
и те, кто ненавидели пахана. Но деваться было некуда, другие малины не брали,
сколотить свою — не получалось. Вот и держались за Седого.
Ждали, когда самим пофартит и можно будет дышать без этого пахана.
Земнухов знал и понимал каждого. Вот так однажды, впервые за все годы, пустил в
ход не кулаки, как случалось прежде, а «перо» против троих кентов из своей
малины.
Обмывалась удача. Шпане такое не часто перепадало. Застопорили инкассаторов по
дороге в банк. Жирный навар сняли. И смотавшись в другой город, пили в
ресторанах, отмечая улыбку фортуны.
Седой, зная себя, сдерживался. Перебор хмельного для него был опасен. Этого не
замечал никто… Все считали, что пахан жрет водяру, как все. Тот внимательно
следил за каждым и приметил, как трое кентов смылись из-за стола, сделав вид,
что приспичило отлучиться по нужде. Оно бы и немудро. Но пахан, единственный из
всех, увидел, что пили кенты не водку, а минералку. Тут же заподозрил неладное и
немедля вышел из-за стола следом за кентами.
Те собрались уже уйти из хазы, прихватив с собой общак малины. Решили тряхнуть
своих и отколовшись фартовать отдельно где-нибудь на Севере, куда никогда не
возникала малина.
Они уже собрались в дорогу, когда на пороге появился пахан. Бледный, как снег,
он вприщур наблюдал за кентами. Те онемело уставились на пахана, не веря
собственным глазам.
Седой вырвал из-за пояса финач. Закрыл двери наглухо. Кенты бросились к окнам.
Но пахан опередил. Никому не удалось слинять…
Случалось, кенты уходили из малины, не сказав ни слова пахану, не требуя доли.
Вначале таких находили кенты. За откол убивали. Потом поняли, что поиски
обходятся дороже потери и перестали выслеживать отколовшихся, предоставив им
возможность дышать спокойно.
Не терпел пахан лишь одного, когда его кенты уходили в другие малины. После
ходок или крупных проколов шпана разбегалась, малина редела. И Седой психовал,
пока не восстанавливал прежнее число кентов.
Бывало, сманивал чьих-то налетчиков, домушников и стопорил. Случалось, у него
уводили из-под носа самых удачливых воров. И тогда на сходках трясли друг друга
паханы, трамбовались, пока другие паханы не растащут. Случалось, сход наказывал
кого-то. Но через год забывалось. И снова кочевали кенты из малины в малину.
Седой держал в руках своих кентов. Малина его постоянно обновлялась. От тис
первых блатарей, с какими пахан бежал
из зоны, остались всего трое. Но и те состарились, обессилели. Они обучали
своему делу новичков — совсем молодых ребят, прошедших колонии и тюрьмы. У них
было все, кроме опыта. Его они набирались в малине.
Седой никого не выделял. Он относился ко реем одинаково. Никому до конца не
доверял.
Все воры его малины имели свои слабости. Одни — дышать не могли без шмар, другие
— водку глушили не просыхая. Были и те, кто всему на свете предпочитал барахло и
при первом же случае переодевались по десятку раз на день. Имелись свои
сластены, обжоры, чифиристы и даже пара лидеров— шестерок. Их Седой давно бы
вытурил, но не было замены, таких же работящих честняг и чистюль.
Не имел слабостей лишь пахан. Он жил в малине, но оставался в одиночестве.
Женщины Земнухова не интересовали. Иногда, крайне редко, он заглядывал к шмарам.
Но через час уже покидал притон, никогда не оставался на ночь.
Ту, с какою был недолго, не помнил в лицо, не интересовался именем и возрастом.
Гасил свет. Никогда не ласкал. Справив свое — одевался, включал свет. Сунув
деньги в руки шмары, тут же молча уходил.
Потаскухи за это не любили Седого. Неохотно шли к нему, зная за ним все его
пороки.
Пахан думал, что проживет так весь свой век. Но… Судьба распорядилась иначе.
В одну из глухих ночей возвращался пахан с тремя кентами с дела. Тряхнули
железнодорожную кассу. Милиция «на хвосте» повисла. Свистками всю улицу
взбудоражила.
Седой бежал впереди. Кенты следом, по пятам неслись. И, как назло, ни свернуть,
ни спрятаться некуда. Громадные многоэтажные дома центральной улицы стояли
плечом к плечу.
Седой уже задыхаться стал, уставать, как вдруг приметил открытое окно на первом
этаже. Слегка подтянувшись — запрыгнул. Кенты, ничего не заметив, проскочили
мимо.
Земнухов слышал, как под окном пробежал наряд милиции, кто-то из них по рации
вызывал машину.
— Вы как тут оказались? — услышал голос совсем рядом. Вгляделся в полумрак
комнаты.
Завернутая в полотенце женщина только вышла из ванной, стоит в растерянности
перед постелью. Седого она случайно приметила и не могла понять, откуда он к ней
свалился? Если вор, то почему стоит на полу, возле батареи и не собирается
ничего брать? Если насильник, почему на нее не смотрит?
— Что вам тут нужно? — повторила вопрос погромче. Седой прижал палец к губам. В
это время под окном пробегали, топоча сапогами, милиционеры.
Женщина удивленно умолкла. Она не видела лица непрошенного гостя. Он сидел,
повернувшись к окну.
Женщина подошла к окну, хотела выглянуть. Седой, испугавшись того, что она сдуру
закричит, вскочил, закрыл окно и отодвинул хозяйку в глубь комнаты. Та, пятясь,
наступила на полотенце и оно мигом слетело с плеч.
Земнухов оглядел безукоризненную фигуру и обалдел. Он вмиг забыл о кентах, о
том, как и зачем здесь оказался. Он сделал шаг к женщине:
— Одна живешь? Где мужик твой? — спросил пересохшим ртом.
— Вам какое дело? Уходите! — указала на дверь.
Пахан тихо усмехнулся:
— Не бойся. Я не бандит.
— А чего от милиции убегал? Порядочным людям бояться нечего.
— Что ты понимаешь в том? — отвернулся к окну, за каким стояла глухая тишина
ночи. Он направился к нему, но женщина остановила:
— Выходите через дверь. Зачем же по окнам прыгать? Я одна живу. Вас у двери
никто не остановит. Ступайте спокойно, — предложила тихо.
— А ты красивая! И как такая баба одна живет? Ведь от тебя глаз не оторвать! —
оглядел женщину. Та стояла в растерянности, забыв о полотенце. Видно, никто не
говорил ей таких щемящих душу слов. А Седого будто прорвало:
— Нет в свете бабы красивее тебя! А уж я всяких видел! Ни одной не сравниться!
Чудо ненаглядное! Диво, а не женщина! Таким не пешком, таких на руках носить
надо, как сказку иль мечту!
Женщина хотела укрыться полотенцем, но Седой взмолился:
— Подожди. Побудь вот так, как есть! Дай налюбоваться хоть раз в жизни! —
подошел к женщине несмело, та, согретая восторгом, потянулась к Седому
неосознанно. Да и то сказать правду, годы одиночества не дарили радостей.
Ровесники давно семейными стали. А она так и оставалась одна.
— Голубка моя! — стиснул Седой в объятиях. Прижал к себе дрогнувшую от стыда.
Мигом погасил свет.
Утром, уходя от нее, обещал наведываться. И приходил. Целых два месяца, пока не
возникла нужда покинуть город, уехать подальше, хоть ненадолго.
Но судьба словно отвернулась от пахана, и подарив улыбку однажды, показала
оскал. И Седой попал в руки милиции. Потом в ходку. Там получил дополнительный
срок за убийство охранника.
Гнилозубый тот паршивец вздумал сделать из Седого тренировочную грушу. И молотил
его каждый день вместе с такими же негодяями, как сам. Седой терпел сколько мог.
А на третьем году не выдержал. Сунул пальцами в глаза сопляка, выдавил сразу.
Кулаком темя прошиб. И поддев на тупой носок ботинка, въехал в печень — в первый
и последний раз.
За свое отплатил, всего один раз. Сам втихомолку кровью харкал после каждого
занятия. Гнилозубый на нем новые борцовские приемы отрабатывал. Хвалился перед
сослуживцами, не понимая, что у каждого есть своя точка кипения и предел, через
какой никому нельзя переступать.
Охранника свои защищали. Седого — адвокат. Хотели расстрел дать. Но не
обломилась эта радость начальнику зоны. И Седого увезли в зону особого режима со
сроком в десять лет.
Оттуда он сбежал через пять лет.
Эту зону помнил всегда, даже во сне. Холодную и мрачную, как могила,
затерявшуюся в самом сердце Камчатки.
Сколько раз он там прощался с жизнью от холода и голода, от нечеловечьей
усталости, от кулаков бугров, отбиравших его кровную пайку и баланду.
Не раз, придавив к стене, брали на перо, требуя зарплату. Отбирали посылки,
оставляя крохи. Он понимал: в одиночку не справиться. Но и до воли не дотянуть.
И вот тут попал в эту зону Шакал. С ним Седой сбежал из зоны.
Когда вернулся в малину, кенты глазам не поверили. Седой — тоже. От прежней —
половины не уцелело. Одни в ходках, другие — откинулись, иные слиняли в откол
или в другие малины, кого-то милиция в деле размазала иль свои — за подлянку
замокрили. Седой слушал, как дышали кенты без него.
— В общаке — пыль! Нет ни хрена! В дела ходить опасно. Ментов прорва на каждом
шагу! И все лафовое — другим малинам отошло, чьи паханы на воле! Туда — не
сунешься, — жаловалась малина.
Пахан взъярился. И в первую неделю тряхнул универмаг и сберкассу. Знал, что
даром это не сойдет, что законники поднимут кипеж, сорвал малину, повез подальше
от разборок и сходов. И залегла малина на дно. Так велел Седой, отправившийся к
своей зазнобе, решил узнать, живет ли она по прежнему адресу. Ведь за все годы
ни одного письма ей не прислал, не сообщил, где находится, не просил ждать…
Он долго стоял под окном, всматриваясь, вслушиваясь. Но никто не подошел, не
открыл его.
Седой подошел к двери, позвонил. Вскоре услышал шаркающие шаги и надтреснутый,
старческий голос спросил:
— Кто там?
— Это я! Сашка! — вырвалось смешное.
Дверь открыли. На пороге двое изумленных стариков.
— Галина? Она давно тут не живет. Мы уж лет пять как поменялись с нею
квартирами. Эта — тесна стала. Да оно и понятно — семья. А нам — лишнее ни к
чему. Так и поладили.
— Семья? — удивился Седой.
— Двое детей у них. А вы что, не знали? Мальчик и девочка… Так когда же вы в
последний раз виделись?
— Дайте мне адресок! — попросил стариков.
— Она в другом городе. На Украине. Поближе к матери перебралась. Та за внуками
присмотрит, пока сами на работе. Да и дети, уж конечно, подросли.
— Адресок черкните!
— Вот этого без разрешения Галины сделать не могу. Напишу ей. Коли дозволит —
пожалуйте, а нет, не обессудьте.
Земнухов понял, что именно из-за него запретила баба давать адрес. А значит, не
хотела его видеть.
Двое детей? Когда успела? Может, старший от меня? Ну тогда она сказала бы! Хотя
кто знает этих баб! Вон она, не успел за мной след остыть, уже замуж вышла,
детей нарожала. Да и какая из них лярва ждать умеет? Никто. А и кого, ждать,
если сам не верил, что выживу? — сознался пахан сам себе и глухой ночи, решив
никогда не вспоминать Галину.
Но… Решать всегда было легче, чем выполнять. Галину он помнил все годы
заключения. Она помогла ему выжить и вынести все. Она всегда была рядом, словно
обещала ждать и любить всегда. Ей он был обязан волей и жизнью. Он верил, что
нужен и выстоял. Для нее. Но она не дождалась.
— Значит, не стоил ее ожидания, — сказал сам себе. И усмехнувшись, горько
размышлял:
— А кем я, собственно, приходился Галке? Она ни хрена обо мне не знала. Потому
не ждала. Не уверена была во мне, а бабы — надежность любят во всем, — думал
Седой, возвращаясь в хазу.
Он давил в себе память о той, какую подарила судьба, а он по-глупому потерял ее.
— Да что бы я с нею делать стал? Жениться не смог бы. Встречаться всю жизнь по
ночам, как со шмарой, она не согласилась бы. А и пронюхай кенты о шашнях, вмиг
замокри-
ли бы обоих. Припомнили б клятву на крови, когда в закон брали. Там слово дал не
обзаводиться бабой, — крутит Земнухов седой головой. И ругает себя последними
словами.
Он никогда ничего не рассказывал кентам о себе. О его переживаниях и заботах не
подозревала малина. Да и с ним говорили лишь о делах, наварах, долях. Других тем
Седой не признавал. Может, эта суровость, нелюдимость пахана отталкивали от него
молодых воров, какие едва набравшись опыта уходили в другие малины. У Земнухова
оставались старые кенты, каких не брали в других малинах. Они не ходили в
рисковые дела, сшибали по мелочам, трясли ларьки, киоски, за какие, если и
попались бы, на Колыму не угодили, не получили б серьезного срока.
Правда, и жизнь, в шпановской малине угасала. Пахан жил в тесной, сырой хазе. На
хорошую — не хватало. Все реже пили водку, чаще перебивались на вине. Да и еда
оскудела, износилось барахло. Седой это видел. Но поправить дела в малине никак
не удавалось.
Теперь даже старые кенты приуныли. И посидев на подсосе, уходили в откол,
предпочтя фарту бродяжничество.
Земнухов искал выход из тупика. И однажды, выйдя на улицу, решил присмотреться,
обдумать, почему, откуда она взялась эта непруха?
На улицах города было много народу. Они возвращались с демонстрации.
— Что за праздник? — вспоминал Седой. И так не припомнив, сел на уединенную
скамейку в сквере. Задумался и не увидел веселую компанию людей, идущих по
аллее. Вот они остановились.
Пожилой человек внимательно всматривался в Земнухова. Потом позвал неуверенно:
— Сашка!
Фартовый не пошевельнулся.
— Седой! — громко окликнул Земнухова. Тот вздрогнул от неожиданности, поднял
голову, непонимающе смотрел на человека, бегущего к нему со всех ног:
— Санька! Ну, конечно, это ты! Я сразу узнал тебя! Как хорошо, что нашелся!
Пошли со мной! Сегодня наш день, наш праздник! И нам никак нельзя разлучиться!
Смотри, как Победу нашу помнят!
Седой смотрел на мужика, суетившегося вокруг него, не мог понять, чего он хочет
и кто есть?
— Забыл меня, Седой? Вот это да! А я тебя всегда помнил. И твои Звягинки! Как ты
рвался к своим! Видно, теперь тоже память болит? Что делать, друг, все мы войной
мечены.
А Победа ко многим в дом пришла в траурной рамке. Такому не обрадуешься. Ну да
крепиться надо, как нам, мужикам, ; положено!
И по последним словам Седой узнал в мужике своего командира танковой бригады. И
назвал привычно, как в те, фронтовые годы:
— Семка! Ты? Живой? — обрадовался неподдельно, как единственному родному на
земле.
— Пошли ко мне! Сто лет тебя не видел! Отметим нашу радость, помянем наших — не
доживших. Земля им пухом, — тянул за рукав на аллею к притихшей компании.
— Неудобно, Семен! Да и со временем у меня туго. Как- нибудь в другой раз, —
отказывался Седой.
— У тебя что? Встреча с женщиной?
— Нет! — не сумел соврать Земнухов.
— Все остальное нынче побоку! Всякие деловые встречи отменяются! Этот день — наш
с тобой! Пошли, Сашок! — не. захотел отпустить Седого Семен.
Он привел Земнухова к себе домой. Познакомил с семьей, родственниками. Усадил за
стол. Ни о чем не спрашивал. Лишь воспоминаниями бередил душу и сердце.
До позднего вечера не отпускал. А когда тьма подступила к окнам, предложил
запросто:
— Хочешь — заночуй! А нет, подвезу тебя к дому.
— Не стоит. Я пешком. На ночь не мешает пройтись! — отказался Седой.
— Тогда провожу, — предложил настырно. И открыл шифонер.
Седой глянул и обомлел. На самом видном месте висела милицейская шинель. У
Земнухова перед глазами все завертелось.
— Это твое? — спросил заикаясь.
— Конечно! А ты как думаешь, где нынче наше место? Всегда в строю! Вот и я —
отдел по борьбе с преступностью возглавляю! — сказал уверенно. Но заметив
перемену в Седом, спросил:
— Что с тобой? Чего побледнел? Нездоровится? Пошли, приляжешь…
— Нет-нет! Скорей на улицу! — заторопился Седой, и выскочив из дома, хотел
исчезнуть не прощаясь. Но споткнулся о порог. Хозяин придержал за локоть и вышел
вместе с гостем во двор.
— Только бы кенты не засекли меня с лягавым! Попробуй, докажи, что воевали на
фронте вместе. Кто этому поверит, кто станет слушать? Прихлопнут без разборки и
все тут,-г
озирался Седой по сторонам, старался говорить тихо, втягивал голову в плечи.
Отворачивался от бывшего командира. А тот, как назло, не отпускает ни на шаг.
— Послушай Сань, давай на эти выходные махнем с тобой на рыбалку. Лады?
Красноперку половим! Уха из нее, скажу тебе, царская! Давай в субботу с утра!
Часам к десяти! Я тебя ждать буду! Договорились?
Седой заметил на противоположной стороне улицы две тени, скользнувшие так, как
ходят фартовые. Он поспешно согласился с Семеном. И зашагал подальше от
фронтового друга.
Он вовсе не собирался встречаться с Семеном, ездить с ним на рыбалку. Он давно
забыл, что это такое. И даже не- оглянулся на дом, чтобы запомнить его. Он
запетлял проулками, чтоб смыть с себя подозрение в связи с лягавым. Он материл
себя за дремучее незнание лягавой верхушки города.
Седой зашел в пивбар, где в поздний час собирались сомнительные компании.
Случалось, заглядывали сюда на огонек и воры, и даже паханы, чтобы «заклеить» в
малины «свежаков» — новых кентов — вернувшихся из ходок либо оставшихся без
малин.
Вот тут он и услышал о Черной сове, приехавшей с юга с хорошим наваром. Узнал,
что удалось Шакалу тряхнуть банк, и теперь его малина дышит «на большой».
Седой понемногу выведал, где прикипела Черная сова. И только хотел уйти из
пивбара, его придержали за рукав двое. Ухмыляясь, потребовали угощения.
— С хрена ли вам обязан? — изумился пахан, глядя на незнакомые, грязные лица.
— А кто с лягавым скентовался? Кто у него водяру хавал до ночи и нам помешал
тряхнуть паскуду? — осклабился мужик, вглядевшись в него. Седой дрогнул, словно
в зеркало посмотрел на самого себя.
— Отваливай, падла!
— Смотри, пахан, не обломится тебе дышать в фарте. Перекроем горлянку, — насели
с двух сторон.
— Эй! Блатяги! Матерь вашу! Чего к фартовому приклеились?
— Он фартовый? — рассмеялся седой мужик и тут же был сбит ударом кулака в висок,
отлетел под стойку, с какой посыпались пивные бокалы, бутылки, стаканы.
— Во, пидер! Весь кайф сломал! — пнул сапогом отлетевшего чей-то стопорило. И
ухватив за грудки, вышиб из пивбара кулаком. Седой тем временем второго выволок,
трамбовал в темноте.
— Все равно лажану падлу, вытащу на разборку! — грозился мужик. И вывел из себя…
Седой не терпел угроз. Вытащи финач, угомонил обоих и тут же ушел подальше от
пивбара.
Вернувшись в хазу, он рассказал кентам о том, что слыч шал о Черной сове.
Добавив, мол, недаром Шакал со своей малиной не вылезает из ресторанов. А в
хазе, как надо понимать, никого, кроме шестерок. Их убрать — пара пустяков.
Кенты, услышав о жирном наваре, за каким не нужно лезть в банк, рискуя головой,
вмиг загоношились. Стали жребий тянуть, кому Черную сову наколоть. Седой
подзуживал, подзадоривал шпану. Мол, этих башлей на годы хватит.
Когда все сорвалось и вместо навара малина должна была выкупить кентов у Шакала,
Седой понял, его фарту пришел конец.
Шакал, забыв все прошлое, вытащил Седого на сход паханов и там его лажанул при
всех.
— Паскудный козел! — назвал Земнухова новый маэстро и предложил выкинуть из
паханов и закона.
— Прикокать падлу! Кинь его стопорилам!
— Пусть шестерки пробьют ему жопу!
— Скрутить ему кентель! — ревел сход, в каком потонул дикий крик Седого, какому
вырвали меченый пахановским перстнем указательный палец.
Осмеянного, избитого, окровавленного, его вышибли со схода пинками, как старого
пса, ставшего ненужным своим хозяевам.
Седой едва дополз до хазы. Малина перестала замечать его. Кенты успели узнать о
случившемся и похоронили в памяти заживо.
Седой сидел у окна, вспоминал всю свою жизнь. В потемневших глазах то слезы
стыли, то боль, кричала. Не было радости в судьбе. А к чему жил? Зачем? Даже
себе не нужен! Сдохни — никто не похоронит! Помирай — глотка воды никто не даст!
А ведь кому-то обрывал жизни. Может, они очень нужны были, не то что его судьба.
О ней никто добрым словом не вспомнит. Вот разве кенты? — оглянулся на шпану,
забывшую позвать к столу недавнего пахана.
Шпане сегодня где-то обломилось. На столе колбаса, селедка, сыр, несколько
бутылок водки. Ему не предложили даже хлеба.
— Так тебе и надо, старая параша! Не думал о старости и все просрал, чтобы вот
этим дышалось легче. Зато они умней! — упрекнул себя Седой.
Ему вспомнилось, как на недавнем сходе, подойдя к нему, Шакал сказал:
— Паханы? Я больше всех вас имею право на шкуру старого мудозвона! Он, собачья
вонь, на общак моей малины зарился! За такое мокрят без трепу! Но… Не единым
днем дышим. И помню его доброе! Оно было! Потому выкупаю у вас кентель этой
падлы! Пусть хиляет сучий выкидыш живым! — выложил перед маэстро несколько пачек
кредиток.
— Вот и все, чего стоила моя жизнь, — сказал Седой тихо и добавил:
— Зачем же я выжил в войну?
Он не увидел удивленных взглядов кентов. Шпана не замечала раньше, чтобы Седой
говорил сам с собою, да еще при этом плакал. И просил у них прощения.
Земнухов вдруг отчетливо увидел себя в горящем танке. Пламя пляшет вокруг, огонь
лижет щеки, плечи, шею. От жара сдавило грудь. Нечем дышать, кругом пляшет
смерть. Она так же одинока, как Седой. Она тоже белая. Видно, не одну войну
перенесла. И ей тоже жизнь опаскудела. Но ведь война не кончилась. Кто-то должен
оборвать, прекратить ее, чтоб не гуляла смерть вокруг живых.
Седой вскакивает на окно. Он ничего не видит внизу. Он хочет выбраться из танка,
пока тот не взорвался. Ведь остается в запасе совсем немного…
Он прыгнул из окна, не осознавая, где мнимое, где реальность. В голове все
перемешалось, спуталось.
Адская боль в сломанной ноге была воспринята им за взрыв, настигший его. И
Земнухов вскоре потерял сознание.
Пришел в себя уже в психбольнице.
Смирительная рубашка черным саваном спеленала руки. Яркий свет бьет в лицо.
Вокруг люди. Незнакомые. Вот его развязали.
— Морфий приготовьте. Ампулу. Для укола! — слышит Седой. И не думает, что это
для него.
— Готово, доктор! — доносится до слуха.
Земнухов не почувствовал укол. Он вскоре уснул. А пришел в себя, когда в палату
заглянуло утро.
— Вот и встретились! — услышал внезапное. И увидел сидевшего рядом с койкой
Семена.
— Эх, Санька, а я так ждал тебя, чтоб на рыбалку вместе сорваться! Что ж ты меня
подвел? — мягко упрекнул Седого бывший командир.
— Семка, не надо! Кой я тебе друг? То раньше было. Давно. Теперь меж нами не
ров, целая пропасть. Ее нам уже не одолеть. Мало жизни осталось. Ничего не
повернуть. Уходи!
— Почему?
— Враги мы с тобой! Лютые! До самой смерти!
— Во псих! Ты что, Санька? А ну, припомни, кто тебя из окна выкинул?;
— Никто! Сам!
— Зачем? — удивился Семен.
— Так, сам! Так лучше! Отваливай! — застонал Земнухов, обхватив руками голову,
загудевшую от боли.
— Он в себе? — спросил Семен врача. Тот глянул в глаза Седого.
— Пока — да. Но не перегружайте…
Через несколько дней, когда Земнухову полегчало, его снова навестил Семен.
— Я знаю все, как жил ты после войны. Не верилось своим глазам. Другой бы кто —
не так обидно было б. Эх, Санька! Думаешь у меня все гладко обошлось? Ведь
первую семью война отняла! Тоже один был! И поверь, не легче твоего пришлось. И
без угла, и без куска насиделся! Потом работать стал и учился. В вечерке. У меня
ж всего с6мь классов было, когда на войну взяли. Так я наверстал! Школу,
институт, потом академию закончил. Сам себя за шиворот брал. Поверь, трудней
всего себя заставить. Но сумел.
— А на хрена? Что ты от того имеешь? Продышишь или схаваешь больше меня? —
оборвал Седой.
— Конечно, нет.
— Ну и захлопнись! Не фалуй за плакаты! Была война! А вот победа не для всех
наступила! Ее мы по-разному встретили! — отвернулся Седой.
— Но кто же в этом виноват? Тебя же реабилитировали!
— Спасибо! Мать вашу! Может, мне эта реабилитация семью вернет? Или те годы на
Колыме? Хрен по уши! Как сявку, каждый охранник мордовал. Ребра срастаться не
успевали! Или это спишешь реабилитацией? Да я и теперь забыть не могу
пережитого. И оправдание мне до жопы! Я сам знал, что не был виноват.
— Не ты один такое пережил. Многие были осуждены незаконно. Но мало кто из них
рассуждает, как ты. Ошибки исправляются. Живыми. И ты средь нас. Нельзя
исправить гибель. Мы с тобой войну прошли.
— Не фалуй. Наслышался я агиток в зонах! — отмахнулся Седой.
— Что ж, хрен с тобой! Я думал, проверенные Днепром и Одером не станут гадами.
Жаль, что погибли лучшие! А выжило дерьмо! — встал Семен со стула.
— Тебя в зону не отправляли. Ты не знаешь, что это? Вот и заткнись! Посмотрел
бы, как ты запел, оттянув пяток лет на Колыме, а на шестом услышал, мол, извини,
ошиблись… Куда б ты послал эту законность? И кого назвал бы дерьмом?
Никто не оправдывает то время. Но, к сожалению, его не вернуть, не исправить в
полной мере. Но ты в последующем доказал, что первое осуждение не было
случайным! Иначе не скатился бы к шпане. Война заставила учиться выживать. А ты
убивал выживших. Так кто ж ты после всего? Хуже немцев, с какими воевал. Будь
живыми наши ребята, послушал бы я их теперь. Ох и оттыздили б тебя. За все. За
войну, за то что сумел предать память и самого себя продал всякому дерьму за
бутылку. Кто ж ты после всего?
— Ребята на войне погибли. А я в зоне загибался. Еле выжил.
— У тебя была возможность все исправить. Человеком жить.
— А для чего? Какая разница, кем я доживу? Если фронтовика назвали преступником,
кто поверит, что завтра такое не повторится снова? Втоптанного в грязь у нас не
отмывают! — отвернулся Седой.
— Скажи, Санька, неужели ты ни разу не пожалел, что выжил на войне?
— Много раз! — выдохнув, признался честно Земнухов.
— А если б встретил меня в форме — на улице, подошел бы?
— Ни за что! Это верняк! Лягавые западло для нас!
— Ну, а вдруг велели бы убить меня?
— На это стопорилы, мокрушники имеются. Фартовые — не мокрят.
— Не ври! Мы — исключение для вас. И фартовые убивают. Как ты! Скольких
милиционеров убил?
— Ты лучше спроси, сколько раз они меня хотели прикончить? — уходил от прямого
ответа Седой.
— Так все же, убил бы?
— Не знаю, — припомнился бой под Ельней, когда весь экипаж танка едва успел
выскочить из горящей машины. Тогда Семен, ох и вовремя, втолкнул Седого в сырой
окоп, сам сверху прыгнул, прикрыл собой от осколков, а может, и от смерти.
— Нет, не смог бы. Тебя — нет! — уставился в стену горячими, сухими глазами. И
снова в памяти тот день освобождения Орла. Немецкая батарея была со стороны
кладбища, сметая каждый танк, рискнувший войти на Ленинградский мост. И тогда
Земнухов подсказал, как обойти с тыла.
— Ты оставайся! Мы вдвоем с Генкой. Авось, проскочим, если повезет. Тебе завтра
своих увидеть надо. А значит, выжить. Тебя ждут. Меня — уже нет, — вскочил
командир в танк…
— Смог бы, Сашка! Власть малины сильнее памяти. Война прошла и забылась. А
фартовые убить тебя могли, если б отказался, — грустно подытожил Семен.
— Кончай за душу трясти! — не выдержал Седой.
— Да нет, память твою разбудить хочу, прежнего Саньку, какого я знал!
— Зачем? Считай, откинулся я!
— Э-э, нет… Смерти твоей нынче многие ищут. По всему городу фартовые
выслеживают. Не понимал я, зачем им нужен, чего от тебя хотят? Но, когда двоих
шестерок взяли, закрыли в одиночках, те и признались, что убить тебя вздумали
законники. Весь Ростов на уши поставили. Но ничего у них не выгорело. Даже сюда
пытались проскочить, но сорвалось, — рассмеялся Семен.
— Зачем я им сдался? — не поверил Седой.
— Провалы у них пошли. Серьезные, как никогда. За эти дни мы многих воров взяли.
Прямо в хазах…
Седой недоверчиво хмыкнул:
— «На понял» берешь?
— Ничуть. У вас сход прошел здесь. Мы о том поздно узнали. Зато разъехаться
сумели помешать.
— Какая разница? Этих возьмете, а завтра — новые прихиляют.
— И тоже будут по тюрьмам кочевать, по зонам: За что их так ненавидишь? Ведь они
тебя не сажали на Колыму!
— А я при чем? Всяк сам свою судьбу выбирает. Малина — не ментовка, силой никого
не затаскивают, — отпарировал Седой.
— Ну, тебя обидели, слабак оказался! А эти — молодые — зачем приходят? Работать
не хотят, как все люди. У слабых отнимают, у доверчивых и старых.
— Слабые! Попал бы ты в дело, не вякал бы такое! Охрана в банках, сторожа да
инкассаторы так слабы, что фартовых гробят. Вон в сберкассе Курска случай был.
Трехали законники. Возникли под шабаш. Когда бабье башли готовили на инкассацию.
Ну, вломились втроем. Трехнули, чтоб бабки выложили. И подскочили забрать мешки.
Так одна из курвищ, как прижала фартового к стойке, он чуть душу не посеял.
«Перо» выронил, она на него наступила. А фартовому все муди своим коленом
разбрызгала. Вторая — чернильницей мраморной башку раскроила. Третий видит, дело
невпротык, за кентов и ходу, пока мусора не возникли. Вот тебе и слабаки! Иль в
Иваново случай был. Баба домушника в сиськах задушила! Он с нее спящей цепочку
снять хотел. Она, лярва, проснулась не ко времени. Домушники всегда недомерки и
доходяги. Она и воспользовалась. Вдавила в сиськи мурлом. Когда тот задохнулся,
вышвырнула в окно. Кто ж слабак?
— А ты попадался? — хохотал Семен.
— Иначе не гремел бы в ходки.
— Нет, без ходок? Ловили бабы?
— Случалось. С кем прорухи не бывает?
— Били?
— Конечно, трамбовали! Еще как! Но лягавым не засветили. Это верняк…
Семен сморщился, как от зубной боли.
— Да ты не гоношись! Все вас так лают.
— Ну, а если я тебя буду сволочью звать? Ведь вас и похлеще люди называют. В
суде, верно, наслышался! Так вот и ты язык придержи. Кто эти все? Ваши банды?
Уголовники? — багровело лицо.
— Среди наших уголовников падлюк и воров меньше, чем в твоей кодле! — не
сдержался Седой.
— Однако мои негодяи стоят у дверей твоей палаты, охраняя тебя от твоих корешей,
чтобы не убили!
— А зачем? Без понту! Сними свой почетный караул. Он не столько оградит, сколько
засветит.
На следующий день Семен снял охрану по просьбе Седого. А вечером под дверь
палаты кто-то подбросил записку. В ней была угроза фартовых расправиться с
Седым, как только представится случай. В записке говорилось, что он приговорен к
смерти, поскольку нарушил клятву на крови.
Если б не почерк, Седой бы не поверил. Подумал бы, Семен подстроил. Но в записке
был условный знак того, кто ее писал. Этого милиция не знала.
Он понял, выхода нет. Его найдут всюду. С ним разделаются жестоко. Не знал лишь
— за что? Может, это последнее и дало толчок на робкое согласие попробовать
изменить свою судьбу.
Теперь они с Семеном работали до поздней ночи, забывая о сне и отдыхе.
— Когда Земнухов узнал о спешном отъезде из Ростова Черной совы, он сразу
сказал, что искать эту малину теперь нужно лишь на Севере.
— Везде они засветились. По России их за воровство в банке ищут. В Крыму — за
шоферов. В Ростове облавы выдавили. Конечно, могли бы податься в Ленинград иль в
Прибалтику. Но много новичков. Свежаков, по-нашему. Их лучше натаскивать
подальше от больших городов, где своих фартовых полно. Ни один пахан, а тем
более Шакал, не станет рисковать малиной из-за свежаков. Те были в делах. Но в
плевых. В клевые — не брали
— Как фартует Шакал? О почерке его малины расскажи.
О всех слабых и сильных сторонах. Что знаешь о его банде, что видел и слышал,
все вспомни, — просил Семен и слушал Земнухова, запоминая все. Он возмущался и
удивлялся. Он слушал, как легенду. Порою трудно верилось. Но ведь речь шла не об
обычной малине, о самой Черной сове, о какой от Мурманска до Магадана быль и
небыль плела людская молва.
— Переодеться в баб, старух, изменить хари им что два пальца обоссать. Их
невозможно узнать на улице. Эти на ходу умеют маскарад менять. Никогда, нигде не
возникают с голыми клешнями.
— Ну, а как тогда узнать их? Вот если бы тебе понадобилось найти?
— Шмонал бы три города: Новосибирск, Хабаровск, Владивосток. В последнем —
верняк, возникнут. А в порту есть пивбар. На набережной. Вот там кропленые
сбывают. Барухи целыми днями толкутся. Рыжуху толкают фаршманутую. Все
фарцовщики и налетчики хоть раз в день возникают в порту. Не без дела, понятно.
А у Шакала — кропленые. Их сбыть не удалось. Он туда намылится, как пить дать.
Ему — дозарезу! Там его шмонать надо. Накроете, глаз не спускайте! Этот ферт у
самого черта из-под шнобеля слиняет.
— Да, но как его узнать, если он, как говоришь, столь хитер, мерзавец?
— Приманка нужна. На какую клюнет. Тогда-твоя взяла!
— На что может польститься?
— Не на мелочи.
— Ну, а слабые места его малины?
Седой задумался. Он перебирал в памяти все. Известное ему самому и услышанное.
Лицо его временами светлело, но подумав, он отвергал и вспоминал вновь.
— Безухий сявка — не примета. Треть шпаны уши проиграли в рамса.
— Есть слабина у Шакала! — вспомнил Седой о Задрыге и рассказал Семену о
девчонке.
— Уж и не допру, как ее облаять эту падлюку, всякое о ней вякали, но слабой ее
не назовешь. Любая змея против этой сикухи, просто голубка ненаглядная. Ее даже
фартовые ссут. Стерва — не зелень! Паскудней этой параши свет не рожал! —
заматерился Седой. И добавил:
— Хитрей самого черта! Злей целой своры ментов! — прикрыл рот рукой, виновато
глянув на Семена. Тот мимо ушей пропустил. Задумался об услышанном.
— Ее Сивуч учил. Несколько лет. А о нем ты, наверняка, знаешь немало.
Семен головой кивнул согласно. О Сивуче знали все милиции.
Уж если этот взялся растить фартовую «зелень», добра не жди. Всходы не завянут.
И через пяток лет заявят о себе во весь голос. Да так, что милиции жарко будет.
— Он ее больше всех шлифовал для малины. И уже в дела брал. Обкатал и доволен. А
Шакалу никто потрафить не мог, — напомнил Седой.
— Родная кровь! — усмехался Семен.
— Шакал родства не признает. В его утробе сердца нет. Души — тоже. Вместо них —
кредитки. Его все фартовые ссут. Он — паскуда — если вздумал замокрить, свое
доводит, — вздрогнул Седой, вспомнив подкинутую в палату записку. Не по себе
стало.
— Что это с тобой? — заметил Семен.
— Да мелочи. Нервы шалят, — вытер крупный пот со лба.
Вскоре из Ростова во Владивосток пошел толстый конверт в угрозыск города. А в
Ростове по ночам вылавливались малины. Фартовые и шпановские. Милиция города
охотилась за новым маэстро, перекрыв, как ей казалось, все пути и дороги из
Ростова.
Хазы и притоны, все пивбары и рестораны, все злачные места — от барахолки до
кладбища, были взяты под постоянное наблюдение. Одну за другой увозили малины
зарешеченные поезда в места необжитые, холодные, дальние.
Теперь уж не один Шакал, все фартовые Ростова были уверены, что засветил их
Седой, искали его, чтоб замокрить лично, рассчитаться своими руками за все
горести, но нигде не могли найти Седого.
Из психушки его увезли. Это точно установили законники через шестерок и
санитаров, какие поломавшись, для понту, за хрустящий стольник рассказали, что
держали Седого в одноместной палате. Лечили уколами, таблетками, токами,
ваннами. Никто его не трамбовал. Никого к нему не подпускали. Даже охраняли,
неизвестно от кого. А через несколько дней, поздней ночью, увезли в крытой
машине. Кто и куда? Никто ничего не знает.
Фартовые сбились с ног. Пока маэстро не подсказал им проследить за ментовкой.
Законники, а их в городе осталось совсем немного, вздумали узнать о Седом от
самих милиционеров.
Вечером, когда все машины разъехались по вызовам и на задания, а в дежурной
части остался один оперативник, к нему
ворвались трое стопорил. Закрутили руки за спину, приставили нож к горлу, въехав
для убедительности кулаком по печени, потребовали:
— Ботай, лягавая падла, где Седой?
Старшина головой закрутил, сказал, что не слышал, не знает такого. Тогда у него
вырвали ключи и проверили все камеры. Седого нигде не было.
— Притырили в кабинете суку? — царапнул горло нож. Оперативник мотал головой
отрицательно. Но стопорилы не зря прихватили с собой бензин. Они залили пол,
лестницу, ведущую на второй этаж, дежурную часть и подожгли, решив, что, кроме
как в милицию, Седому некуда деваться. Оглушив дежурного, выскочили на улицу.
Огонь быстро разрастался. Стопорилы наблюдали с противоположной стороны улицы за
обеими выходами из милиции. Но… Вскоре подъехала пожарная машина, быстро
справилась с огнем, скорая помощь увезла дежурного, покинувшего милицию после
того, как туда вернулся наряд милиции.
Седой нигде не появился. Даже намека не увидели. Зато в эту же ночь оперативники
взяли еще две малины и тут же отвезли в тюрьму всех законников и шестерок,
стремачей и налетчиков. Никого не забыли в хазах, даже барух и шмар замели
заодно.
Седой допоздна засиживался с Семеном перед картой, на какой отмечал
предполагаемые гастроли малин, отдельных фартовых и самого главного своего врага
— нынешнего маэстро.
— Почему ты так уверен, что он теперь в Одессе? — удивлялся Семен.
— Дороги ему, конечно, не заказаны. Он, если моча в кентель долбанет, может куда
хочешь свалить. Но на хрен приключения на жопу искать и рисковать собой? Маэстро
в дела не ходит. Его все малины держат. Не для дел его сход выбирает. Чтобы он
их главным кентом был. Судьей и советчиком, их правдой и яростью. У него башлей
больше, чем в любом банке. Всякая малина положняк ему дает. Потому в дела — на
риск он не сфалуется. Какой ни на есть, а кентель со шкурой — одни. Вот и
приморился в Одессе. Это его город. Он там с пацанов фартовал. Был паханом
городских малин. Ну, а когда в Ростове его выбрали, так он на сходе вякнул, что
дышать станет в Одессе. И после того, как тут фартовых мести стали, он, верняк,
слинял.
— Не мог уйти! — не поверил Семен.
— Запросто! Вон я с барыгой как лажанулся? Хотя, казалось, все мы с тобой
обмозговали. Фартовые хитрей оказались. И, как сам убедился, выдавили из барыги,
кто его настропалил? Теперь они меня по всему Ростову дыбают.
— Здесь тебя никто не найдет, — усмехался Семен, приютивший Земнухова в
маленькой комнате своего дома. Чтобы найти тут бывшего фартового, нужно было
подняться на второй этаж, пройти через три комнаты и знать условный стук. Окно
этой комнаты закрывалось ставнями.
Может, и возникли бы у Семена осложнения на работе, узнай начальство, кого он
пригрел в своем доме. Но результаты работы за последнюю неделю заставили
замолчать моралистов всех званий.
Семен рассказывал Седому, кого взяла милиция, о всех событиях в городе.
— Поприжали мои ребята хвосты фартовым! Поутихла и шпана. На улицах круглые
сутки патруль дежурит, вместе с дружинниками. Чуть где шум услышат, враз туда! И
— порядок! Не только воровство и грабежи, драки прекратились. Люди спокойно жить
стали. Не боялся детей на улицу отпускать, сами выходят! Ожили! — радовался
Семен.
— Рано празднуешь! Фартовые и шпана без бою, просто так не сдаются. Бойся
затишья. Оно — временная передышка, — предупреждал Седой.
— Полторы сотни гадов в тюрьме сидят, суда ждут. Разве мало?
— На сход больше тыщи прихиляли. Что это — полторы сотни?
Мелочь! Да и взяли мелкоту. Всего троих паханов, два десятка фартовых,
оставшиеся — перхоть, гавно! Солидные паханы — смылись. Теперь их не накрыть.
Вместо попухших новых нагребут.
— А кто, как ты думаешь, не успел смотаться?
— Много на дно залегло. Ждут, пока шухер уляжется. Чтоб смотаться иль в дела
намылиться. Это верняк. Потому, не на патруль полагайся. Он — не кайф! Ты лучше
пошли своих к пивбарам, на железную дорогу, в рестораны — только не в форме. И,
главное, не упускай из вида набережную, таксопарк, аэрофлот и окраины, где
алкаши дышат. Туда смотри.
— А где в Ростове может укрыться маэстро? — спросил Семен.
— Да нет его здесь!
— В Ростове он! В том-то и дело! Но никак не можем напасть на его след! Вот если
бы его нам взять! — выдал Семен заветную мечту.
— Тебе, мать твою, дышать опаскудело? Не дергайся! По
сей о нем память! Одно дело — я вякаю, мне терять нечего. Тебе к нему не стоит
возникать. Он — не сам по себе капает. У него на стреме такие кенты — тебе и не
снилось! Все, как один — мокрушники, стопорилы. С ними сам черт не справится. С
перьями и пушками. Им из фраера душу вышибить, что два пальца обоссать. Я их
видел! Не лезь! Как кента прошу. Твои лягавые слабы против них. Это без трепу.
— Тогда не пугай, Санька! Меня уже ничем не удивить. Иль мало мы с тобой видели
на войне?
— Тогда другое время было. Здесь ты сам нарываешься на жмура. Маэстро — не
просто пахан. Он — все! И если его заметешь, во что я не поверю, свой колган
посеешь. Фартовые тебя тут же засекут, средь бела дня разборку учинят. Меня до
помутнения рассудка довели. Тебя за маэстро в пыль сотрут. Ты не выдержишь
мучений. Я знаю, на что способны законники. Не суйся, прошу тебя!
— А почему думаешь, что я попадусь? Если маэстро возьму, его так охранять будут!
Ни с кем из своих не сможет увидеться!
— Прежде всего, тебя надо будет охранять. И ему не обязательно видеться с
фартовыми. В тюрьме всяк знает, как и без слов переговорить. Тюремная азбука
перестукиваний известна всем. Через полчаса вся тюрьма узнает о маэстро. А через
час — все фартовые Ростова. И тогда! Не в клочья, в пыль разнесут тюрьму, вместе
с охраной и собаками! Я не темню, — вздохнул Седой тяжело. — Мне больше других
хотелось бы, чтобы вы его взяли. Я первым от него перенес все! Такое, чего я
никому не простил бы. Будь он фартовый или просто пахан малины, кентель бы ему
скрутил давно. Но… Маэстро мне не достать, клешни короткие. И тебе не советую…
— И все ж! Вот если б нужно было его найти, где б ты его искал?
У Седого дыхание перехватило от возмущения.
— Ну, не кипи! Где его находят кенты?
— На барахолке, где ему навары отдают, или вечером — в ресторане. Там он до ночи
с кентами гудит, — обронил Седой, безнадежно отмахнувшись.
— В ресторане? — удивился Семен.
— В отдельном кабинете, как всегда. Он там с кентами бухает.
— Как он выглядит? Какие у него особые приметы? — поинтересовался Семен.
— У него на груди дельфин выколот. Штурвал в хавальнике несет. На штурвале
надпись — Колыма.
— Я что ж, по-твоему, всех мужиков в ресторане раздевать буду? — рассмеялся
Семен.
— Этого не разденешь. Он живым в руки не дастся.
— Внешне как выглядит?
Седой подробно описал маэстро. Семен запомнил накрепко даже мелочи. А на
следующий день вызвал к себе начальника уголовного розыска, долго говорил с ним
с глазу на глаз, взвешивал каждую деталь.
— Спешить не надо. Подготовьтесь основательно. На задание возьмите самых
опытных. И не забудьте подсказку Седого. Организуйте девочку! — рассмеялся
Семен, напомнив, что все должно быть натурально сыграно.
— Не спешите брать в субботу. Если не получится, оставьте на воскресенье.
А через три дня старшего оперативника избила шпана возле ресторана. И затолкав
его в контейнер с мусором, захлопнула крышку, оставила до утра. Когда его
доставили в больницу, оперативник долго ругался. И лишь потом сказал, почему им
не удалось взять маэстро:
— Не стоило нам идти в ресторан. Фартовые умнее и осторожнее нас всегда были. И
не клюнули. Они всех оперов в лицо знают. Иначе бы не сорвалось…
— Не в том промах. Хотя, если хоть один знакомый мент был в той компании — дело
швах. Но оперов не стоило посылать. Фартовые их с первого взгляда раскусят. По
трепу, по поведению, по хамовке, какую они заказали, по тому, как
рассчитывались, как держались с официантками, какие и засветили фартовым. Ведь
мусора чаевых не дают. Это все знают. За это не терпят их нигде и лажают при
первом случае.
— Официанты… Да, я о том не подумал, — сознался Семен и добавил:
— Они, понятно, всех наших ребят знают, — сник сразу, умолк.
— Не с того надо начинать. И вашу деваху, размалеванную под шмару, законники не
увидели. Она ж, небось, из ваших?
Семен согласно кивнул.
— Ну вот! Такая под гимн вскочит со стула и будет по стойке смирно стоять. Кроме
марафета, что у ней от шмары было? Да и не пойдет в кабак с ментами уважающая
себя потаскуха. Она знает, кого клеить. А законники, даже будь она шмарой, не
стали бы кадрить ее от целой своры мужиков. Зачем кентелями размахивать? В
кабаках сучек до отвала!
Семен вздыхал, слушал, запоминал.
— Одинокую надо. Романтичную, скучающую. Чтоб барахло на вашу форму не
смахивало. Декольте до сисек. Юбка в обтяжку, с разрезом до самой задницы. И
чтоб она от колен на ладонь короче была. Чтоб туфли модные, новые. И плясать
умела б жарко. Чтоб веселой была, умела б петь, хохотать. Вот таких блядей
фартовые уважают, у каких жопа, как паровозный тендер, а буфера — с кентель. И
торчком… Чтоб зенки сверкали, а с хари — улыбка не линяла.
— Да где ж я такую сыщу? Кто ж эдакую шлюху примет в органы на работу? —
возмутился Семен.
— А осведомительницы? Средь них всякие есть! — подсказал Седой.
Семен перебирал в памяти всех. А Земнухов говорил:
— Но смотри. Надежная нужна! Она хазу указать должна. Знай, маэстро, как ботают,
шмарами избалован. Оно и верняк! Одессит. Они смалу — кобели! И этот не на
всякую клюнет. Он чаще всего в зашторенном кабинете примаривается. В самом конце
зала. Ему оттуда всех видно. Если какая баба по кайфу, он наблюдает за нею из-за
занавески. Потом, через официантку, посылает ей бутылку шампанского и шоколад, с
приглашением разделить компанию, вместе поужинать, провести вечер. А там и ночь…
Ему не откажут.
— Нет у нас таких, — сказал Семен.
— Так уж и нет? А студентки юрфака? Они ж с визгом на это пойдут.
— Да что ты? Кто из них согласится?
— Ты же там преподаешь, вот и подбери кралю, повиднее из себя! Она маэстро
облапошит чище оперов. Еще файней, если их двое иль трое — на выбор будут.
Подбери. Я их живо научу, как с законниками дышать. Они — практику получат,
зачет сдадут тебе. В кабак на халяву сходят. И с фартовых пенки снимут.
— А если к ним на хазе приставать начнут фартовые? Кто их защитит?
— Иль ты меня за дурака держишь или о снотворном память посеял?
…А уже через день привел Семен к Седому девчат студенток. Четверых, самых
красивых.
— Файная наживка! — оглядел студенток Седой и, быстро проверив на
сообразительность, реакцию, одну забраковал. С троими два дня в упор занимался.
А на третий сказал другу, что учениц можно отпускать в дело.
— Жаль, что приходится вот так поступать. Но иначе — не получается. Много раз
пытались взять фартовых в ресторане. И мимо… Двоих, а то и больше оперативников
гробили законники. Наши боялись стрелять в ресторане. Чтоб посетители не
пострадали. Законники на все плевали. И часто уходили без царапины. Но хватит.
Пора очистить от них город! Вот вам на ресторан! Держите и держитесь! Вы — вся
наша надежда! Смотрите! Ничего не забывайте. Все, как условились! — напутствовал
Семен студенток, одетых и размалеванных до неузнаваемости.
Седой уже через час нервно заходил по комнате. Курил папиросы одну за другой.
Все прислушивался, когда вернется в дом Семен, получится ли у девчонок, клюнут
ли на них фартовые, все ли спокойно обойдется для студенток?
Он нервничал. Ему хотелось хоть одним глазом увидеть, что делается сейчас в
ресторане, где Семен? Но в доме тихо, лишь мать Семена возится на кухне — на
первом этаже.
Время медленно шло к полуночи. Земнухов выглядывал в окно, но за ним ничего,
кроме глухой ночи и неспешных шагов редких прохожих.
В доме все угомонились, легли спать, только Седому нет покоя. Он не может
уснуть.
Отсчитывают часы на стене уходящее время. Никогда не казалось Земнухову ожидание
столь утомительным. Но вот осветил улицу свет фар машины. Она остановилась под
окном. Седой увидел Семена, тот глянул в окно, и Земнухов заметил улыбку на
лице.
— Замели? — спросил, едва тот открыл дверь комнаты.
— Всех накрыли! И маэстро! Вместе со стремачами и фартовыми. Больше двух
десятков взяли! Ну и драка была!
— Девчонки-то как?
— С ними — порядок! Сделали, как ты советовал. Забрали всех вместе. Их как
потаскушек. Опера на них больше чем на фартовых орали. Сулили желтые билеты
всучить. Увели их в камеру. Ну они тоже в долгу не остались. Разыграли комедию
до конца. Так что законники ничего не заподозрили. Ну, а всех гадов одним
воронком в тюрьму отвезли. По одиночкам распихали некоторых. Маэстро враз в
подвал опустили. Чтоб не сумел перестучаться ни с кем. За тремя решетками и
семью замками. Все остальные очухаться не успели. Сонные, как мухи. Не поймут
никак, наяву мы появились или в дурном сне, — смеялся Семен.
— Студентки твои в порядке?
— Еще как! Просили почаще посылать их на такую практику.
— На ком же накололся маэстро? — полюбопытствовал Седой.
— На Анне. Она ему уж очень приглянулась. Всю краску с ее рожицы слизал. Все
обещал ей доказать свою любовь.
А Марина, та делала вид, что ревнует. И все пыталась привлечь внимание маэстро к
себе. Тот поначалу даже растерялся. А ну как ему управиться с двумя девахами,
когда одна другой краше? Думал, жаркая ночь предстоит. Ну да сорвалось. Наши
переодетые оперативники, под видом таксистов, повезли малину на хазу. Два рейса
сделали. Заплатили, правду ты говорил, очень щедро. Хорошо подвыпили в кабаке, в
лица водителей не вглядывались. Верно ни разу на этом не горели. Ну, а там все,
как по маслу. Шмары были вдрызг. А фартовых наши девчата напоили. Правда, двое
стремачей, что на атасе стояли, все отказывались пить. Но ничего, уломали под
лесть. Теперь досыпают в тюрьме. Всем скопом. Но, если б не ты, Сашок, век бы не
додумались до такой хитрости и никогда не взяли бы маэстро! Спасибо тебе,
Санька! — обнял за плечи Седого, как когда-то Давно — в день Победы — их общей
победы. Нынче ее пришлось утверждать…
— Скоро я перестану быть нужным тебе? — спросил Седой.
— Ты что? — изумился Семен. И рассказал о драке фартовых в милиции.
— Говоришь, ненужным станешь? Да ты — клад для нас! Консультант и советчик! Без
тебя мы, как без головы. Откуда знали бы все тонкости и хитрости? Кто бы их нам
подсказал? — говорил Семен. А Земнухов, остановив его, предупредил:
— Помни, Семен, сделана лишь половина дела. Теперь предстоит главное. Самое
трудное — впереди. Вы взяли маэстро. Но, узнав про это, возникнут в Ростов на
выручку пахана самые файные кенты, какие кентели не пожалеют, чтоб достать его
из тюряги. Они на все пойдут. На мокрушничество и подкуп, на налеты и драки.
Наскоки на оперов будут всякий день. Жди налетов на милицию, на всех мусоров.
Фартовые не станут тянуть резину. Уже сегодня законники Ростова трехнут всюду,
как замели маэстро. И тогда — держись. Считай, что ты зажег фонарь на Ростове и
собрал сюда весь цвет законников. Они не промедлят нарисоваться.
— Да не-надо преувеличивать, Сашок! Этих взяли и тех поймаем, — не обратил
внимания на предупреждение Седого.
Начальник отдела и не предполагал, как сильны фартовые своим единством, как
изощренны их методы, как дерзки бывают кенты, когда дело касается их чести,
когда кто-то посягнул на основу всех малин.
Седой понимал все, что происходит теперь в малинах. Семен подумать не мог, какие
сюрпризы готовят милиции законники.
Уже на третий день после случившегося в Ростов стали прибывать фартовые. В
одиночку и группами, они прилетали самолетами, приезжали поездами и тут же
терялись в гуще горожан, обычные, неприметные с виду. Они не селились в
гостиницах. Быстро находили себе пристанище у одиноких женщин, у стариков, какие
из-за жалкой пенсии рады были взять и временных постояльцев. А кто они, зачем
приехали в Ростов, никого не интересовало.
Ни Седой, ни Семен и не подозревали, что готовят фартовые, на что они решились.
А законники, собравшись на пустыре за городом, вздумали немедля достать маэстро
из тюрьмы. Вместе с ним, заодно, освободить взятых милицией законников.
Уже на следующий день они узнали, где содержится маэстро, кенты. И ночью
отправились в тюрьму.
Среди фартовых, решивших достать маэстро, были не только стопорилы, а и
медвежатники — известные специалисты по замкам и сейфам. Их опыт должен был
пригодиться.
Многие знали эту тюрьму. Приходилось сидеть в ней не один месяц.
Законники впятером спокойно одолели заточенный забор. Там, внизу остались на
шухере кенты. Они, в случае чего — встанут на выручку.
Вот и последнее препятствие позади. Воспользовались темнотой склада. И едва
скрылся патрулирующий охранник, бесшумно скользнули к мрачному, серому зданию,
где обычно содержались самые опасные из арестантов.
По жидкой, ржавой лестнице поднялись наверх, потом на чердак вошли. Оттуда —
через люки — вниз. Но…
Только теперь заметили новшество: охранники, дежурившие на постах, имели
сторожевых овчарок. Те едва почуяли чужой запах, с поводков рваться стали. Кенты
замерли не дыша. А собаки подняли хай, как на разборке.
— Чего сбесились? Иль на прогулку захотели? Рано еще! — ругала псов охрана.
Овчарки не унимались.
Фартовые спрятались за пожарные щиты, боялись шелохнуться.
Время шло к полуночи, когда кто-то из охранников предложил своим пойти
поужинать.
— Вообще уже пора поесть! Давай тогда собак отпустим, пусть побегают в коридорах
без поводков, — предложил кто- то из охранников.
— Ну нет! Псов не отпускайте! Вчера мы им дали погулять, они все лестницы
засрали. Начальник меня самого убирать заставил. Костерил во все корки. Так что
пусть на по
водках останутся, — встрял другой И кенты, услышав это, вздохнули с облегчением.
Вскоре охранники, грохоча сапогами, пошли в дежурную часть. Когда их голосов не
стало слышно, кенты высунулись из-за щитов, заскользили по коридорам тенями.
Открыли камеру, еще одну. Шепнув короткое слово — линяйте, торопились к другим
камерам.
Фартовые спросонок не поняли и побежали вниз. Там их встретили овчарки и сбитые
с толку охранники, тут же сообразившие, куда вознамерились законники…
Замешательство было недолгим. Охрана взяла на прицел фартовых, вернула по
камерам, не поняв, почему пятеро оказались лишними. Их сгребли в свободную
камеру, каких в тюрьме хватало.
Не дождавшись возвращения законников оставшиеся за забором тюрьмы поняли, что
случился прокол. Но фартовых неудача не остановила.
Целую неделю пытались они достать маэстро, но не удавалось. Кенты сыпались на
мелочах. И когда уже все, казалось, было на мази, кто-то обязательно портил всю
затею.
Прокуратура Ростова, во избежание непредвиденностей, решила не возить на допросы
воров, и следователь сам приезжал в тюрьму.
Фартовые отказывались давать показания, мотивируя свое тем, что их замели ни за
что. Без вины. Не в деле. И даже без причастности и подозрений. А, мол, за
посещение ресторана в каталажку брать — западло.
— За что взяли нас лягавые? Куражились паскуды! Мало их тыздили — собак
проклятых! Никаких показаний не дадим! Нам не в чем колоться. — Отказались
встретиться со следователем.
— Не в чем колоться? А сколько трупов за время схода? Все от ножевых ранений
скончались. Кто убил? А меховой кто обчистил? Инкассаторов кто ограбил? —
возмущалась милиция.
— Нет доказательств, что преступленья совершены задержанными людьми. Со дня их
задержания прошло четыре дня. Если в течение трех последующих не найдете
оснований, всех придется отпустить! — заявил прокурор города начальнику
горотдела милиции. Тот чуть матом не выругался в трубку,
— Вот тебе, Санька, и цена моей работе! — уронил голову на кулаки Семен, чуть не
плача от досады.
— Кого взяли? Дай список! — взял в руки листы бумаги Седой. И тут же писал:
— Олень — ограбление инкассаторов. Групповое. В деле
была вся малина. Кропленые купюры сбывали на барахолке и в пивбаре — барухе. Она
же продавец — Нинка, по кликухе Рябая…
— У этой ты легко возьмешь подтверждение. Деваться некуда. У нее под прилавком
мешками кропленые лежат. Тряхни ее, вякни, что иначе ей отвалишь отдых на Колыме
— она всех укажет, — сказал Седой.
— А малина Жабы?
— Меховой трясли вместе с Чижом и Решкой. Товар у барыги. Адресок имею. Спустить
вряд ли успели, — поставил галку перед кликухами Седой.
К утру обо всех вспомнил. Семен отдал список в милицию и вместе с начальником
угрозыска поехал добывать доказательства. Он не очень полагался на память
Седого. У того, после избиения на разборке, часто болела голова, случались
приступы тошноты и головокружений. Врачи не рекомендовали загружать Седого
работой через меру. Предупреждали не будить и не тревожить его память.
Но именно она могла стать залогом спокойного завтрашнего дня и для Земнухова.
Потому приходилось пренебречь советами.
Когда все доказательства были собраны и переданы в прокуратуру для предъявления
обвинений, Семен ликовал. Лишь Седой молчал настороженно. Он ждал, что
предпримут фартовые.
А в Ростов приезжали законники. Седой это чувствовал, улавливал из рассказов
Семена, какой делился с Земнуховым всеми событиями, происходящими в городе.
— Сегодня ночью странный случай произошел. В тюрьме все собаки обоняние
потеряли. Разом. И самое удивительное, что их за пределы территории не
отпускали. Какая-то болезнь их поразила. Глаза слезятся, пленкой покрываются,
корм не чуют, и не слышат. Вялые ходят, как тени. Голосов не слышно — не лают. И
не бегают. Ветврача вызвали. Ничего не может определить. А собаки с ног валятся.
— Охрану тюряги усильте! Это законники поработали. Сегодня нагрянут в гости.
Собак — они достали, чтоб не мешали. Теперь до охраны доберутся. Предупреди
своих.
В эту ночь территорию зоны осветили не только лампочки, а прожекторы, не
выключавшиеся ни на минуту. Охрана была дополнительно вооружена, ее число
увеличено вдвое.
— Ночь прошла спокойно, — сказал утром Семен. И добавил:
— Но половины собак не стало. Околели. Остальные, если и выживут, на охрану
тюрьмы уже не годятся. Придется новых привозить.
— Никто чужой не заходил в овчарник? — поинтересовался Седой.
— Исключено! Псы любого живьем загрызли бы!
На следующий день он пришел растерянный, сказав, что не смог сегодня приехать в
тюрьму. Обе дороги к ней испорчены. Правда, дорожная служба уже работает.
Обещают к утру отремонтировать.
— Но вот удивительно, кто мог знать, что под этой дорогой пустота? И в том месте
почва провалилась. Несущие опоры, крепежные стойки, плиты — все рухнуло. Будто
вмиг поржавело! — рассказывал Семен.
— Фартовыми не рождаются. Ими становятся! Я тебе про то трехал. Среди них такие
спецы имеются, каких трудно найти у фраеров. Хотя, кто знает, может, законники и
пальцем не прикоснулись к этой дороге.
— Я тоже сомневался. Но вторая, объездная — шла по искусственной насыпи. В
объезд водохранилища. Так эту дорогу — размыло. Участок, конечно. На
полкилометра. И не проехать. Водохранилище сброс дало. С чего бы ради? Дождей
целый месяц нет. И вода, надо ж какая ушлая, ни куда-нибудь, тюремную дорогу
перерезала. Течь открылась. Прямо-таки совпадение подлостей, едрена мать! — не
сдержался Семен.
— В городе спокойно? — прервал Седой.
— Кой там покой? — досадливо поморщился Семен и, закурив, продолжил:
— Двоих наших сегодня убили. Поехали на обыск к барухе. Старая бабка, ей уже
семь десятков, приторговывала ворованным барахлом. Решили ее ребята проверить.
Не приняла ли она к себе временных жильцов. Ну, под видом обыска хотели внезапно
нагрянуть. Уж не знаю пока, как там случилось? Только долго они не возвращались
с задания. Оказались мертвыми. А старухи — не было. Никого! Ребята, было видно,
не успели начать обыск.
— На перо их взяли? — спросил Седой.
— Нет! Ни ножом, ни пулей убиты! Не задушены. Патологоанатом сказал странное —
велосипедной спицей. Оба! Вот тебе и бабушка-старушка! Приютила малину! Саму ее
по всему городу искали и никаких следов! Может, и ее отправили гости на тот
свет? И закопать успели?
— Это ты зря! Старая плесень кому сдалась? Лишний грех- на душу никто не
возьмет! Да и не опасна она, если была барухой. Приморят на время в богадельню и
все тут. Она и не допрет, что у нее на хазе стряслось.
— А вдруг при ней убили ребят, могли и бабку, чтоб лишнего свидетеля не было, —
говорил Семен.
— Не дышат фартовые ни с кем в одной хазе. Если они возникли, да еще малиной, не
по одному, хозяева слинять должны на то время, чтоб ничего не видели и не
слышали. Иначе за что фартовые громадные башли дают? Не без понту! И та плесень
прикипелась в больнице, иль к родне смылась. Ее вы теперь не скоро увидите. Она,
получив такие бабки, сдурела на радостях. Впервые в гости — человеком
нарисуется. С подарками, гостинцами, сама — в новой шали и тапочках.
— Ей фартовые сказали, когда она вернуться может?
— Зачем? Она и сама торопиться не станет. Баруху учить не надо! Понимает, гости
у нее — особые…
— А чья малина спицами убила? Как думаешь?
— Этот способ — старый. Им все кенты владеют. Любой мог пришить.
— Не знаешь, кто раньше предпочитал останавливаться возле горполиклиники? Бок о
бок. Сам говорил, что кенты не без мозгов, случайно нигде не остановятся.
— Кенты хазы меняют чаще, чем носки. Не могу вякать. Кто приморился у барухи, не
допру. Любая малина могла. Но коль лягавых замокрили, теперь туда никто шнобель
не сунет. Хаза фаршманулась. Лягавые возникли. Для фартовых это — навсегда!
Теперь ту хазу не стремачите. Законники — не возникнут.
Семен ночами не спал. Волна убийств, грабежей захлестнула город. Гибли работники
милиции. Их перестало хватать. И тогда в Ростов из Краснодара было отправлено
подкрепление — выпускники милицейского училища. Они ехали в пяти вагонах, совсем
мальчишки — романтики, начитавшиеся детективов. Они мечтали стать героями,
самыми бесстрашными, мужественными и сильными. У некоторых пушок над губой
пробился. Первый знак мужания. Им гордились, как медалью.
В новых формах, с чемоданами отправлялись они под вечер с перрона, где их
провожали отцы и матери, бабки и деды.
Молодое пополнение прятало по карманам от родительских глаз первые пачки
сигарет. Им совали на дорогу леденцы и пряники.
Когда поезд отходил от перрона, вслед ребятам неслось:
— Пиши почаще!
— Береги себя!
— Да сохранит тебя Бог! — крестили бабки уходящий поезд. Может, их молитвы были
услышаны Господом. И предотвратил он крушение состава.
Машинист чудом успел затормозить. Рельсы впереди были
разобраны на добрую сотню метров. Кто-то знал о прибывающем пополнении и решил
помешать…
Машинист вытирал холодный пот со лба. Его помощник, ухватившись руками в
поручни, смотрел на рельсы, шпалы, вздыбленные в кучи, матерился грязно,
проклинал варваров.
— Стрелять бы таких из автомата. Попадись! Своими руками перекрошил! Уложил бы
потрохов одной очередью! — сдавливал мужик громадные руки в кулаки.
Уцелело пополнение на железной дороге. Ни один не погиб. И ребят было решено
привезти в Ростов автобусами. Многие из них уже поняли, что работа будет не
только трудной, но и опасной.
На подъезде к Ростову, на автобус с курсантами внезапно упал лопнувший провод с
линии высокого напряжения. Ребят и водителя стало бить током. Водитель еле вывел
автобус из опасного места, и матеря всех и вся, поклялся сегодня же уволиться из
автобусного парка.
Ребята выскочили из автобуса, чтобы хоть немного прийти в себя. Возвращаться на
свои места им не хотелось.
Этой же ночью ростовская шпана выбила все стекла в общежитии, куда поселили
пополнение, и жестоко избила ребят, ворвавшись под утро в комнаты.
Некоторые из курсантов попали в больницу, а двое — в реанимацию. Досталось всем,
каждому. Никого не обошла вниманием ростовская шпана. Никого из нападавших не
удалось схватить, задержать. Банда налетела и скрылась ураганом, посеяв в душах
ребят страх и сомнение в собственных силах.
И тогда было решено оставлять на вахте — внизу — вооруженную милицию.
Седой предупреждал Семена, чтоб курсанты не высовывались в город по одному, по
двое. Не лезли бы на окраины, не заходили бы на барахолку и в пивбары, не
появлялись бы в горсаду на танцплощадке, если хотят выжить. Но молодые никогда
не слушали советов. И уже в первый же день не досчиталась милиция троих
курсантов. Двоих нашли засунутыми в канализационный люк. Третьего — повешенным в
подворотне.
А фартовые лишь Набирали силу. И действовали внезапно, быстро. Появлялись там,
где их никто не ожидал.
Средь белого дня избили охрану инкассаторов — двоих милиционеров. И, отняв сумки
с деньгами, не дали дойти до банка несколько шагов.
Начальник милиции не уходил с работы допоздна. За последнюю неделю он заметно
сдал. Ни одной ночи не спал спокойно.
Прокуратура тоже не бездействовала. Расследовала убийства, ограбления. Забывая,
когда кончалась ночь и начинался день. Грань была потеряна и стерта.
Но и милиция, и прокуратура не могли задержать ни одного виновного.
Семен теперь приезжал домой только под утро. Валился, не раздеваясь, на диван,
на час-другой. Проглотив что-то на ходу, снова убегал на работу, забывая даже о
детях. С Седым он виделся редко.
Земнухов понимал, догадывался, что происходит в городе. Но ничем не мог помочь.
Он знал, стоит ему выйти из дома, фартовые тут же расправятся и отплатят Семену
и его семье за то, что приютили у себя фаршманутого.
Это — последнее — сдерживало Седого больше всего. Собою он мог рисковать. Но не
другими. Хотя положение это угнетало его больше всего.
— Сем! Не могу я больше так дышать, как хочешь! Сил нет канать, будто падле. Не
дергайся. Но смоюсь я от тебя. Зачем канаю тут, как падла на разборке. Коль
суждено — загробят фартовые, и никто им не помеха! Коль жить, десятки малин не
сладят со мной. Не могу больше взаперти. Устал. Чего уж тыриться, когда я сам
себя за жмура держу! Кранты! Линяю нынче!
— Остынь! Кому сказал — остановись, — взял за плечо всей пятерней. И сдавив,
повернул к себе легко, словно играя:
— Ты нам очень нужен, Санька! — сказал глухим, усталым голосом.
— Нам без тебя не обойтись. Люди гибнут каждый день. В городе не только жить,
дышать нечем стало. Все вперехлест. И сил уже нет. Нервы сдают. У меня
единственная надежда — на тебя. А и ты уйти хочешь. Почему? Не обо мне подумай.
Хотя о чем это я? У тебя ведь нет никого. Потому жалеть некого. А у нас вчера
Зинку убили. Практикантку. Из юридического. Месяц проработала. И все. Прямо на
улице. Ножом в спину.
— Это неспроста. Значит, была связана с фартовыми. Шашни крутила. Иначе не
замокрили б! Законники знают разницу между практиканткой и лягавой. Они не
обмишурятся! Верняк ботаю.
— Как могла флиртовать, когда у нее двое малолетних детей и мужик имеется! Баба
самостоятельная, не крученая. Зачем не зная — позоришь мертвую? — обиделся
Семен.
— Если она не была в делах с лягавыми, не засветилась падлой перед фартовыми,
никто ее не размазал бы. Выходит, ошибка вышла, либо вы свою Зинку плохо знали.
Но. мне до нее дела нет!
— Не пущу! Сейчас опасно! Погоди, сам знаешь ситуацию! Дай немного времени! Сам
тебя в город выведу. На нашу аллею. Устрою на работу, улажу с жильем, найду тебе
бабу подходящую…
— Проверенную всей мусориловкой — стремачиху ханыжника? Так? — спросил Седой.
Семен вымученно улыбнулся и ответил:
— Мы тебе студентку дадим, самую лучшую. Чтоб ты ей и другом, и помощником был.
— Тогда уж сразу курсы открывай по изучению фартового опыта! Кто смелый?
Глядишь, ваши студентки курсантам, сопли утрут! Уж их не проведут вокруг пальца
после моих уроков.
— Это точно! Вон Анка, собирается дипломную писать по психологии преступников и
их поведению в экстремальных условиях. Хочет к тебе на консультации прийти.
— Та, какая помогла маэстро взять в ресторане?
— Она самая!
— Что ж, если чем-то смогу быть полезным — помогу! — согласился Седой.
Земнухов не решился продолжить разговор об уходе. Но сам стал задумываться, как
жить ему дальше, если судьбе было угодно оставить его в живых, проведя через все
испытания.
Седой знал, что придется ему устраиваться на работу. Но куда? Что он может?
Сторожить? Да кто его — вора — возьмет в сторожа? Дворником? Но и там —
стараться надо. Да и приметь его фартовые, тут же замокрят. А кто кроме
дворников и воров первыми встречают утро?
— Нет, навар жидковат, — думает Седой, размышляя, а не стоит ли ему податься к
рыбакам? У них и заработки, и хамовка…
Его размышления прервал голос Семена.
— Сашок! Твоя подсказка нужна! — показал листок бумаги с непонятным знаком под
запиской: «Если не отпустите маэстро из тюряги, вам придет хана!»
— Кто подписал это послание? — спросил Семен.
— Где нашли? — перебил его Седой.
— В прокуратуре. В окно кто-то бросил. Завернул внутри камешек и прицельно…
— На первый этаж?
— Ну да! А кто подкинул, не успели заметить.
Седой лишь мельком глянул на знак, и лоб его покрыла испарина. Дрогнули руки. И
пересохшая глотка его проскрипела незнакомо:
— Поздравляю! Сама Черная сова в Ростов пожаловала!
Не сумели без нее обойтись. Ну, теперь держись, кореш! Эта малина десятка стоит.
Нигде на халяву не возникает. Не иначе, как маэстро достать намылились! И
кентов! Эти законники опасней всех других. Теперь и мой черед пришел. Ну, что ж,
Шакал, посмотрим, кто кому отмерит по локоть…
— Ты это о чем?
— Шакал в Ростове! Вернулся потрох гнилой, паскуда вонючая! Это он меня на сходе
обосрал. Из-за него из закона и паханов турнули! Он моих кентов к себе сфаловал,
уломал сход против меня, а потом, выкупив, как барбоса от замокренья, на весь
фартовый кабак трехал, что может меня в рамса, как сявку проиграть, либо
подарить в шестерки новому маэстро. Я тогда чуть не свихнулся, слушая шпану. Все
искал случая один на один с ним потрехать. Без кентов и малин. Авось, в этот раз
— повезет!
— А зачем Шакал рискует? — не понял Семен, пытаясь понять пахана малины.
— Так все рискуют. Всегда! Шакал других не файнее!
— Что может выкинуть?
— Его не угадать! Никто заранее не предскажет эту падлу! Но секи, он не трехает
впустую! Коль прокураторов предупредил, что-то заметано.
— Да ерунда! Мы завезли целый овчарник собак. Сильных, молодых. Охрану тюрьмы
утроили. Туда не только человек, блоха не проскочит незамеченной!
— А кто тебе вякнул, что Шакал — человек? Другие, может, и не сумеют проскочить.
Но этот… Не зарекайся!
— Да уж сколько раз пытались фартовые пробраться к маэстро! Сорвалось у всех!
Сами попались к нам в руки! Варианта нет! — уверенно говорил Семен.
— Но пока фартовые в Ростове паханят. Не дают дышать лягавым!
— Это временно!
— Как знать? Покуда пацаны Возникают в малинах и обходят ментовки, законники
будут дышать, Сема! Зелень от чего воров уважает? Они — щедрые! Они дают навар!
А менты — последнее отнимают! Сам секешь, как в городе вас носят по этажам. От
зелени до плесени — ненавидят. И конца тому не видно. Значит, надежды нет! А вам
самим, без людей, никогда с законниками не сладить. Вот в чем ваш прокол. Но
горожане, фраера, вас западло держат! Вору помогут. Потому как знают, никто с
жиру не бесится и просто так не пойдет воровать! Только от голода и горя, от
непрухи, когда деваться некуда!
— Ты бы помолчал! У тебя был выбор, когда реабилитировали. Но не захотел
увидеть. Успел скатиться. Понравился легкий хлеб!
— Это у меня был легкий хлеб на Колыме? — рассвирепел Седой и стал закидывать в
чемоданчик барахло.
— Остынь, Санька! Ну, прости! Не кипи! Кончай бух- теть! — пытался остановить
Седого Семен, но тот остервенело отталкивал его руки.
— Что? Опять в малину решил уйти? — потерял терпение Семен.
— В Звягинки вернусь! К своим! Буду в подручных у кузнеца. Из деревни меня никто
не выгонит, не осмеет. Там меня примут, — поднял чемодан Седой.
— Ты, что? Всерьез уходишь? А как же я? Мы без тебя не справимся с ворами.
— Хватит, Сем. Годы мои не те, чтоб под твоим надзором дышать. На волю хочу! И
ты дышал же без меня. Я мало помогал. Вспоминай советы иногда! И держись смелей!
Прощай! — пошел к выходу, попрощался со всеми. Взялся за ручку двери, открыл ее.
Шагнул и обомлел. Прямо перед ним стоял Шакал.
Глава 5
«Сука»
Ссучился, падла! — оскалил рот в жестокой усмешке пахан. Глаза его зеленым огнем
сверкнули. Он слегка шевельнул правую руку. Нож тут же скользнул в Ладонь.
— Стоять, Шакал! — грохнул выстрел из-за спины Седого. Семен, держа наган
наготове, сделал шаг к пахану, тот резко взмахнул рукой.
Седой уловил этот миг и с силой оттолкнул Семена. Тот, пошатнувшись, упал на
порог. Нож со свистом воткнулся в дверь.
Шакал оглянулся. Неимоверная боль прорезала колено. Пуля застряла в кости, и
фартовый сообразил: ему не уйти…
Семен, вскочив на ноги, понял все. В секунды приметил нож в двери, побледневшего
Седого, искаженное злобой и болью лицо Шакала.
— Сань! Придержи его минуту! Я позвоню своим, чтобы приехали за этим! — кивнул в
сторону Шакала и скрылся в доме.
Седой подскочил к Шакалу мигом. Сбил его кулаком. И, сорвав с земли, ухватил
бесчувственным мешком. Понесся в глухой переулок вместе с паханом и чемоданом.
Миновав с десяток дворов, приметил открытую дверь сарая, нырнул в него, чтобы
перевести дух.
И тут же встретил взгляд пахана, удивленный, растерянный.
— Где твои приморились? — спросил глухо.
— Мы где?
— Рядом с барахолкой.
— В пивбар хиляй. Там Боцман с Пижоном. Вякни, чтоб колеса устроили мигом. И,
погоди! Вот тебе, — подал Седому свой медальон с изображением Черной совы.
— Это, чтоб не пришили прежде времени, вернешь его мне. Доперло?
— Секу! — бросил через плечо, плотно закрыв дверь сарая, разорвал папиросу,
присыпал табаком землю возле двери.
— Седой?! — у Боцмана от удивления сигарета выпала изо рта. Увидев медальон
пахана, спросил — где он канает. Позвал Пижона.
Седой предупредил, что таксисты дали слово сообщать в милицию обо всех
подозрительных пассажирах.
— Как же нам его на хазу приволочь? — задумался Боцман.
— Частника сфалуем. Трехнем, что на пахоте несчастный случай произошел.
Шакала усадили на переднее сиденье. На большой скорости повезли на окраину, где
рядом с кладбищем остановилась Черная сова, избегавшая центральных улиц.
Когда Седой вернул Шакалу медальон, тот, взяв, сказал резко:
— Падла ты, Седой! Думаешь, обязанником меня сделал? Хрен тебе! Давай в тачку
шмыгай! Пусть кенты с тобой потрехают. Я тебя от них не отмажу…
Седой ехал в такси, стиснув вспотевшие ладони. Конечно, он мог убить Шакала. Мог
сдать его милиции. Но тогда фартовые расправились бы с семьей Семена. С каждым…
Нашли бы и Седого. Ведь вот сыскали даже в доме фронтового командира. От них он
не спрячется. И все ж, интересно, как пронюхали, где он укрылся?
Земнухов понимал, убей Шакала, Черная сова знала, куда пошел их пахан. И его
дело довела бы до конца. Хотя и теперь надежд никаких. За свое спасение — Шакал
не отпустит
— Седого. Не станет защищать перед кентами и разборкой, клятву на крови ценит
выше своей шкуры.
— Тормози! — долетело до слуха. И кенты, рассчитавшись, помогли Шакалу вылезти
из машины. Велели Седому идти с ними.
— Давай вытряхивайся! — огрели злыми взглядами и, едва машина ушла, Боцман
поволок Седого к кладбищу.
— Хана! — мелькнуло в голове. И человек проклинал свою нерешительность. Ведь мог
разделаться с Шакалом. Хоть бы теперь не было обидно, что на своем попался…
— Давай его к могиле прежнего маэстро волочь. Там потрехаем, — велел Шакал,
скрипя зубами от боли.
Пижон поддерживал пахана, Боцман шел следом за Седым, держа наготове нож,
карауля каждый шаг.
Когда пришли к могиле маэстро, Шакал сел на скамью, велел Пижону привести кентов
малины.
Седой сидел на земле, за оградой. За ним следил Боцман.
— Вот и конец мне пришел. Фартовые размажут. Без мучений. Светло еще. Не будут
дергать шкуру на ленты. Жаль, что не смылся, не оторвался от Черной совы, не
успел. Ну, да когда-то всем хана. Да и дышать немного оставалось, хоть не в
тюряге откинусь, не на собачьих клыках, не на сапогах ментов. Накрой меня теперь
Семен, в лягашку приморил бы до смерти. За то, что помог Шакалу слинять. Там я
на баланде, не промедлив, окочурился бы. Вот фортуна — сука, везде рогатками
обложила. Куда ни кинь, ни повернись, всюду виноват, перед всеми. А житухи той,
треклятой, на один бздех осталось. Кенты Шакала всем растрехают, как меня
ожмурили. Из сук я и мертвым в их памяти не слиняю, — думал Седой, И услышал за
спиной тихий шелест. Понял, идет малина. Он оглянулся.
Встретился взглядом с Таранкой и Задрыгой, Жердью и Краюхой, Фингалом и Занозой.
Последним шел Глыба.
— Попух падла! Накрыл тебя пахан! — обрадовался Глыба, приметив Седого.
— Заткнись! — рявкнул Шакал. И велел всем сесть, сделав вид, что поминают
покойного.
В это время мимо могилы шла старуха. Укутанная во все черное, она не видела
никого кроме своего горя.
— Не я его выдернул сюда! Куда уж было? Ходулю легавый мне продырявил, когда я
его замокрить хотел. Колено пробил. А этот потрох дышать оставил. И его, и меня
из жмуров вытянул. Уволок от лягавой разборки меня, от нашей — мента. А сам
всюду засвечен, как пидер под шконкой. От лягавого он слинять хотел. Я его
застопорил с майданом у хазы мусоряги,
— Ожмурить падлу, чтоб никому промеж катушек не мешал! — гаркнул Боцман.
— Его к ожмуренью все кенты приговорили. Пора кончать Седого! Пусть сука в
жмурах канает! — сказал Таранка.
— Лажанулся он! Это верняк! Нарушил клятву!
— Он выведен из закона! А значит, клятвою не связан, — перебила Глыбу Капка и
тут же получила по уху. Ей, не фартовой, нельзя было говорить.
— А верно вякнула Задрыга! Он клятвою уже не связан. И все ж, не застопорил
меня, не выложил лягавому, хотя я целиком в его клешнях был. Мог сам ожмурить.
Но не стал. Спас, как кент. Лягавый меня законопатил бы в тюрягу! Седой уволок.
Зачем — сам не допру. Ведь сек, паскуда, что на халяву ему не сойдет. И все ж —
не пришил, — стонал Шакал от боли.
— Куда его денем, кенты?
— Что с ним утворим?
— Как замокрим суку? — перебил Боцман всех.
— А ты меня спросил, жмурить его иль нет? Покуда я — пахан! — взъярился Шакал и
приказал Боцману заткнуться.
— Не хуже других известно мне, что Седой приговорен разборкой. Только мне она не
указ. Седому нынче я обязан шкурой. Обязанником своим он сделал меня. А я долги
не уважаю, ни перед живыми, ни перед мертвыми. Кто ж размазывает того, кто из
беды выволок на клешнях? Иль мозги посеяли? Так-то мою душу оценили? — бледнел
Шакал.
— Ты ж сам поклялся замокрить его! — изумился Глыба.
— Пока не случилось нынешнее! Я не без понта вас сюда волок! К этой могиле!
Маэстро должен был размазать пахана. Но тот его выручил. И был прощен. Он и
теперь канает в фарте. Вы знаете его. Но тот случай помнят лишь паханы…
— Тот — в фарте! У него малина! А этот пидер куда похиляет? Ты уверен, что не к
мусорам? — не сдержался Таранка.
— Отрезано ему там возникать! Он облажался тем, что спас меня! Менты такое не
спускают, — отпарировал Шакал.
— Если ты решишь приморить Седого в своей малине, я слиняю! — предупредил
Боцман.
— Я тоже с сукой не сдышусь! — поддержал Пижон.
— Так не ботают кенты! Чего пахану хавальник закрываете! Пусть трехнет! —
настаивал Хлыщ.
— В свою малину взять не думал. Веры ему не будет от вас и от меня. Да и кто
теперь возьмет его в фарт?
— Тогда чего ты хочешь? — удивился Боцман неподдельно.
— Я отпускаю его на все четыре! Впрочем, он сам того хотел, не опереди и не
встань я на пути Седого. Вот он — перед вами! Никто из вас не должен и пальцем
тронуть его. Так велю я! И кто дернется, будет иметь дело со мной. Я его
отмазываю от всех! Пусть дышит, как хочет. В отколе, иль на приколе — его дело.
И никакая падла не может попрекать Седого прошлым. Все усекли? А теперь линяйте
в хазу, оставьте мне Задрыгу с Глыбой. Мне с Седым потрехать надо с глазу на
глаз. Отваливайте! — потребовал резко. И дождавшись, когда фартовые скроются,
велел Задрыге и Глыбе стремачить аллею. А сам обратился к Седому:
— Так куда ты лыжи вострил? Куда намылился сорваться?
— В Звягинки. Где до войны канал.
— Там твоя плесень?
— Нет никого, — ответил Седой глухо.
— Как дышать станешь?
— Пока не знаю. Но не пропаду.
— Хаза имеется?
— Была. В войну сожгли.
— На хрен ты туда сваливаешь? Иль думал — не достану? В деревне — все проще. И
откинуться незаметно для всех.
— Тыриться ни от кого не думал. Стар стал мандражировать. К своим хотел. Они все
под одной яблоней похоронены…
— Ладно мне туфту подкидывать. Срывайся куда хочешь. Но сначала тебе придется
наколку от кентов сделать, чтоб не ожмурили. Это тебе Глыба справит. За час. И
еще вякни, тебе есть на что дышать?
Седой ничего не ответил, лишь вздохнул тяжело и отвернулся.
— Возьми, — подал две пачки соток.
— Э-э, нет! Возьму башли, ты себя будешь считать хозяином моего кентеля! Мол,
откупился! Обойдусь! — отказался Седой.
— Зачем мне твой колган? Да если бы хотел, давно бы открутил. И знай, Седой, я в
своей жизни лишь второй раз изменил решение. Второй — это ты! И от своих слов,
тебе как никому известно, не отказываюсь. Башли даю без условий. Не в долг.
Бери! Не зли меня! Доброе твое, когда я с ходки слинял, помню. Тогда ты меня
грел. Нынче — я!
— Купюры кропленые?
— Нет. Не засвечены. Хватай шустрее и хиляем в хазу! Сделают наколку, отваливай.
Когда Седому рисовали на руке будущую наколку, Глыба взялся за ногу Шакала.
Фартовый уже достал живицу. Заставив Шакала выпить стакан водки, он попросил
кентов придержать пахана, чтобы вытащить пулю из сустава.
Пахан прогнал всех, лежал не шевелясь, пока Глыба пинцетом вытаскивал пулю.
Седому в это время иглой обкалывали рисунок, но он даже не. почувствовал, глядя,
как терпит Шакал.
Рубашка от пота стала серой, прилипла к груди, животу. Пот стекал со лба. Но
пахан молчал. Он не шелохнулся, ни звука не вылетело сквозь стиснутые зубы.
Только усилившаяся бледность доказывала, как неимоверно трудно приходится сейчас
фартовому.
— Дай сюда! — не выдержала Задрыга и, вырвав пинцет из рук Глыбы, подцепила пулю
и вырвала ее.
— Не надо йод, спирт файнее. Но сначала огнем опали. Чтоб не нарывало. Потом уж
спирт, — прижгла рану. Потом спиртом смочила, залила живицей, плотно забинтовала
колено Шакала.
Всему этому учил ее Сивуч.
Седой и не заметил, что ему давно закончили обкалывать рисунок.
— Чего ждешь? Приморился тут! Сваливай. Все на мази. Никто тебя уже не тронет! —
поторопил Боцман Седого. И тот, обмотав руку носовым платком, вышел в ночь, неся
чемодан, такой же старый и потрепанный, как собственная судьба.
Земнухов шел не оглядываясь. Он не видел, но хорошо слышал осторожные шаги за
спиной.
Малина никому не доверит свою судьбу. Она подозрительнее зверя, осторожнее всех.
Она умеет защищаться и мстить…
— Интересно, кого это прицепили мне на Хвост? Кого-то из сявок. Только они вот
так хиляют. Законника я бы не засек. Слух не тот, подводят Лопухи. Но раз
приклеили шестерку, верняк живым слиняю из Ростова. Проводит этот «хвост» до
станции, увидит, как сяду в вагон, и слиняет в малину доложить, что отвалил я.
Не в лягашку, на поезде смотался. Насовсем, навсегда, от всех…
Фингал и впрямь шел следом за Седым до самого вокзала. Так ему велел пахан.
Ослушаться Шакала он не смел. И плелся вспотычку на хвосте у прежнего пахана,
которого в случае попытки посещения милиции было велено убить на месте.
Фартовые не случайно прицепили к Седому именно Фингала. Вздумали проверить
стремача на верность Черной сове. Сумеет ли тот справиться? Ведь с Седым он
фартовал много лет. С Шакалом — недавно. Коль не сумеет убрать Седого, значит
малина расправится с обоими. Это Фингал понял вмиг.
Стремач видел, как Седой купил билет. И через час вошел в вагон поезда,
отправляющегося в Москву. Фингал втайне позавидовал бывшему пахану. Ни от кого
он теперь независим. Будет дышать в отколе, как сам захочет. И никто ему не
укажет, как дышать…
Стремач смотрел в окна вагонов. Вот Седой вошел в купе. Поставил чемодан под
нижнюю полку, уныло примостился у окна. Один… Будут ли у него попутчики в дороге
и в жизни? Это уж как повезет…
Фингал дождался отправления поезда. Пожелал Седому тепла в судьбе и, повернув от
холодного вокзала, поплелся обратно — в хазу, к малине, к кентам.
Фингал знал, он не сумеет жить без них — в одиночку. Нет у него столько сил,
чтобы удержаться без поддержки
кентов. Он плелся, спотыкаясь в темноте, вздыхая и охая. Ему было очень холодно.
— Ну, что? Слинял Седой? — внезапно легла на плечо тяжелая рука.
Фингал отпрянул, но рука не отпустила, давила пудово,
— Шустри, кент! Ходули в клешни и на хазу! Дело есть! — поторапливал стремача
Боцман, взявшийся неведомо откуда. Он сказал, что линял за водярой и для
убедительности звенькнул бутылками, какие нес в сумке. Но Фингал ему не поверил.
Понял, тот неспроста оказался на пути. Фартовые решили поймать двух зайцев,
проверив Седого и его — Фингала. Да и о каком деле можно говорить всерьез, если
пахан не может стоять на ногах? Шакал в большие дела всегда ходит вместе с
малиной.
Но, кто такой — стремач? Думать ему никто не запретит. А вот сказать фартовому о
своих догадках — никогда не посмеет. Смолчит, стерпит.
На хазе Шакал ни о чем не спросил стремача. Окинул беглым взглядом, понял — все
в ажуре. А Фингал вздрогнул, Черная сова и впрямь готовилась в дело…
Куда и зачем собрались законники, стремачи узнавали уже на месте. Редко кто из
них улавливал из обрывков разговоров, какие дела замышляет малина, куда
собираются кенты?
Так было и в этот раз.
Фингал понял, предстоит что-то очень серьезное, если законники вздумали взять в
дело Задрыгу. Значит, придется рисковать головами. Но Капка сидит спокойно.
Смотрит, как собираются в дело кенты. Гладит белую кошку, какую приручила к себе
совсем недавно. С нею она не расставалась даже в постели.
— Задрыга! Кончай кошку тискать! Хиляем! — позвал девчонку Боцман. Та сунула
кошку за пазуху. Вышла следом за кентами в темноту ночи.
Вскоре малина подошла к городской тюрьме.
— Давай, кент! Гаси иллюминацию, пора! — подтолкнул Хлыща Боцман. Фартовый
скользнул из темноты к забору. Прижался всем телом, чтобы часовые с вышки не
приметили раньше положенного.
Выждав немного, забросил на оголенные заточенные провода кусок оголенного кабеля
и тут же соскочил с забора под фейерверк ярких брызг, гула и огня замыкания
проводов.
Яркие вспышки осветили растерявшихся часовых. Они скатились вниз по лестнице, не
понимая, что произошло. Провода вскоре лопнули, повисли. Свет погас. Фартовые
мигом взобрались на забор, проскочили запретку.
Навстречу им, словно назло, выскочила свора овчарок. Капка тут же вытащила из-за
пазухи кошку. Та бросилась наутек, овчарки — за нею.
Малина подступила к зданию, где содержались законники и маэстро.
Двое охранников у дверей никак не могли понять, отчего не стало света во всей
тюрьме, что случилось с проводкой? Фартовые, зажав им рты, тут же убили обоих и
вошли в коридор.
Расположение камер и подвала многим было знакомо не понаслышке.
Через десяток минут все арестованные законники были выпущены из камер. Охрана
перебита. Черная сова спустилась в подвал, где содержался маэстро.
Там охрана была усиленной. Две овчарки бросились на законников. Охрана открыла
стрельбу.
Капка быстро справилась с собаками, перебив им переносицы, как учил Сивуч.
Девчонка даже не почувствовала укуса одной из овчарок, успевшей вцепиться в
ногу, пока Задрыга справилась с первой.
Охрана подняла на ноги отдыхавшую смену. Но и те не могли понять, где свои, где
чужие. В темноте не отличить. А фартовые, сняв с убитых охранников винтовки,
стреляли без промаха — на слух. Охрана таких навыков не имела.
Вскоре на помощь Черной сове подоспели выпущенные из камер законники. Охрана
была перебита, замки и решетки снесены. Маэстро вытащили из камеры-одиночки и
тут же увели с территории тюрьмы.
Капка выскочила следом за Глыбой, какого все же сумели ранить охранники, задели
плечо. И фартовый торопил малину слинять из тюряги, пока его не оставили силы.
— Кончай махаться, кенты! Линяем шустрей! — звал фартовых. Своя малина
подчинилась тут же. Но выпущенные решили разгромить тюрьму до конца, выпустить
всех зэков, перебить всех охранников и оперов.
Фартовые ликовали яростно. Ломились в камеры, в кабинеты.
Звенело разбитое стекло, трещали взломанные двери, решетки.
— Бей падлюк!
— Кроши оперов! — слышались крики фартовых, выпущенных на волю.
Черная сова уходила вместе с маэстро, окружив того плотным кольцом.
Пахан паханов лишь на несколько минут встретился с Ша
калом, заглянув в фартовую хазу, чтобы сказать пахану Черной совы самое главное
— с глазу на глаз.
В свою хазу маэстро не появился. И сев в черную «Волгу» под охраной надежных
кентов, уехал в Одессу. Он знал, сейчас милиции Ростова жарко приходится. Ей не
до досмотров машин и дорог. Теперь бы угомонить в тюрьме бучу, поднятую
фартовыми. Там — никто не уцелеет. Ни собака, ни оперативник, ни охранник. Всех
в клочья разнесут сорвавшиеся из камер законники и шпана.
— Запомните падлы этот денек! Падлюги лягавые! Думали, меня упекли в каталажку!
Вот и схлопотали — сучьня вонючая! Всех козлов в жмуры кенты отправят. Это вам,
муда- чье, за меня! Чтоб впредь мозги не сеяли! — радовался маэстро, удаляясь от
Ростова по широкой асфальтированной трассе.
Уже светало, когда дорогу машине преградила милиция. Двое решили подойти к
машине, но были убиты в упор. «Волга» шла не снижая скорости.
Собиралась в дорогу и Черная сова. Пахан решил срочно покинуть Ростов, зная, что
уже сегодня милиция города начнет облавы, аресты всех подозрительных, не имеющих
прописки в городе.
— Живей, Задрыга! Кончай возиться с кошкой! — злился Боцман на девчонку,
усадившую свою любимицу в ящик. Овчарки во дворе тюрьмы долго гонялись за нею и
не обратили внимания на фартовых, не помешали им. Когда же законники покидали
тюрьму, кошка, поджидавшая их на заборе, сразу узнала своих. И прыгнув на плечо
Задрыге, вместе со всеми вернулась в хазу. Капка радовалась ей, как подружке, и
ни за что не согласилась оставить ее в Ростове.
— Машиной сейчас линять опасно. Мусора все дороги перекроют, все вокзалы под
наблюдением. Надо срываться на вертушке. Товарняки не шмонают. Как только
оторвемся от Ростова, вмиг перескочим на путевые колеса. И тогда решим, куда
махнуть, — предложил Шакал малине.
— У товарняка тоже сопровождающие есть, — напомнила Задрыга, какая не любила
ездить в вертушках.
— Не на открытой платформе, в вагоне смоемся. Как бывало. Что нам
сопровождающие?
— А может, автобусом слинять? — предложил Таранка.
— Чокнутый! Совсем сдвинутый! Если машины шмонать будут, автобусы и подавно! —
оборвал Глыба. И все тут же услышали из-за двери три условных крика. К дому шла
милиция.
Фартовые мигом выскочили из хазы в сарай, из него — на
кладбище, запетляли между могил и памятников. Без оглядки, бегом, скорее унести
ноги от опасности, наступавшей на пятки.
Вот они выскочили в парк. Бегом по аллее. Вниз к реке. Приметили рыбачий катер.
Но не успели. Снова берегом к кирпичному заводу. Там баржа отходила от причала,
груженная доверху кирпичом. Заскочили, не спросив, куда идет, возьмут ли их?
Сопровождающий крик поднял. Пришлось выметаться, пригрозив напоследок.
И тут Таранка самосвалы увидел. Но пахан указал чуть дальше, на вагоны, стоявшие
под погрузкой. К ним уже подходил паровоз. Только успели заскочить, услышали
свисток совсем рядом. Головы в плечи втянули. Испугались ни на шутку. Оказался —
свисток паровоза. s
Через приоткрытую дверь вагона Задрыга увидела милицию подоспевшую на заводской
двор. Но поезд уже повел вагоны к станции, набирая скорость.
Так уж случилось, что остановились фартовые перед пассажирским поездом,
отправлявшимся в Москву.
— Рискнем? — предложил Глыба. И фартовые уже на ходу заскочили в вагоны.
— Куда без билета? — загородила собою ступени кондуктор. Ее оттолкнули. Баба
возмутилась. Но завидев живые деньги в руках припоздавших пассажиров, тут же
нашла свободные места, всех разместила.
Задрыга попала в купе к двум старухам. Одна из них бесконечно жевала, вторая
что-то рассказывала, не интересуясь, слушают ее или нет.
Капка под эту болтовню вскоре уснула и не услышала, как в вагон пришла милиция.
Чтобы никто не ускользнул от проверки, документы и вещи проверялись с обоих
входов. Милиция будила спящих, сверяя личность с фотографией. Поднимала нижние
полки, заглядывала в верхний багажный отсек.
Задрыга, едва открылась дверь купе, сразу проснулась. Увидев милиционеров,
сжалась в комок.
Те, окинув взглядом старух и девчонку, не стали проверять, извинились и пошли
дальше.
Задрыга тут же оделась, встала.
— Куда ты идешь? Не видишь, бандитов ищут! — хотела придержать ее одна из
старух, но Капка, открыв сумку, уже достала разношенные туфли, надела их и вышла
в проход.
Милиция уже проверяла документы фартовых, хотела взглянуть на багаж. Задрыга,
поняв это, разогналась от своего купе. И, словно поскользнувшись, наступила на
ноги проверяющих. Те взвыли от боли, едва сдержав площадную брань. Они так и не
поняли, что произошло, почему их полуботинки оказались проколотыми насквозь.
Сразу не додумались проверить обувь Задрыги, какая надевала эти туфли в особых
случаях, когда хотела кого-то наказать особо жестоко и быстро. Вместо каблуков в
них были гвозди. И только Капка умела ходить в них на носках, не касаясь
«каблуками» пола. Эти туфли не раз испытали ноги Боцмана и Таранки. Сколько раз
фартовые искали их, чтобы сжечь, закопать, выбросить. Но Задрыга умела их
прятать, как свое самое любимое оружие пытки.
— Мать твою! Что это? — недоумевали милиционеры. У них сразу пропала охота к
проверке пассажиров. Хромая й бранясь, они кое-как вышли из вагона. Двое других,
увидев, что случилось, бегло оглядев пассажиров, поспешили из вагона. Не станешь
же проверять девчонку, если надо было найти воров. Попробуй ее вывести из
поезда, старухи, с какими она ехала, хай поднимут. Все пассажиры поддержат их и
сорвут проверку, на какую сразу не стало сил.
Вскоре закончилась проверка остальных вагонов, и поезд медленно отошел от
перрона.
Задрыга видела, как тяжело влезли в милицейскую машину двое проверяющих. А
фартовые с облегчением вздохнули. Именно в этом купе везли они самый дорогой
груз. Ради него рисковали всем. Найди его милиция, не спасли бы ксивы; И Шакал,
глянув на Задрыгу, взглядом похвалил ее.
Капка гордилась, когда пахан, рассказывая о своем разговоре с маэстро
законникам, не выгнал ее. Дал послушать. И Задрыга узнала, что теперь владения
малины увеличились впятеро. Что Черная сова станет самой богатой малиной. И в
случае шухера, может линять в Одессу, где маэстро обещал полную безопасность,
кайфовую хазу, поддержку во всем.
Маэстро не обиделся на Шакала за то, что тот не был в деле, не доставал его из
тюрьмы. Понимал на пробитых катушках в дело не ходят. Но выговорил Шакалу за то,
что тот отпустил Седого, оставив суку дышать.
— Не замокрил тебя? Дал слинять? Но и тебе помешал размазать лягавого! Значит,
ваши жизни поставил вровень и ты с тем согласился, сравнил себя с ментом! Не
ожидал! — сказал маэстро зловеще. И добавил:
— Нет веры суке! Ты его отпустил дышать, я твое слово отменяю! И не дергайся!
Седого уберут другие малины. Кто не в обязанниках у падлы. И, секи! Не цени свой
кентель выше колганов фартовых, попухших из-за козла! Ведь и меня он высветил
лягавым! Скурвился как последний пидер!
Шакал молчал. А маэстро добавил тихо:
— Если б. не твоя малина, доставшая меня из тюряги, узнай я о Седом, с тебя
колган полетел бы на разборке. Доперло? Ну, то-то…
Никому не рассказывал Шакал о своем разговоре с Седым в сарае, куда тот притащил
пахана с простреленной ногой.
— Для тебя он — лягавый! А для меня — кореш. Воевали мы вместе с ним. В одном
танке — от Сталинграда до Берлина доперли. Война — не фарт. Он меня от ожмуренья
четыре года берег. Свой кентель подставлял, чтобы я дышал. Такое — не посеешь до
могилы! Тебе это не понять никогда. Он командиром танка был. А мы его, как
брата, любили. Как друга. Потому, не дал загробить. И любого за него замокрю.
Никого у меня на свете нет кроме памяти, а в ней — лишь Семен живет…
Шакал понял Седого. Но маэстро считал иначе:
— Недобитый сука злей мента. Он засветит любого. И тебя— простившего — в первую
голову… Пока Седой дышит, старайся подальше от него, коль замокрить не смог.
Недолог курвин век. Накроют его кенты. Я уже велел кому надо, убрать паскуду.
Думаю, когда возникну в Одессе, кенты уже замокрят лярву. А ты, секи, шакалы не
должны прощать, Не та у них кровь…
Пахан малины не раз в этом разговоре пожалел, что простил Седого. Но данное
слово решил не нарушать и скорее забыть о том, с кем было связано немало
неприятностей.
Малина хотела, приехав в Москву, не задерживаться, тут же махнуть в Ленинград.
Шакал в Ростове слышал от паханов, что те со своими кентами сшибли неплохие
навары на музеях и выставках, на антикварах и дантистах.
— Теперь это наше! Маэстро отдал! Навары дернем с городских малин. Бухнем!
Задышим на большой! Положняк снимем со всех падлюк. Там он — кучерявый! Паханы
вякали, кенты те кайфово канают! — говорил Шакал, мечтая, как заживет в новых
владениях, прижав к ногтю городскую лягашку, прокуроров, каким налогом обложит
шпану.
— Малину нашу самой лафовой из всех сделаю. Удачливых законников сфалую к нам!
За честь сочтут фартовать с Черной совой! — мечтал Шакал вслух.
Кенты не переча слушали пахана. Мечтать любили все. Если б не это, не дожили бы
до нынешнего дня. Вот только не всегда мечты сбывались. Не все кенты додышали…
Спит малина… Завтра воры думают быть в Москве. Во сне они живут в зонах и
тюрьмах. Только в неволе видят во снах волю. А на свободе — не верят в нее…
Спит пахан… Даже теперь ему нет покоя. Лоб прорезали глубокие морщины. Губы
сжаты в твердую линию. Руки сцеплены в кулаки. Этот и во сне остается Шакалом.
Боцман вздрагивает и теперь. Хватается за бок, потом, растопырил пальцы, будто
поймать решил и вдруг кричит визгливо:
— Задрыга! Курва облезлая! Колган скручу! Кончай пытать!
Таранка от этого крика под одеяло с головой влез, хоть и не проснулся. Боится
Капки, авось, сегодня его пронесет и Задрыга застопорится на Боцмане.
Храпит Хлыщ. Он всегда спит мертвецки. Даже в ходках снов не видит. От того и
нервы в порядке. Нет морщин на лице, хотя давно на пятый десяток перевалило. Ему
бы хамовку, да выпивона побольше.
Другое дело — Глыба! Этот и во сне себя ощупывает — в каком он барахле? В
фартовом или маскарадном? Каким голосом трехать проснувшись? Ведь всякое бывало!
Засыпал в лифчике и чулках после удачного дела, а просыпался в лягашке. Так и не
помнил, как там оказался? Лишку бухнул ночью. А менты утром, чуть не обоссались
со смеху. Думали, шмару замели вместе с фартовыми и сунули Глыбу в камеру к
бабам. Тот под утро на парашу захотел, бабы как увидели, что за подружка в
камере объявилась, глазам не поверили. Приняли за «подсадку» лягавых. И всей
кодлой на Глыбу насели. От трамбовали чище чем на разборке. Если б не опера,
вякать бы Глыбе до конца жизни тонким голосом.
Спит Пижон. Недавно фартует в малине кент. Но даже Задрыга признала его и
никогда не прикипала к нему со своими шутками. Не испытывала на нем новые
средства пыток. Его в малине уважали все.
Спят и стремачи. Постанывая, повизгивая, лопоча несусветное. Они всю жизнь под
страхом дышат. Да и то сказать, кто с ними считался? Менты и законники — все на
них отрываются, везде они — козлы. Нет у них радостей. Не заживают бока от
трамбовок. Не успевают. У них самый маленький положняк от фарта и судьбы…
Спит Задрыга, прижав к себе любимицу — белую кошку. Та мурлычет, свернувшись
клубком. Она одна понимает, отчего такой злой стала ёе хозяйка. Не было у Капки
игрушек, не брали на руки, не гладили, не говорили добрых слов. Зовут так
обидно, что кошке не по нраву, шерсть дыбом встает. А хозяйка — терпит. Оттого и
стала такой, как ее все зовут, чтоб не обидно было.
Задрыга во сне усмехается. Видно, новое наказанье приду
мала, новую пытку. А может, Мишка-Гильза привиделся ей? Девчонке хотелось бы с
ним повстречаться, но пути фартовые, как звериные тропки в глухой тайге, редко
пересекаются. А потому мало надежд на встречу у Задрыги. Да и доведется ли до
нее дожить?
Стремачит сон малины Заноза. Самому уже невмоготу, но кемарить на атасе —
нельзя. Кенты за такое оттыздят не щадя. Заноза, чтоб не уснуть, пьет крепкий
чай. Так Шакал подсказал, посмеявшись, что не только спать, но и срать
разучится. От такой заварки все потроха колом встанут.
— Пусть хоть они стоят, сам и сидя переканаю. Все ж на воле, не за запреткой.
— Эй, кент, чего не дрыхнешь? — слышит тихий голос совсем рядом. И худосочный
Жердь предложил сжалившись:
— Хиляй на мою полку. Придави хоть на пару часов. Я на стреме вместо тебя
приморюсь.
Тихо в вагоне. Лишь колеса стучат несмолкаемо. Да гудки встречных поездов
взрывают покой ночи.
Утром, едва рассвет заглянул в окна, проводница пошла по купе будить пассажиров,
скоро Москва…
Шакал первым увидел милицию на перроне, И предупредил кентов не высовываться.
Подождать, пока все пассажиры выйдут. Тогда можно в хвост пристроиться.
— Зачем? — удивился Глыба. И в момент нацепив бабье барахло, взял Пижона под
руку.
— Кончай маскарад! — оборвал Шакал, заметив, что милиция внимательно
всматривается в лица пассажиров. Он сунул проводнице стольник, попросив открыть
задние двери. Вскоре малина затерялась в привокзальной сутолоке. А милиция,
проверив все вагоны, удивилась ложной информации из Ростова.
— Нас лягавые стремачили. Не иначе. Но кто пронюхал, что мы в Москву слиняли?
Седой о том — ни сном, ни духом не знал. Ни одна малина не могла допереть. Сами
никому не вякали.
— Маэстро знал! — вспомнил Глыба.
— Звезданулся, кент! Маэстро станет ботать с мусорами? Скорей лягавые со смеху
откинутся! Съехал, чумной! — злился Шакал.
— Кто ж засветил, если нас дыбали?
— Не допру, — развел руками пахан.
— Остыньте, я вам вякну! Мог засветить нас лягашам кент Седого — мусоряга! —
предположил Пижон.
— А он откуда нюхал?
— Может, и не нас дыбали лягавые? — обронил Хлыщ.
— Нутром чуял — нас шмонают! — вставил Шакал и велел всем заглохнуть.
Вечером Черная сова уехала в Ленинград. Фартовые на этот раз ехали в разных
вагонах. Из осторожности подходили по одному. Держались незаметно, тихо. Так
велел Шакал, не привлекать к себе внимание мусоров и фраеров.
Задрыга со своей кошкой и сумкой попала в купе к семье, какая ехала в гости к
родственникам — в Пушкино — неподалеку от Ленинграда.
Это Капка узнала от девчонки, своей ровесницы. Она часто ездила по гостям и
очень гордилась, что ее отец и мать никому свою дочь не доверяют.
— А знаешь, к кому мы едем? К самому Владимиру Ивановичу. Он очень большой
человек! Ректор университета! Зарплата у него, как у министра. Огромная! Потому
все есть! Даже собака! Заграничная! Не веришь? Честное пионерское! — поклялась
незнакомка.
— А ты чья будешь? — оглядела Капку с любопытством.
— Сама своя! Тоже в гости еду. К своим! У меня родни полно! По всему свету. Есть
бедные и богатые! — спохватилась Задрыга, что слишком много правды о себе
рассказала.
— К кому едешь? К бабушке?
— Ну да! Она меня давно ждет! — усмехнулась Задрыга.
— Ты была в Ленинграде?
— Нет! Впервые туда, — вспоминала Капка уроки приличного поведения, полученные у
Сивуча, и все боялась, как бы не сорвалось ненароком крепкое фартовое словечко.
В малине на это реагировали громким хохотом или ответной бранью. Мат никого не
возмущал и не шокировал. Здесь же — другое дело. И хотя Задрыге стало ужасно
скучно с прилизанной, наодеколоненной девчонкой, похожей на куклу, украденную из
витрины, она вздумала выведать у нее, где живет тот пархатый Владимир Иванович.
И, понемногу, выведала все. Даже то, что тот фраер собирает старинные монеты. И
ему за коллекцию музеи предлагали большие деньги. Но он не согласился. Держит их
дома — в секретере. И собака рядом спит, — обронила девчонка, не поняв, отчего
дрогнула Задрыга.
— А зачем собака там спит? — прикинулась наивной.
— От воров сторожит. Знаешь, сколько раз их обокрасть хотели? Собака не дала.
Одного — насмерть порвала! — похвалилась гордо. И заявила, будто о себе, что у
этой псины — нет носа. Вся морда — сплошные морщины. И порода его — английский
бульдог.
— Нет таких собак, чтоб человек не одолел! — не поверила Капка. Но девчонка
обидно рассмеялась. И сказала:
— Дядя Володя на своем псе — много выспорил. Жаль, что ты в Пушкино не бываешь,
не то он и с тобою поспорил бы.
Задрыгу это задело за самолюбие. И она дала себе слово навестить родственника
этой заносчивой девчонки, проучить пархатого, тряхнуть его на коллекцию монет.
Адресок Капка запомнила накрепко. И, едва малина вышла из поезда в Ленинграде,
рассказала пахану о разговоре с попутчицей.
— Мы не домушники! Секешь? Не позволю тебе честь фартовую марать! Не то вломлю!
— пригрозил Шакал.
— Тогда сявки пусть колонут пархатого. Они не законники, им можно! Хоть для
себя, чтоб не разучились фартовать. Иль на халяву я с той кикиморой всю ночь
трандела?
— Ладно! Им вякай! Пусть сами решат. Я их стопорить не стану, — согласился
пахан. И Капка словно заразила стремачей азартом. «Наколка» по душе пришлась… На
следующий вечер решили накрыть ректора вместе с заграничной собакой.
Капка, едва стремачи стали собираться, места себе не находила. Ей так хотелось
пойти с ними в дело. Но пахан, прикрикнув, заставил замолчать.
Все четверо взяли с собой ножи, маски и табак. До Пушкино решили добраться на
автобусе. И обещали к утру вернуться на хазу.
Задрыга ждала их всю ночь, не смыкая глаз. Но ни утром, ни днем, ни под вечер
стремачи не вернулись в хазу. Малина не на шутку встревожилась. Хотели послать в
Пушкино Боцмана, чтоб разузнал, что случилось с кентами? Тот, едва оделся,
услышал в дверь знакомый стук. Открыл и ахнул. Отпрянул, как от привидения.
На пороге стояли Фингал и Заноза. Оба изорванные, истерзанные, все в крови и в
синяках. Они еле держались на ногах.
Войдя в хазу, рухнули на пол обессиленно.
— Где Жердь и Краюха? — спросил их пахан.
— Хана им. Накрылись. Ожмурил кентов проклятый пес! И нас едва отнял у него
хозяин.
Стремачи сняли рубашки, брюки. Задрыга увидела жуткое! Тела Фингала и Занозы
были не просто искусаны, а порваны. Как стремачи добрались, удивились даже
фартовые.
Задрыга, никогда не знавшая жалости, тряслась, как в ознобе, чувствуя себя
виноватой во всем. Она помогла стремачам раздеться, обработала все укусы и
порывы, каждый синяк. Она не жалела ни живицы, ни спирта, ни бальзама. Она
бинтовала стремачей, кормила, умывала, боясь задавать вопросы.
Малина во всем случившемся винила ее одну. Это она чувствовала по тяжелым
взглядам, охрипшим, посуровевшим голосам, по обращению и отношению к себе.
Поняла, что случившееся не сойдет даром и обязательно выплеснется яростным
взрывом злобы у Боцмана или Таранки. Такого еще в Черной сове не случалось,
чтобы по наколке своего накрывались кенты. Капка чувствовала, что и через годы
этого случая ей не простит и не забудет Черная сова.
Фингал лишь на пятый день смог рассказать толково, что случилось с ними в ту
ночь. Боль понемногу улеглась, и стремач лежал не шевелясь, боялся потревожить
раны. Но кенты давно ждали подробного рассказа и, наконец, услышали:
— Возникли мы к тому пархатому, как и полагалось, в фартовое время, за полночь.
Когда в доме повсюду свет погас, мы и нарисовались под окном, что катяхи в луже.
Прислушались. Ни шороху, ни бздеху. Ровно все накрылись. Мы и раздухарились.
Подставил я свой горб Жерди. Тот, как наездник, вскочил и мигом в форточку.
Встал на подоконник, открыл створки, чтоб и мы не сачковали. Наскребли бы для
себя на выпивон. Ну, а Краюха не такой, врезал мне в мурло ходулей и вякает:
— А на стреме кто останется? Отваливай.
— Я и приморился. Они враз к секретеру похиляли. И вдруг слышу, рычит кто-то. Я
своим лопухам не поверил. И, шасть за угол. Никого. А это у пархатого. Кенты и
не приметили вначале ту барбоску. Она, блядь, тихо канала, покуда секретер не
стали щупать. И надо ж, тварь безмозглая, не брехнув, не гавкнув, враз за жопу
зубами. Так и расписалась у Занозы, будто татуировку справила. Тот по фене
барбоса послал и уже колонул секретер. За монетами потянулся, клешнями сгреб,
они звякнули. Пропадлина пес, ни с хрена из-под Занозы табуретку колганом вышиб
и налетел на кента. Жердь схватил табуретку и по кентелю барбоса погладил. У
того, видать, зенки в жопу упали. Увидел, кто его согрел, и в самые яйцы клыками
вцепился. Краюха пса за горлянку придавить вздумал. Да не тут-то было. Этот
мудило, как малахольный, словно никогда фартовых не видел, кинулся к Краюхе
молча, без мата, и пузо по самые муди распустил. От горлянки. Кент тут же душу
посеял.
— Нам враз линять надо было, — вставил Заноза.
— Как слинять, если монеты звякнули? От навара? Да это грех! Короче, я до того
не допер! И шасть к статуе, что на столе стояла. Баба! Вся сверкала, как из
рыжухи! Я оглядел. Все б лады, да она без клешней. Видать, хозяин-фраер этой
статуей гостей выметал с хазы. По кентелям ею грел. Только я ее в сидор всунуть
хотел, барбос на меня, как пахан на сявку, наехал! С катушек сбил. И к горлу
прорывается. Но шалишь, я ее шарфом обмотал еще до хазы. И кулаком в нюх успел
зацепить того барбоса. Он, зараза, весь раздухарился! Шмонать стал, где меня
схватить. Тут его Жердь зацепил под сраку. Пес мигом к нему! Сиганул! Никто и не
приметил, как успел вцепиться в горлянку. И накрылся кент! — вздохнул Фингал.
— Как же вы уцелели? — спросил Глыба.
— Хозяин возник. Доперло до гнуса, что в гостиной неладное. И прихилял. Свет
включил. Мы — к окну, а барбос вовсе залютовал. Уж он отвел на нас душу. Фраер
ему не мешал сорвать кайф, А этот пес уделал нас так, что света белого не
взвидели. Не то к окну, встать не дает отползти. Тут же загрызал заживо обоих. А
тот пидер — старик, сидит сложа клешни и лыбится, глядя на пса.
— Этот растреклятый гад боли не чуял. Я его по кентелю той статуей погладил,
какую Фингал спереть хотел, а баба эта — из бронзы была. Если б меня по колгану
вот так съездили, я б тут же накрылся! Барбос даже не почуял! — удивлялся
Заноза.
— Он без передыху нас трамбовал. Обоих. Да так, что мало не показалось. Я понял,
на измор берет. А тут хозяин отозвал барбоса и вякает:
— Как, ребята, поживились? Попробовали, на что мой Марсик способен? То-то! В
другой раз будете знать, куда претесь! А теперь гоните за моральный ущерб. За
грязь и беспокойную ночь. Мне с Краюхи и Жерди всю рыжуху снять пришлось. А
старый козел недоволен. Вякает — мало! Когда мы и свое выложили — успокоился.
Открыл дверь — велел выметаться вместе со жмурами. Мы и слиняли. В лесок. Там
наших кентов под корягой затырили. Завалили мхом и землей, как сумели. А уже
светло стало. В таком виде не нарисуешься в городе. До темна канали, как падлы!
И вякаю вам, кенты, не возникну теперь ни в одну хазу, где такой барбос
приморился в кентах у хозяев, — высморкался Фингал, морщась от боли.
Задрыга слушала, вздрагивая всем телом. Она взглянула на пахана. Тот оглядел ее.
косо. И велел кентам собираться. Капка поняла, Черная сова идет в дело, но без
нее.
Девчонка лечила стремачей. Выглядывала в окно изредка.
Незнакомый, холодный город стыл под промозглым дождем. Сырые дома, мокрые, серые
улицы и люди, похожие на серых муравьев, потерявших в тумане свой муравейник.
Малина так ждала встречу с этим городом, а он оказался таким неприглядным,
чужим.
Задрыге даже не хотелось выходить на улицу. Она с тоской смотрела на взбухшие
тучи и дождь, льющий уже который день подряд.
Хорошо что стремачи поправляются быстро и не затаили злобу за неудачную наколку
— на нее — Капку.
Ей они рассказали чуть больше, чем малине, о своей неудаче.
— Знай, Задрыга, все бабы хвастаться любят. Не верь трепу. Она хоть и зелень —
твоя кентуха, что ехала в поезде, но уже — баба! Тот фраер, к какому мы
возникли, ректором никогда не был! Доперла? Откольник он, был в фарте. Наколки у
него. И будь он ректором — сдал бы ментам враз! Тут же возник и не дернулся даже
своих поднять. Содрал дань за визит. И вякнул вслед, мол трехните кентам, что ко
мне рисоваться невпротык. Сам тертый!
Заноза долго сетовал, что пришлось ему отдать свой портсигар из рыжухи. Много
лет он его имел. Сжился, сдышался. Не думал, что им душу свою выкупать придется.
— Он не хуже барбоса, тот фраер! На хазе фартует! На живца берет всех. Растрехал
про монеты. Авось, кто клюнет. И возникают… А пес — на гоп-стоп хватает. Хозяин
— положняк снимает. Так и дышат. На дело не ходят. А кайфуют файно! Допер старый
хрен, как в отколе жировать надо. И нас наколол! — уже смеялись стремачи,
вспоминая недавнее.
— Мы, когда кентов зарыли, в леске прикипелись, засекли, что в этом Пушкино
много фраеров держат барбосов. Всяких. Громадные есть! И с рукавицу! Лысые и
лохматые. У иной голос, как у пахана, другая — обиженником брешет. Но, вякну я,
не суну шнобель в хазу, где блохатые заразы канают.
— Надо было хамовку взять. Для барбоса. Чтоб откинулся, — вставила Капка.
— Было у нас! Так он, паскудный, с чужих рук не берет!
Задрыга умолкла, обдумывая свое. Она не любила и не
умела прощать, отступать от своих планов. В ее голове зрела идея мести. Ее она
вынашивала не первый день.
— А чего «перья» в ход не пустили? — интересовалась у стремачей.
— Мылились. Да этот барбос все видел и враз за клешню! Чуть не отгрыз по локоть!
— показывали искусанные руки.
Задрыга места себе не находила от ярости, закипавшей все сильнее. Ее стремачей
тряхнули — взяли дань. А двоих — размокрил пес. Спустить все это даром Капка не
могла. Она теряла покой и сон. Девчонка стала несносно раздражительной.
Малина не замечала изменений в Капке. Фортовые взяли с городских малин хорошую
долю. Да и сами побывали в делах.
Задрыга, возьми ее Шакал, может, и забыла бы о случае со стремачами. Но,
находясь с ними целыми днями, наливалась злобы, накалялась все больше. И…
Однажды исчезла среди ночи, никому ничего не сказав и не предупредив.
Капка не случайно исчезла тихо. Знала, пахан ни за что не отпустит ее, законники
не пойдут с нею, сочтя для себя домушничество — западло…
Задрыга понимала, что и в дела ее перестали брать из-за прокола стремачей, а
потому вздумала провернуть задуманное самостоятельно. А уж тогда…
В Пушкино она приехала поздней ночью — с последним автобусом. Мигом нашла дом.
Вытащила из-за пазухи все, что готовила для этого дела втай от малины, и быстро
влезла в форточку, стала на подоконник, не торопясь слезть с него, вгляделась в
темноту комнаты и когда привыкла к ней, заметила две зеленые точки, два собачьих
глаза — внизу, под подоконником. Ухмыльнулась. Тихо расправила ремень удавки.
Собака, почуяв недоброе, зарычала.
— Марсик, — позвала Задрыга тихо. Пес подпрыгнул резиновым мячом. Скользнул
клыками по пальцам ноги, но не удержался, соскользнул, и в этот момент его шею
затянула удавка. Собака пыталась достать ее зубами, изворачивалась. Но удавка
была коварной. Бульдог не мог предположить такой пакости для себя. А Капка,
затянув удавку так, что пес захрипел, привязала второй конец к ручке окна и,
спрыгнув с подоконника, вспорола живот ножом. Пес дернулся, затих. Задрыга
спокойно влезла в секретер, выгребла монеты в легкую сумку. Забрала деньги и все
ценное, что нашла в ящиках. И собралась уходить. Но в эту минуту услышала тихий
скрип двери, увидела худую фигуру хозяина. Увидела, как тот потянулся к
выключателю на стене и метнула нож.
Короткий стон обрадовал. Капка подскочила вплотную:
— Попух, мудило? Колись, пока тебя не пустила на ленты, где рыжуха моих кентов,
какие навещали недавно? Выкладывай!
Хозяин резко поддел Задрыгу ногой в живот. Та, стиснув зубы, подскочила, ударила
ему ребром ладони по горлу. Старик вдавился в стену, стал медленно сползать
вниз. Капка взяла его «на кентель». Хозяин глухо рухнул на пол.
Девчонка увидела в углу сервант. Мигом открыла ящики и увидела портсигар, часы,
кресты с цепочками — снятые с
мертвых кентов, золотой перстень Краюхи и браслет Жерди — давний талисман удачи
кента.
Задрыга сгребла все. И выйдя в дверь, скоро исчезла в темноте ночи.
На хазу она вернулась утром. Больше половины пути до города пришлось идти
пешком, пока старая колымага, волочившая в город бидоны с молоком, не нагнала.
Водитель остановился, сжалившись над уставшей девчонкой.
Малина, увидев ее на пороге, удивилась и обрадовалась:
— Куда линяла, стерва? — подошел пахан, схватив дочь за душу.
— Отвалите от меня! — вывернулась из рук Шакала и, подойдя к столу, высыпала из
сумки все содержимое. Потом достала из карманов часы и портсигар, браслет и
кресты.
— Вот так надо хилять в дело! — оглядела изумленных стремачей и тут же получила
кулаком в ухо, отлетела к ведру с водой, опрокинула его. Подскочила, сцепив зубы
к пахану:
— Кончай махаться, Шакал! Я и сама, без тебя продышу! Одна фартовать стану.
Слиняю из твоей шоблы! — говорила хрипло, выплескивая вперемешку обиды и угрозы,
у Шакала сорвалось невольное:
— Линяй с глаз, падлюка! Я тебе хавальник живо заткну! Кикимора облезлая! Ишь,
пасть раззявила, гнида! — развернул Задрыгу и пинком вбил в свою комнату, закрыл
на ключ.
— Зря лютуешь, Шакал! У Задрыги свой гонор созрел! Нашенский — фартовый! Не
сдышалась, что двоих стремачей ожмурили. Свой кентель подставила. Рискнула и
доказала, что стремачи не законники! Вон она! Зелень! А сумела провернуть дело!
Одна! Сама! Твоя кровь! — вступился Пижон. И Шакал смолчал. Подошел к столу, с
интересом разглядывал монеты. Их было много, больше двухсот. Были и золотые
рубли — царские, серебряные, свои и заграничные. Старые, позеленевшие. Шакал не
мог оторвать от них глаз.
— Похавать дайте! — долетело до его слуха. Он выпустил Капку, велев Глыбе
накормить Задрыгу.
Капка не столько ела, сколько слушала, о чем говорит малина:
— Темнить Медведю — без понту! И все ж, не допрет до меня, как это могло
случиться? Ведь не один линял! В волжанке, кроме маэстро, кодла законников
хиляла.
— Всех замокрили! До единого!
— Быть не может!
— Чего там! С вертолета! Трехал фартовый, средь дня, средь дороги их размокрили
лягавые! Ботали падлы в матюкальник из вертолета! Кенты их на третий этаж
послали. Не поехали, куда им велели. Те и застопорили! Колеса пробили Кенты
врассыпную. Их из автоматов! Маэстро в машине был. Уже «на пушку» взятый. Сам
себя, иль мусора, теперь пронюхай!
— А вертолет и лягавые откуда? Чьи?
— Ботают, что из Ростова! Вроде как тот мент — кореш Седого!
— Не может быть! Седой смотался! Я сам видел! — забылся Боцман.,
— Седой смотался! А лягавый его и теперь в Ростове!
— Не Седой же высветил маэстро! Он и сам не допер бы, когда тот в Одессу свалит!
— Пришить его не дал! Дышать оставил! — Вот за что фартовые теперь Седого
шмонают всюду. Коли надыбают, притянут на разборку!
— Сколько ж кентов загробили?
— Трехают, что вместе с маэстро — шестеро откинулись
— Мать твою! Самых файных замокрили!
— Туфта! Маэстро не пальцем делан! Вякал, ночами ехать будет. Днями — кемарить
на фартовых хазах! Напутал кент. Пристопорим с неделю, — вмешался Шакал.
— Не один он это ботал. Уже третий! Такое не путают, пахан, — задумчиво перебил
Пижон.
— Для нас это хреново! Навары оттяпать могут. Вернуть прежних законников сюда.
Слово за них трехнуть. И тогда нам опять в Брянск. А там, как дышать! Гнилое
место. Захолустье и нищета! Одна голь! На всю деревню, как из помойки, стольника
не наскребешь! — досадливо сплюнул Шакал.
— А мы не смоемся отсюда! Надо будет, коль припрет, своих прижмем, чтоб
потеснились, — оскалился Таранка.
— Нам без понту срываться отсюда, да еще теперь — к зиме, когда колотун всех
мудаков по хазам держит. Да и навары здешние — жирные. Вон антиквара тряхнули! И
глянь! В общаке, будто банк накрыли! — радовался Глыба.
— Вчера фартовые намекали, что лыжи вострить отсюда нам придется. Коль сами не
слиняем — подмогнут. Обещали… Я тоже им… Ну, вроде заглохли. Надолго ли? —
сказал пахан.
— Да хавай ты! Не крутись! — разозлился Шакал на Задрыгу, слушавшую всех,
крутившуюся то в одну, то в другую сторону.
— Если все верняк, Седого убрать придется. Нам или другой малине, но не спустит
ему сход подлянку. И за маэстро душу вытряхнут. Жаль, что на его клешне наша
метка, — сказал Боцман
— Не клешню, кентель у него оторвут, — рассмеялся Хлыщ и добавил:
— А кто пронюхал, что ростовские лягавые расписали всех?
— Законники двух мусоров замокрили по дороге. С того и заварился кипеж.
— При чем Седой?
— Его лягавый в вертолете был! Паханил мусорами. Видно, многому Седой научил.
Сам бы не допер, как путать законников.
— Тем виноват Седой, что лягавый дышит. А ведь я перо в фартового кидал. Мента
не враз приметил, — сознался Шакал и ухмыльнулся:
— Лягавого убрать не сложно. А Седой голым в клешни не дастся. Сам был
стопорягой! Он умеет колганы без резьбы откручивать. Его учить не надо. Скольких
ожмурил! За себя постоять сумеет!
— Уж не ссышь ли ты его — Шакал? — рассмеялся Боцман в лицо пахану. Тот
побледнел. Шагнул к законнику.
— Чего кипишь? Ты не на меня, на Седого слабак! — смеялся Боцман.
Шакал врезал кулаком в мясистый подбородок Боцмана:
— Не прикипайся, падла! Не дергайся. Не то пожалеть тебя, станет некому.
Задрыга тут же воспользовалась случаем, вогнала стрелу в плечо Боцмана, тот
озверело за нею вдогонку бросился. Капка под стол влетела, фартовый сунулся
следом, все банки, бутылки, тарелки, на его голове и плечах оказались:
— Пахан! Угомони ее! — взмолился Боцман, костыляя Капку матом. Та его за ногу к
столу привязала. Хотел шагнуть Боцман и носом пол пропахал. Кенты хохочут,
вытаскивают Задрыгу из-под стола, загораживают от фартового. Тот свирепеет.
— Кончайте дергаться! — прикрикнул Шакал на обоих. И добавил:
— Она дура, потому что зелень пока! А у тебя и под старость в колгане кроме
гавна ничего не заведется… Приморись, мудак! Отвали от Задрыги!
Капка слушала Пижона. Тот рассказывал, как он сегодня трехал с ленинградскими
законниками.
— У всех свое! Чего он сопли распускает, что фартовать невмоготу? Что фрайера
«пушки» заимели, собак в хазах держат. Так всегда было. Зато они тут дышат!
Город — громила! Тут хазы хоть каждый день меняй. Закадри почтальонов, они за
стольник о своих участках все вякнут. И о собаках, и хозяевах. Кто как и чем
дышит. Зачем самим нарываться вслепую? А как мы фартуем? — перебил Пижона пахан
и велел Задрыге рассказать, как она с барбосом сумела сладить?
— Приморила на удавке, потом пузо ему распустила. Но тяжелый гад. И сильный. Но
у меня злости было больше, чем у него. Потому и одолела, — созналась Капка.
Стремачи, получив от девчонки свое, радовались до бесконечности. А Капка, считая
себя прощенной, мечтала, как завтра пойдет она в дело вместе с малиной. Но…
Вечером к Шакалу пришел ленинградский пахан, сказав, что возник для важного
разговора, уединился в комнате с Шакалом до глубокой ночи.
— Просил монеты вернуть. Фраер из Пушкино к лягавым возник. Менты все малины
трясут. Ботал пахан, будто коллекцию эту старый пидер завещал музею, когда сам
откинется. Оттого менты кипеж подняли. Чтоб на халяву коллекцию загрести. Ну да
не сфаловался я! Вякнул, мол, ничего про монеты не знаю. А коли повезет, тоже не
верну. У нас та коллекция целее будет, чем у лягашей.
— Не допру, с хрена ли фартовые ментов ссут? — удивился Боцман.
— Как они в дела ходят? С добро — лягавых? — рассмеялся Пижон.
— Верно, у них Седой в паханах приморился! — вставил Таранка.
— Ботал пахан, что тот старый хрен вякнул в лягашке про пацана, какой его
тряхнул. В темноте его не увидел. Но голос узнает.
— Уморил пидер! — рассмеялась Задрыга.
Но… Смех ее прервал громкий стук в дверь. В хазу вломились фартовые города. И,
взяв в плотное кольцо Черную сову, потребовали тут же выложить коллекцию.
Задрыга, отмерив по локоть, обозвала законников козлами и послала матом,
по-мужичьи грязно. Ее хотели достать из-за спины Глыбы, надежно загородившего
собою Задрыгу.
Драка началась, как только местные попытались отодвинуть Глыбу. Тот пустил в ход
пудовые кулаки. Задрыга успела вырубить двоих гостей, не ожидавших от Капки
такой прыти. Переобувшись мигом в свои «растоптанные», она выбивала из драки
одного за другим чужаков. Кому бок порвала, живот, другим — ноги пробила.
Кровь, мат, хруст, стук переполнили хазу. Вот в дверь кто- то позвонил. Громко,
настойчиво. И все разом утихли. Свои и чужие вспомнили, что все они — фартовые,
а за стенами
хазы — чужой, враждебный мир, с лягавыми, овчарками, фраерами.
Законники ждали, повторится ли звонок? Но нет. Хлопнула соседняя дверь, значит,
могут позвонить лягавым.
— Кончай махаться, кенты! Давай по-честному трехать! — предложили местные.
— Ну уж хрен! В нашу хазу возникли махаться, а теперь ботать с вами? — взъярился
Шакал.
— Прости, пахан! Но ведь за эту сраную коллекцию уже три малины замели лягаши.
Кентов в ментовке метелят. Законников! Наших! Нет сил такое терпеть!
— Не хочешь своим на халяву уступить, верни за рыжуху или за башли! — предложили
местные.
— Сколько дашь? — спросил Шакал, оживившись сразу.
— Два «лимона», это ее родная цена!
— Накинь еще один и сговоримся! — ответил Шакал.
— Столько не будет. Два и хана!
— Нет! — отрубил Шакал.
— Тряхни Жмота! Да шустрей! Вякни, через месяц верну! — говорили меж собой
законники. И вскоре кто-то выскочил в дверь, побежал за деньгами.
— Давай мировую раздавим! — выдернул местный бутылку из-за пазухи. И, наскоро
умывшись, залепив раны и царапины, приложив смоченные холодной водой полотенца
на фингалы и шишки, садились к столу, забыв о недавнем.
Вскоре фартовый принес деньги. Их пересчитали. Шакал сгреб, и вернул монеты,
весело подморгнув Капке. Та цвела. Эта сделка и цена — устроили ее. Она знала,
что даже в банке кентам не всегда обламывалось унести больше одного лимона.
На следующий день, когда малина еще спала после бухой ночи, к Шакалу пришел
посланник из Ростова.
— Новый сход будет. В Минске. Так законники хотят. Тебя вызывают. Всех паханов.
Через неделю — будь!
— Нового маэстро выбрать надо?
— И это, и другое, — ответил загадочно и поспешил уйти.
— Пахан! На сход все возникнем! Одного не пустим! Видать, за Седого с тебя
захотят снять шкуру! — предположил Пижон и добавил:
— Сами вовремя не смогли убрать мудака! Теперь дергаются! Козла хотят из тебя
сделать!
Шакал ухмыльнулся невесело. Кто-кто, а он знал, всякому фарту конец приходит.
Разным он бывает. Не хотелось лишь ожмуриться от клешней своих — на разборке,
либо — в лягашке — на сапогах ментов.
— Может, и верняк ботаешь, Пижон! Только из этой разборки, если сход решит
ожмурить, вам меня не вырвать! — опустил голову Шакал и подозвал всех к столу.
— Вы все слышали! Все знаете! Вдруг последние дни я паханю, так вот, что
трехнуть хочу! В общаке теперь башлей хватает. Из них — больше половины —
Задрыгины! Она принесла. Вдруг меня не станет, ее долю отдайте Капке. Кто зажмет
иль замокрит за башли мою дочь, не боясь греха, пусть малина не спустит тому! Не
допустите это! Я и в жмурах за Задрыгу со всех и с каждого спрошу! Покоя не дам!
Она одна дышать не сможет. В отколе — откинется. С нами фартует с пеленок. И
удача, вместо матери, пока с нею ходит, не покинула! Вдруг непруха прижмет,
дышите вместе! Не гоните от куска никого! — сказал пахан.
— Зачем, Шакал, заранее откидываешься? — испугался Глыба.
— Потом забуду, иль времени не станет. На всяк трехаю! И секите! Моя доля в
общаке, на случай чего, долей Задрыги станет! Доперло?
— Не стоит о том, пахан! — сморщился Глыба.
— И тебе, Боцман, вякну, Задрыгу — пальцем не трогать!
— Кто ее пальцем тронет — без кентеля откинется! Сто лет бы я не видел эту
лярву! — скривился законник.
Фартовые Черной совы решили приехать в Минск на сход немногим раньше
обусловленного времени. Хотелось найти хазу получше, разнюхать, как фартуют
местные законники.
Капка с радостью покидала Ленинград. Всего три дня поводили и повозили ее по
городу фартовые. Побывала Задрыга в Эрмитаже. Там ей понравилось. Особо в зале,
где были выставлены царские короны, драгоценности, посуда и одежда. Но… Стащить
что-либо не удалось. Именно с нее, с Капки, не сводили глаз Шакал и Пижон.
Держали за руки. Как домашнюю. Задрыга даже заболела от такого. Ей запретили
дергаться, самостоятельно ходить по залам. А тут еще баба прицепилась, в
провожатые набилась. И всюду хиляла рядом с Шакалом. Объясняла, какая вещь кому
принадлежала, кто из царей какую корону носил. Какой скипетр принадлежал Ивану
Грозному и какой Борису Годунову.
Капка думала, сколько отвалили бы ей ленинградские малины, если бы она сперла
эти короны?
— Наверное, больше, чем за монеты? — думала Задрыга
В магазины ее пустить не решились. От греха подальше,
Местные кенты не сводили глаз с Черной совы и отказались признать Шакала
хозяином всех малин города. Ожмурился маэстро, отдавший город Шакалу. Теперь,
как новый решит. Коли подтвердит слово прежнего, значит, так тому и быть.
Фартовать в своем городе они никому не давали. И Черной сове предложили
сваливать в свои наделы! До схода… И малина уехала не прощаясь.
Капка даже глазам не поверила, войдя в хазу, что такие хоромы повезло им снять.
Пожилая женщина, увидев Капку, улыбнулась приветливо. Погладила по голове
удивительно теплой рукой. И, отдав ключи от комнат, сказала:
— Живите на здоровье! Мои дети за рубежом работают. Не скоро вернутся. А мне
одной и скучно, и одиноко, и трудно.
— А зачем они из такой хазы слиняли? — спросила Задрыга Шакала.
— Чтоб башли получать! Здесь на зарплату — копейки имели. На них не то дышать
нельзя, сдохнуть — гpex, похоронить будет не на что!
Задрыге впервые стало жаль чужую женщину, какая жила в хоромах вечным стремачом,
без доли, без тепла.
Уже в первый день приезда Капка прошлась по магазинам. Присмотрелась к
ювелирному, поняла, часто его трясли фартовые. В каждом отделе магазина дежурила
милиция. С наганом и дубинкой. Каждого входящего обшаривали глазами, норовя не
только карманы, душу обшмонать насквозь.
Задрыга рассматривала витрины — выкладки, прилавки. Приглядывалась к товару. Да,
золота хватало. Но проба низкая. И камни дешевые, полудрагоценка. Лишь два
кольца с бриллиантами, но мелкими, какие не имеют высокой цены. Золотые цепочки
— слишком тонкие, низкой пробы. Такие только старым шмарам дарят фартовые, и то,
когда те хорошо окосеют.
Задрыга идет от прилавка к прилавку, в надежде увидеть что-то стоящее. И вдруг
на ее плечо легла рука:
— Привет, Капитолина! — услышала над самым ухом и отпрянула по привычке,
взглянула и с трудом узнала в рослом парнишке Мишку Гильзу.
— Вспомнила, кентуха!
Капка кивнула, ущипнув Мишку за руку. Уж не снится ли он ей?
— Ты так и осталась Задрыгой? — отдернул руку и спросил тихо, наклонясь к самому
уху:
— Одна, или с малиной здесь фартуешь?
Со своими, — выдохнула тихо.
— Присматриваешься?
— Да здесь дешевка, — отмахнулась Капка.
— Пойдем в другой отдел. Тут недавно фартовые побывали. Файно тряхнули. Дыбают
их теперь повсюду, да хрен там! Малина уже в Гаграх! Кайфуют кенты.
— А ты как? — перебила Капка, не сводя глаз с Мишки,
— Пошли, прошвырнемся! — заметил Гильза милиционера, направлявшегося к ним. И,
обняв Задрыгу за плечо, прикинувшись влюбленным, сказал громко:
— Нет тут ничего — достойного тебя! — и вывел Задрыгу из магазина, гордо проведя
ее мимо обалдевшего от услышанного милиционера и продавцов.
Капка зарделась от гордости. Мишка признал ее взрослой! И поступил, как с
королевой.
— У тебя время есть? — спросил Капку, едва они вышли из магазина.
— Конечно! Хоть задницей ешь! — обрадовалась Задрыга. И парень повел ее в сквер,
неподалеку.
Здесь, сидя на промозглой скамейке, они говорили о своем.
— Фартую. Дышу, как последняя падла. Даже при удаче — трамбуют меня все, кому не
лень, — созналась Капка.
Она рассказала о предстоящем сходе, куда вызвали Шакала. Почему она боится его.
Мишка понимающе кивал головой. Рассказывал о себе. Поделился, что его собираются
принять в закон. Сейчас он готовится. Фартует в малине Медведя. Имеет хорошую
долю в общаке. Но недавно в Мурманске малина еле оторвалась от ментов. В
фартовых стреляли. Одного угрохали. Двоих ранили «из пушки». Мишку пронесло
чудом. Но бывало, что едва уходил…
— Если б не Сивуч, давно бы ожмурили, — сознался парень.
— Мне тоже кисло приходилось. Где от чужих, чаще — от своих перепадает, —
пожаловалась Капка и похвалилась, как тряхнула в Пушкино нумизмата.
Мишка поделился, как повезло ему в Горьком тряхнуть дантиста. Но пахан все
забрал в общак.
Капка смотрела на Мишку, с трудом узнавая в нем Гильзу. Как вырос, как
повзрослел пацан. Парнем стая.
Мимо них шли люди. Иногда оглядывались, окидывая Капку с Гильзой, кто улыбчивым,
кто равнодушным взглядом.
— Ладно, кентуха, затрехались мы с тобой. Пора мне к своим хилять! Не то пахан
наезжать станет! — встал Гильза со скамьи.
— Когда же мы с тобой еще увидимся? — спросила Капка.
— Ты не шмара, чтоб спрашивать меня о встрече. Почему, сама допрешь, — улыбнулся
широко, простовато и добавил тихо:
— Как фортуна распорядится нами…
Капка вернулась в хазу цветущая, радостная. И тут же услышала:
— Где тебя носило, падлу? Пахана завтра на сход зовут, а ты хвост подняла, как
телка! Иль созрела уже, двухстволка облезлая? — орал Боцман.
Задрыгу покоробило это обращение. И она, вскипев, сунула ногой в печень
законнику, как когда-то учил Сивуч. Боцман сразу пополам согнулся. О Капке
забыл. Зато Шакал о ней вспомнил, наехал грубо, обзывал. Задрыга молчала.
Понимала, опасается пахан завтрашней сходки, вот и отрывается на всех, кто под
руку попадется. Тут уж лучше смолчать, стерпеть, пусть пахан пар выпустит, зато
на сходке спокойнее держаться будет.
— Сегодня кенты в дело намылились. Тебя ждали. Да просрала ты свое! — сказал
Боцман Задрыге. Та не огорчилась. Она любое дело променяла бы на встречу с
Мишкой.
Пижон, Хлыщ и Глыба вернулись под утро. Антикварный магазин почистили.
Показывали редкие вещицы.
— Вот это колье! — загорелись глаза Задрыги. И она сказала:
— А в ювелирном сплошное гавно, глазу не на чем остановиться…
— Глянь, какой перстень! А кулоны? Брошки — загляденье! А эта вещица, как тебе?
— показывал Пижон цепочку с подвесками, усеянными бриллиантами.
— Смотри, запонки из рыжухи! Одно хреново — гранатовые камешки вкрапили.
Испоганили, фаршманули! Не для фартовых, на фраеров мастырили! А им хоть кирпич
вставь, лишь бы красным полыхало! — съязвил Глыба.
— Посмотри, Задрыга! Хочешь? — показал Пижон серьги.
— Файные! Только мне на кой хрен? Носить нельзя. Я не фраериха.
— Пахан, взгляни!
— Задрыга, примерь! — отвлекали кенты обоих от тяжелых мыслей о предстоящем
завтра сходе.
До него оставалась половина ночи. Станет ли она последней, иль все обойдется?
Что решат на сходе паханы. От их слова зависит и судьба фартовых Черной совы.
Ведь без Шакала фартовать станет много сложнее.
Кенты, возвращаясь с дела, условились как-то отвлечь
Шакала. И им это удалось. Шакал с интересом разглядывал золотые побрякушки. Уж
кто-кто, а он знал их истинную цену.
Капка примеряла цепочки с подвесками, кулоны и диадемы, брошки и перстни. Ей они
нравились. Но оставить их не решилась. Жизнь фартовых — вечный риск, зачем
держать при себе улики? И Задрыга вернула все. Она ждала и боялась наступления
утра. Но оно пришло. И Шакал, шагнув к двери, велел фартовым не появляться на
сходе, не ронять его и свою честь.
Он перекрестился. И вышел на улицу совершенно спокойный. Даже улыбался
хорошеньким женщинам, подмаргивал иным. Со стороны казалось, вышел человек на
прогулку. Вон какое безмятежное лицо. Как блестят глаза, как у ребенка. Вот
только душу не стоило бы трогать. В ней выла стая шакалов…
Пахан пришел на сход не позже и не раньше других. Завидев его, многие
нахмурились, иные — отвернулись, словно не узнали. Другие смотрели с откровенным
презрением.
Шакал, оглядевшись, подошел к окну, стал лицом к паханам, наблюдая за каждым. Он
знал здесь почти всех. По их поведению понял, сход будет тяжелым, злым. И ему
здесь рассчитывать не на кого. Никто не поддержит, не защитит.
Пахан заметил, как при его появлении оборвались разговоры. А значит, говорили о
нем. Теперь продолжить не решаются или не хотят. Все ждут развязки. Но вот в
распахнувшуюся дверь шагнул Медведь. Половицы под его ногами загудели.
— Привет, кенты! — рявкнул пахан на всю хазу. И обнявшись с некоторыми, подошел
к Шакалу, обнял за плечи так, что у того спина хрустнула, и гаркнул весело:
— Чего шнобели посеяли в ходулях, кенты? Вечером всех в кабак приглашаю! Бухнем
за встречу!
Законники оживились, заговорили.
Медведь подморгнул Шакалу незаметно для других и добавил:
— Заклеил для всего честного схода кабак «Цветок папоротника», кайфовое место,
ботаю я вам! И шмар на каждого кента! Так что силы на ночь берегите, не сейте на
сходе, не надирайтесь до визгу в кабаке. Будущему маэстро проверку устроим! Я
ему для испытания троих гимнасток припас! Справится со всеми — признаю, не
сумеет — не захочу видеть!
— А ты управишься с ними?
— Я — не маэстро! Мне троих маловато! — сознался под громкий хохот.
— А платить за блядей кто будет? — спросил Жмот, повернувшись к Медведю.
— Я оплачу! — грохнул тот.
— Тогда и мне пару потаскух подкинь. Но чтоб не старые были.
, — Во, падла! И тут на халяву яйцы распустил! Ишь, козел! — смеялись паханы,
— Мы вот тут с Шакалом решили после схода проверить, кто ж самый файный пахан?
Как мужик! И, надо ж — в деле убедиться. Чтоб чин по чину.
Шакал понял, Медведь пытается спасти его на предстоящем сходе.
— Давай я кабак на себя возьму, а ты — шмар! К тебе они, как мухи на навар, так
и клеются! — поддержал Шакал скучно. Его никто не услышал. Даже не оглянулся в
сторону пахана.
Медведь вызывал всех на разговор, общий и беззлобный. Он хотел разрядить
обстановку перед сходом. Это удавалось с трудом. Разговор то оживлялся, то
прекращался совсем. Пока на пороге не появился Чита.
— Всем, всем, всем! Большой, толстый и горячий! — проверещал пахан.
У Медведя от такого портсигар из рук выпал.
— Эй, Чита! Твою мать! Ты чего это тут всем напихал, катях сушеный? Чего тут
вякал про толстых и горячих, да еще больших? Уж не матом ли полил?
— Такой привет всем от меня! — нашелся Чита. А Медведь, погрозив ему пальцем,
прорычал:
— Не то я тебе покажу, на что я подумал…
— Кенты! Все прихиляли? Иль еще кого ждем?
— Сапера! Пузо! Они вот-вот возникнут!
— Уже нарисовались! — вошли кенты в хазу один за другим.
Сапер подал руку Шакалу, потрепал по плечу подбадривая.
Пузо улыбался, встретившись глазами с Шакалом.
— Ну что, кенты, начнем?
— Паханы! Коль некому стало вести наш сход, назначим старшего. Чтоб все по
чести. Он поведет сход, какой назначит нового маэстро, взамен убитого! Царствие
небесное — усопшему! Земля ему пухом! — перекрестился пахан и предложил:
— Пусть сход поведет Сивый!
— На хрен Сивого! Пусть Дрезина!
— Старшего, значит, старого? Кто средь нас старше Баклана? Вот он пусть будет!
— Давай Баклана! — поддержали все паханы, вытолкав к
столу сутулого старика с землистым лицом, пронырливыми, вертящимися во все
стороны глазами.
— Все верите мне, честные воры? — спросил скрипуче, обведя паханов внимательным
взглядом.
— Верим! — послышалось дружное.
— Веди сход!
— Тогда начнем с главного и самого больного! — откашлялся Баклан. И попросил у
схода слова для Пики, ближайшего кента и помощника недавнего маэстро.
Тот рассказал паханам о случившемся. О том, как погиб маэстро, как изрешетили
всю машину милиционеры с вертолета. О последних планах и пожеланиях маэстро,
высказанных до поездки в Одессу.
— Нет маэстро! Лягавые ожмурили! Месть мусорам! Пронюхать надо, кто ожмурял
кентов, и загробить его особо.
— Лягавого замокрить надо! О том трепу нет! Но кто вякнул ментам про малины? Кто
выложил с потрохами всех законников? Кто продал клятву на крови? Это мы доперли!
Седой! Прошлым сходом все приговорили суку к ожмуренью. Его надыбал Шакал. Он
знал о приговоре. Но отпустил фискала, поставил ему на клешню наколку прощения!
— Падла — Шакал! — загудел сход.
— Размазать самого!
— На ленты падлюку! Кто сучню отмазал, сам сука!
— Ожмурить пидера! — взяли паханы в кольцо Шакала.
— Попух, гнилая вонючка?
— На «ежа» его! Чтоб ожмурялся под криками!
— Ногами за вершины берез!
— В болото его загнать, чтобы могилы не надыбали!
— Шкуру содрать и в соленую воду!
— Утюгом его согреть!
— В «лапти» его! — предлагали обмотать ноги Шакала оголенными проводами,
включенными в сеть.
— Все мелочь! Я файнее придумал! — крикнул Питон.
И перекрывая гул голосов, предложил:
— До пояса ободрать с него шкуру. И голиком в крысином подвале приморить.
— В парашу его! — кричал Ехидна.
— Меня в парашу? А тебя, пидер, как приморить, если ты, курва лысая, закон
фартовый давно запродал? Тебе параша награда! — бледнел Шакал и сказал
срывающимся голосом:
— Если я виноват, пусть судят честные кенты, а не пропадлины вроде Питона и
Ехидны!
— В чем они облажались?
— Вякай, но не лажай кентов, не лепи на них темнуху! — настораживался сход.
— Про Ехидну ленинградские фартовые вякнут, не дадут стемнить. Малолетку
натянул. Силой взял. Она его малину на хазу пустила. Сирота. Он обрюхатил ее.
Когда допер, ожмурил «зелень». Подстроил, будто сама повесилась! А ей пятнадцати
лет не было! И это — пахан?
— Верно Шакал ботает?
— Трандит! — покрылось пятнами лицо Ехидны.
— Верняк трехал Шакал! — подал голос ленинградский пахан.
— Вытолкать со схода! Сявкам на потеху! И ожмурить! — приговорили законники.
— Питон не файнее! В Курске приморился на хазе у вдовы. Обокрал ее, и когда
линял — поджег. Сгорела баба в доме. А Питон — паскуда, загнал ее рыжуху, и
теперь на эти башли хавает!
— Было! — подтвердил курский пахан.
— Самого замокрить сегодня! — завопил сход возмущенно, выбив Питона за дверь.
— Рулетка меня ободрать хочет? Так пусть вякнет, падла, как выколол глаза матери
своего кента — Гнилого. Тот, загибаясь в ходке, велел пахану свою долю из общака
отдать старухе. Он надыбал ее. И чтоб долю не просила, выбил ей глаза. Вся моя
малина подтвердит это!
Паханы зашептались, опасливо косясь на Шакала.
— А ты, Егерь, чего вонял громче всех? Моя вина в сравнении с твоей — пыль
неприметная! Кто сифилисную шмару Кошелку фаловал набиться в постель к маэстро?
Кто ей башли за это сулил жирные? Не я ли ту потаскуху закрыл в отхожке? А
маэстро другую подставил — здоровую! Я ему лиха не хотел. А ты зачем решился на
такое?
— Докажи! — заорал сход.
— Было! — подтвердил Баклан глухо.
— Ты, Кадушка, чего нычишься? Не тырься! Я тебя вижу! Зачем, козел вонючий,
ограбив ювелирный в Томске, подставил малину Орла лягашам? Пахану за шмару
отомстил, какую он у тебя увел из-под шнобеля? А ты его — на Колыму! И не только
его, а всю малину на червонец упек! Они, когда слиняют с ходки, не на ленты тебя
пустят. А посмешнее придумают паскуде!
— Верно! — подтвердил Медведь.
Паханы, увидев, как выволокли сявки со схода Кадушку, и вовсе попритихли. О
наказании Шакалу не говорили, не требовали убить пахана.
— Эй, Решка! Меня замокрить надо? Так трехаешь? А зачем в зоне на душу фартового
в рамса резался? Зачем у своих башли тырил? Иль мало в зоне трамбовали? Зачем с
операми ботал? Такое не то пахану, простому фартовому — грех! А ты, зараза, за
чифир чуть не скурвился!
— Кончай, Шакал! Так ты к утру весь сход замокришь! — остановил его Баклан. И
спросил паханов:
— Так что с Шакалом? Как его накажет сход?
Но паханы, словно не слышали, молчали, отвернувшись от Баклана. Все потеряли
интерес к Шакалу.
— Фартовые! Я жду слово схода! — повторил Баклан.
— Решай сам! — крикнул Чита.
— Дай я вякну! Если что невпротык, кенты поправят! — отозвался Медведь и
заговорил гулко:
— Мокрить пахана, да еще Шакала — грех всем нам! Пусть он и облажался, но это не
от пакости его нутра! Я этого потроха давно знаю! Файный кент! И чем мокрить,
пусть он свое исправит сам. Надыбает Седого и размажет вместе с тем лягавым,
какой ожмурил маэстро! На том и кончить! Шакалу такое, как два пальца отделать!
Шакал от неожиданности вздрогнул, сказал тихо:
— Я Седому слово дал…
— Он клятву дал и нарушил ее! — оборвал Баклан.
— Принимаем слово! Размазать Седого и лягавого! — поддержал сход Медведя.
Паханы отдыхали, перед выборами маэстро. Перекуривали, переговаривались. Над
чем-то громко смеялись.
— Ну, Шакал, подчистил сход! Кенты чуть не усрались, когда шерстить начал! Все
зассали! У каждого хвост в гавне! Вот и бздилогоним, кого ты следующим за муди
выдернешь? Ну ты раздухарился! Паханы иные, гляжу, решили смыться втихаря, чтоб
не достал! — хохотал Медведь.
— Кого в паханы возьмем? — обратился Баклан к сходу.
— Может, Шакала? — вякнул Чита.
— Много знает! — не согласился кто-то.
— Он обязанник сходу! Такого в паханы — западло! Пусть замокрит сначала! —
сказал Сапер.
— Давай Медведя! — предложил Карат.
— Файный пахан!
— Лафовый кент!
— Все его знаем! Медведя хотим! — заговорили, зашумели паханы и назначили
Медведя маэстро.
Лишь Дрезина молчал. Он рассчитывал, что изберут его. Но сход желаний не
признает. У него свои мерки и оценки, свои законы и правила.
Медведь не ожидал для себя такой чести. И молча улыбался, оглядывая паханов, с
опаской косясь на Шакала. Но тот поддержал Медведя и радовался искренне.
— А кто кабаком грозился? — напомнил Медведю Сапер.
— И блядей обещал, — поддакнул Чита, едва просунув голову из-за плеча Могилы.
Я от своего слова ни на шаг! Ботнул, значит, верняк! Бухаем, кенты! Но тихо! Без
шухеру! Как в берлоге! Дошло? Тут менты борзые!
Подозвав к себе Шакала, предупредил, что у него к нему имеется отдельный
разговор, с глазу на глаз. Но не теперь. Сход еще пару дней продлится, и пусть
Черная сова не торопится линять.
— Задрыга при тебе? — спросил жестко.
— Куда ж ей деваться?
— Наслышан о ней! Много всякого трехают о девке, в закон ее пора готовить.
Файная кентуха получилась из нее!
— В дела берем! Удача с нею! Но норовиста! Как змея!
— Вся в тебя! — сказал тихо маэстро.
На Медведя Шакал обиделся бы. На маэстро — не посмел.
Шакал только теперь поверил, что избежал расправы, жестокой, унизительной. Она
казалась неизбежной. Но судьба в который раз пожалела пахана, оставив жить и
фартовать.
Шакала окружили паханы, звали в кабак, обмыть встречу.
Пахан недолго задержался в ресторане, вскоре покинул его, предупредив Медведя,
что завтра утром возникнет к нему.
Шакал сердцем чувствовал, как ждут его «малина» и Задрыга…
Увидев пахана живым и здоровым, Черная сова враз оживилась. Шакал рассказал
кентам о сходе, стараясь не упустить подробностей.
— А почему Медведя взяли в маэстро? — спросила Задрыга.
— Его все знают! По фарту и по ходкам. По тому, сколько раз он выручал из
непрухи законников. В фарте ни разу не облажался и всегда держал закон и клятву.
Не зажимал долю маэстро и главного пахана. Зелень растил честно. В ходках бывал
много раз. И если линял, кентов в пути не сеял. Пайку свою не зажимал. Делился
поровну. У него никого нет. Он один канает. Шмары — не в счет. Дышит, как
честный вор и средь кентов его все уважают. В делах удачлив. Он — любимец
фортуны. Все фартовые, чуть прижмет, к нему хиляют. Медведь выручал каждого. И
справедлив. Этого не отнять! К тому же, со схода на ожмуренье многих выволокли
по моему слову. Вот и поприжали хвосты. Сранка за всеми имеется.
А ну, как выверну на сходе! Вот и заспешили. Чтоб вживе уцелеть. Не до гонору!
Так бы, может, еще колупались. Да Питон с Ехидной так вопили, их стопорилы
размазывали с кайфом. Чтоб другим неповадно стало фартовый закон нарушать. Нервы
сдали у паханов. Задергались, — ухмылялся Шакал.
— Пахан, а с Седым, как будем? Неужель, слово свое нарушишь?
— Сход, сам маэстро велел! А тебе… В закон пора готовиться. Так Медведь ботал
при всех законниках-паханах. Слух о тебе до него дошел.
— Ну и дела! Как дышать теперь станем? — простонал из угла Таранка.
— Это как так? Задрыгу в закон? Да кто такая? В ходках ни разу не была, фартует
недавно! Разве такие нужны в законе? Не обкатана, не проверена, не терта! С
хрена ли? Медведь мозги сеет, а мы потом расхлебывай? — возмутился Боцман.
— В лягашке Задрыга отметилась! В делах и обкатана, и проверена! И доля ее в
общаке — больше твоей. Ты ее не держишь? Чего наезжаешь на Задрыгу? — нахмурился
Глыба и продолжил зло:
— Капка малину выручала не раз. Всех! Как кент! Хотя и зелень! Тебе захлопнуться
надо перед ней! И секи! Я ее в закон готовить буду! Если ты Задрыгу лажать
станешь, нарвешься. Ни тебе, ни Таранке не дам кентуху тыздить!
— Пусть не прикипается!
— Заткнись! — грохнул кулаком по столу Шакал и бросил в злобе:
— Будешь на уши лезть, вышвырну из малины. Хиляй к другому пахану. Мне вместо
тебя сыскать кента, как два пальца…
— А ты, пахан, не духарись! Сам слиняю! Не приморюсь больше! Если Задрыгу брать
в закон, то что будет с фартом? Можно ль девку в дело брать? Придет время,
найдет хахаля и засветит всех!
— Если у меня появится хахаль, он будет законником! И не таким гавном, как ты! —
зарделась Задрыга.
— Зелень мне хайло затыкает! Законнику! — схватил пепельницу Боцман, но Глыба
перехватил его руку:
— Остынь! Не то вломлю. И ты, Капитолина, тоже кончай вякать!
Задрыга сидела нахмурившись.
— Чему тебя Сивуч учил? Как с законником вякать? Иль опять к нему подкинуть? —
нахмурился Шакал и, сорвав Задрыгу со стула, отправил в свою комнату, сказав в
спину:
— Опомнись, падла! Не то выбью гонор, чтоб со своими не кипишила, лярва!
Шакал рассказал кентам, о чем он говорил с законниками в кабаке. О новых
фартовых, об ожмурившихся.
— Наши двое тоже накрылись в Магадане. Новый начальник в шизо упек. На месяц.
Двух дней не дотянули до выхода. Колотун не перенесли, — перекрестился пахан,
пожелав покойным землю пухом и прощенья от Господа за все земные грехи.
— Нынче мне к нему нарисоваться велено. Потрехать хочет. Может, оставит нам
наделы, что прежний маэстро подарил? — оглянулся пахан и увидел Задрыгу. Она не
посмела выйти из комнаты, но сидела перед открытой дверью, все слышала и видела.
— А когда меня начнете в закон готовить? — спросила тихо.
— Приморись немного! — ответил Пижон, позвав к столу.
Вскоре Шакал ушел к Медведю. Малина решила прошвырнуться по Минску. Капку,
вместе со стремачами и Таранкой, оставили в хазе.
Задрыга вздумала закончить свое новое орудие пытки и села неприметно в темном
углу за камином. Она толкла стекло в мелкие осколки, засыпала их в капроновый
чулок. За нею со страхом наблюдал Таранка, лежа на диване.
Стремачи убирали в хазе. Вымыли полы, убрали со стола. Застелили койки,
раскладушки, проветривали комнату и старались не смотреть в сторону Задрыги,
пока она их не трогала.
Внезапно дверь распахнулась, и в хазу вошли незнакомые мужики.
— Где Шакал? — спросили зло, шаря глазами по углам.
— Кто такие? Почему вламываетесь в хазу бухарями? — вскочил Таранка, схватившись
за нож.
— Из малины Ехидны! Ваш Шакал нашего пахана вчера сходу высветил! Ехидну
ожмурили, как последнюю паскуду! И не только его! Ваш мудак виноват в смерти
паханов! Кто такое спустит на халяву?
— Так вам что — Ехидны мало? — и не успели фартовые открыть рты, как шея одного
из гостей задергалась в петле. Второй получил по переносице Капкиной палицей,
чулком, набитым тертым стеклом. Едва ударив, чулок тут же распустился, засыпав
глаза мелкими, как брызги, осколками. Они попали за пазуху, в обувь. Третьего
взял на себя Таранка, но не справлялся. Кент Ехидны был сильнее, изворотливее.
Тог
да на помощь Таранке бросились стремачи. Втроем свалили законника, тот пытался
достать нож из-за браслета. Но не получилось. Капка заметила, наступила на руку
фартовому. Помогла связать. Забила ему рот носком Боцмана. И повернулась к своим
жертвам. Тот, кого она поймала петлей, уже синел. Второй плакал кровавыми
слезами. Проклинал Шакала. Задрыга сунула ему в печень головой. Фартовый утих.
Всех троих положили штабелем. Один на другом. Тряпьем, дерюгами забросали.
Стремачи тщательно подобрали с пола битое стекло. Задрыга села делать новую
палицу, ждала возвращения пахана и кентов.
Шакал, придя к Медведю, первым из паханов выложил свою долю.
Маэстро понравилось, что Шакал не стал ждать, пока другие отдадут. Не тянул
резину. Принес положняк раньше всех. Руки не тряслись, когда отдавал деньги.
— Устраивайся, где удобней! — пригласил Медведь. И первым начал разговор:
— Задрыгу начинай готовить к закону. Сам или кенты, это твое дело. Пора ей! За
полгода успей. Теперь слухай сюда! — продолжил Медведь, не дав Шакалу открыть
рот.
— Новые свои владения возьмешь когда сделаешь веленое сходом! Допер? Раньше
отдать не смогу! Паханы загоношатся. Очистись от обоих, всем хайло заткнешь.
Тебе это недолго. И еще! Здесь, в Белоруссии — не фартуй! Лягавые — сущее
зверье! Я тут родился! Знаю, что ботаю! Накроют, изувечат. Свирепы! Тут ни одна
малина подолгу не дышит. И ты — линяй! Как сход кончится — срывайся тут же!
— Кентов мне надо новых! Маловато осталось. Развернуться не с кем. Если будут
файные — отдай их мне! — попросил пахан. Медведь спросил коротко:
— Сколько хочешь?
— Пятерых.
— Не многовато сразу столько?
— Управимся! — усмехался Шакал.
— Возьми из малины Питона! Даю! Они с паханом все время грызлись почему-то! Тот
их менять хотел. Да вишь, самого нет. Пока нового паханом не взяли, пошлю к ним
сявку, чтоб возникли. И к тебе направлю. Их шестеро. Бери всех! Лафовые мужики.
Фартовали файно. Питон в дело редко ходил. Они его держали.
— Присылай! Коль склеится, магарыч за мной не пропадет! — пообещал Шакал.
— И еще! Коль слово дал Седому, сам не мокри! Из малины Питона пошли на это
дело! Там двое, — бывшие мок
рушники, они быстро уберут суку. Но ты убедиться должен, что Седой ожмурен, —
глянул на Шакала строго.
— Кому нужна эта игра? Сам загроблю. Мне не надо помогать, — ответил Шакал
спокойно.
— И еще! Если что со мной, Задрыгу не дай в обиду кентам! Мала она пока, в силу
не вошла! — попросил маэстро Шакал.
Глава 6
Сходка
Мала, да крутая! Так о ней все вякают. Эта в помощи не нуждается! Но буду
приглядывать. Не оставлю без глаза и грева! — пообещал Медведь.
— Завтра сход закруглится. Я слиняю Седого достать. Потом — лягавого! Тот мне за
ходули кентелем заплатит. Потом к тебе возникну, коль живой останусь. А нет — не
поминай лихом! — шагнул к двери.
Кенты Черной совы за это время оглядели все центральные магазины города. И
остались недовольны. Не порадовал их Минск. На первый взгляд здесь было все. Но…
Истинных ценностей, бросающихся в глаза, западающих в душу и память, не увидели.
Дешевые меха, низкосортное золото, плохонькие камешки. В картинной галерее —
сплошная абстрактная мазня, ни одной хорошей работы. Все пропахло бедностью,
убожеством, плохим вкусом. Такое не только украсть, даром давай — не взяли бы
фартовые. И в глубине души сочувствовали местным законникам, какого же им
доводится тут канать? Вот уж какого надела не захочешь получить. Тут даже трясти
некого, не с кого дань взять. Жалели законники местных воров, известных своей
прижимистостью.
Кенты вернулись в хазу за несколько минут до прихода Шакала. Узнали о
случившемся. А тут и пахан пришел.
— Так и чуял, что паскуды припрутся! Хотел вякнуть, чтоб не смывались. Да решил,
сами никуда не намылитесь. Теперь вот Медведь хочет нам кентов Питона подкинуть
в малину. Фартовать.
— Не бери, пахан! Кенты за Питона подлянку замостырят в деле. Из мести. Докажи
потом, кто виноват, кто больший дурак — мы или они? Хорошие фартовые часу без
паха
на не дышат. Либо из своих, или по малинам расхватают. Что ты сек о той малине?
— запротестовал Пижон.
— Немного. Но хренового — не доходило, — сознался Шакал.
— Их слишком много для начала! Вот если бы из разных малин. А эти сфартовались!
— говорил Пижон.
— Но не возникли мстить за пахана, как эти мудаки! — указал Шакал на кентов
Ехидны. И велел сявкам ночью отделаться от всех троих.
— Не бери, пахан! Сами сфалуем, кого приметим! Держись от прокола. Чужой кент,
как чужое перо, всегда подводит в трудный момент! — просил Пижон, но никто из
законников его не поддержал.
— Пахан! Я, конечно, не в законе. Но дай и мне вякнуть слово! — не стерпела
Капка.
— Трехай! — удивился Шакал такому воспитанному обращению дочери.
— Конечно, чужие — западло!
— Пижон, Хлыщ и Тетя давно ли к нам пришли, а ты их больше других зауважала.
— Пахан, их трое! Ты их пахана не ожмурял! Этих — много! С чем прихиляют, никто
сам не расколется.
— Поздно! Я согласился! — отмахнулся пахан. А вечером к нему в хазу постучали
кенты Питона.
Им открыл рыхлый, ленивый Тетя. И узнав, кто такие, пропустил в хазу, позвал
пахана.
Шакал оглядел законников. Те стояли у порога, не решались пройти. Но вот один —
остроносый, верткий кент, глядя в глаза пахану, спросил:
— Иль я не подхожу? Чего нас моришь как сявок у параши? Берешь иль нет?
— А ты куда мылишься? В бега? Иль к шмаре? Иль чинарь в жопе тлеет? — не
выдержал Тетя и пошел дожевывать свой пряник, каких в его карманах было полно.
— Я с паханом ботаю! — обиделся остроносый. И Шакал, предложив всем общий
разговор, наблюдал за фартовыми Питона. Те во все глаза рассматривали Черную
сову, о какой наслушались всяких былей и небылиц от своих — законников.
— Я в малине самый старый! После Питона! Царство ему небесное! Мы с ним в
Воркуте скентовались. Слиняли в бега. Зацепили Рыбака в Хабаровске и втроем в
дела ходили. Потом на вокзале в Москве заклеили Козу, он ходку оттянул в
Сыктывкаре.
— Где? — округлились глаза Шакала. Он еле продохнул. И спросил:
— Где эта Коза?
— Вот я! — вякнуло из-за плеч бородатое — в очках, удивительно похожее на козу.
— Там же зоны бывших сотрудников ментовок! Ты из лягавых?
— Упаси меня Бог! — проблеяло скрипуче.
— Я мента пришиб! Машиной. Враз ожмурил. Меня и всадили к ним, чтоб они из меня
душу вышибли. Но меня на лесоповал кинули. Трелевать. Червонец тянул. А потом —
в малине. С Питоном — полтора десятка фартовал. В законе седьмой год.
— Потом сфаловали Циркача. Этот — на все руки! — указал остроносый на круглого
мужика неопределенного возраста. Тот, открыв в улыбке желтозубый рот, заговорил
плавно, гладко, словно скатерть шелковую перед всеми на столе стелил:
— Я с пацанов в голубятниках приморился. Сиротою рос всю жизнь. Воры приметили,
когда я уже в налетчики вырос. Взяли в долю, потом в дело. Видно, по душе я им
пришелся. Да оно, если правду вякать, я со всеми на одной шконке уживался.
— Пидер, что ли? — спросил Шакал.
— Нет.
— А почему на одной шконке?
— Я об уживчивости. Меня все уважают, — говорил Циркач.
— За что кликуху свою получил?
— В детстве побирался. Плясал лихо для толпы. На руках ходил. Так и прозвали.
— Прохавал ты свою кликуху! Вырос из нее. Сколько же фартуешь с законниками?
— Восемнадцать лет. Да двенадцать на Колыме. В пяти ходках был. Из четырех —
линял. Питон — третий пахан.
— Почему так много паханов сменил?
— Один — в ходке откинулся. Второго — мусора ожмурили. Питона — свои…
— Роковой кент! — хмыкнул Пижон.
— Это паханы невезучие! — огрызнулся Циркач и отвернулся от чужой малины,
обидевшись за намек.
— Потом мы взяли Тещу!
— Кого! — не поверил Шакал в услышанное.
— Теща! Кликуха кента!
— Шмара у вас? — привстал Глыба, разглядывая заросшего щетиной мужика. У того
волосы росли прямо изо лба. На лице лишь глаза и нос кое-как угадывались. Все
остальное утонуло в черных, патлатых кудлах.
— Ну я— Теща! Я! Не темню! Так в зоне бугор-паскуда назвал! Чтоб ему колючки
рожать до гроба!
— За что?
— За дело, из-за какого загремел в ходку на червонец! Тещу начальника милиции
тряхнули. Все б ладно! Навар сняли жирный. Да кенты по незнанью натянули ее. И
меня подбили на это. Когда попухли, она меня по низу признала, шалава подлая! А
еще культурной прикидывалась. Вякнула своему зятю — лягашу:
— Васек, хочу убедиться, что ты всех поймал! Прикажи им снять штаны!
— Тот дурак-дураком, а и то покраснел и вякает:
— Что вы, мамаша, не могу! Не положено такое. Вы в следствии — человек
посторонний.
— Я пострадавшая! — кричала баба. А потом мне в зону три посылки прислала. Я ей
не писал, не хавал грев. А бугор барака пронюхал. И хана… Приклеилась поганая
кликуха, как гавно к порткам. Не отодрать, — сетовал мужик.
— Наперсток! — вытащил остроносый мужичонку, какого из Черной совы одна Капка и
приметила.
— Зелень, что ли? — глянул Боцман недовольно и добавил:
— Своего такого гавна хватает!
— Кто «зелень»? Это об мне? — залютовал человечек. И обложил Боцмана таким
забористым матом, что все фартовые до колик расхохотались.
— В фарте я — первая фигура! Личность с царского рубля! Я — везде — удачу
приношу с собой! Хоть на воле, или в ходке! Пока вы, дубинного роста,
оглядитесь, я уже с наваром смылся из любого банка, из магазина!
— Это точно, под юбкой у баб, в такие места шнырял, нам и не снилось. Вместе со
сторожихами, вахтершами! Он и впрямь — золотая кубышка. Его Питон берег особо.
Как талисман, — сказал остроносый.
— А сам кто будешь? — спросил Шакал.
— У меня кликух много было. Самая клевая — Трубач.
— Не подходит она тебе! — рассмеялась Капка и выкрикнула:
— Буратино! f
— Тоже красиво! — согласился сразу.
— Я всегда с Питоном фартовал. Но он всех нас на доле обжимать начал. В общак
ложил. Зажиливал на хамовку. Оттого хотели слинять, отколоться от него в другую
малину.
— А чего из своих пахана не сделали?
— Никто не согласился! — признался Буратино.
У Боцмана от услышанного рог открылся удивленно:
— Все как один — шибанутые! — вырвалось у него невольное.
— Сам малахольный! — взбунтовался Наперсток. И заговорил:
— Пахан особым должен быть! Всех в клешнях держать! А мы только воровать умеем.
На паханство — голова и характер нужны. Как у вашего! Мы о нем слыхали много! К
другим — не прихиляли б! Уж дышать, так с Шакалом! Фартовых много, а паханом
один становится. Мы выбрали — вашего!
— Располагайтесь! Так, кенты? — оглянулся Шакал на своих, те согласно закивали
головами.
Наперсток сразу к Задрыге подвалил. Решил самостоятельно познакомиться,
попытался погладить ее кошку. И тут же взвыл, отскочил в сторону, ошалело,
держась за проколотый носок ботинка. Боцман ликовал. Теперь Задрыга надолго от
него отстанет, покуда все свои пытки не применит к новичкам, о нем не вспомнит.
Он радовался, как ребенок, представлял себе спокойную жизнь хотя бы на полгода и
решил сегодня хорошо выспаться. Предвкушая предстоящее, Боцман сел на кровать,
чтобы снять носки и тут же взвился к потолку с диким криком. За его задницей
потянулось одеяло.
Капка положила под него дощечку, с вбитыми гвоздями… Боцман, как всегда, не
увидел.
— Чтоб тебе, облезлая курва, до смерти в таких койках канать! — кричал Боцман,
пытаясь поймать Капку.
Задрыга заскочила ему на плечи, со спины. И ухватив за уши, пригрозила:
— Будешь много трандеть — откушу лопухи!
На эти ее проказы Черная сова не обращала внимания давно. И новички не
восприняли всерьез выходки Капитолины. Слышали, что девка эта выросла в малине,
а значит — своя в доску…
Кентов Питона устроили тут же. Накормили, выпили за знакомство, за предстоящий
фарт
Задрыга в эту ночь долго не ложилась спать, слушая рассказы новых кентов. Вот
так она любила лежать лишь рядом с двумя законниками — с Пижоном и Тетей. Они не
только много знали, а и защищали, понимали Капку, баловали ее. Особо Тетя. Он
никогда не забывал о девчонке и всегда приносил в глубоченных карманах —
пряники, конфеты, шоколадки. И едва переступив порог хазы, давал Капке шмонать
себя. Гостинцы рассовывал по многочисленным карманам и
радовался, когда Задрыга сопя доставала сладости, тут же съедала их.
— Хавай, кентенок, горькое семечко! Лопай хоть ты! За себя и за нас! — гладил
Капку по голове, худым плечам. Он один следил, чтобы Задрыга не простыла. Чтобы
была одета тепло и нарядно. Чтобы у нее было все, что полагалось девчонке. Он
опекал ее без просьб. И Задрыга постепенно привыкала к человеку. Она садилась за
стол только вместе с ним. Она никогда не огорчала его.
Тетя в малине держался незаметнее всех. Он почти не участвовал в разговорах.
Никого не ругал, не матерился и никогда не выпивал.
В раннем детстве переболел менингитом и знал, что малейшая доза спиртного
приносит адскую головную боль. Он был сластеной. И кто знает, как бы относились
к нему-в малине, если бы не беспредельная доброта этого человека. Ему прощали
лень. Он даже к шмарам не ходил из-за нее. Но в делах был удачлив.
В фарт он попал случайно. Эвакуировали из Мценска детей детского дома на Урал. В
Орловскую область с часу на час должны были войти немцы. Тете тогда было не
больше пяти лет. С двумя сверстниками он заигрался в прятки. Потом уснул в
лопухах. Проснулся — никого… Стал плакать. Вышел на дорогу. По ней уходили
беженцы, унося с собой лишь самое необходимое.
Он тянулся к ним, просился на руки. Его отталкивали. Самим бы выжить. Следом за
беженцами шли воры, прихватившие из брошенных домов все ценное. Они и увидели
мальчишку, кричавшего одно слово:
— Тетя!
В Орле его пристроили к барухе, чтобы подрастила пацаненка. Навещали его. А едва
подрос, забрали в малину.
Он помнил имя свое. Володька. Больше ничего не знал. Да и не требовались ему
биографические данные.
Уже после войны, когда Тетя впервые попал в руки милиции, сделал о нем запрос
следователь в детский дом, сумевший сохранить архив. И, как потом узнал Тетя,
имелись у него, как и у прочих, фамилия и отчество, даже год и дата рождения.
Была и семья, громадная, дружная, работящая. Была и бабка. Она жила в деревне и
больше всех любила Вовку. Его и в тот роковой год привезли к ней на все лето.
Но… Бабка пошла на реку полоскать белье и не вернулась больше в дом. Куда делась
— никто не знал. Ее не искали, как и родителей, и всю семью. Поспешили сдать
Вовку в детдом от греха подальше
А через месяц началась война…
Следователь милиции долго разыскивал семью Вовки. И нашел… От нее, к тому
времени, осталось совсем немного. Обоих родителей, работавших на танковом
заводе, репрессировали как врагов народа. Увезли на колымскую трассу. Старших —
брата и сестру — сослали в Казахстан, где оба умерли, не перенеся климатической
перемены.
Из остальных братьев и сестер никто, кроме младшей, не захотел принять и
вспомнить Вовку. У всех были свои семьи, дети и заботы. Согласившаяся принять —
была слепой… Ей нужен был не Вовка, а помощник в доме. И Тетя отказался поехать
к ней, предпочтя холодную Печору своей семье.
Тетя не был похож на остальных фартовых. Ему хотелось о ком-то заботиться,
кормить и радовать. Именно потому не любил драться. Но если его выводили из
себя, Тетя был страшен. Но ненадолго. Быстро остывал.
В зонах его любили все бугры. К нему боялись прикипаться стопорилы и мокрушники.
Знали: в короткой вспышке гнева он ломал много дров. Редкими они были. Но
помнились каждому.
Задрыга лишь один раз видела его в ярости, когда Боцман попробовав чифира,
поставил хазу на дыбы и хотел замокрить ее. Тетя тогда один вступился за Капку.
Но так, что Боцман даже слышать боялся о чифире и теперь. Сявок измордовал
заодно, пригрозив, если приметит за ними шкоду — живьем на погосте закопает.
Тетя мало говорил. Но к его словам всегда прислушивались.
Вот и теперь устроился у камина, греется, курит, слушает. Капка рядом присела.
Делает вид, что забыла о новичках. Но каждое слово на слуху держит.
— Я думаю у окна примориться? — огляделся Коза.
— Это еще с чего? — удивился Шакал, любивший отдохнуть именно на этом месте.
— Пусть там кемарит! У него слух особый! Даже ночью, спящий, слышит, сколько раз
мышь пернет. При Козе стремачи могут спокойно дрыхнуть. Этот ментов не проссыт,
— сказал Буратино, и Шакал молча уступил новичку свое место.
— Циркач пусть на дальняк приморится. С ним рядом не заснешь. Храпит, как
плесень! — выдал кента Буратино.
Перед сном фартовые разговорились о Минске. Новичкам этот город тоже не
понравился. И они обошли его. Предложили тряхнуть инкассаторов аэропорта, когда
они приедут за выручкой.
— Других наваристых мест не сыщете здесь. Голь и бось.
Пархатых нет. Все бывшие партизаны. Они и теперь, как в лесу канают, — говорил
Рыбак.
— Мы одного поприжали вчера на свою тыкву. Дантист, мать его в душу окаянную!
Рыжуху дыбали! Ну, как иначе? Все вверх жопой поставили, рыжухи не нашмонали.
Тогда, давай его трясти! Он, гад, как услыхал, аж обоссался от хохоту, пес
плешатый! И трехает малахольный:
— Да если бы я золото имел, зачем бы я работал? Ни в жизни! Зря вы, мужики,
такой бардак учинили у меня. Я стальные зубы ставлю! Ими гранату разгрызть
можно. А золото — гавно, даже орех им не осилишь! Да и кто закажет у нас золотые
зубы или коронки? Народ у нас нищий! Золото видели у панов. Отняли и давно
пропили его. Уже забыли, как выглядит. Поздно вы хватились, родимые! —
рассказывал Буратино.
— Нет, в аэропорт мы не возникнем. Слиняем скоро отсюда, — пообещал Шакал. И
что-то вспомнив, засобирался утром к Медведю.
Капка просила пахана взять ее с собой. Она надеялась встретиться там с
Мишкой-Гильзой. Но Шакал отказал резко. Капка хотела пойти за ним. Но Глыба
поймал. Велел вернуться, чтобы начать подготовку в закон, и Задрыга, чуть не
плача, повернула обратно.
К вечеру вернулся Шакал. Задрыга похвалилась ему, как много запомнила она в
сегодняшнем дне:
— Фартовый фартового тыздить не должен. Это — западло! Когда стану законницей,
Боцману клешни выдеру, если махаться полезет. А Таранке — кентель отгрызу!
— Но они тоже фартовые! — напомнил Глыба.
— А законник должен себя защитить, свою честь и званье!
— У них это тоже есть!
— Но они — падлы — наезжают на меня! — возмутилась Задрыга.
— Не задевай кентов! — учил Глыба.
— Со всеми надо уметь дышать! — поддержал Шакал довольно.
— Фартовый фартовому помогать должен и делиться всем! Как Тетя со мной, а я с
кошкой! Значит, я готовая законница!
— А кошка, что кент? С законниками надо делиться всем!
— Ага! Если я с Боцманом делиться должна, пусть он, зараза, мою хамовку не
отбирает. На жратве западло обжимать даже пацанов. А он, если меня достать не
может, слабак в яйцах, всю хамовку у меня забирает. И я с ним делиться не буду!
Когда вырасту, за все тряхну, паскуду! — пригрозила зло.
У Боцмана от этого обещания мурашки по спине побежали.
— Фартовые должны навар от дел отдавать в общак полностью и дышать на долю,
какую отвалит пахан! Я так и дышу! — сказала Капка, добавив:
— А мою долю Боцман и Таранка хавают!
— Задрыга! Все мы так же в малинах канали, пока не стали законниками! — успокоил
Пижон девчонку. А Тетя сунул ей в руку большую конфету.
— Твой положняк! Грызи!
Задрыгу взялся готовить Глыба. Но так получалось, что в ее обучение были втянуты
все кенты. Все, кроме Боцмана и Таранки, каких Задрыга стойко не признавала.
Когда Черная сова уезжала из Минска, Капка по-необычному тепло простилась с
хозяйкой дома, приютившей их. Капка надеялась вернуться сюда хоть ненадолго,
чтобы еще раз встретиться с Мишкой-Гильзой.
Пахан, как поняла девчонка, решил поначалу разделаться в Ростове с лягавым —
кентом Седого. А уж потом и самого достать.
Шакал специально ходил к Медведю, чтобы тот разузнал через законников, где
приморился бывший пахан. Шакал упросил маэстро прицепить к Седому «хвост»,
чтобы, вернувшись из Ростова, не искать того по городам и весям.
Малина Шакала, обговорив с паханом каждую мелочь, возвращалась в Брянск — к
делам. Фартовые решили, что пахан и сам спокойно разделается с лягавым. Тут ему
кенты в обузу. А чтобы не терять время, законники хотели пополнить общак,
обкатать, проверить в деле новых законников, скорее притереться друг к другу.
К тому же, появляться в Ростове такой кучей было небезопасно. Не только милиция,
а и местные фраера, могли засветить подозрительно большую компанию.
Конечно, отпускать пахана в Ростов совсем одного законники не решились и
уговорили Шакала взять с собой на выбор двоих кентов.
Шакал долго не думал. Взял Задрыгу и Глыбу. Вместе с ними он вернулся в Ростов
холодным, туманным утром.
Капка продрогла в поезде и едва поспевала за кентами. шмыгая носом, едва волоча
ноги. У нее болела голова. Но она помнила сказанное Глыбой неписанное правило:
— Законник, покуда дышит, никогда не должен говорить или отмаливаться от дела
из-за болезни. Он — всегда здоров И Задрыга шла, убеждая себя, что она вовсе не
больна. Ее уже душил кашель, чох. Но девчонка зажимала нос и рот. Решив
держаться достойно, не жаловалась.
Пахан и Глыба не обратили внимание на состояние девчонки. И решили этой же ночью
убить мента, подкараулив его возле дома.
Задрыга должна была следить за проезжей частью дороги. И, как только покажется
машина, предупредить фартовых криком совы — трижды. Сама же, не высовываясь,
дождаться развязки. И вместе вернуться в хазу.
Глыбе пахан велел стремачить двери дома, не подпустить к ним мента. Все
остальное взял на себя Шакал…
Сумерки наступили быстро. Шел мокрый, липкий снег. Фартовые не любили такую
погоду. На мокром снегу долго держались следы. Законники избегали ходить в дела
в такую слякоть. Но пахан спешил…
Едва темнота скрыла из вида лица прохожих, Шакал повел Задрыгу и Глыбу к дому
лягавого.
Капка видела, как перескочив забор, спрятался Глыба, слился с чернотой двери.
Теперь его не увидеть, не разглядеть. Будет сидеть не шевелясь до самого приезда
мента.
Тихо юркнул в калитку Шакал. Прижался к забору накрепко. Держит на слуху каждый
шорох за оградой. Знает, вот-вот вернется хозяин. Сегодня он не должен войти в
дом своими ногами.
Тихо вокруг. Так тихо, что страшно становится. Смерть караулит жизнь. А может,
наоборот? В такой жуткой ночи дурные мысли сами лезут в голову. И Капка думает,
как, став законницей, разделается с Боцманом и Таранкой, какие пытки придумает
им. Она вспоминает последние свои приспособления. Они ей кажутся слабыми. И
отвергая, думает, как изощреннее и больнее отплатить за каждую обиду, за всякое
больное слово!
Ее размышление прервал отдаленный свет фар. Он показался в конце улицы и быстро
приближался.
Капка трижды прокричала совой и отступила поглубже в черноту ночи, чтобы фары не
высветили, не нашарили ее, не посеяли бы подозрение, не сорвали задуманное.
Задрыга не оглянулась и попала ногами в яму, глубокую, полную воды. Ноги вмиг
свела судорога. А машина уже рядом. Вот она остановилась, фыркнув напоследок.
Заглохла, погас свет фар. Громоздкий мужик вышел из машины, позвенев ключами,
стал закрывать дверцу. И в это время Капка чихнула. Она пыталась задавить этот
чох. Но он вылетел помимо воли Задрыги.
— Кто здесь? — послышался вопрос в темноте. Капка стояла, боясь шевельнуться.
Мужик моментально открыл дверцу машины, завел и не успел Шакал сообразить,
машина уже была в конце улицы.
Никто из троих даже не предполагал такого поворота.
Шакал, взяв Задрыгу за грудки, чуть не задушил девчонку своими руками. Хорошо,
что Глыба сумел отнять, вырвать Капитолину из клешней пахана.
Когда вернулись на хазу, Капка взвыла от боли и обиды. Чулки на ее ногах стояли
коробом. Но этого никто не увидел… Да что там чулки? Ее саму замечать перестали,
словно она откинулась в той луже. А может, и лучше было бы не выбраться из нее?
— думает Задрыга, укрывшись одеялом с головой.
Ей даже куска хлеба не предложили. О чае — боялась попросить. Девчонка одним
глазом выглядывала из-под одеяла, видела ссутулившегося, почерневшего с лица
Глыбу и бледное лицо Шакала. Они курили молча, без слов, переживая случившееся
всяк по-своему.
— Завалила дело! Теперь пахан никогда не возьмет с собой. А Глыба откажется
готовить в закон. Боцман и Таранка подымут на смех. Вся малина потребует, чтобы
Шакал отправил ее к Сивучу на подготовку. А может, и хуже, отдадут — в шмары —
на утеху шпане… Третьего пути фартовые не знали. Капке стало страшно так, будто
она по горло провалилась в яму с грязью и захлебывается ею, да так, что дышать
уже стало нечем.
— Отец, прости меня! Я не хотела! Я умираю! — вырвалось со свистом из
пересохшего рта.
Шакал не поверил в услышанное. Он зло обругал Задрыгу, отвернулся.
Капка, увидев это, перестала бороться за жизнь. Она почувствовала, как кто-то
сдавил ее горло очень сильной рукой. А у нее не стало сил вырваться, оттолкнуть
от себя мокрушника и наказать его за все.
Глыба, услышав сказанное девчонкой, прислушался к ее прерывистому дыханию,
переходящему в хрип, подскочил. Задрыга уже теряла сознание. Она вся горела.
— Откидывается кентушка, пахан! — закричал в ужасе. Шакал подошел. Позвал дочь.
Та не услышала.
Всю ночь вытаскивал Задрыгу из лап смерти пожилой врач, какого пахан, забыв об
осторожности, привез на такси среди ночи.
— Скверные родственники! Где так простудили ребенка? Еще бы полчаса, и медицина
была б бессильной! — ругал он фартовых.
Компрессы, примочки, втирания, массажи, уколы, таблетки, ими замучили Капку. Не
разрешали вставать.
Шакал, из слов врача, понял, что положение Капки остается серьезным.
— Ей даже и думать нельзя об улице, о прогулках. Будет осложнение. Оно — опаснее
самой болезни! — говорил врач. И Задрыга очень хотела обругать этого человека,
такого беспощадного к ее судьбе.
Ни Шакал, ни Глыба и не Капка не могли предположить, как осторожен стал человек,
какого они решили убить.
Семен не предполагал, что законники, столь изощренны и мстительны, так коварны и
дерзки.
Милиция Ростова и в страшном сне не могла бы увидеть всего, что довелось
пережить ее сотрудникам после смерти маэстро. Фартовые устроили настоящую облаву
на милиционеров, приговорив к смерти всех до единого. И начали действовать уже
на следующий день.
Милиция вначале ожесточилась. Устраивала проверки, засады, дежурства,
патрулирования. Но каждую ночь в горотдел привозили по двое-трое убитых
сотрудников.
Ножи и наганы, финки и свинчатки — все шло в ход. Милиционеров сбрасывали с
чердаков высотных домов, душили в подворотнях и подвалах, вешали и топили,
убивали выстрелом прямо в кабинетах из окон противоположных домов, из-за углов.
Камнями разбивали головы в парках и скверах, врывались в квартиры. Милиция
вскоре поняла, что теряет контроль над городом и перестает справляться.
Вначале об этом робко заговорили в кабинетах, где боялись включать свет. Потом
эта тема выплеснулась на совещания. Милиционеры, даже с оружием, не решались
возвращаться домой в сумерках поодиночке. Их развозили на дежурной машине. Но и
ее обстреляли в одном из кварталов. Пробили шины. Едва оперативники вышли, чтобы
заменить колеса, трое оперативников и водитель были убиты.
Охотились фартовые и на Семена. Стреляли в окно кабинета. Пуля просвистела перед
глазами. Он задернул окна занавесками.
Вечером, когда садился в машину, узкое лезвие ножа пробило шинель, застряло в
Арденской планке.
От семьи скрыл случившееся. Но на работе рассказал и стал осмотрительнее. Но…
Стоило выйти из дома, и покушения на его жизнь повторялись.
Казалось бы, что могло грозить человеку во дворе горотдела милиции, где он
оставлял свою машину?
Семен вышел из нее, направился к входу и внезапно на его голову, неизвестно
откуда, упал большой кусок стекла. В момент падения он перевернулся. Бросали его
острым углом вниз.
У себя в гараже не случайно держал собаку. Но и ее убили.
Домашним запретил выходить во двор в сумерках. Ночами часто просыпался, все
слышались ему шаги на чердаке и крыше. Но и внутренние двери в доме закрывались
на ключ. Войти в комнаты было невозможно. На входе поставил массивную железную
дверь. На всех окнах — решетки из арматуры. Сделал выход в гараж из дома. Но чем
больше укреплялся, тем сильнее боялся. И не только он — бывший фронтовик.
Законники взяли милицию в мертвое кольцо и словно наслаждались страхом, дергали
за нервы каждый день.
Страшно стало ходить на работу. Кого сегодня не досчитаются в милиции? Кого
понесут на кладбище следующим?
Но даже там, на городском кладбище, милицию ожидали…
Порою казалось, что памятники научились стрелять. Что против милиции встали
покойники.
Когда хоронили троих оперативников и водителя, законники убили на кладбище еще
троих. И скрылись бесследно. Поначалу в Ростов посылали подкрепление. А потом,
узнав о гибели, сверху цыкнули, обругали и пригрозили не на шутку. Пообещали
выкинуть из органов без званий и пенсий.
Семен и рад был бы взять себя в руки, подавить страх. Но… Всякий день в отдел
привозили новые жертвы, изуродованные так, что волосы вставали дыбом. И липкий
ужас заставлял дрожать все тело мелким ознобом.
Его, как и других, не раз караулили возле дома. Такое Семен научился нутром
чуять. Других — убивали в подъездах, на лестничных площадках.
Оперативники подъезжали к домам, вглядывались, есть ли свет в подъезде, на
лестничном марше. Если нет — тут же возвращались на работу и спали в кабинетах.
Конечно, убивала милиция законников, стремачей, мокрушников. Но… За всякого
убитого втрое расплачивалась своими сотрудниками.
Если ряды оперативников быстро поредели, то фартовых становилось все больше.
Постепенно эти стычки перерастали в настоящую войну — без условий, в любое
время. Ей, казалось, не будет конца.
Первой начала выдыхаться милиция. Сначала прекратились патрулирования. Никто не
соглашался на подвиги! И даже под угрозой увольнения люди сами клали заявления
на стол, отказываясь работать в органах дальше.
Компания по набору юношей в милицию с городских предприятий с треском
провалилась. Горожане были хорошо осведомлены о сложившейся ситуации.
Постепенно сокращалось число дежурных на опорных
участках. Не хватало сотрудников. Недавние курсанты, раскусив ситуацию,
предпочитали стать уволенными, нежели убитыми. Подолгу прогуливали, боясь
показаться на улице в форме. Они почти поголовно решили покинуть Ростов и подали
рапорты. Их уговаривали, убеждали, не отпускали. Но ребята не шли на работу. Да
и то немудрено — за месяц общежитие опустело наполовину. Недостающие остались на
погосте. Этой участи не хотелось живым.
Семен уже не радовался выходным и праздникам. Не засиживался, как раньше,
допоздна в гостиной за чаем — с домашними. Никого не приглашал к себе в гости и
сам никуда не ходил. Убрал из двери простреленный глазок. Кто-то в дверь
позвонил средь белого дня. Старуха-мать вышла. Спросила:
— Кто? В ответ грохнул выстрел. Она одна была дома. Позвонила Семену, чтобы
остерегался по пути. И потом уже не выходила сама открывать двери. Все домашние
имели свои ключи.
Однажды оставил машину во дворе милиции — с перерыва вернулся, вышел через
десяток минут. На капоте записка, придавленная булыжником:
— Смерть лягавому!
Внизу рисунок — череп с костями.
Ни дежурный, ни слесари, ни механик, никого из посторонних во дворе не
приметили. Ворота были закрыты. Едва стал выезжать, непонятно откуда взявшийся
кирпич выбил лобовое стекло вдребезги.
Не легче приходилось и начальнику милиции. Тот всю войну прошел разведчиком. А
здесь оказался беспомощным.
В тот день, когда он буквально сбежал от ворот своего дома, Семен не считал себя
в выигрыше. Он сидел в кабинете всю ночь, понимая, что на его жизнь началась
охота по большому счету. Кто удачливее, тот живет.
Но даже если бы ему повезло, и в темноте он пристрелил бы кого-то, охота не
прекратилась бы, она вышла за пределы всяких правил и стала б сущим наказанием.
Он, услышав чох, понял, его караулят. Ведь прохожих не было. В соседнем доме все
спали. Да и не услышал бы он оттуда ничего. Вдобавок на его вопрос никто не
ответил. Ослышаться он не мог. Да и в калитку входить не хотел почему-то. И на
следующий день провел во дворе освещение. Вкрутил большую лампочку, выхватившую
из темноты каждый угол. Теперь, прежде чем войти, спокойно оглядывал двор,
открывал ворота, заводил машину в гараж. А вскоре и перед забором провел свет.
Установил фонарь. И вся проезжая и пешеходная часть улицы перед домом были как
на ладони.
Пять дней радовался человек, коря себя, что не додумался до этого раньше. А на
шестой, подъехав к дому, остановился в страхе. Фонарь разбит кирпичом, вдребезги
разлетелась лампочка во дворе.
Кому-то помешали, — вырвалось злое. Он вырвал пистолет из кобуры, обошел
палисадник, двор, дом и гараж. Но ни одной живой души не встретил
Мать дома рассказала, что лампочку разбил из рогатки какой-то мальчишка. А на
фонарь поспорила пьяная компания — кто попадет с первого раза. Она ругалась с
алкашами, но те ей кинули трояк через забор и, обозвав грязно, пригрозили, если
будет много кричать, оторвать башку, повесить ее вместо фонаря.
Утром Семен включил новые лампочки, а через два дня и они оказались разбитыми.
Никто не увидел, кто был виновен
Семен включил еще. И вдруг услышал за спиною хриплый, едкий смех. Он оглянулся,
посмотрел со столба вниз. По дороге, шатаясь, шел пьяный мужик, глянув на
Семена, покрутил пальцем у виска и сказал заплетающимся языком:
— У мужиков на водку не хватает. А эти дураки деньги на ветер швыряют. Зачем на
улице светить? Ты что? Киряешь здесь? Делишь на троих? Мне дай, я и впотьмах
мимо рта не пронесу.
— Зато не заблудишься! — пытался отшутиться Семен.
— Добрым мужикам ночи бояться нечего. Их в любые ворота впустят. А гавно и днем
заблудится. Ему свет не подмога, — усмехнулся алкаш и, шатаясь по сторонам,
вскоре ушел, скрылся за поворотом.
— Оно и верно! С чего это я так дрожу? На войне, в лобовых атаках не боялся
ничего. В судьбу верил. Коль суждено, выживу! А нет, все равно убьют, — решил,
что больше не станет включать лампочки. И, чудо… Их перестали разбивать. Прошла
неделя, вторая, их никто не трогал. Словно оставили человека в покое. Ни угроз,
ни камней из-за углов.
— Может, уехали фартовые! Пролили реку крови и успокоились. Назначили нового
маэстро. Тот, видно, приказал поберечь фартовые головы и покинуть Ростов. Вот и
тихо стало, — приобретал уверенность Семен. Но об осторожности не забывал
никогда.
…Капка за это время совсем выздоровела. Она уже вставала, ходила по комнате, к
ней вернулись сон и аппетит. Задрыга теперь повеселела и снова хотела жить.
Девчонка знала, что это время Шакал и Глыба были чем-то очень заняты. То один,
то другой уходили на целый день. Возвращались поздно. Однажды она проснулась
ночью. В хазе — никого, кроме нее. Задрыга поняла — ушли на дело. И ей стало не
по себе.
— Не взяли меня! Не дождались! Не поверили! — чуть не плакала от досады Капка. И
включив свет, решила дождаться кентов. Шел третий час ночи.
Глыба с Шакалом были далеко от хазы. Они не взяли Капку не потому, что не
поверили. Не хотели рисковать ею еще раз. И дождавшись относительного
выздоровления, когда она сможет перенести обратный путь без осложнений, пошли в
дело, не сказав Задрыге ни слова, чтобы не огорчать, тихо исчезли в полночь.
В горотделе милиции везде горел свет. Шло совещание. Экстренное. Куда приехали
даже из Москвы.
Фартовые усмехнулись, увидев скопление машин перед горотделом, их охранял целый
наряд милиции.
— Затягивается сходка! — рассмеялся Шакал, кивнув на освещенные окна.
— Лишь бы наш лягавый там не откинулся, уж ему теперь вставят горящий чинарь!
Кенты вякали, поводов хватает дозарезу! — ухмылялся Глыба.
Только к часу ночи увидели фартовые, как в окнах замелькали тени.
Милицейский наряд, охранявший машины, пошел на отдых, оставив двоих по посту.
Едва они отвернулись, законники шмыгнули к машине Семена. Улица были пустынна.
Никто, и оперативники не услышали, как бесшумно нырнули на заднее сиденье
фартовые. Притихли, затаились.
— Я подвезу вас до дома! Садитесь! — услышал Шакал голос Семена и сжался в
комок.
— Меня Илья подкинет! Мне с ним по дороге! Ты поезжай, Семен! Завтра все
обговорим! — услышал сказанное в ответ.
Шакал перестал дышать, услышав, как повернулся ключ в дверце машины. Узкий луч
фонаря скользнул по сиденью, панели.
Он видел, как хозяин сел в машину, завел ее. Стал выезжать осторожно, чтобы не
зацепить соседние машины. Потом развернулся. И вдруг затормозил, открыл боковое
стекло, долго говорил с дежурным по горотделу оперативником. Давал указания.
Наговорившись вдоволь, закурил. Включил передачу. И тихо поехал по улицам
города.
Шакал понемногу, неслышно, вылезал из своего укрытия, распрямлялся. Пахан не
хотел спешить. Он ждал, когда машина свернет в последний темный проулок. До него
уже рукой подать. Семен сворачирает. И заметив, что перед домом снова нет света,
злобно выругался:
— Ну, блядво! Доберусь до вас! — донеслось до фартовых неожиданное.
И тут же горло Семена перехватила рука Шакала:
— Кому грозишь, падла? Твоя вонючая шкура не стоила гавна из-под маэстро! Ты
замокрил его! Получай! — воткнул нож без промаха. Кровь брызнула фонтаном на
руку.
— Дергался гад! Дышать хотел! — вытер нож Шакал, остановив машину неподалеку от
дома. Выключил фары, заглушил машину. И вместе с Глыбой вскоре растворился в
темноте.
Всю эту ночь на Ростов сыпал снег. Плотный, пушистый. Машину обнаружили лишь
утром. Искать убийц было бесполезно. Все следы и запахи замело и спеленало
могильным холодом. Да и кого искать…
Капка ждала недолго. Минут через двадцать открыл дверь пахан, вымыл руки, бросив
через плечо короткое:
— Линяем!
Задрыга тихо взвизгнула от радости. Она мигом оделась. Покидала в сумку горсть
барахлишка и через десяток минут была уже на вокзале. А вскоре ехала в поезде, в
уютном, теплом купе.
Капка понимала: после ненавистного для нее Ростова они поедут в Минск. Иначе
быть не может. Ведь на ее немой вопрос сам Шакал кивнул головой и сказал
короткое:
— Ажур!
Других вопросов она не задавала. Понимала — не время и не место. Шакал не
доверял вагонам. Тем более купированным,
• а значит, в дороге ничего не расскажет. Зато кентам в Брянске со всеми
подробностями. И Медведю… Кому из них раньше?
Глыба, завалившись на полку, безмятежно спал, похрапывая во сне. Он не умел
бодрствовать, если не было дела и не находился в кабаке или у шмары. Там он
сидел сложа руки. А в поездах, машинах и самолетах, едва успевая присесть, тут
же спал… Коротал дорогу.
Утром они пересели в краснодарский поезд. Что-то почувствовал Шакал интуитивно.
Едва их состав тронулся, выглянув в окно, увидела Задрыга, как ростовский поезд
оцепила милиция. Она снова опоздала… А может, не Шакала, может, других искали
продрогшие, злые опера.
Капка с восторгом смотрела на пахана, он ей казался самым лучшим и умным на
земле.
Задрыга ждала, когда кенты расскажут ей, как они убрали милиционера. Она слышала
от Шакала, что ожмурить Седого он не опоздает. А вот лягавого! Этот мужик
крутой. Махается
кайфово! Здоров, как сто чертей. С ним не всякий законник
сладит. Потому его первым пришить надо.
Лягавого — менты стремачат. Его достать — тяжко! Седого — за рога выдернуть
можно даже с погоста.
Шакал, конечно, не предполагал, что задержится из-за Семена на целых две недели.
Но не думал, что Задрыга подведет. Знал бы, приморил бы с кентами. Там, в
Брянске, Капке все знакомо. Да и Пижон с Тетей стремачили бы кентушку. Если б не
Задрыгина болезнь, давно смотались бы из Ростова…
Девчонка смотрит из окна на унылые поля, присыпанные снегом, на мелькающие
станции.
Ей хочется в Минск. К Мишке… Но возьмет ли пахан? Может, и откажется из-за
случившегося в Ростове? Не захочет вязать себе руки. Но кто-то должен
натаскивать ее, готовить в закон. И Задрыга смотрит на уснувшего Шакала.
Спросить не решается.
Глубокой ночью, когда все пассажиры поезда спали непробудным сном, пахан
рассказал Капке, как был ожмурен лягавый.
— Их за эти дни столько угроблено, что никому и в тыкву не стукнет искать
мокрушников за Ростовом. Они не успевают закапывать лягашей. Их и на погосте
достают. Верняк, и наших жмурят, — нахмурился так, что лоб глубокая складка
прорезала. И Шакал заговорил, сдерживая ярость, сжимая кулаки.
— Мусора убрали Осу. На кладбище его угрохали. Вот это кент был! Мы с ним вместе
в ходке были. Под Норильском! В Заполярье! В одном бараке приморились. У
фартовых! Дышали кайфово! Бухали чуть не всякий день. Хамовка файная! Но тюряга
есть тюряга! Бывало, на подсосе морились. Редко. И тогда я с Осой скентовался.
Он даже чинарь не жилил. Хавать один не мог. Со всеми! Барахло теплое — не
зажимал. И сфаловал я его на бега. Намылились в пургу смыться. Как только она
взвилась, мы через склады, где «ежа» и слабый ветер рвал. Ну, проскользнули под
низ. И, айда к поселку. До него восемь километров. А Оса — вприскочку хиляет.
Тощий змей, хуже меня. Его, чуть порыв ветра сильней, уносит без усилий. Будто
ему в задницу раскрытый зонт вставили. Я за него чуть не жевалками цепляюсь. А к
утру в поселок прихиляли. Он его нюхом, как барбос, почуял, по дыму. Дома все
начисто замело. С крышами и трубами. Где дух перевести и отогреться — не допру!
Там тоже и лягавые, и стукачи имелись! Уж если хилять, так не съехавши, чтобы не
влипнуть тут же, по обратному адресу.
И тут Осу осенило. Стукнул в первую избу, в окошко и спрашивает:
— Где почтовый каюр канает? Телеграмму надо ему отдать!
— На крыльцо баба высунулась. Трехнула. И мы с Осой отвалили. К тому каюру,
какой почту на собаках возил в Норильск, мы возникли полуживые. Он впустил.
Выслушал. А везти — наотрез отказался. Хитер козел! Но и мы не пальцем деланы.
Зло кипит, да при себе держим, лишь бы с хазы вытащить. Эти его барбосы чужого
вяканья не признавали. И в паханах держали только своего чумарика. Мы его, как
шмару, уламывали. Уж чего не насулили! И все ж сдернули! Поехали! А у самих в
карманах — пурга гуляет. Не то каюру, самим хавать не на что. А каюр возле
магазина потребовал, чтоб мы задаток ему отвалили. Ишь, губы раскатал! Ну, Оса
его в нарту, я — по колгану, велели ханурику своих шестерок погонять. А он
вопить начал. Мы ему в пасть рукавицу. И ходу! А километров через пять снова
село. Каюр из нарты выскочил. Оса поймал его. Связал, а сам в магазин похилял.
Оттуда вылез, весь в покупках, башлях. Каюру пасть заткнул. Зато у меня она
открылась. Это уж потом он трехнул, как удалось ему наколоть всех; кто был в
магазине. Вякнул, что геологи застряли в дороге. Помогите! И сработало! Оса —
«на арапа» вякнул! А в тех местах геологов, как законников в Ростове, на каждом
шагу!
— Каюра вы замокрили? — перебила Капка.
— Он, стерва, слинял от нас. Ночью, когда мы кемарили у костра! Он попросил
собакам отдых дать, мы и поверили. А утром зенки продрали — ни барбосов, ни
ханурика, — рассмеялся Шакал.
— Как же вы линяли? — удивилась Капка.
— Дальше проще. Пурга стихать стала. Мы шустрей похиляли. Пехом. Но на свою беду
с пути сбились. Да и кто его там проложил для нас? Перли наугад. Так-то и попали
к золотодобытчикам. На семьдесят километров в сторону ушли. Поморозились. Не
хавали целый день. Вот тут я и вырубился. Простыл, как ты — в Ростове. Мозги и
кентель все разом посеял. Думал, откинусь. Но задышал. Оклемался я уже в
Свердловске. Как туда добрались, ни хрена не помню. Оса устроил. Не бросил. Не
оставил нигде, хоть и предлагали. До самой Москвы дотащил. Там у кентов
дождался, пока оклемаюсь. И уж потом, когда на ноги встал, разбежались мы в
разные стороны. Он — в Ростов. Я — в Брянск. С тех пор его не сеял в Памяти.
Когда бывал в Ростове, Осу не обходил. Кайфовый был кент, да хреновый законник
паханил им. Узнал я, как замокрили Осу. И обидно мне до чертей стало! Зачем я
его не уломал в свою малину? Пусть бы с нами фартовал!
— А как его ожмурили? — спросила Задрыга. Пахан начал неохотно, вяло. Тема была
не по душе.
— Взяли его на погост кенты, потому что нюх и слух у него лучше барбосьих были.
Это секли все. Надо было в темноте без промаха пришить на слух главного лягаша
Ростова. Для того уломали Осу. Тот его голос до смерти запомнил еще с пацанов и
согласился загробить. Но главный в тот день на похороны не возник. Курсантов
ожмурили. Он их в чести не держал. Но кенты коль прихиляли на погост, решили
лягавую зелень постричь. Оса — тоже. Троих уложил. И всех из одного места, не
перебегал. Его и припутали. Двое курсантов в упор. В спину и в кентель. Никто их
не приметил. Так вякнули фартовые. А мне кажется, что Осу подставили. Бросили
его ментам, а сами — смылись. Почему у тех, кто с ним был, ни одной царапины?
— А зачем могли подставить?
— Чтоб других менты не шмонали по Ростову.
— А вы каюру не заплатили тогда?
— Какому? Тому? Нет! Какая плата? Его Оса всю дорогу трамбовал! За все доброе!
Тот о башлях память посеял. Живым бы вернуться! Потому и смылся! — рассмеялся
пахан, вспомнив.
— Он на вас не навел ментов?
— Кто ж его знал, гада? Мы из Норильска на грузовой смотались. Оса вякал. В
кабине две тыщи верст! Любой мент приморится догонять…
— А ты знаешь, кто Осу ожмурил? — любопытствовала Капка.
— Тех курсантов давно размазали! Прямо в общаге. Кенты! Припутали и хана! Они
Осу недолго передышали. Так устроили, вроде их по бухой свои же замокрили…
Шакал выглянул из купе. Но у двери никого не было. Просто возбужденные нервы
давали знать о себе, лишали покоя, сна.
— Теперь мы в Брянск или в Минск? — насмелилась Задрыга.
— В Брянск! Тебе там примориться надо. Чтоб полностью оклемалась. А уж потом ни
на шаг не отпущу от себя! — пообещал Шакал.
— Оставишь? Бросишь Боцману с Таранкой? Чтоб они меня вконец загробили? Меня
готов кому угодно сбагрить, лишь бы с плеч долой! Как в детстве! Когда я совсем
маленькой была, ты куда только не пихал меня? И в подкидыши, и в детдом, и в
роддом, и в больницу, и всегда, даже теперь, я тебе мешаю, — отвесила губы,
задергала носом Задрыга и стала похожа на маленькую злую кикимору.
— Капелька! Выздороветь надо!
— А что если и тебя, как Осу, подставят? Чужим больше веришь?
— Мои кенты все в делах проверены! — вмиг посуровело лицо Шакала. Он сразу
замкнулся, стал недоступным, чужим. Паханом, а не отцом. И Капка поняла, что
перегнула палку.
В Москве все трое пересели на брянский поезд. И в сумерках уже пришли на хазу.
Их ждали каждый день. Это было видно по лицам законников. — Правда, не все они
оказались на месте. Новички, да и свои, трясли город нещадно, наверстывая время
отсутствия.
Навстречу Шакалу Пижон встал. Тетя Задрыгу подхватил. Всяк о своем заговорили:
— Лягавого пришили?
— Как падлу! — усмехнулся Шакал. И Пижон, довольно потирая руки, отчитывался
пахану:
— Мы за это время положили в общак три лимона. Дань пока не брали со шпаны, тебя
ждали. Пархатых не кололи на рыжуху. Но вякнули, чтобы готовились падлюки! Кенты
пощупали меховой. Песцов, норок, чернобурок взяли. Соболь был гавно, лежалый,
отсырел, моль побила! За него ни хрена не взять. Оставили! А вот в ювелирный
«луковицы» подкинуть обещают, из рыжухи. Эти часы в Москве на Рижском тамошним
барыгам хорошо толкнуть можно. Обещают жирный привоз. Надо стремачить, чтоб
гастролеры не перехватили. Две малины прикипелись у нас в Брянске. Наши похиляли
их вышибить. Падлюки! На гоп-стоп банковских инкассаторов взяли! Ты б видел, как
мы чужакам вломили! Менты чухнуться не успели, мы троих сняли! Из «пушек». Чтоб
дорогу не переходили! Да и зачем нам мокрые дела? Инкассаторы кому нужны? Пусть
дышат! Не менты! Фраера! Их западло гробить! А гастроль — с гонору сбили!
Трехнули — на разборку вытянуть за грабеж законников. И ожмурить, если не
слиняют! Но, я так думаю, сегодня они смоются! — говорил Пижон.
— А че не ботаешь про кассу? — вставил Тетя, слушая краем уха разговор Шакала с
Пижоном.
— Ну, это питоновские падлы отмочили. Сберкассу тряхнули на прошлой неделе. Всё
сняли без мокроты. Хотели то же отмочить в аэрофлоте. Но фортуна осечку дала! —
рассмеялся Пижон, а Тетя за живот, схватился, вспомнив о случившемся.
— Они попухли? — не поняла Капка.
— Почти! Еще немного, и хана была бы паскудам! Вякали им, что жадность фраеров
губит. Не поверили. И поперлись. По кайфу им пришлось бабки у баб вырывать. Ну,
так- то вломились, вышибли стекло. Коза как подвалил к девке, говорит ей:
— Дай, а то потеряешь!
— Та посмотрела на его мурло, поверила, что с преисподней отвалил. Не то башли,
сама у кассы чуть не замертво свалилась, — хохотал Пижон.
— Наперсток на толстенную бабу сзади заскочил. Хотел за шею схватить. Не тут-то
было! У этой бабы отродясь шеи не водилось! Тыква прямо от буферов торчала. Он
их ей пятками поотбивал, пока баба башли выкладывала. Он с Козой за сумки с
бабками — и ходу! А про Циркача мозги посеяли. Того припутала-контролерша, мать
бы ее… Очковая змея! Она хоть и плесень, а сообразила. Хвать Циркача по колгану
ручкой зонта, а когда кент с катушек свалился, взвыла на всю:
— Бабы! Вяжи его!
— Доперло до Циркача, что попухнуть может, стал из- под стойки выползать. Понял,
что один остался. Ну и на четвереньках, незаметнее для других… А очковая
нагнала, повисла на нем, как на родном, и блажит:
— Держите его!
— Целый квартал, с нею на шее, удирал. Как гавно — оторвать не мог. Люди со
смеху усирались, как знатно фрайериха мужика объезжала. А она, как приросла к
фартовому. Пока спиной об угол не шваркнулся, не отцепилась бы лярва. Она,
паскуда, верняк полвека с мужиками не баловалась. Зато хватка — железная. Как у
фартовой. Чуть лопухи не оторвала Циркачу.
— Все ж слинял? — хохотал пахан.
— Три дня отдышаться не мог. Сам раскололся, что так лихо даже по молодости не
линял, как со старухой на загривке.
— А Теща как лажанулся? Вякни!
— Так Циркач без башлей возник тогда? — спросил Шакал. t
— Так с чего бы старая на шее висела? Конечно, из-за башлей! Он их стыздил в
первую голову! Она, когда усекла, тогда его и оседлала! — уточнил Пижон.
— С Тещей что? Прокололся кент?
— Он тут закадрил с одной! В кабаке! Вся в рыжухе, в камешках, как мошна
набитая! Ну и мурло ничего. Все при ней, хоть сзади, хоть спереди! Теща
перемигиваться начал с этой мамзелью. Он ей, видно, глянулся. Ну и кент, видать,
не посеял память, за что в зону грев от лягавой тещи получал. Смекнул, что
влюбленная баба ничего не пожалеет. И стал к
ней клинья бить. Цветы ей послал на стол с официантом. Та ему — воздушный
поцелуй! Теща раздухарился. Уж так ему глянулся ее перстень-печатка. Из рыжухи,
с большим бриллиантом. И послал ей на стол бутылку шампанского. Та аж расцвела,
передала приглашение Теще, чтоб за ее столик пересел. Тот и развесил лопухи. А
когда ближе к делу, оказалось — чувиха клеила пархатого. Сама голь и бось!
Своего — ничего нет. Все на вечер в прокат взяла. Теща, когда допер, чуть не
взвыл! Короче, думал подоить телку, а сам в капкан влез. Ну да недорого обошлось
ему. Зато теперь зарекся на блядей зырить, — закурил Пижон и продолжил:
— Рыбак с Буратино почту накололи. Немного сняли. Но лихо. Выручку за три дня.
Это вскоре, как мы возникли. Потом и ломбард тряхнули. Там улов хороший взяли. И
уже было навострились на универмаг, но тут без наших им не обойтись, подбили
Боцмана с Таранкой.
— Тряхнули? — удивился Шакал.
— Хотели! Уже все на мази было, как доперло до кентов, что сюда не только они
мылятся. Кто-то еще хочет пристроиться в струю. И, сделав вид, что входят через
подвал, спрятались за угольный склад. Решили подождать, а вдруг не померещилось?
Минут через десяток шаги топочут. И кенты враз схомутали тех, кто на пятки
наступить хотел.
— И кто же это был?
— Пузырь! И Лимон!
Капка, услышав эти кликухи, подскочила, побелев:
— Их оставили дышать? — спросила глухо.
— Три дня назад — откинулись. Оттыздили их кенты за разбой и помеху в деле.
Боцман и Таранка за Задрыгу им слинять не дали. Уволокли в лесок. Там мокрили
обоих. Сами. Мы их жмурами увидели. Зарыли. Таранка ботал, что Пузырь Сивуча
решил ожмурить. Уж и не допер, дышит старик или успели падлы замокрить его?
Навестить нужно будет кента, — предложил Пижон неуверенно.
Шакал сразу насторожился. Глянул на Задрыгу. Та ждала слова пахана.
— Хавай шустрей! И мигом к Сивучу. Вместе с Тетей!
— Кентов подождать стоит. Если Сивуча убрали, на лягавых напоремся, — ответил
фартовый за обоих.
— При чем мусора? Сивуч с ними не кентовался! — не понял Шакал.
— В том и дело. Мусора не все пальцем деланы. Допирают, если одни замокрили,
другие мстить станут. А для того — убедиться возникнут, дышит старый хрен или
откинулся? Потому, ботаю, шустрить западло!
— Паскуда ты, Тетя! — впервые вырвалось у Задрыги. Она глянула на Шакала, сунула
ноги в сапоги и, одевшись на ходу, рванулась в дверь.
— Во, зараза! Разжирел вовсе, толстожопый хмырь! Обсчитывает всех! Кого надо
навестить, кого нет! Он кайфовый, пока все в ажуре, а чуть прокол, от всех
отмажется, кликухи, и те посеет. А я у Сивуча до гроба в обязанниках. Тете про
то не допереть. Коль пришили Сивуча, не ментам же хоронить кента! А коль жив,
дай Бог ему здоровья! — бежала Задрыга знакомой дорогой.
Здесь все было, как и раньше, хотя прошло уже две зимы. И Капка успела подрасти
и выровняться. О ней пошел слух по всем малинам. Ее уже готовят в закон. А
здесь, вот в этом лесу, все еще аукало детство. Тут Сивуч учил девчонку бесшумно
лазить по деревьям, бегать тихо и быстро, как тень, не наступая на сучки,
ориентироваться в темноте, переносить дождь и холод, прятаться от ментов и от
собак, разбираться в травах и лечить ими саму себя и кентов, дышать в лесу без
хамовки подолгу, перебиваясь тем, что в нем растет. Он учил убивать зверье
быстро и тихо. Разделывая и съедая все без улик. Долго приноравливал всех
прятать за собой следы пребывания в лесу. Капка помнила все. Эта наука уже не
раз сослужила ей. Именно потому она жива…
Задрыга остановилась в десятке метров от дома Сивуча. Ощупала пачку денег, какие
пахан успел сунуть ей для старика, коли жив.
Девчонка вглядывалась, вслушивалась, но ни звука, ни движения не приметила. Все
молчало, притаившись, и Капка решила залезть на чердак, послушать оттуда, есть
ли кто в доме живой.
Она вскарабкалась по стене, открыла дверь чердака, придержав, чтобы та не
скрипнула, не выдала ее. И тут же прикрыла за собой. Припала ухом к полу.
Слушала, затаив дыхание, но ни звука не доносилось снизу.
Задрыга просидела на чердаке больше часа и решилась войти в дом. Она неслышно
опустилась по лестнице внутрь. Потянула на себя массивную дверь. Та едва
поддалась, отсырела. В лицо пахнуло холодом, плесенью.
— Дед! — позвала девчонка, не решаясь назвать кликуху, и огляделась. Кругом
пусто, никого в доме. В гостиной ни души. Но каждая вещь стоит на месте,
никакого беспорядка. Любимое кресло Сивуча стоит у камина, давно нетопленого,
остывшего.
— Дед! — позвала Капка, дрогнув голосом. Ей отчего-то стало жутко. Она включила
верхний свет. Пошла на второй этаж, глянуть, может, там уснул Сивуч?
Задрыга оглядывала все комнаты, одну за другой. В них — никого. Вот в этой
комнате когда-то жил Гильза. Теперь уж он сюда не придет никогда.
Капка сделала шаг. Ей так хотелось побыть здесь хоть несколько минут. Сама не
знала, зачем. Она покраснела, вспомнив, как учил ее старик не влюбляться ни в
кого, и Задрыга невольно оглянулась, не стоит ли Сивуч сзади? И закричала от
ужаса. Волосы на голове стали дыбом. Совсем близко к ее ноге ползла черная
гадюка. Громадная, толстая. Она была на расстоянии одного дыхания. Капка тут же
подпрыгнула мячиком, вылетела из комнаты, наглухо захлопнула за собой дверь,
дрожа осиновым листом, переводила дыхание.
— Откуда здесь змея взялась? Ведь сколько лет она жила в этом доме — змеи
никогда сюда не заползали. Ни одна мышь, или лягушка не знали сюда дороги. А тут
— гадюка! Да еще по такому холоду, когда все змеи давно ушли в норы — глубоко в
землю, до весны, до тепла.
Задрыга не боялась никого, кроме змей. Это знали все мальчишки и нередко брали
Капку на испуг, забрасывая ей за шиворот и за пазуху ужей. Задрыга орала не
своим голосом, пока не освобождалась от холодной, ползучей мерзости. Она
избивала ребят за эти шутки так жестоко, что многие потом неделями не могли
встать на ноги. А когда к ней, зарытой в земле, подполз в подвале уж, Капка
подняла такой крик и вой, что Сивуч принес в подвал ежей, чтобы те расправились
с ползучими гадами. Но Капку после этого невозможно было загнать или заставить
заниматься в подвале. У нее начиналась истерика.
Вот и теперь стоит Задрыга, продохнуть не может. Гадостное чувство брезгливости
и страха овладело девчонкой, она озирается на плотно закрытую дверь в Мишкину
комнату, никак не может вспомнить, зачем она здесь оказалась? Ее всю трясло.
Задрыга открывает дверь в спальню Сивуча, чтобы перевести дух и успокоиться.
Глянула под ноги, чтобы не наткнуться на змею. Потом вперед, на койку старика, и
онемела…
На нее, не моргая, смотрел Сивуч. Связанный крепкими веревками, с кляпом во рту,
он лежал не шевелясь.
Задрыга вырвала кляп, разрезала веревки, тронула старика за плечо, позвала,
стала тормошить. Она знала его. Сивуч всегда спал с открытыми глазами, и это не
испугало. Молчит? Посинели пальцы? Но это от веревок. А не говорит потому что
потерял сознание. Воды! Срочно воды! Мчится девчонка вниз за кружкой. И вскоре
льет в рот старика по капле. Массирует горло, иссушенное кляпом.
— Дед! Одыбайся, падла! Ну, вякни хоть что-нибудь, плесень мокрожопая! — теребит
Капка старика. Но тот не шевелится, не говорит.
— Знаю тебя, козла! Испытываешь меня! — Задрыга перевернула старика на живот,
положила подушку под грудь. Изо рта, из носа Сивуча потекла сукровица на
полотенце, потом изо рта вышел большой черный сгусток запекшейся крови и из
груди словно вздох вырвался.
— Дед! Старый черт! Иль зенки проссал, не видишь, что я прихиляла? — терла
спину, разогревая легкие.
Она массировала горло, и из него вываливались комки.
— Дед! Вскакивай на катушки! Я возникла! — ворочала Сивуча во все стороны,
заметив, как одубелое тело словно оттаивало, становилось податливее.
Капка, забыв о змее, пережитом страхе, затопила камин, поставила чайник с водой
на печь. Затопив и ее, вскипятила воду, приложила грелку к груди и до нее
донесся слабый стон, глухой и далекий.
— Сивуч! Дыши, паскуда! — взялась прокачивать сердце, как когда-то учил он ее. И
услышала тяжелый вздох. Старик внезапно дернулся.
— Одыбался, козел! — обрадовалась Капка, заметив, что Сивуч смотрит на нее.
— Это ты? Задрыга! — спросил неузнаваемо изменившимся голосом.
— Я! Вот возникла к тебе, а ты канаешь! Дрыхнешь, как потрох! — не хотелось ей
теребить душу старика.
— Капитолина! Дай тебе Бог за доброе! Только оно уж мне ни к чему! Не стоило из
ожмуренья выдергивать! Зря ты это отмочила! — сказал с горечью и закашлялся
надсадно, надолго.
Задрыга чай принесла. Укутала плечи Сивуча одеялом.
Тот, обжигаясь, пил чай, мелкими глотками, оживал. И, вдруг, что-то вспомнив,
стал оглядываться вокруг. В глазах страх заметался:
— Где эта?
— Кто? — удивилась девчонка.
— Гадюка?!
— В Мишкиной комнате! Я ее закрыть успела! Она чуть не укусила меня! А напугала
до смерти! — призналась Капка.
— Ее Пузырь для меня в лесу попутал. В банке держал. Пытку мне отмочил. Голодом
змеюку держал. Чтоб злей была. И мне, связанному, в катушки приморил. Мол,
станешь дергаться, она, как лягавый, застремачит тут же. Пернуть не успеешь. А
связанный, с кляпом в пасти, долго не продышишь!
Вот и станешь откидываться трижды — враз. От кляпа, от гадюки и от страха! То
тебе за Задрыгу и Шакала, за то, что кентовался с ними! Нюх посеял, с кем стоило
фартовать! Не один он был. Тот — второй — под сажей. Я его так и не узнал…
Лимон… Обоих уже замокрили. Три дня назад. Боцман и Таранка ожмурили.
— Три дня? Так-то долго я морился? — изумился дед собственной живучести.
— А я, когда тебя приметил, подумал, что и ты откинулась. Жаль стало, что так
рано слиняла с бела света!
— Я змеи-паскуды струхнула! Она уже у ходули приморилась! Я как заблажила! Она,
верняк, откинулась оттого!
— Глухие они к человечьему голосу! — согревался Сивуч понемногу, пытаясь встать
на ноги.
И вдруг затих, прислушался:
— Кажется, возник кто-то ко мне, — сказал тихо и велел:
— Притырься! — сам рукой под матрац полез, достал финку. Ждал, кого принесло в
этот раз? Знал наверняка, спасенье дважды не приходит. А значит, вновь кто-то за
его погибелью.
Капка спряталась за спинку койки. Она уже отчетливо слышала шаги по лестнице.
Сразу поняла, идут двое. Вот они открыли дверь первой комнаты. О чем-то глухо
поговорили. Подошли ко второй, потом открыли третью дверь. Вошли. И Капка с
Сивучем услышали дикий крик:
— Падла! Сивуч! За что?
Капка хотела выскочить, но старик удержал. Сам пошел к двери, открыл резко.
Шагнул в коридор. До Задрыги донесся глухой стук паденья. Она пулей вылетела из
комнаты. Увидела Сивуча, лежавшего на полу, он едва удерживал руку мужика,
навалившегося грудью на старика. В руке у него был финач.
Капка выбила финку ногой. Врубила по темю непрошенному гостю, помогла встать
Сивучу и в ту же секунду отдернула его на себя, увидев, как из Мишкиной комнаты
целится из нагана в старика какой-то мужик, сидевший на полу. Возле него,
извиваясь черными кольцами, подыхала гадюка.
— Не ссы, Задрыга! Он откидывается! Эта падла нашла его. Не слинял. Он, паскуда,
мне погост готовил. А сам попух, как последний фрайер! Гадюки тоже знают, кого
жмурить! Хиляем вниз! Он уже встать не сможет. Хана! Откинется скоро. У всех
змеев осенний яд — самый борзой! — хрипел Сивуч горлом.
— А этот как? — указала Капка на мужика, какого сшибла с Сивуча.
Старик подтянул его за ногу, подальше от двери. Вместе с Капкой связали его.
— Пусть оклемается. Я с ним потрехаю! — пообещал бывший законник и медленно
опустился вниз по ступеням в гостиную.
Он сел к камину. Задрыга, как когда-то давным-давно, устроилась рядом:
— Кто они? — спросила Сивуча.
— Все те же! Малина Тарантула! В то время, когда тебя в ломбард брали, эти двое
— в ходке были. Нынче на воле. Да вот без понту! Месть, она не всегда кентуется
с законниками, Капризна! Вот и крутит фартовыми, как сама хочет, — рассмеялся
тихо, и глянув за окно, обронил:
— Твои прихиляли! Черная сова! За тобой. Заждались кентуху! Видать, в малине ты
не последняя, коль спохватились и возникли. За гавном — не нарисуются. А тут,
гляди, трое прихиляли! — хмыкнул довольно.
Задрыга, как ни вслушивалась, ни один звук не уловила. За окном все тихо,
спокойно. И вдруг внезапно рванулась дверь нараспашку, на пороге стоял Шакал,
бледный, глаза его горели зелеными огнями:
— Кукуешь? Твою мать! Я что тебе вякал? — подошел к Задрыге.
— Отвали, пахан! Так надо было! — вырвала из-под его руки свое плечо Задрыга. И
только хотела рассказать о случившемся, наверху раздался выстрел.
— Кто это у тебя? Зелень дрочится? — глянул Шакал на Сивуча.
— Тарантулы… Все они. Из-за них Задрыга тут канала, — отмахнулся Сивуч.
Боцман и Глыба, пришедшие с Шакалом, мигом бросились наверх, оттуда вытащили
связанного фартового и застрелившегося, не выдержавшего мучений, распухшего до
неузнаваемости мужика.
Когда связанный кент пришел в сознание, Шакал велел Боцману развязать и спросил
глухо:
— Тебе Пузырь ботал, что мы вашу шоблу-еблу из тюряги достали?
— Вякал, — ответил законник.
— Чем же задолжали, что Сивуча замокрить хотели?
— Пахан велел.
— Ты, курвин выблевок, не темни! Иль мозги посеял, что твой пахан уже три дня в
жмурах канает?
— Его слово — дышит!
— Ты, падла, к пахану под бок набиваешься? Хиляй! —
распустил в один миг живот снизу доверху. И обтерев нож об одежду еще
дергавшегося законника, вложил за браслет и, указав на лесок, сказал своим
коротко:
— Забросайте козла!
Капка, едва кенты унесли в лес умирающего, помыла пол. Словно ничего и не
случилось в гостиной. Вот только Сивуч грустил. Жалел, что выжил непонятно зачем
и для кого?
— Мы думали, лягавые попутали Задрыгу! — признался Глыба Сивучу.
— А я возник не потому! Думал, чьим кентелем подавилась наша лярва? Главного
лягаша? Иль следчего мента? — хохотал Боцман, когда второго жмура закопал в
леске подальше от дома и памяти старика.
Глава 7
Встречи
Медведь, увидев Шакала, приветливо потянулся к пахану, обнял за плечи.
— Долго ж ты с ними разделывался. Думал я, что на обоих недели много будет! —
говорил смеясь.
— Лягавого я пришил! Седого пока не искал. Только из Ростова возник. Твои кенты
надыбали его, как я просил?
— Как ты слинял, Седого видели в Орле. Тамошние законники, хотели угрохать сами
суку, но не пофартило. Слинял шустро, ровно почуял, падла! Сдается, что он с тех
мест. И приморился неподалеку. Там его дыбать надо! В других местах — не
возникал, пропадлина!
— Орел?! Хреновое место! Но это от меня близко! — обдумывал свое пахан. И сказал
Медведю:
— Лягавого я размазал! Значит, половину из тех владений, что мне отданы были —
верни! Моим кентам дышать надо! Малина уже вдвое вымахала! В Брянске тесно
стало. Трудно дышать. Отвали что-нибудь пархатое! Чтоб мои законники на подсос
не сели! С Седым я шустро справлюсь! Это не лягавый. Его никто не стремачит.
— Седого в Орле законники пасут. Если ожмурят они — твою долю им отдам! —
ответил Медведь.
Шакал усмехнулся криво:
— Ты отдашь, если я сфалуюсь! Допер? Мое это, мое! Любому глотку порву до
лопухов! — побледнел пахан.
Медведь вплотную подошел:
— На меня хвост поднимаешь, кент? Зря духаришься! За Седого я тебя от ожмуренья
вырвал! Иль посеял память? Так мне сход созвать, что два пальца… Хиляй! Чего
возник, коль дело не провернул? Ты не на паперти! Покуда обещанное сходу
не справишь, ко мне не возникай! — свирепел Медведь, глядя на Шакала
наливающимися кровью глазами.
Пахан, вскинув голову, пошел к двери не прощаясь.
Этой же ночью, вместе с Задрыгой и Пижоном, уехал в Орел.
Город славился тем, что ворюги здесь жили на каждом шагу. Ими кишел городской
базар и барахолка, в каждом магазине, пивбаре крутились воры всех мастей, любого
возраста. От замухрышки карманника — чумазого пацана, до лощеного медвежатника.
Убогие с виду старики-наводчики, подрядившись старьевщиками, собирали тряпье в
подъездах, присматривая, кто как живет и давали «наколки» домушникам,
форточникам, голубятникам, получая от них свой положняк за сведения.
Около магазинов, прозванных горожанами «ряды», была своя воровская биржа. Тут
уламывали в малины кентов, вернувшихся из ходок, здесь отдавали положняк ворам,
тряхнувшим либо замокрившим кого-то на заказ. Отдавали долю с дела, обговаривали
новые дела, продавали украденное, заодно трясли карманы и сумочки горожан,
пришедших за покупками. Здесь клеили в шмары фартовым. Тут пропивали и навар с
дела, чью-то душу…
Милиция боялась подойти к огромной толпе мужиков, где получить нож в спину
проще, чем высморкаться.
Нередко среди дня тут раздавались крики:
— Помогите! Держите вора! Спасите! — милиция свистком созывала своих на чей-то
зов. И когда подскакивали оперативники на зов, толпа мужиков рассыпалась, а на
асфальте дергался в последних конвульсиях кричавший недавно человек.
— Кто убил?
Да кто сознается? Найти в этой кодле виновного все равно, что в стогу найти
иголку.
Когда милиция начинала наступать на горло кому-нибудь, ее попросту брали в
тесное, непробиваемое кольцо, в каком глохли все крики, стоны, жизнь.
Орловский люд был хорошо знаком ворам своею злобой, скупостью, злоязычием.
Здесь выкинуть из очереди ребенка или старика, обругав их при этом площадными
словами, было привычным делом. Если посмел огрызнуться, наваливались дикой
сворой и били так, что шансов на жизнь не оставалось.
Даже воры на своих разборках так не свирепели. Горожане в расправах были много
круче.
Опозорить, обозвать матом женщину или девушку никто
не стыдился. Здесь пощечины и оплеухи раздавались чаще приветствий. В очереди
забывали о соседстве и родстве. Каждый помнил о своем брюхе. А уж если в очереди
ловили вора или воришку, его втаптывали в асфальт всей сворой.
Неважно, украл кошелек или копеечную булку, толпа яростно выдавливала грязными
ногами душу из пацана-сироты, и из здоровенного мужика, разнесенного яростной
толпой в кровавые куски. Кто больше виноват — вор или убийца? О том никто не
задумывался.
Иногда тут случались жестокие стычки между ворами и озверелой очередью. И тогда
шли друг на друга — стенка на стенку. Мелькали кулаки, сумки и колени, ножи и
финки. Даже колья и арматура! В драку лезли даже старухи, нередко путая воров с
теми, на чьей стороне влезла в драку.
Пуки волос, клочья одежды, кровь, втоптанные в грязь платки и шапки, рассыпанные
папиросы и куча синяков, изукрасивших лица до неузнаваемости, были непременным
итогом этих схваток.
Кого-то уносили в неотложку санитары, других с выбитыми зубами и переломанными
ногами — уводила родня или соседи. Те, кто уходили с побитыми физиономиями,
исчезали в проулках, подальше от глаз прохожих.
Воры в таких свалках не забывали свое — чистили карманы очереди смелее обычного,
срывали с потных бабьих шей цепочки и кулоны, часы и кольца, заодно щупали,
тискали, заголяли дерзких горожанок, рвали кофты на груди. Случалось, примечали,
какая где живет. И ночью ловили в подворотне. Там, заткнув рот, сдергивали с
бабы все барахло и тешились — в свою очередь мстя ей за каждую пощечину и
оскорбление, нанесенные днем.
Конечно, пархатых в этом городе было мало. Люд орловский жил бедно, голодно. От
того и злобился по всякому поводу. Горло было шире головы, оно всегда опережало
разум, а потому считалось издавна, что орловский люд думать не умеет. Не дано
ему такое от Бога. Оттого, кто чуть отличался, покидали этот город навсегда.
Жить здесь, считалось, нормальным людям невозможно.
Казалось, именно сюда собрались все пьяницы и лодыри, горлохваты и пройдохи,
воры и убийцы.
Но какая бы дурная слава ни плелась шатающейся походкой за этим городом, была у
него и другая жизнь, своя история и свои ценности, оправданная гордость и чистое
имя. Но это уже не интересовало городской сброд, именуемый себя шпаной, и
городские малины, какие нередко махались друг с другом из-за какого-то пархатого
дантиста или абортмахерши.
Оглядев эту толпищу возле торговых рядов, Шакал сморщился. Бедность и скудость
сквозили в одежде, наложили свой отпечаток на лица фартовых.
Пахан заговорил с ними о Седом.
— Кто знает его? Где канает кент? Часто ли тут появляется? С кем фартует?
— Седых здесь трое канает. Тебе какой? — оживился гнилозубый старикашка-щипач.
— Фартовый! Законник!
— Они все фартовые! Все блатные! Ты харю нарисуй!
— У него на клешне наколка прощенья! — вспомнил Шакал.
— Чево? Ты, что, кент? Мозги у тебя поплыли не в ту степь? Да какому законнику
твое прощенье надо? Иль заблукался ты, иль из фраеров? — прищурился дедок.
— Седой из Звягинок! — вспомнил Шакал и добавил:
— На войне танкистом был!
— Может, я у самого Махно в казначеях канал! Чем хуже! Ты вякни, нынче он
фарцует или скокарит, а может, в законных — честных ворах дышит?
— Законник! — подтвердил Шакал.
— Середь этих нет Седого! Раней был. Да замокрили кенты надысь. Чтой-то не по
кайфу отмочил. Его и угробили. Был и нету, — рассмеялся частым, токающим
смешком.
— Замокрили? А кто? — похолодел пахан, оглядев кишащую толпу воров.
— А ты кто? Лягавый или следчий?
— Законник! Из Брянска! Мне б кого-то из паханов! Кликни!
Вскоре к Шакалу подошел плотный мужик, одетый в костюм. Он оценивающе обшарил
глазами Шакала. Спросил глухо:
— Что надо?
Узнав, что интересует пахана, припоминать стал. Позвал еще двоих законников. Те
при слове Звягинки что-то припомнили:
— Был такой кент! Он после ходки в гастроль тут возникал. Ну его малине здесь
вломили. Смылись. С тех пор не нарисовался тут. Может в отколе канает, от фарта
отошел? Иначе б от нас не смылся! Это верняк!
— Шмонай в Звягинках своего кента. Тут недалеко. Восемь километров! Любая
попутка за склянку сфалуется, — посоветовали Шакалу, и тот понял, придется ему
искать Седого самому.
Но прежде чем последовать совету орловских воров искать кента в Звягинках, решил
обдумать все.
Ведь появись теперь в деревне, это значило зажечь на себе фонарь — не. просто в
гости собирался. А в деревне всяк друг друга знает. И уж коль пришел гость, а
после него хозяина найдут мертвым, на кого укажут? Положим, успел бы уйти от
погони. Но вдруг у Седого семья? Хотя и это не помеха, но искать его в деревне
по дворам — смешно! Деревня всякому свои клички дает, отличные от фартовых. А
что если его однополчанином прикинусь? Вякну, что имя забыл, мол, Седым на
фронте звали. А может у них таких вот, как он — полдеревни? Ну да я его знаю.
Может, не сразу угроблю. Приморюсь дня на три. Выберу момент. Смолчу, зачем
возник. Не расколюсь! Хотя вряд ли его испугаешь или проведешь, Седой— тертый
ферт! Таким его все неспроста считают…
Шакал вечером подсел к окну перекурить, поговорить с Пижоном и Задрыгой,
посоветоваться, где искать Седого.
Пижон предложил двух сявок за магарыч уломать на поиски Седого.
— Половину башлей в задаток дай, остальные — когда надыбают прохвоста! Они — за
пару дней из могилы зубами выковырнут! — предложил Пижон смеясь.
— Седой сфалует их трехнуть, кто его шмонает? Те вякнут! Он допрет — Шакал!
Додует, зачем. И тогда — ищи-свищи его! Не на халяву он от законников смылся! —
усмехнулась Задрыга. И добавила:
— Самим надыбать надо.
— Надо вякнуть, что должок вернуть хотим! Я буду трехать с шестеркой! Обрисует
Седому, тот не допрет. Поверит. Или его бывшим кентом прикинусь, — предложил
Пижон.
— Вот если бы Заноза с Фингалом его шмонали, им Седой поверил бы! — обронила
Задрыга.
Шакал, услышав, сразу задумался. Умолк надолго. Этот вариант стоило прокрутить.
Ему он показался самым надежным и беспроигрышным…
…Александр Земнухов уже на следующий день узнал о смерти маэстро, кто и как убил
его. Слышал, что устроили в Ростове законники. Понимал, что будет сход. Был
уверен, что на нем законники поклянутся убить виновного в смерти маэстро и
законников. Ему не стоило говорить, как будут искать по всем городам и весям —
его и Семена…
Седой слишком хорошо знал цену фартовым, знал, головы не пощадят, но решение
схода выполнят. Сам таким недавно был. Потому не надеялся и не поверил бы, что
из-за наколки, поставленной на руку — фартовые откажутся мокрить его. Наоборот —
по ней найти легче. И Шакал, чтобы сберечь свою башку, сам вызовется ожмурить
Седого.
Земнухов давно все это обдумал. Он не боялся смерти. За свою жизнь не раз
умирал. На войне и в зонах… В мусориловках и на разборках. Сколько раз ему
хотелось умереть, покончить счеты с врагами и друзьями, простить и забыть все
обиды разом. Но жизнь словно за пятки держала его зубами и не отпускала на
погост, вешая на плечи все новые горести.
Вот и тогда, вернувшись в Звягинки ранним утром, подошел к месту, где стоял его
дом. А там — новый построен. Большой и просторный. Лупастые окна, как любопытные
глаза ребенка на дорогу уставились. Что им до чужой судьбы, до сгоревшего в огне
войны — прошлого?
Не уцелела и яблоня, под какою семью похоронил. Новый, молодой сад цвел и пел,
заливаясь соловьиными трелями. Здесь жила новая весна. Выжившая, сильная.
Седой, роняя серые, пыльные слезы, повернулся спиной к чужому дому.
— Дяденька! Вы кого ищете? — прозвенел со двора детский голос.
— Своих искал.
— Вон мамка идет с выгона! С ней поговорите! — подошел конопатый малец и, став
рядом, указывал обкусанным пальцем на русокосую женщину, спешившую к дому.
Женщина, узнав, что перед нею бывший односельчанин, пригласила его войти в дом.
— Где же так долго скитались? Ведь все наши фронтовики, кто с войны вернулся,
давно поотстроились заново. В хороших домах живут. Им свет и топливо бесплатно.
— Они — домой вернулись. А меня — на Колыму упекли, — рассказал хозяйке, за что
попал в Магадан. Та руками всплескивала сочувственно, жалела односельчанина.
Накрыла на стол, уговорила поесть.
— Вот бедолага! — сетовала хозяйка. А в это время к дому подходили стайки
ребятишек, любопытный деревенский люд, прослышавший от сына хозяйки о
возвращении в Звягинки Александра Земнухова.
Пришли и те, кто хорошо помнил эту семью. Узнав Александра, обнимали, как
родного.
— Весь белый стал, Сашка! Видать, горя много хватил. Но и мы его нахлебались до
макушки. Уже в вагоны нас затолкали, чтобы в Германию увезти. А тут партизаны
рельсы раскурочили. Поезд и не смог увезти дальше Белоруссии. Выгнали нас из
вагонов пути починить. А партизаны опять налетели. Побили весь конвой. И нас в
лес забрали. Много народу вызволили они тогда, и в тот же день мы пошли обратно,
к себе. Партизаны нам проводника дали. И мы через
пару Недель в хаты воротились. Немца уже выбили наши бойцы. Стали и мы заново на
ноги становиться. Трудно было, а надо. И за погибших, и за невернувшихся —
калеки все отстраивали, да бабы с детьми помогали, — глянула на Земнухова с
укором.
— Вам партизаны помогли. Мне некому было помочь, — опустил голову.
— Партизаны нам —: раз в жизни помогли. А сколько горя от них натерпелись! Как и
от фрицев! — заткнула в испуге рот рукой деревенская почтальонка. И огляделась
по сторонам.
— А че рот заткнула? Правду сказала! Чего пужаться! Было прискочут с лесу —
пах-пах — по немцам и по старосте! Те, оглянуться не успеют — партизаны сбегли!
Их по хатам ищут, всех переворачивают. Не найдут — начинают шерстить тех, у кого
мужики на фронте воюют. Так-то полсела, считай, из-за этих партизанов — не
стало. И твоих бы не тронули, если б не те пукачи!
— Мало людей из-за них убивали, а сколько харчей они отняли у нас? Немец
забирал, но не подчистую. Оставлял что- то. Эти партизаны все отнимали. До
последнего куска. Детям ничего не оставляли. И харчи, и тряпье. Не дашь — избу
подпалят. Вот тебе и защитники! Мы их не меньше немцев боялись, — говорила
старуха.
— Было, убили одного старосту. Мы его сами упросили в холуи. Свой ить, Не
забижал. Вступался за всех. А его стрельнули. И написали — смерть предателю! За
этот партизанский наскок фрицы троих повесили. Невиновных! И своего старосту
привезли! Во, злой змей был! Как партизан! Тоже под ружьем жратву отбирал! —
вспомнила колхозная сторожиха военные годы.
— А сколько наших мужиков после войны позабирали энкэвэдэшники, знаешь? Их
семнадцать вернулось живыми. И только один — целый! Остальные — кто контужен,
кто ослеп, другие без ног и рук, глухие. И что думаешь? Троих не тронули. Не
добрались, не успели. Остальных — за задницу и в воронок.
— Этих-то за что? — не поверил Седой.
— Троих за то, что в плену были у немца. Федьку и Петра — сынов председателя
сельсовета, за переписку с французами. Никого не стал слушать, что воевали
вместе на нашей — орловско-курской дуге! За связь с заграницей шпионами обозвали
обоих. Правда, Федька вовсе слепой был. Осколки глаза повышибали. А Петька до
самой задницы безногий. Они, окромя как своим семьям, никакой загранице не были
нужны. Какие с них шпионы, если нужду свою сами справить не могли?
— А Никифоровых ребят. Всех троих увезли разом за то, что хвалили заграницу за
чистоту и порядок! Что же тут от буржуазной идеологии, иль жить в чистоте —
преступленье? — возмущался старик-пчеловод.
— Обидно, что всю войну прошли, здоровье отдали хронту, окалечены, а страна их —
вона как!..
— Это уж кто-то донес! — сказал Земнухов.
— Понятное дело, стукачи завелись. Да мы их на чисту воду вывели! Кто ж терпеть
станет? Это новый сельсоветчик! Тыловой кобель! Его на блядстве поймали и сдали
властям. Враз тихо стало. Но опять подсунули! Бухгалтера! Его на афере попутали
и свою послали на курсы. А нам участкового. И опять горе! Этого всем деревенским
сходом выгнали с села! Кругом негодяем был!
— А из тех, кого забрали, кто-нибудь вернулся? — спросил Земнухов.
— Пятеро! Едва не расстреляли их! Ну да едино, пожили совсем мало. За год — один
за другим померли. Остальных — никто ничего не сообщил, хоть и запросы посылали.
Все молчат, как онемели! — возмущался счетовод колхоза, аккуратный, маленький
старичок.
— Ну, а ты, Сашок, чем теперь займешься? — спросил конюх Илларион.
— Небось, специальностев у тебя — полны руки? — не дождался кто-то ответа.
— Присмотрюсь. Без дела не останусь. Мне б только с жильем устроиться. Похожу,
прикину, решу, чем займусь. Я ж на войне танкистом был. Сумею на тракторе
работать! — говорил Земнухов.
— А нам механизаторов так не хватает! У них й заработки, и доплата к концу года!
Каждый тракторист в Звягинках на дорогом счету! — застонал счетовод.
— Вот так здорово! Целое колхозное собрание устроили, а меня не позвали! —
шагнул в дом председатель колхоза. Его последним известили о возвращении
Земнухова.
— Где ж тебя до сих пор мотало по свету? — спросил, как выстрелил в лоб.
— Это точно, что мотало! Но о том мы после поговорим. Все ж прибило к своей
деревне. Вернулся доживать на родной земле! — с трудом вспоминал нормальную речь
Земнухов.
— Трудовую книжку, паспорт, военный билет давайте сюда! Завтра мы вас пропишем,
поставим на учет. Устроим. И живите себе на здоровье! Работайте! Глядишь,
хозяйку приглядите себе! А друзей искать не надо — все Звягинки — ваши!
Председатель колхоза все еще ждал, когда Земнухов даст
ему документы. Но тот сделал вид, что не заметил протянутой руки.
И человек, сконфуженно потоптавшись, вышел из дома, решив, что не хочет Земнухов
спешить с обустройством, а может, приглядеться хочет. И, покраснев за свою
торопливость, пошел в правление, выкинув из головы этого приезжего.
— А ты, Сашок, не турбуйся! Хочешь, у меня поживи, оглядись, присмотрись, покуда
что-то выберешь! — предложила доярка Акулина.
— Я одна живу! Дети по институтам разъехались. Мужик помер давно. Сама
управляюсь всюду! Глядишь, подсобишь когда-нибудь. Платы не надо. Хоть живая
душа будет рядом, словом перекинуться! — предложила все сразу бесхитростно.
— Почему к тебе? Пусть сам выберет! Может к любому пойти! Никто не откажет! Не
чужой он нам! Свой! Родная кровинка! — обиделся счетовод.
— Ко мне его! — подала голос румяная бригадир полеводов — Ксеня-
— А почему не ко мне! — встала птичница Варвара.
Седой рассмеялся и сказал:
— Можно я сам выберу? — и указав взглядом на Акулину, добавил:
— Она — первая позвала! От всего сердца. Не обессудьте! — и поблагодарив всех за
доброе, вышел следом за дояркой из дома.
Седой шел за бабой знакомой с детства улицей. Детвора, выскочив из домов,
приветливо улыбалась незнакомому земляку.
Александр шел понурив голову, о своем думал, что надо набраться смелости и
позвонить Семену, чтобы простил, а может и порадовался — за него — за Саньку…
Мучило! его и то, что не было у него трудовой книжки. Да и откуда ей взяться? Не
имел и военного билета. Семен обещал все это уладить. Но теперь уж не захочет о
том говорить. Расставанье оказалось паскудным. И все ж нельзя до конца жизни в
молчанку играть, думал Земнухов и ранним утром уехал в Орел, чтобы переговорить
с Семеном. Вина перед ним не давала покоя. Он знал, что Семена успеет еще
застать дома телефонный звонок.
Он поднял трубку на первом гудке. Сразу узнал Сашку по голосу. Не удивился,
будто все это время ждал звонка от Седого. И очень обрадовался, узнав о
возвращении Седого в Звягинки.
— Сегодня спецпочтой вышлю твои документы! Начинай
заново, Сашок! Это никогда не поздно! Я — рад за тебя! Держись!
Земнухов походил по городу. Все в душе пело. Семен его простил. Он сможет жить
человеком. Заново. Среди своих сельчан…
— Эй, кент! Не узнаешь своих? — услышал голос сбоку. Трое законников обступили
на глухой улице, со смешным названьем — Первая Пуховая.
— Валяйте от винта! Я завязал с фартом! Доперло, козлы? — сжал кулаки Седой.
— Ты — в откол? Суку — в жмуры! Так паханы на сходе решили!
— А у меня — привет всем вам! — показал наколку на руке. Законники внимательно
вгляделись, узнали почерк, отступили матерясь.
Седому сразу захотелось в Звягинки, скорее из города, от прошлого.
Через час он уже вернулся в дом Акулины.
Земнухов понимал, что документы придут через несколько дней. Значит, надо
подождать. И решил отсидеться в Звягинках.
Он не смог усидеть дома без дела, видя, как с темна до темна надрываются на
работе люди. Акулина и впрямь почти не бывала дома. С последней дойки
возвращалась затемно. Крутилась возле корыта, печки, убирала в доме, ей было
недосуг присесть, поговорить. Когда начинала валиться с ног, ложилась в постель
разбитая, усталая.
Земнухов, отвыкший от домашних забот, не знал, чем и как помочь бабе. А тут еще
соседи головами качают:
— Хоть бы дров нарубил! — И взялся. Вначале не получалось. Отвык. Натер мозоли.
На третий день — словно вспомнилось все. Даже поленницу выложил. Подмел двор.
Проверив ракитной веткой землю за домом, как делал отец, взялся копать колодезь,
чтоб не ходила баба по воду на речку. Далеко и тяжело. Пусть своя вода будет.
Едва выкопал, выложил кирпичом, обмазал, чтоб не осыпалась земля, не мутила
воду, отвалил, поднял наверх — на сруб, булыжники, сдерживавшие воду, бившую из
глубины холодными ключами, почтальонка принесла заказной конверт из Ростова.
В нем было все… Даже письмо от Семена. В нем он благодарил Седого за помощь и
советы, за каждую консультацию:
— Ты, знаешь, нам удалось убрать самого гнусного негодяя! Маэстро! А с ним — его
охрану — отпетых рецидивистов! Ты все верно высчитал. И, хорошо, что помнил
номер машины! Жаль, живьем взять не удалось. Зато не будут они грабить и убивать
тех, за кого мы с тобой — воевали! Зря дал ты сбежать Шакалу. Но, я думаю,
недолго он на свободе походит. Поймаю его! Живым или мертвым — не отпущу!
— Маэстро убили! — ахнул Седой. И к горлу подкатил комок страха…
Он вчитывался в письмо. Руки невольно дрожали:
— Сашка! Ты пиши! Звони! И обязательно сообщи, когда получишь это письмо. Все ли
у тебя в порядке? Я позабочусь о твоей безопасности…
— Вот хмырь! Ты сам стерегись! Я то что? Один — как смерть. Пришьют — плакать
некому. А у тебя — семья! Ты — под угрозой многих. А я — отмахнусь. На меня не
пошлют малину. Я для них — западло! Тебя ожмурить — в честь любому! На меня коль
и выйдет Шакал, на халяву не дам себя размазать. У тебя же вся надежда на
судьбу… А она — баба. — думал Седой приуныв.
В этот вечер его позвали к председателю колхоза. Через посыльного.
Тот сразу попросил колхозников оставить наедине с Седым и, едва закрыл двери,
сказал без обиняков:
— Из Ростова мне звонили о вас! Очень большой человек. Много рассказал,
объяснил. Теперь я все понял. Начинайте заново! И о своем пережитом — лучше не
рассказывайте никому. Кто-то поймет, другой — осудит. Зачем лишнее на душу?
Хватило с вас. Как вам у Акулины? Если не подходит жилье, переселим в другой
дом. Там сами хозяевать станете! А найдете хозяйку — в новый дом переселим! Мы
три фундамента заложили! К зиме мужики обещают дома под крышу подвести. Так что
торопитесь. Мне сказали из Ростова, не оставлять вас в одиночестве! Беречь! Я
лишь предлагаю. А решать — вам!
— Пусть все будет, как есть! — отдал Земнухов документы. И спросил, когда и куда
выходить на работу?
— Новый трактор дам! Гусеничный! Обкатывайте его и принимайтесь за дело. Сено на
гумно пора отвезти. Потом в уборочную запряжем. Там и вспашка под зиму
подоспеет. И дрова возить надо.
Земнухов вскоре работал наравне со всеми. Уходил с зарей, возвращался затемно.
Поначалу усталость сбивала с ног, потом притерпелся. И когда увозил с поля
последнюю тележку, загруженную картошкой, радовался, что успел прикипеть заново
к нехитрой крестьянской жизни.
После уборочной всем механизаторам дали выходной, чтоб сумели люди сходить в
баню, в кино.
Земнухов был доволен, что и его не забыли. Пусть и копеечная эта премия за
уборочную, но и его не обошли. Решил Семену письмо послать. Но приличных слов в
запасе оказалось очень мало. Не набиралось на письмо. И тогда он попросил
почтальонку отправить в Ростов телеграмму;
— Семен, все в ажуре! Даже премию получил! Выходит, справляюсь! Глядишь, выбьюсь
в деревенского пахана! Спасибо! Все ты! Удачи тебе!..
А через два дня вернулась телеграмма с пометкой — получатель погиб при
исполнении служебных обязанностей…
У Седого земля заходила под ногами.
В этот день у него все летело из рук. Работа не клеилась. Мерзкое предчувствие
не давало покоя. И, не выдержав, решился поговорить с председателем, чтобы тот
вернул документы, отпустил из колхоза.
Багров и слышать не захотел о том. Посмотрел на Земнухова удивленно:
— Чтоб мы — колхозники — бандитов испугались? Да ты знаешь, какой у нас народ?
Самый бедовый! Уж если о наших в области знают, то кто те бандиты, чтобы их
Звягинки не одолели?
— Иван Степанович, я сам фронтовик! С немцами воевал! Но эти — покруче! Семен
войну прошел, а и его сумели достать! Его оперативники — не колхозники. Да и кто
у нас? Женщины! Ну, старики! Они — никто перед малиной! Зачем впустую говорим? —
доказывал Седой.
— Наши бабы ни одной милиции не уступят. А бандюгам и шагу не дадут ступить в
Звягинки! Это как Бог свят! — не уступал председатель.
— Зачем вам лишние расходы на мои похороны? Отпустите.
— Ты иди! Работай! Я сам все обдумаю! Дай мне время до затрашнего дня. Если я не
найду хороший, надежный вариант, завтра верну тебе все документы.
Седой вернулся в дом Акулины. Та по случаю дня рождения стол накрыла, купила
вина. Ждала Земнухова.
Слово за слово и рассказал он бабе о себе все без утайки И о последнем случае.
— Вот потому, Акулина, нельзя мне семью заводить. Не могу я свое горе на другие
плечи взваливать. Нет такого права у меня — рисковать еще чьею-то жизнью…
— Горемычный! — пожалела баба. И Седому показалось, что прощаясь с ним, обняла
его за плечо.
— Чего ж ты сразу душу не облегчил, не рассказал все? А я-то думала, военное
горе по ночам беспокоит, кричать и материться заставляет? Оказалось, сущий
пустяк!
Земнухов воздухом подавился, услышав такое. Думал, напугает бабу до смерти,
прогонит она его из дома навсегда, закажет порог забыть. Акулина стояла перед
Седым улыбаясь:
— С этой бедой сладим! Главное, что ты от воров ушел. Сам убежал. И человека
сыскал в себе. Вот это трудней было б воротить. Мы ж немцев пережить сумели.
Ворогов. Их вона сколько было. Они нас с землянок выковыривали. А ить живы! Нас
и вешали, и стреляли! Но мы живучи! И тут переживем. Не турбуйся! Коли так оно у
тебя сложилось, всем миром поможем!
На следующее утро к Земнухову пришел участковый. Ему Багров все рассказал. И
теперь попросил описать внешность тех, кто может заявиться к Седому в Звягинки.
— Такое кто предположит? Я не знаю, кого пошлют убрать меня, — сознался Седой.
— Короче, друзей, как я понимаю, у вас не осталось. И кто бы ни спросил — все из
малины?
Земнухов кивнул согласно.
— А теперь спокойно живите! И пусть ничто не беспокоит вас. Я отвечаю за все, —
сказал негромко. И добавил, будто невзначай:
— Я, еще мальчишкой, в войну, был в разведроте. Не буду говорить о наградах. Но
после войны меня в органы безопасности звали работать. Я не согласился. Из-за
арестов. Моих друзей забрали ни за что! А вот в милиции уже третий десяток
дослуживаю. Если бы грамотешки побольше было… Ну да мне и моего званья хватает.
И теперь от меня не ускользнут фартовые. Приходилось с ними сталкиваться, —
потемнели глаза человека.
— Семен покрепче был. А и то взяли на гоп-стоп. И замокрили, — вырвалось
невольное.
— Что ж, посмотрим, кто кого попутает? — улыбнулся участковый, словно речь шла о
вечеринке.
За один день каждый деревенский житель был предупрежден о том, что никто из них
не должен указывать, где живет и работает Седой. Что в случае появления в селе
чужих людей срочно сообщать о каждом — участковому, либо двоим оперативникам,
или председателю сельсовета.
— Мороки из-за меня прибавилось. Куда как проще было бы отпустить на все четыре!
— обронил Земнухов Багрову.
— Мужиков в деревне и так нехватка. Баб замордовали в работе. Куда ж отпускать?
Да если мы своего защитить не сумеем, значит, не выжить нам! Всю жизнь бояться
бандюг? Ну нет! Пусть они нас стороной обходят и забудут тебя! — пробурчал
человек.
Акулина, после услышанного, решила помочь Александру. И привела как-то вечером
деревенскую знахарку, старую бабку-Волчиху, какую Земнухов помнил с самого
детства.
— Ты, бабуля, все умеешь. Так о тебе по деревне сказывают. Всем помогала. Теперь
и Саньке подсоби, — просила Акулина бабку Волкову.
Та оглядела Земнухова, недоуменно на Акулину посмотрела:
— А он — здоровый кабан! На што я ему сдалась?
— Не по здоровью нужда! Лицо его изменить надо. Внешне! И вот с руки наколку эту
убрать! Волосам прежний цвет вернуть.
— А на что ему — мужику, такое сподобилось? Чай, не баба! Мужика не морда
красит. А руки и душа его! Ну и сугревность! Это от тебя зависит. Приласкай! И
твоим станет, — советовала бабка.
— Надо! Не от прихоти! Жизни для, прошу, бабулечка! Сделай доброе!
Волчиха, пожевав губами, пронзительно разглядывала Седого.
— Покажь руки! — потребовала твердо. Оглядев ладони, пальцы и запястья, велела
спину и грудь показать.
— Ладно, Акулина. Спробую я из ворона сокола слепить, если Господь даст мне
подмогу и силы! — согласилась бабка и велела Земнухову пожить с неделю в ее
избе.
Земнухов не одобрял затею Акулины. И отмахивался от бабки. Но… Та оказалась
настырной, и Александру пришлось на время перебраться к старухе. Тем более, что
работ в колхозе поуменьшилось. Выпавший глубокий снег сразу перекрыл дороги на
поля. И те, какие не успели перепахать под зиму, остались до весны, до тепла.
Теперь трактористы развозили на поля навоз. Сбрасывали на ближних участках, на
парниках. И лишь два колесных трактора управлялись на фермах. Отвозили в Орел
молоко и яйца. Подвозили корма.
Земнухов уже не вскакивал чуть свет из постели. Возвращался с работы, когда
темнеть не начинало. Отвозил пару раз навоз от ферм на поля и глушил трактор.
Волчиха получила Седого в полное распоряжение. Правда, Багров и участковый
посмеивались в глубине души над затеей Акулины, не верили в возможности старухи,
какая, правда, вот уже лет сорок заменяла в Звягинках, и не без успеха, врача и
фельдшера, какие не соглашались ехать в деревню.
Но одно дело — принять роды у сельской бабы, заговорить грыжу, больные зубы,
избавить от глистов детей. Умела Волчиха не без успеха справиться с
младенческой, какую врачи называли эпилепсией и не знали, как с нею справиться.
Лечила чахотку медведками и собачьим салом. Лишаи и экземы убирала навсегда. Но
это болезни! А вот лицо, его изменить сумеет ли? Да и к чему? — пожимали плечами
мужики.
А Волчиха, имени ее в Звягинках никто не знал, кроме сельсовета, едва
возвращался Земнухов с работы, кормила человека и садила под икону. Молилась
горячо, истово, прося Господа очистить человека от греха, исцелить его сердце и
душу.
Под эти чистые молитвы бабки, сам не зная, как это получалось, Александр вытирал
слезы со щек, а потом засыпал безмятежно.
Вокруг его головы горели свечи, теплым светом согревали глаза.
На третий день он не обнаружил на руке наколки, сделанной Черной совой. Ни следа
от нее не осталось. Словно и не было никогда. Земнухов глазам не верил. Знал по
зонам, что многие кенты хотели избавиться от похабных татуировок и наколок. Но
это не удавалось никому. Тут же словно смыла ее бабка, без следа и боли.
Исчезла татуировка и с плеча, сделанная еще в зоне — по первой ходке. Седой
поневоле подошел к зеркалу. Волосы его и не его… Не сверкают морозным инеем.
Словно оттаяли. И не походили на колымский сугроб.
Земнухов подошел ближе. Глянул на прямой пробор…
Волчиха стояла за спиной, наблюдала за человеком.
— Бабка! Да ты — волшебница! Вот это отмочила номер!
— Чего? Иль не по душе? Не угодила чем? — удивилась Волчиха.
— Глазам не верю!
— Погоди! Это только начало! Вчерась тебя двое искали по селу. Шарамыги
какие-то! Их участковый схватил за шиворота! Ночью! Сказались, что воевали они
вместе с тобой на фронте. А документов при них не было. Зато ножи и наган
имелись. Их враз схомутали и в Орел, в тюрьму повезли. Там разберутся с
окаянными! Ишь, прохвосты! К нам — в Звягинки— с ножами! Иль мало мы под немцем
натерпелись, чтоб и теперь нас убивать? — негодовала бабка.
— А ты их видела?
— То как же? Конешно! У одного ушей не было. Как обрезаны. У другого — морда,
как у сушеной лягушки. Вся зеленая и в морщинах. Вояки выискались! Ни одного
слова путного не сказали. Только срамное. Все детвору спрашивали
про тебя. Так у нас в деревне дураков отродясь не было. Я ж всех на свет
принимала — под иконами, с Божьей помощью! — похвалилась старуха.
Седой сразу понял, кто искал его. Фингал и Заноза! Бывшие кенты. О них он слышал
от Семена. Знал, к кому они прикипели. А значит на его след вышла Черная сова! С
нею, он знал, шутки плохи. Эти законники достанут любого из-под земли. Выходит,
на него началась охота по большому счету. И уж куда там маскарад? От этой малины
никто не спрячется даже на погосте…
— Выходит, новый маэстро назначен. И уже приказал Шакалу. За навар взялся пахан
ожмурить меня или за прокол после Семена обязали? Теперь уж не отвяжутся.
Надыбали! Надо линять из Звягинок! Но куда? Файней от смерти смыться! От Шакала
— никому не пофартило, — опустились плечи Земнухова.
Не успел одеться, участковый в дом вошел. Поздоровавшись, заговорил о
случившемся: ч
— Я их враз приметил. Они не стали селян о тебе спрашивать, а сразу к детям
подошли. Это и насторожило. Тем более, что по сумеркам. Темнеть начинало.
Полезли под окна посмотреть. Не в дверь постучали, как все нормальные люди. Ну
мы с ребятами взяли их. Прямо из-под окна. В сугробе. Они и не ждали. Отвезли в
милицию. Там — в курсе дела. Разберутся.
Земнухов, собиравшийся навестить Багрова, понял, что не стоит ему появляться
теперь. Участковый и впрямь, не кемарит.
Александр снял шапку, повесил на вешалку, подошел к столу.
Участковый онемел от удивления:
— Ты чего это? Покрасился, что ли? — спросил смеясь.
— Зачем? Иль я с ума сошел бабьим делом маяться? — обиделся Земнухов.
— Не злись. Но куда седое делось?
— Сам не знаю. Наколок нет. Посмотри! — показал руку.
— Это мелочь! — смеялась бабка. И указав на Александра, сказала:
— Вот видишь его глаза? Серые! А их род — синеглазый! И Санька был таким. Я
помню! Так вот через неделю, если Бог даст, воротится родовое человеку! И не
только глаза! — пообещала уверенно.
Седой еще долго говорил с участковым. Тот рассказал, как забирали, обыскивали,
допрашивали кентов, как отобрали оружие.
— Хамили они нам! Называли лягавыми падлами, мусорами, даже лидерами. Хорошо,
что у нас в деревне не все знают значение последнего. Но мне трудней всех
пришлось. Я в войну такого не слыхал по отношению к себе! А эти мне грозили
разборкой! — проговорился участковый невольно. И Земнухов вздрогнул, зная, такое
впустую не обещают. И стремачи предупредили, не желая того, что ни сегодня, так
завтра, сюда в Звягинки пожалуют уж не гонцы, а сама Черная сова… Эта спрашивать
не будет никого.
Земнухов, придя с работы, пошел в сарай нарубить дров. Пытался отогнать от себя
впечатление от услышанного. Но это плохо удавалось. Ему казалось, что кто-то за
спиной, неотступно следит за ним, ухмыляясь, выжидая свою минуту.
— Саня! Иди в избу, поморозишься так-то раздевшись! — позвала Волчиха. Седой,
оглянувшись на голос, приметил тень, мелькнувшую на чердаке. Он мигом подставил
лестницу. Бабка вцепилась в Сашку:
— Погоди! — и крикнув соседнего мальчонку, велела позвать участкового. Тот
примчался мигом. Весь в поту, куртка нараспашку:
— Что случилось? — спросил не добежав.
— Чердак проверить надо! — отодвинула Волчиха от лестницы Седого.
— Эй! Выходи, кто там есть! — крикнул участковый, но в ответ не услышал ни
слова.
Участковый, надев на палку свою шапку, стал подниматься.
Перекладины под ним скрипели, охали на все голоса. Он одолел лестницу
наполовину, поднял шапку. Но на чердаке ничто не шевельнулось.
— Показалось, наверное? — отмахнулся участковый. Седой подошел к дворняжке
Волчихи, признавшей его сразу. Взял на руки. Понес по лестнице, и не доходя пары
ступеней, пустил собаку на чердак, сказав:
— Чужой! Ищи!
Псина, едва оказавшись на чердаке, залилась звонким лаем.
— Выходи! — закричал участковый грозно.
В чердачном проеме показалась маленькая, дохлая фигура мужика, одетого в
немыслимое рванье.
— Давай сюда! — потребовал участковый.
Человечек опускался вниз по-обезьяньи проворно. Снизу
его уже поджидала почти вся деревня.
Едва мужичонка ступил на последнюю ступень, участковый придавил его к лестнице,
заломил руки за спину, защелкнул наручники, снял с лестницы за шиворот.
— За что обижаешь, начальник? — пытался вырваться мужичонка из цепких рук
участкового,
— Валяй вперед! Узнаешь! — подталкивал недомерка-мужика на дорогу и повел
к-сельсовету, где располагался опорный пункт милиции, попросив Земнухова не
высовываться из дома.
Седой не знал и никогда не видел человечка, оказавшегося на чердаке. Кто он?
Законник? Стопорило? Или обычный стремач? Но то, что он — посланник Черной совы
— сомнений не было.
Через час к Земнухову зашел участковый. Лицо от злобы перекошено. Говорил, цедя
слова сквозь зубы:
— Отказался подонок говорить со мной. Вначале ломался под бродягу, забулдыгу.
Мол, в деревню пришел подкормиться. А когда я его спросил — почему с чердака
начал знакомство с нами и указал на татуировку на руке, он и заглох. Крыть стало
нечем. Я в наколках и татуировках малость смыслю. Обложил меня, как водится,
матом со всех сторон. И словно дерьмом подавился, замолчал, как мертвый. Мы его
в Орел отправили. Пусть там тряхнут.
— Такого я не видел. Не знаю этого типа! Может, несколько малин на меня вышли? —
усмехнулся Седой.
— Ништяк! Переловим, — ответил участковый спокойно, даже не подозревая, что
задержал Наперстка, недавнего кента Шакала, отчаянного законника, известного
своим дурным норовом и мокрушничеством.
Его послали узнать о Седом, а при случае — ожмурить стукача. Тот не выбирал
избу. Волчихина хата глянулась тем, что стояла крайней, в самом начале улицы.
Когда Наперсток пришел в деревню, его никто не приметил. Да и неудивительно.
Рост и впрямь был не завидный. На него даже собаки с удивлением оглядывались, не
понимая, откуда в этом отродье так много зла?
Наперсток забрался на чердак, чтобы в сумерках посмотреть в окна домов,
потолкаться среди мужиков, увидеть Седого. Его Наперстку описали доподлинно. Ни
одной характерной черты не упустили. Глыба, голосом Седого, часа два тарахтел.
Чтоб лучше запомнил кент, кого припутать надо.
Попав на чердак, притаился. Высунулся, когда услышал, что кто-то во дворе рубит
дрова. И опешил: голос тот самый, каким Глыба трехал. Но вовсе не Седой! Волосы
русые с рыжиной. На руке пальца нет. Но и наколки не имелось. Глаза светлые, а
не мутно-серые. На лице никаких морщин.
— Так Седой это или фраер? Скорее деревенский мужик!
Но почему лягавый тут же возник? Зачем вся деревня станет пасти колхозного
чумаря? — думал законник. И тут же вспоминал о наколках. Знал, их ничем
невозможно вывести. Иначе все суки, имевшие на щеке метку «муху», давно бы от
них избавились. Ну, хрен с ним — с кентелем! Маскарад натянуть мог. Но зачем бы
в парике вышел дрова рубить? Да и вряд ли допер до такого? Опять же — мурло?
Кенты вякали — морщатое и бледное. Так хрен там! Ни морщин, ни бледности… Кто ж
он? Трехали — сутулый. Этот, что жердь проглотил. Глыба ботал, что никого у него
в Звягинках нет. К этому вся деревня прихиляла. Нет, самому пахану возникать
надо, — думал Наперсток, сидя в воронке и заранее жалея Козу, какой должен будет
пойти в село следом за Наперстком, если у того сорвется.
Но Коза оказался хитрее Наперстка. И, взяв у Шакала липовые ксивы, пошел в
Звягинки открыто. С чемоданом в руке. Прикинулся несчастным, одиноким мужиком,
от какого ушла жена. И человек с горя решил податься куда глаза глядят. Захотел
сменить обстановку и город, чтоб ничто не напоминало ему о прошлом, какое лучше
не вспоминать, чтоб не сойти с ума.
В правлении колхоза слушали его молча, вглядывались в мужика, смахивающего рожей
на черта, какой по бухой пропил собственные рога.
Здесь, в деревне, никто не мог себе представить, как это баба может уйти от
мужика? Поверилось бы с обратное. В деревне всегда мужиков не хватало. Баб и
девок — всегда в избытке. Неужели в городе иначе? Пусть у него срамная рожа, но
все остальное — мужичье! К тому ж — работать просился! Значит, что-то умеет, С
чего бы от такого сбегать? Может, натура гавенная? — подумал Багров. И не
предположив в Козе фартового, спросил:
— Куда же вас определить? Что вы умеете? Где и кем работали?
— У меня профессий тьма! Я нигде не буду лишним. И кусок хлеба всегда заработаю,
— проблеял законник.
— Нам сейчас очень нужен человек на кузницу! Подручным! Технику ремонтировать
после уборочной! — предложил Иван Степанович.
— Надо попробовать. Правду сказать, именно этим никогда не занимался, — сознался
Коза.
— Ну, а в технике разбираетесь?
— Представленье имею.
— Тогда на ферму отправим. Поилки, доилки, кормозапарник, кормораздатчик,
погрузчик — подремонтируете. Хозяйство у нас большое. Без дела не останетесь.
Зимой и летом — до седьмого пота работать будете. А там и хозяйку сыщете! Это
ничего, что морда овечья. У нас не побрезгуют! Лишь бы душа была человечья! В
деревне о своем горе быстро забывают, — говорил председатель, подспудно
почувствовав, что не задержится этот мужик в Звягинках.
Козу отвели к бабке Свиридовой, той, что ослепнув от горя после получения
похоронки на младшего сына, жила в своем доме, редко выходя на улицу. Все молила
Бога о погибших — муже и сыновьях, прося ускорить встречу с ними. Ей давно все
надоело. И бабка жила тихо, молча, не вникая в жизнь села.
Коза, едва его привели к Свиридихе, устраиваться стал. Но временно, так
договорился с Багровым, что сам себе жилье подыщет, либо, когда к нему
присмотрятся, дадут более подходящее. Ведь работать ему придется много. А
значит, и возвращаться надо в теплый, протопленный дом.
Иван Степанович велел новичку к шести утра выйти на работу. Коза согласно
кивнул. А вечером решил сходить в колхозный клуб в кино. Знал по слухам, что
зимой в любой деревне все в кино ходят. Там надеялся увидеть Седого, проследить,
где живет, и разделаться с ним побыстрее, не застревая в деревне надолго.
Бабы и девки, собравшиеся в клубе, с удивленьем разглядывали Козу.
— Откуда сорвался? С какой цепи? — фыркнула смехом румяная, полнотелая девка,
глянув на новичка.
— Давайте познакомимся! — предложил фартовый, не обидясь, подойдя вплотную к
стайке девчат. Тех словно ветром сдуло. Пересели в другой угол. Оттуда,
пересмеиваясь, изредка смотрели на Козу. Тот, напустив на себя маску равнодушия,
сидел спокойно, иногда оглядывался по сторонам, будто ждал кого-то из знакомых.
Но Седой не пришел в клуб. Он не любил военные фильмы и предпочитал им — хороший
сон, тем более, что Волчиха продолжала лечить его.
Зато ни одного фильма не пропускал участковый. Он пришел, как всегда, без формы.
В обычной куртке, причем не отличался от колхозников. Разве вот выправкой, какую
сберег еще с тех — военных лет. Он сразу увидел чужого, о каком ему мимоходом
сказал Багров. Участковый заходил к Свиридихе, но жильца уже не было.
Участковый подсел рядом. Поздоровался, решил поговорить с человеком по-своему,
не называясь — кто он есть, запросто:
— Новенький! Значит, пополненье в нашем мужском полку! Надолго ли к нам? —
спросил Козу.
— Думаю, навсегда! Места у вас хорошие. Жизнь спокойная, народ веселый. Глядишь,
и ко мне попривыкнут, — обрадовался Коза собеседнику, решив выведать у него
исподволь о Седом.
— Это верно! Жизнь у нас тихая! Девок вместо коней скоро запрягать будем! Глянь,
какие они! У тебя жена есть?
— Нет! — ответил законник.
— Ничего! Мы тебе сыщем из своих! Самую лучшую!
— Какая теперь за меня пойдет? Только старушка! В деревне, наверное, я —
единственный холостяк?
— Да! Все мужики при бабах! — опередил участковый деревенских, вспомнивших
Земнухова.
— А где работать будете? — робко спросила учетчица с фермы — щекастая Зинка.
— На ферму председатель посылает. Механизацию отремонтировать.
— Вот бедокур, Степаныч! Мы у него сколько лет быка просим. А он — козла взамен
дает! — рассмеялся пропахший навозом скотник.
Деревенские рассмеялись на весь зал. Участковый заметил огни ярости, сверкнувшие
в глазах чужака. И вмиг насторожился.
— Ну, на супера я может и не тяну. Да и не претендую. Но в сравненьи с навозной
кучей — я мужик!
— Это я- навозная куча? — понял скотник намек и стал протискиваться поближе,
чтобы достать кулаком чужака. Но… придержали.
— Погоди, харя овечья! Я тебе устрою козью морду, когда кино кончится! Рылом в
гавно воткну, до утра не выпущу! — пообещал скотник.
— Хватит! — рявкнул участковый. И скотник сразу замолк.
— Вы не обращайте внимания на него! Мужик хороший, работящий. Заводной малость,
ну так все мы не без недостатков. Вы лучше расскажите, где раньше жили? Мы —
деревенские, из Звягинок почти не вылезаем. Даже в Орел — раз в году выбираемся.
Иные и того реже. Вы же, небось, жили в других местах? — спросил участковый.
— Поездил я! Бывал в Одессе, Ростове, в Москве! Красивые города!
— А в Ленинграде? — спросила Зинка.
— Бывал!
— Ив Эрмитаже?
— Конечно! И в Петродворце был! — подтвердил Коза, радуясь, что разговор
оживляется.
— Расскажите! — попросила Зинка.
— С удовольствием! — откашлялся Коза. Но в это время свет в зале погас. Начался
фильм. Разговоры мигом утихли.
— А что? Не идут к вам в село люди работать? — спросил Коза, наклонясь к
участковому.
— Нет! Уходят в город! На заработки, где полегче жизнь ищут!
— Выходит, в деревне только все свои? Притока свежей крови нет?
— Что делать? — пожал плечами участковый.
— Мне рассказывали, что в деревнях во многих, кроме председателя колхоза, никого
нет. Он — вся власть! И за милицию, и за судью один управляется. Потому вот в
деревнях судимых и не бывает. Чуть что — вся власть в одном кулаке. А на него —
не пожалуешься!
— Перегнули! Это в какой же деревне такие порядки? — усмехнулся участковый.
— В сибирских!
— Вы там бывали?
— Нет! Понаслышке!
— Врут! Везде одинаково!
Коза оглядел зал в перерыве, когда кончился журнал. При ярком свете рассмотрел
каждого мужика. И не увидев Седого, сразу потерял интерес к фильму.
Утром он пошел на ферму, как велел ему председатель. И услышал за спиной грохот
трактора. Посторонился, пропустил. И вдруг услышал:
— Эй, Сашка! Погоди!
— Да мало ли тут всяких Сашек? — подумал Коза и решил, если в три дня не найдет
Седого, слиняет из Звягинок в малину.
— Надо выведать у этих паскуд деревенских, сколько фронтовиков у них вживе? И
кто именно? — решил Коза.
Но собеседников на ферме не оказалось. Все были заняты работой. И законник,
матерясь втихомолку, принялся чинить автопоилки, выгребал из них мусор,
регулировал клапаны, отжимные пружины.
Ему для этого пришлось снять с себя куртку и пиджак, засучить рукава до локтей.
Благо, в коровнике тепло. Коза, ремонтируя поилки, не оглядывался по сторонам,
понял, не время для болтовни и понемногу забылся, — зачем пришел в Звягинки.
Земнухов уже отвез на Поля навоз с трех ферм. Подъехал к коровнику, ждал, когда
скотники загрузят сани. Зашел на ферму погреться и увидел Козу. Тот не приметил
Земнухова.
Не оглядывался, не услышал шагов. А Седой, став в двух шагах от новичка, о каком
услышал от скотников, враз приметил татуировку. По ней узнал о законнике многое.
Земнухов хотел подойти, схватить за шиворот, выкинуть фартового из коровника, но
его опередили…
Скотники, загрузив тракторные сани, поторопили Седого вывезти их с фермы. Сами,
взяв лопаты на плечи, натолкнулись на Козу, какой работал не оглядываясь.
— Стой, мужики, этот засранец при всех в клубе назвал меня навозной кучей! —
узнал скотник законника и подскочил к нему, огрел лопатой по голове. Тот
пошатнулся, но удержался на ногах. Ухватил разводной ключ, кинулся к ударившему,
но за него вступились деревенские. Свалили на настил, подмяли. Сразу, со всех
сторон, выскочили доярки. Кричали, пытаясь разнять мужиков, кто-то побежал за
участковым.
Седой первым увидел, как вывернувшись достает законник нож из-за пояса. Земнухов
успел подскочить, наступил на руку, та, разжавшись, выронила нож. Скотники,
приметив это — озверели, стали топтать фартового ногами.
Земнухов знал, остановить их он не сможет, самого убьют в приступе зла. Доярки
пытались охладить ярость, но было поздно. Кто-то из скотников наступил сапогом
на горло. Фартовый дернулся в последний раз. Но мужиков и это не остановило. Они
продолжали избивать мертвого.
Участковый прибежал запоздало. Земнухов, увидев, что фартовый уже не встанет,
уехал с фермы на поле. Когда разгрузился, услышал от мужиков, что нынче они
прикончили бандюгу, у какого, как сказал участковый, ножей хватило бы на всех
скотников. И убивать он умел, вся спина и руки в колымских наколках изрисованы.
Одна лишь Зинка жалела Козу за то, что не успел он ей рассказать об Эрмитаже.
Приехавший из Орла следователь прокуратуры долго допрашивал скотников. На целый
месяц увез из деревни зачинщика драки. Тот вернулся в Звягинки с судимостью и
условным сроком. Едва появившись на ферме, он сказал, что и нынче не жалеет о
случившемся.
Земнухов знал, что смерть фартового не остановит малину и в Звягинках
обязательно появятся новые кенты.
Каждый день, выходя из дома, он внимательно оглядывал весь двор, крыльцо и
крышу, не притаился ли кто за калиткой, воротами, на скамейке. Но вокруг не было
ни души. Только свои — деревенские, торопились на работу либо домой.
Земнухов уже вернулся от Волчихи к Акулине. Та порадовалась переменам в мужике.
Многое бабке удалось. И впрямь, как подменила человека. Мало обещала, со многим
справилась. Теперь на Седого заглядывались не только бабы, а и девчата.
Земнухов посмеивался. Ему ли до семьи? Но девки пели под окнами дома о любви, о
ненаглядном залетке.
Даже участковый, навещавший Земнухова каждый день, начал успокаиваться, две
недели в деревне не появлялись фартовые.
— Может, отвязались насовсем? Где ж им столько блатных найти? Ведь никто, особо
после последнего случая, не захочет совать голову в деревню, не упустившую ни
одного бандита?
Седой был бы рад поверить в это, но сердце не соглашалось.
Александр понемногу привык к людям, иногда заходил к кому-то в гости. Смелее
держался на улице. Да и люд деревенский не напоминал ему о прошлом. Не упрекал,
не спрашивал, не будил память.,
В доме Акулины он чувствовал себя свободно. Хотя не собирался стать тут хозяином
и бабу держал на расстоянии. Не давал ей повода думать о себе иначе, чем как о
временном жильце. Мечталось Седому заполучить свой домишко. Пусть маленький, но
собственный, обустроиться в нем. И жить, как подобает человеку…
Свой дом… Седой мечтал о нем даже во снах. Но знал, не скоро его получит, если
вообще доживет до того времени.
Однажды вечером зашел к нему председатель колхоза.
И попросил Земнухова поехать в Нарышкино за минеральными удобрениями вместе с
двумя колхозными трактористами.
— Трое саней селитры нам на все поля хватит. Пока есть она — взять надо, потом,
ближе к весне — не допросишься. Желающих будет много. За пару дней загрузитесь и
домой. Самим грузить придется, Сашок! Сам видишь, мужиков не хватает. Ни одного
дать не могу! — развел руками.
Земнухов молча согласился и на следующий день, вместе с двумя трактористами,
уехал в районный центр из Звягинок.
Он даже не оглянулся на дорогу, ведущую в деревню из Орла. Прошли три недели, и
он сам начал верить, что фартовые отступили от него.
А Черная сова, тем временем, не сидела сложа руки.
Шакал бесился от ярости, что все четверо кентов засыпались в Звягинках и так не
сумели ожмурить Седого. Он был словно заговоренный.
Пахан не любил терять кентов. И смерть Козы взбесила Шакала. Ладно б в деле
накрылся законник, слывший отменным мокрушником милиции! Его же втоптали в
навоз! Ка- кие-то скотники! У Шакала кулаки белели от хруста. Он готов был
разнести всю деревню в щепки, но сначала — достать Седого, чтобы тот ответил за
каждый прокол своего шкурой. И, обговорив с фартовыми, решили в одну из
ближайших ночей подпалить дома участкового, скотника и Акулины.
Пахан от водителя бензовоза узнал, где живет Седой. Шофер тот жил в Орле. Его
выследили, напоили, тот, ничего не подозревая, рассказал все. Да и откуда мог он
знать о. чем- либо? С ним село не делилось своими заботами.
Фартовые подошли к Звягинкам глухой ночью. Облили бензином три дома, так чтобы
пламя отрезало путь к спасенью сразу и подпалили дома со всех сторон, спрятались
в ночи, выжидая неподалеку, как будет выскакивать из горящего дома Седой,
участковый и семья скотника.
Пламя, зажженное малиной, охватило дома сразу со всех сторон. Они вспыхнули
факелами в ночи. И разбудили всю деревню, загудевшую дружным ульем. Со всех
сторон к пожарам побежали люди. С ведрами и лопатами, они спешили из своих
домов. Кто не успев накинуть платок, другие — в нижнем белье. Люди бежали к
реке, заливали пламя водой, другие забрасывали его снегом, сбивали тряпьем. Даже
дети помогали взрослым. Но спасти дом Акулины — не удалось. Доярка была на
ферме, принимала отел у коровы, а Земнухова не было дома. Ор находился в
Нарышкино.
Малина всматривалась, вслушивалась в голос пожара. Но не уловила в нем голоса
Седого.
— Накрылся падла или нет? — ломал голову Шакал, вглядываясь в человеческие тени,
мечущиеся в сполохах огня. Он видел, как старались спасти этот дом колхозники.
Но тщетно. Его особо щедро облили бензином законники. И дом горел так ярко и
быстро, что из него ничего не успели вытащить, только скотину вывели из сарая.
Сильно обгоревший дом участкового все же устоял под крышей. Успели люди погасить
пожар. Залили, закидали снегом, сбили пламя. А подоспевший председатель и вовсе
успокоил, сказав, что даст кирпич и людей. Обложат его снаружи в три дня. И к
Новому году хоть новоселье справляй.
Скотника не столько дом, сколько семья пострадала. Дети, испугавшись огня,
выскочили из дома. Их пламя не пощадило. Особо меньшего. С ожогами унесли к
Волчихе на простыни. А у дочки — лицо и косы пострадали. Но и она к бабке
Волковой убежала, едва поняла, что беда не столь страшна, как ей показалось.
Акулину быстро уговорили колхозники. Увели от пожарища в соседнюю избу,
переодели, накормили, уложили спать на теплую лежанку русской печки, пообещав
всем миром взяться за ее избу. Та, выплакавшись, уснула. И только участковому не
было покоя. Отвязав с цепи служебную собаку, повел ее вокруг дома и та взяла
след Черной совы, стрелой метнулась к реке — к глубоченным сугробам, потащила на
поводке не успевшего взять оружие участкового.
Овчарка неслась бесшумно. Вот в прибрежном ивняке, заметенном снегом, приметила
затаившихся людей. Их запах был возле пожара. Собака зарычала, рванулась изо
всех сил, так, что поводок выскочил из рук участкового. Кто-то из прятавшихся не
выдержал, приметив во тьме два горящих собачьих глаза, и выскочил на лед реки.
Участковый окликнул собаку, но та уже не могла остановиться, наметила жертву и
вцепилась в ногу убегающего Таранки, сшибла его грудью, вжала в снег,
повизгивая, торопила участкового, глядя, как тот медленно выбирается из сугроба
и, просмотрела… Лезвие ножа в секунду вспороло брюхо. Собака взвыла от
неожиданной боли, оскалив клыки, хотела вцепиться в горло человеку, но силы
мигом оставили ее. Их не хватило даже на то, чтобы закрыть пасть.
Участковому следовало бы повернуть в деревню и поторопиться уйти от опасности,
но он рванулся на голос собаки, какую очень любил.
Он не успел нагнуться, дойти до нее. Словно из снега вырос на его пути пахан:
— Прихилял, лягавый пидер! Ты не опоздал! Где Седой?! — схватил за горло. Но тут
же получил встречный удар в челюсть.
— Махаться? Охерел падла! — вытащил финку из-за браслета.
Участковый заметил, сделал ложный выпад, но не увидел, что «малина» уже сомкнула
кольцо вокруг. Пижон коротко ткнул в спину. Участковый зашатался, почувствовав
резкую боль в сердце. Перед глазами закружился берег реки. Белый, весь в черных
пятнах. Это сугробы… конечно, сугробы. Ведь только они без лица…
— Хана лягавому! Расквасили паскуду! Линяем! Седого потом достанем! —
спохватился Пижон, глянув на небо. «Малина», спешно свернув за излучину, вскоре
вышла на шоссе и через час вернулась в Орел вместе с первым грузовиком,
отвозившим в город молоко.
Участкового колхозники нашли уже утром, когда совсем рассвело.
Багров и оперативники тут же сообщили в горотдел о случившемся. И вскоре в
Звягинки приехали из прокуратуры и городской милиции. Осмотрели место
происшествия, горевшие дома. Как и предполагали, сыскная собака вывела на шоссе
и остановилась. Но слепки следов были взяты, описаны характерные особенности
каждого следа. Узнали и о Седом. Но тот еще не вернулся из Нарышкино. И
следователь прокуратуры попросил, как только вернется тракторист, пусть ему в
город о том сообщат.
О чем говорил Земнухов со следователем до самого вечера, никто из деревенских
ничего не узнал. В Звягинки на следующий день прислали нового участкового. А
Земнухову сельчане стали советовать уехать от беды хотя б на время, пока не
переловит милиция всех бандитов.
— Слишком дорогую цену заплатили мы за тебя! — обронила жена погибшего
участкового. Тот уже лежал в гробу и не мог ей возразить, вступиться за Сашку.
— А может, впрямь уехать тебе куда-нибудь подальше от Звягинок. Нам и тебе
спокойней будет, — поддержала Акулина, стоя рядом с Седым у пожарища.
Багров вяло протестовал. Но Седой почувствовал, что события последней ночи
подточили и его терпение. И его нервы сдали.
— Ну, коли так, держать не могу! — ответил на довод Земнухова, что малина не
оставит задуманного и еще навестит деревню, что она утворит в следующий раз, с
кем расправится, остается лишь предполагать. А если он уедет, фартовые вмиг
потеряют интерес к Звягинкам и никогда уже не вернутся сюда…
— Ты сначала подыщи себе место, куда поедешь. Договорись, устройся, а уж потом
забирай документы, а вдруг не найдешь ничего подходящего? Как жить будешь,
сорвавшись от нас? Я же тебе не насовсем, лишь на время предлагаю уехать! —
говорил председатель колхоза больше для очистки совести. Но Земнухов не слушал,
он уже написал заявление и собирался пойти к бухгалтеру.
Деревенский люд, похоронив участкового, словно все тепло свое на погосте
оставил. Земнухова не хотели замечать. С ним перестали здороваться. И человек
кое-как дождался расчета, ночуя все дни на ферме, в сене, за кормушками. Он
сразу почувствовал себя лишним, одиноким, никому не нужным человеком.
Даже бабка Волчиха, встретившись с ним у правления колхоза, подошла
нахмурившись:
— Эх, Сашка! Уж лучше б ты на фронте погиб! Героем бы вспоминали! А ты — в
бандюги скатился! Какого человека из- за тебя убили! Ты его ногтя не стоил. Это
всяк скажет. Дурень выжил, а человека — проглядели! Не морду тебе надо было
переделать. А всю твою жизнь — собачью! И душу! Но кому она нынче сподобилась?
Эх-х, нет у нас в деревне мужиков, а и такое гавно, как ты, не надо! —
повернулась спиной и ушла ругаясь.
Земнухов, получив расчет, ушел из Звягинок не прощаясь ни с кем.
Здесь, когда он объявился, никто не ждал его, провожать и тем более никто не
вышел.
Седой постоял в раздумье на шоссе. Холод пронизывал его до костей. Человек
оглянулся на деревню, из какой его почти прогнали. Поежился от собственной
неприкаянности и проголосовал первой машине, показавшейся на дороге.
Куда она едет? Куда спешит? Да какая разница? Земнухову некуда было торопиться.
Его никто и нигде не ждал.
Машина оказалась из Белоруссии. Водитель приезжал на Орловский
машиностроительный завод за деталями и теперь спешил обратно. Домой, к своей
семье, к детям.
Понемногу они разговорились. Водитель сказал, что сам он родом из Полесья, из
глухой деревеньки, затерявшейся в лесах, куда в войну и немцы не смогли
добраться из-за болот и глухомани.
— Там у нас кикиморы да лешаки живут. Весь люд в города сбежал. Кому охота в
деревне маяться? Вот и ищут жизнь легче, да сытую. Тяжко нынче там стало. Детву
в школу всякий день не потащишь за полсотню километров. А в интернат отдавать
страшно. Чему их там научат без родителей? Сбалуются! То-то и оно! Пришлось
самим в город уезжать. Если б не дети, в жизни со своей земли не утек бы! —
вздохнул шофер.
— А родители там остались? — спросил Седой.
— Их с лесу не сковырнешь. В городе дня не могут. Задыхаются. Нашу воду пить не
хотят. Вонючая! А к харчам куплёным несвычные. Только свое признают, как все
деревенские. Оттого они крепче и здоровее нас. Дай им, Бог, доброго! Еще
работают.
Земнухов поинтересовался жизнью, работой, условиями, заработками, спросил о
людях. Задумался. И решился…
А тем временем Черная сова искала Седого в Звягинках.
Глыба, переодевшись в бабье, за руку с Задрыгой, вошли
в избу в Волчихе. Поздоровались приветливо. Бабка, оглядев обоих, спросила, кого
ищут, что хотят от Звягинок?
— Сожитель от меня сбежал, бабонька! Пять лет с ним прожила душа в душу. И нате
вам, поругались из-за мелочи. Сколько такого бывало? А тут я, дурная ляпнула,
что надоел он мне. Сашка — за чемодан и ходу сюда!
— Уж не Земнухова ли ты ищешь? — прищурилась Волчиха.
— Его самого! Санечку! Помоги, бабуленька, стань матерью, помири нас! — просил
Глыба старуху.
— Его тут многие искали, — прищурилась Волчиха, разглядывая накрашенное лицо
Глыбы.
— Женщины?
— Бандиты! Они недавно нашего участкового убили.
— Да, сидел Сашок в тюрьме. Это верно. Но ведь ни за что попал, — вытер
платочком мокроту Глыба.
— Вор! Ни за что сидел? Да ты сама, видать, не лучше? — поджала губы Волчиха.
— Да что вы, бабуся? Я бухгалтером работаю. На швейной фабрике. Саша хотел
закончить курсы наладчиков оборудования, да вот, поругались. А может у него
женщина тут появилась, а я, дуреха, реву? — спохватился Глыба.
— Нет у него женщины! И самого нет. Уехал сегодня утром. Отпустили его из
колхоза. На все четыре стороны. Замучили деревню его урки. Да и сам устал,
видно. Нынче, чуть свет видела я, как уходил из Звягинок. Навсегда! Возврату ему
сюда уже нет. Никто его не возьмет обратно.
— Уехал? И от меня? А куда ж теперь он смотался? — простонал Глыба, всхлипывая
натурально.
— Вот этого я не знаю. Никому он о том не сказал. Да и сам навряд ли что решил.
Ведь родня его вся тут схоронена. И невеста! Красивой девкой была! О ней он и
говорил, и помнил. А вот о тебе словом не обмолвился! Видать, жить не думал. А
ссора — поводом стала! — злилась Волчиха.
— А у кого он жил? Может, тот человек знает больше? — спросил Глыба.
— Да только недавно от меня Акулина ушла. У нее он остановился. Как раз о
Земнуховых мы с ней говорили. И об Сашке. Ничего не сказал. Даже не
поблагодарив, не простившись с нею — уехал. Бессовестный, пропащий человек! —
сплюнула бабка в угол. И спросила, указав на Капку:
— Уж не Сашкин ли этот ребенок?
— Нет! Она моя! От первого брака. Мне всю жизнь не везет! — засморкался Глыба и
только засобирался уходить, в дом к бабке почтальонка вошла. Отдала письмо. И
старуха, указав ей на гостей, сказала:
— Земнухова баба! А он тут сиротой несчастным прикидывался. Пять лет морочил
дуре голову. Чуть поссорились, сбежал сюда! И замучил нас бандитами. Бабе своей
даже не сказал, что в селе прижился. Она, глупая, по морозу ездит, его ищет. Он
и отсюда смотался.
<— Да плюнь ты на него, засранца! На него колхозницы — положили! А ты чего за
ним гоняешься! Прокормишь ребенка и без гавна! Может, человек сыщется! Санька же
с ворами спутался. Убить его хотели тут! — развязала язык почтальонка.
— Может, и гавно! Да кто ж знает, бабы, другой будет ли лучше?
— Э-э, милаха! Силой мужика не удержишь! Этим кобелям, хоть масло под хвост лей,
коль не люба — не уговоришь, — вздохнула Волчиха.
Глыба, едва вышел с Капкой от Волчихи, заматерился по- черному, обозвав Седого
так грязно, что Задрыга изумилась. Никогда не слышала от фартового ничего
подобного.
— Где дыбать пидера?
— Ничего, нашмонаем! — ответила Капка. И напомнила о скотнике, из-за какого
погиб Коза.
— Пахан ожмурить велел подлюку эту! Он теперь «на пахоте».
— Хиляем! Если не обломится теперь, ночью замокрим…
— Что вякнем фрайерам? Почему возникли?
— Седого облажаем! — усмехнулся Глыба. И придя на ферму, разговорился с
бабами-доярками, мол, вот обидел Сашка, убежал из дома, кобель треклятый. Не
может жить, как нормальный мужик — с семьей. Все прикидывается несчастным, его
жалеют, а он потом — всем пакостит.
Глыба интересовался дотошно, не говорил ли Седой, куда поедет? Но этого никто не
знал.
— Прохвост! Пройдоха! — ругал Глыба Седого, внимательно следя за скотником,
какой не без гордости похвалился, что вместе с мужиками уделал ворюгу, какой
приклеился на ферме, чтобы выследить Седого.
— А чего его выслеживать, если он в деревне жил? — деланно удивилась Задрыга.
— Бандюги никогда открыто не убивают. Все в темноте, из-за угла! Иль ты книги не
читаешь, кино не смотришь? — удивился скотник.
— Вместе работали, чего ж не уследил? — рассмеялась Капка.
— Он — первый раз пришел сюда — тот ворюга! Если б я его не поддел, убил бы он
вашего Земнухова! — цыкнул слюной на настил. И полез на чердак сбросить сено.
У Капки глаза зелеными огнями зажглись. Она приметила и оценила все сразу:
Доярки сели на низкие табуретки доить коров. Ни на кого не обращали вниманье. О
Седом не хотели говорить. Уехал мужик от бабы… Не первый и не последний случай в
жизни. Погорюет и успокоится городская краля. Вон она какая холеная и разодетая.
Да и девчонка — как кукла разряжена. Не то, что деревенская детвора, —
отвернулись от приезжих, выходивших из коровника.
Задрыга мигом скользнула на чердак по лестнице. Приметила, что остальные
скотники уже разнесли сено по кормушкам. А тот, что наверху остался, сбрасывает
сено уже на вечер.
Капка смотрит, как он ловко управляется с вилами, цепляя на них горы сена, вот
еще одну охапку скинул. Глянул вниз. Сбросил вилы. Вытер рукой пот. Капка
стрелой промелькнула к нему. Всего один удар, как учил Сивуч. Мужик не успел
оглянуться. Адская боль в позвоночнике помутила разум. Ноги не удержали. И он
упал вниз прямо на вилы животом.
Капка ловкой кошкой сиганула вниз. Услышала шум на ферме. Крики доярок,
всполошившихся от увиденного, громкий крик умирающего мужика:
— Спина! Мать ее в суку! Из-за нее сдыхаю!
Глыба с Капкой вышли к шоссе. Задрыга подошла к бабке, продающей моченые яблоки
у дороги. Та совсем окоченела.
— С утра тут стоите? — спросила участливо.
— С ранья, — ответила старуха, шамкая.
— А я тоже с утра по Звягинкам шаталась. Отца искала. Бросил он нас с мамкой.
Уехал. Скрывается от алиментов.
— Уж не Земнухов ли? — спросила старуха.
— Он, бабуля! Может, вы видели, куда поехал?
— Видела! Вон туда! — махнула бабка рукою в даль по шоссе.
— А на чем поехал?
— На машине! Не на колхозной. Не наша онa! Вся грязная. Раней всех тут
показалась. Я только первое ведро принесла продать. До обеда с ним стояла.
— А что в той машине везли? — спросил Глыба.
— Железки всякие. Верхом нагруженая. Но ваш в кабину сел.
— Номер не помните, бабусенька? — погладила Задрыга морщинистую бабкину руку.
— А говорили, что в тюрьме сидел! Он же от такой сугревной дочки сбежал! Вот
охальный кобель! — сплюнула бабка на снег и добавила сокрушенно:
— Глаза мои слепые не увидели того номера, да и в голове не удержала бы, нет уж
памяти у меня, — посетовала бабка, качая головой от удивленья. И вдруг, вспомнив
что-то, сказала:
— Шофер евонный яблоков у меня купил. Сморозил, навроде в его Белоруссии точно
такие растут антоновки. Я ему не поверила. Сказала, что мои яблоки от опытной
станции селекцию дочка принесла. У него таких быть не может. А он мне ответил,
что у него от панов — лучшие сорта прижились. И звал в какие-то Смолевичи,
отведать его яблоков. А у меня он — на дорогу взял. Вот так-то! — разговорилась
бабка, радуясь, что голова ее не вовсе дырявая и кое-что в ней держится.
Глыба тоже купил у бабки яблок. Не торгуясь, как все, полный кулек. И остановив
первую же попутную легковушку, попрощался с бабкой, сказав:
— Ладно, мать. Уехал, так и черт с ним, насильно мил не будешь… Проживем и без
него, засранца!
— И то, верно, родимая! Бабы мы! Все переживали! Даже войну! Было бы здоровье!
Остальное все — Бог даст! Храни вас Господь! — пожелала старая, крестя уходящую
машину вслед, желая всякого добра хорошим покупателям.
Шакал даже подскочил от ярости, узнав, что Седой снова изчез из вида и его опять
нужно искать. А где? Неизвестно…
— Просрали суку! Прохлопали лопухами! Слинял пидер вонючий! Гнилой козел!
Мокрожопая плесень! Во, мандавошка прыгучая! Смылся из-под шнобеля, стукач
облезлый! — взвыл пахан, забыв обо всем.
— Пахан! Мы того потроха ожмурили! Какой на Козу хвост поднял. Не на халяву
возникли! — тронула Капка Шакала за локоть. Тот отмахнулся:
— Этот клизьма никуда бы не делся! Дешевый духарило! Его после Седого стоило
замокрить!
— Почему? — удивился Теща. И нахмурившись спросил:
— Коза — кентом был! Не курвился! За него, по закону нашему, ожмурить надо всех,
кто размазал законника!
— Того хмыря сход не приказывал расписать! А Седого! За него мы свой положняк
вернем! А за вонючку-деревню схлопотать можно на всю катушку.
— Седой в Белоруссию смылся! — вставил Глыба.
— Он по пути слинять мог. Ему в Белоруссии не по кайфу. Где приморится? А если и
так, то там — не Звягинки.
— Смолевичи! Так бабка вякнула. Водителя, какой в Орле
был, можно надыбать. Он н расколется, где попутчик отвалил. Время терять не
надо, покуда шоферюгу не выперли куда- нибудь в рейс! — предложил Глыба.
Шакал как-то сразу успокоился. Начал думать…
Глыба рассказывал кентам. как он хотел убить скотника, как его опередила Капка.
Фартовые от души смеялись, слушая кента:
— Я ж не на халяву бабой вырядился, Дюбнуло мне в кентель, как только прихиляли
в глушь, заманить того скотника за угол. Или за стог. Ну, вообщем, куда эти
сраные хмыри за своими бабами шмыгают, — начал Глыба.
— Соблазнить допер?
— О! То самое! В очко! Уж я там на ферме их — буферами тряс!
— Они ж ватные! — хохотали воры.
— До фрайеров не доперло! Даже бабы меня за свою приняли! Фаловали положить на
Седого!
— А как ты вонючку припутать хотел?
— Ну, я стремачил, когда он мне моргнет, мол, хиляем за угол. Там его и размазал
бы.
— А если б на ту минуту деревня возникла?
— Вякнул бы, что на мою честь посягал! — смеялся Глыба. И повернувцщсь к Капке,
сказал:
— Но Задрыга файней отмочила. Теперь и я вякну — пора кентушку в закон брать!
— Годами не вышла! Никого в такие годы не принимали! — не соглашался Боцман.
— В закон Задрыгу? Пусть пооботрется в делах! Зелень еще! — орал Таранка.
— Что горлянки дерете? Маэстро свое слово сказал о Задрыге! Чего вы хвосты
подняли? — не выдержал Тетя.
— Сколько о ней дошло до нас, то вякну, как честный вор, давно пора ей — в
закон! Фартует файно зелень! — вступился Рыбак.
Задрыга искоса смотрела на кентов, играла с кошкой. Для Боцмана и Таранки
придумывала очередную месть. И предложила:
— Чем глотку драть, пускай Боцман с Таранкой смотаются в Смолевичи, колонут того
фрайера-шоферюгу на адресок. Может, и Седого ожмурят. Пора кентам прошвырнуться
в дело!
— Ну, гнида! Мы что тут — сачковали? Пока ты одного вонючку замокрила, мы в трех
делах были! Навар сняли! И ты с него хаваешь! — вскипел Боцман.
— Ну, отмочил кент! Задрыга банки брала! Лимонами на
вар давала! Она твое не хавала! Ее доля жирней в общаке! — возмутились
законники.
— Пахан! Пошли Боцмана с Таранкой на Седого! Пусть они вломят стукачу, чем на
Задрыге отрываться! — встрял Пижон.
— Если только пронюхать хазу суки — одного по горлянку хватит — Таранки! —
сверкнул глазами Шакал и добавил-
— Коли ожмурять, пусть вдвоем сорвутся! И не тянут резину, как падлы! — зазвенел
металлом голос пахана.
Боцман вмиг понял, перегнули они с Таранкой, и быстро согласился ехать в
Белоруссию, найти Седого хоть из-под земли и замокрить.
Вечером они ушли на железнодорожный вокзал, уговорившись с паханом встретиться в
Брянске. Малина решила уехать из Орла, где все более приметные магазины уже
тряхнула Черная сова и милиция искала ее по всему городу.
Капка на прощанье насыпала обоим в карманы тертого стекла, пусть хоть пальцы
поколют, решила девчонка напоследок. И ухмылялась вслед уходящим, не желая им
ничего доброго. Да и законники ушли не оглядываясь.
Найти Седого будет непросто. Это понимала Черная сова и сами фартовые,
пустившиеся в эту поездку с расчетом на удачу и везенье.
Земнухов даже предположить не мог, что так легко и быстро узнает малина, в какую
сторону увезла его машина. А она домчала до Смолевичей, где переночевав всего
одну ночь, пошел человек в лесничество. Там, глянув документы, выслушав мужика,
взяли его на работу. И на следующий день повезли на отдаленный участок.
Лесником. Сказали, что в доме этом уже с десяток лет никто не живет, потому что
как уехали последние хозяева — желающих не нашлось здесь работать. Пугала глушь
и низкий заработок.
— Мне подходит! — согласился Седой. И уже к вечеру привезли ему из поселка
харчей на первый случай, дешевую посуду, спецовку, топоры и пилы, грабли и
тяпку. Обещали через неделю дать коня. Вместе с сеном и овсом его доставить. На
всякий случай выдали ружье — двухстволку, патроны и порох с дробью.
— Обживайся! Привыкай! — показали человеку границы его участка. И поскорее
уехали из глухомани, где с наступлением сумерек то за корягой иль за кустом
мелькнет волчья спина, раздастся протяжный вой, похожий на стон.
Даже звери тут осмелели, попривыкнув к глуши, необжитости.
Седому напомнили, что он обязан тут делать, работники лесничества быстро уехали
на вездеходе.
Седой остался в тайге один. Он быстро нарубил дров на всю ночь, принес воды,
связал из березовых веток веник. И, закрывшись на засов, начал наводить порядок
в избе Обнаружил в подвале глину — обмазал печь. Та вмиг дымить перестала. Когда
прочистил поддувало, печка и вовсе задышала, быстро нагрелась плита,
Глава 8
Приговоренный
Человек обмел углы и стены, подмел полы, подремонтировал топчан, оставленный
прежними хозяевами. Потом и стол, и лавку на ноги поставил. Сварил нехитрый
ужин. И только сел к столу поесть, увидел за окном два зеленых глаза.
— Шакал! — схватился за дробовик. Волосы на макушке встали дыбом. Седой
торопливо зарядил ружье, выскочил в тайгу.
Старый волк медленно потрусил от окна, понимая, ему поужинать не доведется.
Выстрел нагнал его тут же, коротко щелкнув зубами, зверь уткнулся мордой в снег.
Он впервые понял, что смерть может нагнать и там, где ни на кого не нападал.
Земнухов быстро снял с него шкуру, натянул ее возле печки сушить. Решив прямо с
утра отремонтировать ставни на окнах, чтобы на ночь закрывать плотно, от холода
и от случайностей.
Утром лесник пошел в обход, нацепив на плечо двухстволку. Дом не стал закрывать.
От кого? Кто придет в эту глухомань своей волей? Такое не всякому зверю под
силу. Человеку и подавно.
— Кыш! Едрена мать! — ругается Седой на замерзающую от холода ворону.
— Не кемарь, как пидер! Дергайся, как падла! Тогда дышать станешь! — учит
удивленную птицу. Та замахала крыльями, поднялась в прозрачно голубое небо и
комом свалилась вниз замертво. Припоздал лесник, прихватило морозом сердце. Не
сумела его согреть.
Седой идет по участку, примечая и запоминая каждую мелочь.
Заячьи, лисьи, барсучьи норы, несколько берлог да волчьи лежки. У этих — скоро
свадьба, смеется человек
Гроздья рябины каплями крови осыпаются на снег. Их тут же растаскивают снегири и
синицы. Нахальные сойки, расталкивая мелкоту, торопятся набить живот мерзлыми
ягодами.
Земнухов засмотрелся на птичью канитель, и вдруг до его слуха донесся необычный
звук. Он оглянулся, увидел лося. Тот пер напролом через сугробы, отбиваясь от
наседающих волков, уже начавших сбиваться в дерзкие стаи.
Выстрел охладил, отогнал зверей от лося. Тот стал неподалеку, с удивленьем
смотрел на человека. Седой поднял двухстволку, но лось мигом изчез из вида.
Понял, только на одно доброе дело способен человек. Постоянно на него
рассчитывать нельзя.
Следы… Следы… Ими весь участок испещрен. Птицы, звери, зверушки. И ни одного
человечьего следа. Как в пустыне. Ни доброго слова сказать, ни обматерить
некому.
— Небось не кайфовал бы, если бы следы надыбал? Вмиг Шакала бы вспомнил, —
осекает себя Седой и радуется, что так лихо ушел от малины, какая ни за что сюда
не доберется.
Земнухов вернулся с обхода рано. Вздумал нынче помыться. Да и избу осмотреть как
следует. Нарубить дров, откинуть снег от крыльца и порога.
Но едва затопил печь, сосед-лесник пришел навестить. Принес кусок сала, краюху
теплого домашнего хлеба, бутылку самогона.
Дотемна засиделись. Говорили, спорили. Сосед подсказывал, как надо жить в лесу.
Показал, как делать силки, петли, ловушки и ледянки, ловить на них пушняк.
Доказывал, что без своего огорода не обойтись, а он — подспорье к малой
зарплате.
— Оно, конечно, песцов и соболей, норок и выхухолей давно нет в наших местах. Но
лису и белку поймать можно. Особо зайцев развелось. Этих полно. Ну и рысь,
случается, попадает. Зато волков в этом году — прорва. От пожаров убегали из
брянских лесов, тут и осели. Дальше бежать стало некуда. А нам от них — одна
беда. Лосей и кабанов рвут в клочья. Недавно стая волчья разнесла зубра в
Беловежье. Так всем местным разрешили охоту на волков. А средь этих охотников
браконьеров тьма. Лосей убивают, кабанов — без лицензий, без счету! — жаловался
сосед.
Он ушел, когда за окном совсем стемнело. Пообещав завтра подбросить Саньке
кой-чего из харчей, чтобы хоть как-то перезимовать мог человек.
Земнухов вымыл полы в избе, подкинул в печку дров. И только хотел влезть в
корыто, услышал под окном детский плач.
— Только этого мне здесь не достает, — сплюнул досадливо и выскочил из дома.
Земнухов глазам не поверил, неподалеку от избы, в глубоченный сугроб загнали
волки зайца. Уже сожрать хотели. А тот — не будь дурак, задними лапами брюхо
одному распустил. Второй волк, поумнее, вдавил зайца в снег, думал, тот от
испуга сдохнет сам. А косой заорал на весь свет голосом человечьего дитя. Лесник
дробовик со стены сорвал. Убил обоих: и обидчика и кричавшего. Затащил в
коридор, чтоб не замерзли снаружи. Сам лампу вынес. Пока шкуры снимал, вода
остыла. Пришлось заново греть. Заодно и зайца тушить поставил. Первый раз своего
поесть хотелось. Этот поздний ужин пришелся по душе Седому. Решил
воспользоваться советами соседа и завтра поставить петли на зайцев.
Он с гордостью смотрел на шкуры зверей, натянутые у печки. Всего два дня в лесу
прожил, а уже охотник из него стал получаться.
По совету соседа на другой день Земнухов очистил от льда и снега родник, нарубил
дров на случай ненастья, отремонтировал и наглухо закрыл ставни, дверь на
чердаке и в сарае. Закрепил и смазал двери в доме. Решил, когда стемнело,
подшить себе валенки. Но не получалось что-то. Работа валилась из рук. Лесник
вышел на крыльцо подышать морозным воздухом, глянуть, какая погода будет завтра,
и до его слуха долетело далекое поскрипывание снега под лыжами. Кто-то шел к его
зимовью. Двое…
Седой вслушался. Нет, не показалось. Для соседа — слишком поздно. Лесхозовцы
через три дня обещали приехать. Да и то не на лыжах и не на ночь глядя. А кто
тогда? Седой прислушался к голосам. Но тщетно.
Вернувшись в дом, мигом оделся, взял дробовик. Встал на пороге. Яркая луна
хорошо осветила лес и все подходы к зимовью.
Звонкая тишина стояла в лесу. В такое время хорошо было слышно каждый голос,
шелест, шорох.
Земнухов стоял в тени дома. Его не было видно. Вот он заметил две фигуры усталых
лыжников. Они остановились в сотне шагов от зимовья.
— Кемарит козел! Глянь, в окнах темно, — услышал лесник.
— Устроим побудку падле! — узнал голос Боцмана, переводившего дух после крутого
подъема.
Земнухов вскинул дробовик, прицелился. Два выстрела грянули разом.
Легкий пороховой дымок быстро рассеялся в морозном воздухе. Седой глянул на
фартовых, лежащих на снегу. Они уже не войдут в дом, не вернутся в малину. Но
сумели найти. Кто же придет за ними?
В отделение милиции он пришел уже под утро. Заиндевелые лыжи поставил у входа.
Поговорил с дежурным, тот позвонил начальнику. Седой рассказал ему все, и о том,
что случилось этой ночью.
Водитель машины, еще недавно привезший Седого в Смолечиви, сказал сразу, что
вчера в перерыв его нашли двое мужиков и спросили про пассажира.
— Я им сказал и объяснил, где и как найти им родственика. Даже лыжи дал. Они их
вернуть обещались, — удивленно смотрел шофер на Земнухова.
— Больше о нем никому ни слова! Не помните, где-то по пути вышел. Понятно?! —
сдвинул брови начальник милиции. И вызвав водителя, поторопил его завести
машину.
— Там от трассы до зимовья почти двадцать километров! Им на машине не проехать!
— ответил тот.
И вскоре лесхозовский вездеход повез на участок вместе с Седым следователя
прокуратуры и начальника милиции.
Лишь к обеду приехали они на участок. Но… Убитых не нашли. Лишь клочья одежды
валялись на вытоптанном волчьей стаей снегу, да побелевшие на морозе кости,
разнесенные по сугробам, говорили, что сегодня зверье пировало без помех!
— Опередили, твою мать! — выругался Земнухов. Следователь прокуратуры тщетно
искал документы. Лишь пачка десяток уцелела в каком-то из карманов, начальник
милиции увидел в снегу две финки и пистолет.
— Не с добром шли! — качал головой следователь, охотно согласившийся войти в
избу.
Начальник милиции долго расспрашивал Седого о Черной сове.
— Выходит, теперь ей перья общипали? Немного уж осталось. Где сами проглядели —
лес помог! Наши зверюги знают кого жрать! — смеялся громко и предупредил:
— Не забывайте про подписку о невыезде! Факты проверим. И тогда будем думать,
как вас уберечь, — сказал, уезжая, следователь.
Земнухов как-то сразу сник…
— Куда смываться? Даже тут надыбали козлы! И как сумели?
Земнухов знал, малина ждет кентов. И времени в запасе у него совсем немного.
Лесник обрадовался, когда на следующий день привезли ему, помимо коня,
здоровенную овчарку, с добрыми, умными глазами. И хотя не любил он эту собачью
породу, помня прошлое, нынче отвел ей место в избе.
Коня в сарае сразу накормил. Обтер после дороги. И только после этого помог
разгрузить тракторные сани. В них чего только ни привезли ему лесхозовцы.
— Тут лесники подкинули многое, чтоб приживался скорее. И мы — тоже сбросились.
Принимай, Саня, привыкай к нашим местам! — говорила толстогрудая баба —
инспектор лесхоза. Она подзадоривала, шутила, пытаясь растормошить мужика, но
Седой думал о «малине» и не обратил внимания на женщину.
Карабин и мелкашку, несколько охотничьих ножей принес он в зимовье, побывав в
Смолевичах.
И теперь чувствовал себя в относительной безопасности. Хотя понимал, что все это
оружие не остановит Черную сову.
Седой все больше привыкал к своему участку, к лесу, немудрящему хозяйству,
постоянному одиночеству, на какое добровольно пошел, зная, иное — гибель.
Понемногу отвыкал от человечьих голосов, учился слушать и понимать лес. Вначале
он ходил в обходы своего участка — нехотя, потом по привычке. А к концу месяца
уже не мог усидеть в зимовье. И с раннего утра становился на лыжи, чтобы
осмотреть, все ли в порядке в его владеньях?
Крещенские лютые морозы стали отступать. И волчьи стаи, распавшись на пары, реже
появлялись у зимовья. Отпугнул их Седой от своего жилья, вытеснил с участка. Но
изводить волков под ноль запретило леснику начальство. И Земнухов, неохотно
смирившись с этим, оставил у себя пять волчьих пар. Не трогал их и не пугал.
Хотя ругал постоянно.
Волки, приглядевшись, принюхавшись, свыклись с человеком, как с наказаньем, и
уже не пытались разнести его в клочья, понимая, что тот всегда носит на плече их
смерть. Они поначалу обходили его, рыча злобно. Старались спрятаться незаметнее.
Потом забыли об осторожности и промышляли в лесу открыто.
Каждая волчья пара уже ждала потомство. И голодные волчицы, встречаясь на пути
при обходах, даже не оглядывались на лесника, считая, что и он вышел на охоту.
Ведь чувствовали они возле его дома запах зайчатины! Не раз ели потроха, какие
выбрасывал человек. Они хорошо запомнили запах лесника, признали своей
собственностью. И спокойно
мочились на его следы, запрещая чужим волкам нападать на человека.
Седой никогда не брал с собой в обходы собаку, боясь, что ее тут же порвут
волки, и оставлял свою «Тайгу» в зимовье за сторожа. Она и не просилась в лес.
Земнухов, отрывая каждый день листки календаря, вздрагивал всем телом, ждал
малину, новых посланцев, но они не появлялись. И человек всякое утро вглядывался
в следы возле зимовья. Их было много. Птичьих и звериных… Ни одного человечьего,
кроме своих собственных.
Седой уже привык к тишине, какую нарушали лишь голоса леса. К нему постепенно
возращался крепкий сон и покой.
Вот так и не услышал он в ночи глухого рычанья Тайги, не увидел ее настороженной
морды и глаз, сверкнувших фиолетовыми огнями. Собака почувствовала издалека
приближение чужих людей средь ночи и на всякий случай подошла поближе к двери,
вслушиваясь в каждый звук.
Вот она уловила легкий скрип под лапами. Это волк пробежал. Следом за ним —
волчица. А вот и еще пара. Торопятся. Бегут. Сзади зимовья совсем молодая волчья
семья. У них этой весной будут первые волчата.
Собака слышит, как бегут волки на запах чужаков, заявившихся в тайгу без зова и
приглашенья.
Старая волчица, чье логово было ближе всех к зимовью, первой услышала чужое
вторжение на участок, видимо, больше других была голодна. Последнее потомство
ожидала — последних волчат. Она приподняла острую морду, коротко ткнула носом
волка й выскочила из логова первой.
Четыре волчьи пары, обогнув зимовье, бежали на запах и голоса людей. Пятая пара
нагнала, когда, рассеявшись по сугробам, стая взяла в кольцо пришлых. Волки
жадно втягивали запахи, дрожали от нетерпенья, голода, подстегивавшего всех.
К зимовью шли трое людей. На лыжах. Они свернули в лес с шоссе и вмиг оказались
в глухомани, гасившей все звуки трассы.
Циркач, Теща и Буратино — им, как и прежним кентам, было велено убить Седого.
Малина не могла дольше ждать. Шакал и Глыба так и не узнали, что случилось с
Боцманом и Таранкой. Думали, что отвалили в другую малину, польстились на
большие навары. А со временем объявятся за долей. Но… Капка смеялась, что
сдались кенты лягавым либо засыпались на Седом. Иначе сняли бы навар за жмура и
слиняли б от Черной совы.
— Эти на халяву не пернут! Дарма не спустят мокроты. Раз их нет, не обломилось
загробить суку! Коль лажанулись, значит — в мусориловке. Либо их Седой пришил! —
предположила, ухмыляясь.
— Захлопнись, лярва! — цыкнул на нее пахан. Задрыга умолкла на время.
— Если б засыпались в лягашку, мы давно бы пронюхали о том от фартовых. Вон о
Занозе и Фингале — враз вякнули, — глянул в сторону стремачей Пижон.
Малина сумела вытащить их из Орловской тюрьмы. Скентовавшись с местными
стопорилами, взяли в кольцо машину, возившую на допрос, перебили охрану и
вытащили стремачей. Но о Таранке и Боцмане молчали белорусские фартовые. И Шакал
вздумал послать в дело новых кентов. Уж если Таранка и Боцман попали в милицию
или их убил Седой, то хоть эти управятся с сукой, заодно разнюхают, куда
подевались двое законников.
— Если слиняли к другому пахану, не фалуйте вернуться. Им кайфовей допереть, где
дышать файно. И если они не пришили Седого, замокрите стукача и ходу в малину!
Коль загремели в тюрягу Боцман с Таранкой, достаньте их. Но после Седого! И не
тяните резину! Нам в гастроль пора давно! — говорил Шакал.
— Если попухните на паскуде, с законниками передайте, мол, в лягашке канаем!
Тогда я сам возникну! — пообещал кентам.
Фартовые, приехавшие в Смолевичи, решили не идти по следам Боцмана и Таранки. От
местных алкашей, толпившихся у пивбара, услышали все, что их интересовало. Не
поскупились на угощенье. Бухари и развязали языки. Слух о гибели двух воров в
зимовье давно облетел весь поселок. Об этом узнали даже дети, пьянчуги, от
«декабристов» — отбывавших по пятнадцать суток в вытрезвителе.
Законники никогда раньше не бывали в таком лесу и, оказавшись отрезанными от
человечьего присутствия, насторожились, шли с оглядкой. Знали, у Седого самый
отдаленный участок и разделаться с кентом им никто не помешает накануне
выходного.
Законники хорошо ходили на лыжах, и потому мороз их не пугал. Пройдя полпути,
они остановились перекурить. Обговорили, что не станут поджигать Седого.
Поскольку огонь, и дым в лесу привлечет внимание поселковых и милиции. А
обратный путь — не близок, можно попасть в лапы ментов.
— Надо глянуть, чтоб не слинял козел через сарай из хазы. Пристопорить враз,
падлу! И ожмурять с кайфом — пустить на ленты. Потом выкинуть из хазы! Волкам на
хамовку! Пусть кайфуют досыта! — смеялся Теща.
Когда до зимовья оставалось не больше километра, Буратино заметил тень
мелькнувшую за кустом. Сказал фартовым, те громко рассмеялись:
— Ты, что, кент! Какая тень? Шмар тут не водится, кабаки далековато! Седой
кемарит, как хорек! Боцман с Таранкой? Так они и в жмурах — нам помогут! А волки
на троих хвост не подымут. Многовато! На одного наехали б. Да и что волки? Мы
борзее их! Пусть они ссут с нами нюх в нюх срезаться! Мы им враз кентели
отгрызем! — хохотал Теща.
Но вот и до его слуха донесся легкий шорох. Сверкнули глаза двумя светлячками.
— Я тебе, блядь, постремачу! Чего шмыгаешь тут, пидер болотный? — ругнулся
Циркач. И тут же услышал протяжный вой, совсем рядом, за сугробом.
— Ну, мудак! Только нарисуйся, пропадлина! Размажу, как лягавого! — пригрозил
волчице и невольно ускорил шаг.
Циркач шел последним. Впереди — Теща. Но Буратино, оказавшись в середине, чаще
всех оглядывался по сторонам. Хотя и смеялись над ним законники, что он хиляет,
как у пахана за пазухой.
Ни Теща, ни Буратино не увидели, как из-за заснеженной коряги кинулся на Циркача
волк. Он, словно отрезав от попутчиков, выскочил на лыжню. Оскаленный, с
вздыбленной, заиндевелой от мороза шерстью, сбил с ног и тут же перервал горло
человеку. Циркал даже крикнуть не успел. На звук падения оглянулся Буратино и
заорал в ужасе. Но от сильного толчка в плечо упал и тут же был разорван молодою
волчьей парой.
Теща, увидев, выхватил пистолет. Но волк — не человек! И раненый зверь не
оставляет свою добычу, какую глазами уже съел. Три сильных волка окружили
фартового. Тот выхватил нож из рукава. Но звери не отошли, не испугались. Они,
рыча, приближались к человеку, загоняя в плотное кольцо, уводили в сугроб. Там
легче расправиться. Все живое слабеет в мягком снегу, это знали волки и не
спускали глаз с человека.
Тот тоже следил за ними, выжидая, какого замокрить первым. Он не понимал, почему
эти зверюги не идут к тем, уже порванным кентам, не чавкают вместе с собратьями
общую добычу. Он не знал, волки всегда уступают первый кусок волчицам. И лишь
последний кусок достается самому сильному— вожаку.
Звери разрывали на части недавних кентов. Теща в ужасе увидел, как пожирают
кишки из живота Буратино две волчицы. Вот и третья поволокла голову за сугроб.
На снегу — темные пятна крови. Волки спешат управиться до рассвета, рычат,
огрызаются, Теща еле одолевал удушливый приступ тошноты. Он много раз видел
разборки, сам размазывал. Но там были люди. Их смерть не была столь безобразна и
страшна, столь паскудна!
— Чтоб вам из параши хавать! — стрелял он в волков. И лишь один, самый старый,
получив пулю под лопатку, свалился замертво. Но тут же его заменили двое других,
помоложе и посильнее.
Вот первый прыжок, толчок в плечо, челюсти щелкнули у самого горла. Но не достал
зверь.
Теща опередил, всадил нож в бок, ему на руку хлынула теплая кровь. Зверь отполз
на снег, поскуливая. В глазах погасли зеленые огни жизни. Хотел пожрать. За счет
чужой жизни— продлить-свою. Но получилась осечка…
Теща смотрит на кентов, раздираемых зверьем. Вон чью- то руку грызет волчица,
морда в крови, хруст костей далеко слышен. Он оглушает законника, отбивающегося
от вожака. Тот силен и ловок, гораздо изворотливее своих собратьев. Несколько
раз Теща едва устоял на ногах. Будь он не на лыжах, давно бы забрался на дерево.
И там переждал бы звериный налет. Но как освободиться от креплений? Попробуй
нагнись, волк тут же оседлает.
— Да пошел ты, пидер! — стреляет в вожака почти в упор. Волк свалился в снег
боком. И законник понемногу начал отходить от жуткого места.
Волки, казалось, забыли о нем. Они пировали, измазав кровью сугробы и дорогу.
Теща решил сбежать. Но в это время над стаей заорала ворона. Ей тоже хотелось
есть. И звери, заметив птицу, бросились отгонять ее от добычи, увидели, что
вожак мертв, а добыча убегает.
Волки, забыв обо всем, бросились за Тещей. Тот одолевал последний подъем, когда
зверье сорвалось в погоню.
Законник торопливо выскочил наверх, увидел дом Седого. Хотел забрать. Но волки
уже взяли в кольцо.
Теща отбивался двумя ножами. Волки нападали со всех сторон, как кенты на
разборке.
Вот еще одного запорол. Ножом горло проткнул. Остальные, будто законники, за
своего кента отомстить вздумали. Насели со всех сторон. И вдруг со стороны
зимовья грохнул выстрел. Волки мигом отступили от Тещи. Нырнули в кусты,
наблюдая оттуда за людьми.
Теща, весь изодранный, измотанный до изнеможения, еле держался на ногах. Он как
никто другой понимал, что Седой его спас от верной смерти.
— Кто будешь? — подошел лесник к законнику. Тот трясся, как в ознобе, и не мог
сообразить, что ответить леснику.
— Зачем возник?
У Тещи в голове все перемешалось.
Что ответить? Вякнуть верняк? Пришьет на месте. Или смоется в хазу, оставив
волкам. Стемнить? Но Седой не фрайер, допрет мигом.
— Не оставляй меня здесь, как кента прошу! — вырвалось невольное.
— Твои кенты вон в тайге притырились! Стремачат тебя! — нахмурился Седой.
— Пусти в хазу! Дай обогреться, оклематься малость, — просил Теща, забыв, зачем
он тут объявился.
— Не хрен всякому пидеру у меня рисоваться! Как возник, так и хиляй обратно! —
пошел лесник к избе.
Теща одубелыми пальцами вытащил пистолет. Навел на Седого. Отжал курок. Он
щелкнул впустую.
Последнюю пулю пустил законник в вожака… Это он понял только теперь.
На щелчок курка оглянулся Седой. Усмехнулся криво, сказав горькое:
— На том свете передай кентам привет от меня!
— Седой! Пусти меня! — взмолился фартовый. И отстегнув лыжи, помчался к зимовью.
Но лесник успел захлопнуть дверь перед самым носом вора.
Тот колотился в дверь изо всех сил, кричал на весь лес:
— Кент, падлюка, не мори!
Но хозяин не подходил к двери. Он словно оглох в своем зимовье. Лишь лай собаки
слышался изнутри.
Теща прыгал на пороге пока были силы. Он колотил себя по бокам и груди, чтобы не
превратиться в сосульку. Он видел, как идет дым из трубы зимовья. Он сходил с
ума от холода и страха перед обратной дорогой. Она была выше его сил и
возможностей.
— Седой! Как человека умоляю — пусти! Я умираю! — крикнул Теща, не веря, что
лесник сжалится над ним. Но… Чудо! Седой открыл дверь. И став на пороге,
потребовал:
— Входи! Но чуть дернешься — пришью враз, как бешенного. Канай тихо! Когда
зубами стучать перестанешь — смотаешься от меня! Усек?
— Идет, — еле выдавил Теща, чувствуя, что тело уже отказывает ему, а мозг
перестает соображать.
— Отваливай к печке, мокрушник! Мать вашу в задницу! Всю округу на уши поставил!
— придерживал собаку, не давая обидеть гостя.
Теща, заваливаясь на стену, прошел к печке, не веря, что ему разрешено
согреться.
Из горла то ли стоны, то ли хрипы рвались наружу со свистом. Он не сел, он
рухнул возле печки, прижавшись к ней спиной и замер от блаженства.
Седой смотрел на него в упор.
— Помолчи, кент! Мне нынче хреново! Не пили! Сам допер! Я — твой обязанник! И
слова не сменю! Откинулись кенты мои! Циркач и Буратино! Схавали их волки по
дороге к тебе! Как падлюк! Как лидеров! — полились слезы по щекам законника,
закапали на бороду.
— По кускам порвали! И меня! Мою душу тоже в клочья пустили! Чудом не схавали!
Все не верю, что дышу! Если б не ты, в пяти шагах от зимовья на гоп-стоп… А за
что? Я тебя не знал! Меня ты не закладывал. И этих — моих кентов! За что ж они
так пакостно откинулись?! — уставился на Седого.
— Себя спроси! — ответил тот, как обрубил.
— Зачем же мы в закон лезем, чтобы замокрить кого-то, а потом и нас ожмуряют. За
день кайфа — вот так платить? Чтоб не самому откинуться? Не иметь могилы и
креста над тыквой? Чтоб никто не знал, где накрылся? К ним никто не придет, не
вспомнят кентов. И только у меня в памяти они останутся до смерти! — уронил
голову на грудь.
— Не вякай пустое! Чего ж такой понятливый хотел ты ожмурить меня возле моего
зимовья? Зачем в меня хотел выстрелить, если доперло до тебя хоть чего-то?
— Не в тебя! По ногам я целился, чтоб не слинял, не оставил одного в лесу! Чтоб
взял к себе! Остановить хотел! Если бы замокрить вздумал — перья в ход пустил. С
ними кайфовей. Но не думал я гробить тебя! Мне одному теперь не задышать!
— У тебя и «перья» остались? — изумился Седой.
— Остались! Не лупи зенки! Они не помогли бы кентам, эти перья! Я не успел
оглянуться, как зверье их замокрило. Не то перья, стрелял по лидерам, попадал в
них. Они, как фартовые — тут же на катушки вскакивали. Их мокрить — не кентов
ожмурять. Они и сами любой малине разборку учинят! — скривился Теща от боли в
плече.
— Да ты барахло сбрось, глянь, что у тебя там? — посоветовал Седой.
Теща попытался снять куртку и не смог. Заорал от боли.
Лесник осторожно стянул ее с плеч фартового. Потом рубашку помог снять. Увидел
опухшее, покрасневшее плечо.
— Вывих! Терпи! — подошел сзади.
Теща взвыл на все зимовье, так что Тайга к нему бросилась, зарычала на человека
злобно.
— Линяй отсюда! — прикрикнул Седой на собаку. Теща вздрогнул, собрался в комок.
— Не тебе ботал! — понял Седой. И отойдя, добавил:
— Теперь одевайся. Волки тебя и впрямь уделали. Весь в синяках, шишках,
царапинах, укусах. Глянь на руки! От самых плеч изрисовали, — указал Земнухов.
— Да это…! Слинял от них! Не то б, разделали б, как пидера! — отмахнулся Теща и,
натянув рубашку, снова сел к печке.
— В малину похиляешь? — спросил Седой.
— Завязано с кентами! Отвалю в откол. К Шакалу не возникну! Хана фарту! С меня
по горлянку достало! Моих кентов уж не вернуть! Куда теперь? К смерти на рога?
Пусть сам нарывается! Сколько законников загробилось на тебе — секешь? Наперстка
в ментовке пропустили через конвейер! Он тут же малахольным стал. Козу на ферме
замокрили. Боцмана и Таранку — ты ожмурил! Циркача и Буратино — лесные паханы!
Меня едва не разнесли! А для чего, за что? Кому ты усрался? Мне ты фарт не
обломал, долю не отнял, навар не стянул! Пахана дышать оставил, хотя размазать
мог! Сам Шакал ботал! Ну и канай! Заложил, когда тебе кислород перекрыли! Отняли
все! Да еще разборку хотели учинить! Кто же на нее сам сфалуется? Осточертело
все! Что у меня — десяток глоток? Как у всех — одна! А сам себя я прохарчу! Вон
фрайера дышут и не ссут. От ментов не линяют, кемарят не трясясь, свои — родные
ксивы имеют. И не дрожат, когда их на улице окликают! В кино, в театры
возникают! Детву имеют. И не ссут, что нет башлей! Баб у них полно! Не шмары,
как у нас! Путевые! Каких башлями не заманишь за угол. А по любви! Вякни, какая
нас полюбит? Только алкашка! Потому что она за склянку хоть кому подставится! А
протрезвеет — и эта слиняет от страха, усеки, с кем ночь каталась, — скривился
Теща.
— Ты сам кого-нибудь любил? — внезапно перебил Седой.
Теща сразу умолк. Глаза погрустнели, опустились плечи:
— Любил, — выдохнул тихо.
— Она жива?
— Конечно. Только не по Сеньке шапка! Она — человек! А я — гавно! — помолчав
немного, заговорил, словно сам себе рассказывал.
— На Сахалине она канает.
— Ходку тянула? — спросил Седой.
— Да нет же! После института рыбного хозяйства направили туда пахать. И сунули в
Ясноморск — на рыборазводный завод — технологом. Она там и прикипелась. Не
захотела смываться. По кайфу там пришлось. Она и теперь мальков разводит.
— Кого? — не понял Седой.
— Мальков из икры растит. Ну, этих, кетовых, горбушевых, чавычьих. Заводы такие
есть по разведению ценных пород рыб. Там икру поливают молоками. И когда в ней
мальки заведутся, выпускают их в бассейны с проточной водой. Кормят их, пока
подрастут. Потом выпускают в море. А они через годы вертаются уже большими
рыбами, чтоб икру выметать, дать потомство дома, где сами родились. Хотя и рыба,
а умней нас, — усмехнулся Теща невесело.
— А ты при чем? Неужели твоими молоками икру поливают? — хохотал Седой.
— Нет! Я, верняк, на такое не гожусь. Мне лягавую тещу нынче не порадовать.
Давно в себе мужика не слышу. В ходках чай с содой давали. Она и ударила по
низу. Все отшибла. Даже к шмарам не тянет, — сознался Теща.
— Садись, хавай! — накрыл Седой на стол.
— Ты вот что, кент, там, на дороге, порвали волки кентов. У них башли были! Их
зверье не хавает. Возьми, чтобы лягавым не досталось! Я не могу туда! Свихнусь!
— Не надо мне те бабки! Они на мою смерть даны Шакалом. Не согреют! Не пойдут в
кайф! — отказался Седой.
— Шакал в Брянске! Кенты здесь — неподалеку! Помянуть их надо. И кости закидать.
Пока хотя &ы снегом. Чтоб дважды не поганили их смерть и кости! Сделай доброе,
прошу тебя!
— Ладно! Уважу жмуров, не дам над ними глумиться, — накинул на плечи полушубок и
вскоре вышел из зимовья, взяв на плечо карабин.
Вернулся лесник через пару часов. Лицо серое. Достал из карманов пачки денег,
ножи, два пистолета, чьи-то обкусанные волками золотые часы.
Прикрыв все это полотенцем, подошел к спящему Теще. Тот так и не отошел от
печки. Свернувшись, прижался спиной к теплу.
Он вздыхал и всхлипывал во сне. Звал шепотом Циркача и Буратино. Потом вдруг
закричал, вскочил на ноги и с закрытыми глазами стал отбиваться от кого-то
невидимого.
— Кент! Ты что? — крикнул Седой.
Теща протер глаза, проснулся.
— Кенты меня с собой тянули, в лес, к волкам! Их много было. Я перессал, —
выдохнул тяжко.
— Принес! И там все сделал, как ты просил. Жуть! Погужевали звери. Но если б не
они, вы мне не лучше б отмочили! Верняк, на ленты распустили б, если сумели бы
достать. Выходит, вояки меня от вас уберегли. От людей! Знали, кого хавать!
Небось, с лесхоза сюда возникали, ни к кому не прихиляло зверье! Следчего
прокуратуры, главного лягавого — не тронули! А законников — разнесли! Выходит,
хуже вас никого в свете нет! — грохнул Седой кулаком по столу и добавил:
— Не по кайфу мне поминать стопорил, какие по мою душу рисовались тут. Бери свое
и хиляй!
— Сгоняешь? Иль сам не мокрил никого? Ведь паханил! Тебе твое отпущено и я уже
не стопорило! Мне без понту твоя душа, свою бы уберечь! Но ты не веришь! Не
допрешь, что пережил я этой ночью? Не просто смерть! Этим меня не сдернешь!
Всякое видел! Но это и мне не по силам пережить, — натягивал куртку понуро.
— Ладно! Канай!
Седой указал на деньги и часы:
— Прибери с глаз!
Теща непонимающе уставился на лесника:
. — А бабки и «луковица» при чем? Это навар. Он уже ничей. Кентам без понту,
Шакалу я не отдам, схилял я из закона. Бери, кент!
— Забирай к едреной матери! — взъярился Седой побледнев. И Теща послушно
рассовал по карманам принесенное лесником.
Седой еще долго кипел. Но когда Теща попросил его закопать в лесу, подальше от
глаз и памяти, ножи и пистолеты, сразу потеплел, поверил. И, швырнув в ведро
тяжелым свертком, вынес в сарай, закопал в углу.
— Дай мне немного оклематься у тебя! — попросил Теща вечером.
Седой согласно кивнул головой. И спросил:
— Так что же с твоей любовью не обломилось? Иль она все на тех мальков с
молоками распустила, твоя баба?
— Не баба она была! И не моя! — подпер щеку кулаком Теща и заговорил вполголоса:
— Л ее поначалу за шмару принял. Она ревела возле магазина, взахлеб. Подумал,
что клеилась потаскуха к мужику, за кента его приняла, а его баба в рыло ей
съездила, чтоб не отбивала. Такое часто случалось. Ну и подрулил я к ней. С
форсом, эдак! За плечо приобнял и вякаю, мол, я тот, кто тебе нужен. И хвать ее
за задницу! Намек дал. Она без слов как вмазала мне по будке, я едва на катушках
устоял. Чисто по-пахански уделала. И говорит: вроде она, таким гавном,
как я, даже не подтирается! Ну, это меня задело за живое! Вякнул, что я об ее
гнилые мослы пальцы чуть не поломал. Что ее с такой хилой жопой и за трояк никто
не снимает. Радовалась бы мне, как празднику! Она с другой стороны зафинтюшила.
Аж из зенок искры сыпанули. И вякает, что не клеилась ни к кому. Что у нее башли
из сумочки вытащили! Всю зарплату до копейки. И жить не на что, — рассмеялся
Теща и продолжал:
— Ну да я ей не поверил, прием старый! С этого все потаскухи начинают. На
жалость ловят, а потом легко вламываются. Я в магазин шмыгнул. Глядь, впрямь,
двое карманников промышляют. Подозвал. Спросил. Раскололись, что тряхнули эту
девку. Я снял с них бабки ее. Вышел, она уже линяла. Пристопорил. Вернул башли.
Она — глазам не верит. И спасибами засыпала. За героя приняла. Посеяла обиду.
Ну, я тоже перья распустил. В гости набиваться стал. Она рассмеялась, мол,
далеко хилять надо, целых восемь километров. Но я уже горел и не отступился.
Приклеился добровольно. Хиляю с нею, а у самого все кипит. Из ходки вышел. Ну и
стукнула моча в кентель, допер, мол, дорогой уломаю. И разговорились по пути.
Она о себе рассказала. Что матери у нее нет — умерла давно. Отец ушел, когда та
еще ходить не умела. И Лида с детства «пахала». Детей чужих нянчила, полы мыла,
стирала, на жизнь зарабатывала. Так-то школу, потом институт закончила. Я
пожалел, мол, жизни не видела, молодость пропустила. А. она рассмеялась и
ответила, что рада тому. Все умеет. К жизни готова. Никакой работы не боится. И
шить, и вязать, и готовить, сама научилась. Обузой мужу не будет, а помощницей.
И теперь хоть технологом работает, все сама себе шьет и вяжет.
— Чего ж за башли рымзала?
— Потому как она их не сперла ни у кого, а заработала! Такое — жаль. Это и
понятно! Хоть малые бабки, но кровные! — осерчал Теща.
— Не кипятись, — сконфузился Седой.
— Послушал я ее и не по себе стало. Какой там флирт, обосранным хвостом
приплелся за нею на рыбзавод. Она меня в дом позвала. Вошел и обомлел. Чисто,
кайфово у нее! Не темнила! Накормила она меня. До ночи с нею просидел. Век бы
слушал ее. Да стыдно было. О себе и вякнуть нечего. Сижу лидером. Она
спрашивает, я молчу. А когда уж совсем поздно стало, засобирался я линять. Она
меня проводить вышла. Прощаясь на полпути, стемнил, что геологом пашу, что
никого на всем свете нет у меня. А вот она — в душу запала. Лида разрешила
навещать, когда в ее местах буду. Я к ней через три
года попал. Она все там. Одна. Нет мужиков на рыбзаводе. Одни бабы! А такая
девка! Я чуть не рехнулся, она узнала меня. И так встретила, как родного!
— Небось не растерялся? — встрял Седой.
— Не тронул! А что как ребенка от меня заимела бы? Без отца как стал бы жить?
Слинял, лишь попросил ее взять бабки. Хороший навар мы тогда взяли. А мне к
чему? Кое-как уломал принять их и часы, что с самой Одессы для нее берег. Взяла,
а сама покраснела. Видно, я первый ей в душу запал. Оттого и приняла. Писать
просила. Я наобещал. Но снова слинял. Уже на пять лег. Почти посеял о ней
память. Но попал в гастроль. И к ней. Она по-прежнему — одна. Сама сознавалась,
что побывала замужем. Да человек попался негодный. Алкаш. Пил, обижал бабу. Она
хотела немногого — ребенка заиметь. Но тот падла и малого не смог. Расстались, и
она уже год одна. Ну, тут-то я приклеился на всю неделю. На пахоту не отпускал.
Она отпуск брала из-за меня. Нет бы пидеру примориться у нее, слинял и сразу в
ходку влип. Четыре года мантулил в Воркуте. Потом фартовал две зимы. И снова на
Сахалин загремел — в ходку. Слинял через год и к ней нарисовался. А там —
кентенок. Мой портрет! Я, чтоб не прикипать, через три дня смылся. И к Питону в
малину. Три зимы. Потом к Шакалу свалил. Но теперь — хана! Пора завязывать!
— К ней слиняешь?
— Вряд ли примет! Что видела от меня? Я ей наказаньем стал. Какой с меня отец,
если ничего не знаю о сыне? Да и то верняк, малина не оставила б дышать! Пасла
бы, как тебя!
— Откуда допрет Шакал, что тебя не схавало зверье? Где двое, там и третий
ожмурился. Линяй к ней! В откол! Начни заново! Все разом! Тебе еще не поздно.
Ведь к своим возникнешь! Коль завязать решил, надо разом. Тебе есть к кому
смыться! Тебя ждут! Это счастье! Может, ради них обошла тебя смерть! Такое
случайным не бывает никогда! А я — вякни всем Смолевичам, что порвали волки на
моем участке людей. Кого — не знаю. Это до малины дойдет. Дыбать тебя не станут!
— Не заложишь?
— Нет! Не высвечу! Хиляй! Сумеешь туда возникнуть?
— У меня ксива с сахалинской пропиской. А рыбзавод в такой глуши, что туда
законники не возникнут. Слишком приметен там всякий чужак. Да и дорогу туда
теперь стрема- чат менты. Мне их терпеть придется! — усмехнулся криво Теща. А на
следующий день увез его Седой в санях до самого шоссе. Там посадил на попутку. И
долго стоял у обочины, глядя вслед законнику, какой порвал с фартом, но, как и
все,
не сможет уйти, оторваться от памяти, и до конца жизни будет отбиваться от нее,
как от волков. А она будет будоражить во снах, преследовать в каждом дне,
обдавая холодом душу и сердце.
— Сколько раз умирает фартовый за свою жизнь, да и живет ли он? Недаром
законники для успокоения называют себя рожденными в праздник. А потому обычные
будни — не для них. Они приходят к каждому в старости. Но лишь немногие доживают
до нее…
Седой вернулся в зимовье лишь на следующий день, после того, как проводил Тещу,
побывал в Смолевичах. Рассказал в милиции о случившемся.
Оперативники долго недоумевали, как фартовые прознали о Седом. И только Земнухов
не удивлялся. Будь он в малине, поступил бы точно так же…
— Знает Шакал этот адресок. Теперь уж сам заявится. Интересно, один возникнет
или кого-то с собой приволокет? Вряд ли только свое мурло сунет. Хитер падла!
Глыбу сфалует. Чтоб тот жмуром меня подтвердил перед Медведем. А значит, через
неделю возникнет, — вздохнул лесник и, погладив Тайгу, смотревшую на хозяина
умнющими глазами, спросил, словно посоветовался,
— А может смыться нам отсюда?
Собака заскулила, ткнулась холодным носом в руку.
— То-то и оно! Сколько можно мотаться по свету, как цыгану? Старость уже
подходит. Пора печку обживать. Опаскудело по чужим углам мотаться. От судьбы не
слиняешь! Коли суждено — все равно пришьют. А нет, вона как зверье разделало.
Лягавые не углядели. Лес попутал: выходит, признал паханом. Не пропустила на
разборку всякое гавно — мокрушников! У леса свое соображенье.
Лесник долго говорил с начальником милиции, предлагавшим переезд на другой
участок или в сам поселок.
— Самым лучший способ избавиться от законников — это жить на виду. Не прячась от
них. А в поселке всякий чужой человек приметен. Поселим тебя по соседству с
большими семьями. Где курица незаметно не проскочит. Глядишь, быстрее своим
станешь, женщину присмотришь, с родней. Без хозяйки в таком возрасте трудно. А у
нас много одиночек. Работу всегда можно найти и в поселке. Было бы желание!
— Куда ж я с таким прицепом заявлюсь? Сначала от малины избавиться надо. Потом о
семье думать. Нынче не до кайфа! Рано мне о том! А достать меня фартовые везде
смогут. Ни поселок, ни соседи, ни баба, ни вы — не застопорят. Много вы
остановили? Вот этих? Волки на гоп-стоп взяли.
Если б не они, не говорил бы я теперь тут. Но по сути… Сколько мне уже осталось?
Немного! Свое, можно так считать, отдышал. Жалеть особо не о чем. Если повезет,
от силы пяток зим проскриплю. Не больше! Стоит ли из-за этого трястись за шкуру?
Нет, конечно! Жалеть тоже не о чем. Никого у меня не остается на земле. Все
просрал. Где сам лажанулся, где подтолкнули. Жизни-то и не было. Воевал. А за
что? Теперь и сам не знаю. Кого защищал? Тех, кто осудил меня ни за что? Или
охрану, конвой, начальника зоны? А ведь я на войне контужен был. Но вкалывал в
зонах! Как вол! Охрана меня мордовала! Не смотрели, что фронтовик! Вламывали и
за дурь! Чтоб знал впредь, кого защищать надо! Самого себя! Остальное — по
хрену! — сам удивился своей разговорчивости Седой.
— Послушай, Земнухов, выходит, когда немцы мою семью расстреляли, мне надо было
в плен сдаться, чтоб и меня прихлопнули? Шалишь, старик! Я в партизанах с десяти
лет! Пятерых из моей семьи убили! Я по составу за каждого под откос пустил,
своими руками! А сколько из автомата перекрошил! Ни за кого-то! Но за будущее!
За своих мстил! Не ждал наград и льгот! Не считал себя дешевкой! Врубил по
первое число! Пацаном в болотах неделями сидел, голодный, как собака, а фрицев
колотил всякий день. И нынче не считаю это своей заслугой! Иное не понял бы! Я —
смерти своих родных не мог простить фашисту! А ты, выходит, из выгоды воевал?
Чтоб сегодня сытно жрать? Да мне такое в голову не приходило никогда! Я в
пятнадцать лет учился и работал! Хотя наград хватало, не хвалился! В тринадцать
«За отвагу» получил. И после войны с такими гадами, как ты — до сих пор воюю! За
всю жизнь в отпуске ни разу не был. Некогда! А все от того, что я знаю, за что
воевал! И свое — не уступлю! Мне не болтай глупости! Ты жив! А в нашем отряде
мои ровесники-мальчишки гибли. Скажи — за что? Они людьми бы стали! — закурил
начальник милиции нервно. Воспоминания ему давались нелегко.
— Ты после войны домой возник! Тебе меня не понять! Для тебя — война кончилась!
— глухо заговорил Седой.
— Всего три года назад подорвался на мине мой старший сын. После войны не
досмотрели. Остался склад с боеприпасами. Чей он? Вот тебе и кончилась война! А
мне — кого винить? Себя иль немцев? Сын десятилетку закончил. Поступил в
институт. Поехал со студентами картошку убирать. Трактор и выволок из земли! Сын
увидел, оставалась минута. И чтоб других не убило, на себя все взял. Или ему
жить не нужно было? Или тоже о льготах надо болтать? Ты, Земнухов, свое помнишь!
Но что знаешь о других? Ты потерял в войну? А для меня она, эта война, и теперь
не кончилась! Да только зачем с тобой о том спорю? Пустое все! И ни черта ты не
поймешь! Война, выходит, к каждому своим лицом повернулась. Одни — мужчинами
стали, другие — потеряли все.
— Не потерял! У меня отняли все, что было! И осмеяли.,
— Эх-х, вмазать бы тебе, гаду! За всех! Да руки марать не, хочется! Короче! Я
предложил. Ну, а решать тебе! Как хочешь! Мы со своей стороны сделаем все, что в
наших силах, — шагнул за порог, не оглядываясь, а Седой снова остался один в
своем зимовье.
— Ишь, хмырь, выходит, я — дешевка, — вспомнил недавний разговор, и запоздалое
зло вскипело фонтаном.
— Никуда не слиняю! Не нужно меня пасти! Обойдусь без мента! Сам себя выдерну из
жмуров! — кричал Седой на все зимовье так, что даже овчарка, прижав уши, уползла
под стол.
Лесник, оглядевшись, что его никто не слушает, успокоился, устыдившись истерики,
пошел осмотреть дорогу, по какой к нему в скором времени может пожаловать Шакал.
Теща сказал, что пахан пообещал, в случае провала кентов, — сам придет к Седому.
— Как кенту, тебе ботаю, у Шакала кентуха имеется. Видом — сикуха мокрожопая,
лысый суслик, но… Хуже ее — падлы — в малине нет! Любой стопорило — гавно против
той двухстволки! Сам пахан дрейфит на паскуду наезжать! Уж она — одна за целую
разборку управится. Любого ожмурит, гадюка! Стерегись больше Шакала! —
вспомнилась леснику худая, остролицая девчонка с пронырливым, колючим взглядом,
нескладная, некрасивая, злая.
— Зелень! Что она отмочит? Мне — законнику, пусть и бывшему, стеречься этой
шмакодявки? Не много ль для нее чести? — усмехнулся лесник. И откопав ножи Тещи,
на всякий случай вооружился до зубов. В рукавах, за поясом, за голенищем —
насовал не меньше десятка острых, как бритва, «перьев». И, чуть шорох, тут же о
них вспоминал.
Он не доверял ночной тишине и даже в густой тьме выходил слушать лес.
За время жизни в лесу слух и зрение Седого обострились настолько, что он
спокойно, с порога зимовья, слышал шум машин на трассе. Они шли. Ни одна не
останавливалась у поворота к его зимовью. И лесник, постояв, возвращался в избу.
Даже собака стала понимать, что хозяин не зря тревожится, спит чутко, часто
просыпается, выскакивает из дома, ждет кого-то. И весь обложился ножами. Значит,
гости придут лихие, от них добра не жди.
Овчарка тоже начала нервничать. С беспокойством вглядывалась в темень ночи.
Теперь она спала у самых ног Седого, рядом с топчаном, и поминутно вздрагивала
от каждого скрипа, уханья, шелеста.
Седой по-прежнему ходил в обходы. Но не задерживался в лесу подолгу. Не хотел
оказаться в своей избе, как в ловушке, застигнутым врасплох. Может, от того не
забывал, уходя, замести метлой дорожку к зимовью, чтоб, возвращаясь, увидеть,
ждут ли его в избе иль нет?
Но время шло, вот уж и морозы отпускать стали. Заметно прибавлялся день. На небе
все чаще синь прорезывалась. И ночной воздух уже не брал в тиски грудь и горло,
не выбивал из глаз слезы. Лес уже не звенел обледенелыми ветками. Он понемногу
начал сбрасывать с себя тяжелые сугробы снега.
Вот с еловых лап свалился ком. Рассыпался на сугробе в снежки. Из-под сугроба
перепуганная зайчиха выскочила. Здесь ее нора! Кто посмел потревожить? Если
волки, надо увести, выманить подальше от норы, чтобы, почуяв запах, не раскопали
бы нору, не достали зайчат. Они еще слишком малы и не могут убежать. Им нужно
подрасти, если не помешают…
Лесник спит. Ему тоже нужны силы. Без них в лесу никому не выжить.
Но силы нужны не только в лесу. Они необходимы всем живым. Без них нет ничего.
Может, потому, так дорожат силой те, кто слишком много тратит их, чтобы выжить…
Шакал узнал, что Медведь дает ему всего неделю. И, если он, пахан, не уложится и
не управился с Седым, то быть его малине вечным гастролером. Не то прибавить,
имеющееся грозит отдать другому пахану, другой малине.
Конечно, Черная сова не сидела без дел. Не скудел общак. Трясла и чистила свои и
соседние наделы. Платила долю. Но… Не только это ждал Медведь. Его бесило, что
не кто-нибудь другой, а именно Черная сова тянет резину, не может замокрить
какого-то Седого — бывшего пахана шпановской малины. Л значит, не отомщенной
остается до сих пор смерть законников и самого маэстро! А значит, повадится
лягашня громить фартовые хазы, устраивать шмоны в притонах и кабаках…
Но Шакалу теперь было не до Седого. Питоновские фартовые исчезали неведомо куда.
Лишь Наперсток и Рыбак уцелели. Но именно из-за Наперстка не мог Шакал поехать к
Седому. Пахан решил отомстить за законника орловской милиции и устроил в городе
настоящую облаву на нее. Конечно, не без помощи городских стопорил и мокрушников
был перебит весь оперотряд милиции, где мучили Наперстка. Оперативников убивали
средь бела дня, открыто, на виду у всего города. Фартовые взяли в коль- ко
милицию и расстреливали каждого, что осмеливался выйти либо показаться в окне.
Их убивали в квартирах и подъездах, пока на помощь милиции не подоспела воинская
часть. Завидев солдат, с автоматами наготове, фартовые словно растворились. Ушли
бесследно. Милиция хоть и видела, задержать не смогла. И снова хоронила своих
сотрудников, клянясь уже не в первый раз отомстить за смерть каждого.
Шакал никому ни в чем не клялся. Не любил он этих детских игр. Он привык без
громких обещаний держать свое слово. И выслеживал начальника горотдела. Тот, при
налете фартовых, даже к окну не подошел. И Шакал решил разделаться с ним в его
доме.
Но тот спешно улетел в Москву. И в Орле не появлялся целую неделю, ожидая, когда
солдаты перетрясут весь город, наведут в нем покой и порядок.
Воинская часть патрулировала ночами целую неделю. Как и ожидалось, похватал
патруль кучку щипачей и карманников-пацанов, с десяток шмар выволокли из
притонов, сдали всех в милицию, и, успокоившись, что в городе все утихло, уехали
на своих грузовиках в расположение части, не дождавшись возвращения начальника
милиции. Тот приехал на следующий день.
Шакал встретил его у вагона. Он выходил спокойно, уверенно. Даже не оглянувшись
по сторонам. Сделал первый шаг на перрон. Кто-то в сутолоке придавил к вагону.
На секунду увидел странно горящие глаза человека и тут же почувствовал резкую
боль в груди. До слуха донеслось далекое, как шепот:
— Это за Наперстка тебе, лягавая паскуда!
Когда толпа отошла от вагона, проводник заметил валяющегося на перроне человека,
принял за пьяного, позвал дежурную милицию. Те узнали начальника. Но было
поздно…
Шакал уже успел уйти далеко. Он вернулся в хазу. Сказал кентам, что отплатил за
Наперстка и теперь пора вспомнить о Седом…
О нем малина не хотела говорить. Словно рок повис над Черной совой. Куда
девались пятеро кентов? О них не знал никто. Таких проколов малина не знала
никогда. Слух о провалах облетел законников. И теперь никто из них не хотел
фартовать в Черной сове. Она стала — западло. Над ее кентами в открытую смеялись
даже блатари. И Шакал решил вернуть себе и малине уваженье и честь…
Законники, услышав о Седом от пахана, уже не вызывались поехать вместе с ним.
Отмалчивались. Никому из них не хотелось исчезать бесследно.
Пахан, ухмыляясь бледными губами, понял все, сказал жестко:
— Сам ожмурю! Завтра отваливаю!
— Я с тобой! — вскинулась Капка.
Шакал молча кивнул, приказав Задрыге собраться заранее.
Та, загораживая спиною сумку от кентов, тщательно укладывала в нее все, что
могло пригодиться в этой нелегкой поездке. Барахла почти не взяла. Лишь самую
малость, без чего не обойтись в пути. А утром, чуть рассвело, умылась наспех,
проглотила стакан чаю, приготовленного Глыбой и, не прощаясь ни с кем из кентов,
подхватив свою сумку, вышла следом за Шакалом в морозное, ненастное утро.
— Если фортуна не лажанет нас, и мы ожмурим суку, повезу тебя к Медведю, в
Минск, в закон принимать, как трехал сам маэстро. Пришло твое время фартовать на
большой. Выросла. Вся в меня, — говорил пахан тихо, так, чтобы в соседнем купе
ничего не услышали и не разобрали.
— В Минск? — Капка даже взвизгнула от радости. Она предвкушала ту поездку
заранее. Ее повезут с почетом, с уваженьем. Не так, как раньше — «в зеленях», а
с поручителем, какой готовил в закон, и с паханом. Еще двое законников, какие
подтвердят дела с участием Задрыги. Они поклянутся, что Капка уже фартует
наравне со всеми, а не только стремачит.
Она должна будет поклясться, что станет целиком держать фартовый закон. И став
честной воровкой, никогда не нарушит клятву. Она, не моргнув, порежет себе руку,
чтоб своею кровью смочить горсть земли, какую она съест не поморщась в
подтвержденье клятвы. Ее она даст, стоя на коленях перед Медведем. Так положено.
Маэстро будет спрашивать ее о делах. А потом обратится к тем, кто явится на эту
сходку, согласны ль они, чтобы Задрыга стала законницей? На этом сходе
обязательно будет и Мишка-Гильза. Его, как слышала Капка, уже взяли в закон —
фартовые. Узнала Задрыга, что фартует он клево и в малине его держат в чести за
удачливость.
Капка хотела увидеть, как отнесется к ней Гильза, когда она станет «законной».
— Верняк, кайфово! Да и с чего бы иначе? С «зеленей» один кусок хавали. Но то
было давно. А вот тогда — на скамейке, Мишка был совсем кентом. Он вякал про
дела, а сам — все рассматривал, как я изменилась. И усмехался чему-то…
Задрыга вспоминает повзрослевшего Мишку. Его лицо, глаза, голос.
— К шмарам уже подваливает! — кольнуло что-то внутри. И Капка невольно скрипнула
зубами, сжала кулаки, глаза прищурились, стали злыми, холодными.
— Ожмурю падлу! — вырвалось из горла невольное. Пахан, глянув на дочь, понял ее
по-своему, что та готовится к встрече с Седым.
Шакал обнял Задрыгу:
— Не дергайся, все смастырим, как надо!
Капка только теперь поняла, что подумал отец, и рассмеялась.
Вечером они уже приехали в Смолевичи.
— Хиляем в кабак, похаваем! — позвал Шакал Задрыгу, указав на ресторан, откуда
доносилась громкая музыка.
— Ишь, местные фраера бухают! — указал пахан на тени танцующих. И вскоре они
вошли в зал.
Официантка посадила их к компании молодых парней. Их было четверо. Уже навеселе,
они сразу разговорились:
— К родне приехали? В гости? А сами откуда? С севера? Девчонку у нас оставите
учиться? Это хорошо! Здесь теплее и сытнее! — соглашались парни.
— У нас на севере все бы хорошо, но опасно. Много тюрем, зон вокруг. Оттуда
частенько уголовники бегут. А мы с женой целыми днями на работе! Беспокоимся за
дочь всегда. А здесь — все тихо. Ни зон, ни лагерей, ни уголовников, — говорил
Шакал.
— Все так. Но до недавнего времени… А тут один из ваших мест объявился. В
лесники его взяли. Так вот к нему уголовники табунами поперли. То ли прижиться у
него, то ли убить хотели, черт их маму знает! Только всех их волки порвали на
участке. Их в этом году, как блох у барбоса развелось. Проходу от них никому не
стало. В лес не ступи.
— А как же он там живет? Или тоже его волки съели? — удивилась Капка.
— А он, верно, ихней породы! Не трогают почему-то. Принюхались. Но, может,
оттого, что и спит с ружьем. Так и жив пока. Но подрастут к весне волчата — хана
мужику. Изорвут по голодухе в клочья. От стаи ружье не спасет, — сочувствовали
леснику парни.
Они рассказали все, что слышали о самом Седом, об уголовниках, о зимовье.
Выведал Шакал, где живет лесник. И махнув рукой равнодушно, ответил так, словно
его это не интересовало:
— В поселок волки не заходят, а в лесу моей девчонке делать нечего. И
уголовники, наверно, поселок ваш стороной обходят? И далеко тот участок от
Смолевичей. Так что бояться тебе нечего! — успокаивал Капку, которая напряженно
думала о чем-то своем.
Волки… Выходит, отгородил лес Седого от всех людей живым звериным кольцом и
сквозь него никому не удалось пробиться. Хотя и оружия хватало. И сил… Может,
оттого, что ночью возникли в лесу? Днем, как говорил Сивуч, смелость остается
лишь у фартовых. А те — канают по светлу, потому что звери. Значит, надо
припутать днем, — думает Задрыга.
— Двадцать с лишним километров! Ого! Да по снегу! Их пехом не прохилять.
Вымотаемся. А как с Седым в таком виде встретимся? Он нас как фрайеров уделает и
оставит волкам на хамовку! Лыжи! А значит надо ждать утра! — решает Шакал и
ведет Задрыгу в гостиницу переждать ночь.
Едва они вошли в номер, в дверь к ним постучали. Капка, решив, что пришла
горничная, открыла. И ошалело уставилась на оперативника милиции, какой вошел в
номер по-хозяйски, отодвинув Капку. И сразу попросил документы у Шакала.
— Кто такие? Зачем приехали? К кому? На сколько дней? — сыпались вопросы один за
другим.
Шакал быстро нашелся:
— У дочки болезнь странная. Сколько у себя по врачам водил, все без толку. Не
могут с приступами справиться. В раннем детстве собаки испугалась. Теперь вот к
бабкам привез. Добрые люди посоветовали. Сказали, заговоры помогают. Подсказали,
что тут знахарки такие есть. Лечат застарелый испуг.
— Да, есть у нас такие старухи, — сразу вернул документы милиционер. И оглядев
малорослую, худую девчонку со страшненькой мордой старой кикиморы, спросил
сочувственно:
— А сколько ей лет?
— Пятнадцать! — ответил пахан, оглядев оперативника с ног до головы.
— К бабке Наде вам идти надо. Она за почтой живет. Неподалеку. Ох и лечит
старуха! К ней со всех сторон едут. Со всякими болячками. Она лучше профессоров
разбирается в лечении.,
— Спасибо на добром слове! — ответил Шакал, вздохнув облегченно, когда
оперативник вышел из номера.
Пахан понял, что тот неспроста заявился в гостиницу, стережет от случайностей
Седого…
Капка лишь головой покачала, восторгаясь находчивостью Шакала.
Утром, потолкавшись на базаре, купив лыжи, заторопились на трассу. Капка долго
«голосовала» машинам, пока их подобрали на попутку. И, доехав до поворота, Шакал
с Задрыгой, словно тени, исчезли в лесу.
Задрыга сразу свернула с дороги в чащу, сломала несколько хвойных лапок,
привязала их на бечевку и пустила следом за лыжами, заметать след, как учил
Сивуч. Свободный конец привязала к куртке.
Шакал только теперь понял затею Задрыги, хотя утром ругал ее нещадно, когда
девчонка настырно потянула Шакала на базар. Там, потолкавшись с десяток минут,
купила банку рысиного сала, какое хорошо лечит радикулит. Шакал тогда обматерил
Задрыгу. И только теперь до него дошло, почему она обмазала этим жиром лыжи,
руки, лицо. И передав банку пахану, велела сделать то же самое.
Пара волков, высунувшаяся из-за сугроба, истошно взвыв, унеслась в чащу без
оглядки, едва втянув носом запах рыси.
Волки всегда боялись лесной кошки. Знали ее силу и свирепость, потому
предпочитали не встречаться с нею на зимней тропе, не доедать ее добычу, чтобы в
наказанье не остаться без глаз, а то и хуже — лишиться жизни. Такое нередко
случалось в лесу с молодыми волками. Опыт ко всем приходит со временем.
Одно удивило волков, почему этот запах шел от людей? Хотя… Рысь могла оказаться
рядом, на елке. Ее волку разглядеть не просто. Да и кому нужна? Никто такой
встрече еще не радовался. Вот и умчались, поджав хвосты, пока не поздно.
Вот и эта — старая пара убежала в глушь, унося за спиной вой и страх.
Теперь Шакал восторгается Задрыгой. Хорошо запомнила она уроки Сивуча. Да и
своей головой не обижена. Грех жаловаться.
Шакал оглянулся. Хвойные лапы надежно замели лыжню. Словно никого и не было
здесь, лишь ветер едва приметно скомкал снег.
— Скоро мне у нее нахвататься придется. Ну и ловка, ну и хитра Задрыга! — думает
пахан, нагоняя девчонку, а та не бежит, летит к зимовью.
Ее еще с детства учил Сивуч ходить в лесу бесшумно — босиком и на лыжах, бегать
и лазить по деревьям без звука, не блудить и мигом находить жилье в лесу. Она
ничего не забыла.
Капка издалека увидела дом Седого. Прислушалась, замерев. Обошла, чтобы подойти
сзади к зимовью. Из-под лыж ни визга, ни скрипа. Подойдя к зимовью,
прислушалась. Уловила собачье рычанье и больше ничего.
— Смылся из хазы плесень. Но скоро возникнет, — сказала Шакалу, указав на
заметенную метлой дорогу, добавила шепотом:
— Без коня смылся Тот в сарае фыркает. А пехом далеко не слиняет. Притыриться
надо, — и приметив стог сена возле самой избы, нырнула туда, где Седой обычно
брал корм для коня.
Шакал устроился рядом. Оба замерли в ожиданьи. Лыжи Задрыга сунула в снег под
стог, запорошила следы.
Сколько они так простояли, Капка не знала. У нее уже начали мерзнуть ноги. Но
пошевелиться нельзя. Задрыга держала в руках все, что могло ей пригодиться
сразу.
Шакал стоял неподвижно, не сводил глаз с дорожки к зимовью. Вслушивался в каждый
звук. И все ж первой Седого услышала Задрыга, слегка ткнула локтем в бок пахана,
напряглась. И вскоре оба увидели лесника, выходившего из лесу. Он шел напрямик,
через сугробы, слегка задевая стволом двухстволки ветки деревьев. Вот он
остановился у дорожки, вгляделся. Пошел по ней. Снял шапку оббить снег,
осыпавшийся на плечи. И Шакал вздрогнул, чуть не заматерился:
— Ведь это не тот пидер! У Седого колган седой! Этот — рыжий! На клешне
татуировки нет! Мать твою! Из-за какого- то фрайера столько кентов просрал! И
сам влетел, как козел! Но ведь и у этого нет пальца! — приметил сразу. И все же
решил придержать Задрыгу, приглядеться.
Седой тем временем вошел в дом. Снял ружье и, взяв ведра, пошел к роднику,
прихватив с собою ломик. Услышав лай собаки из избы, остановился и крикнул
Тайге:
— Приморись, кентуха! Приспичило тебе, мать твою! Вот прихиляю, проссышься,
стерва!
Услышав, Шакал обрадовался. Узнал бывшего пахана по фене и по голосу. Это
никаким маскарадом не скрыть. И отпустил руку Задрыги.
Та бесшумно выскочила из стога. Метнула веревку с петлей на конце. Она, коротко
свистнув, упала на голову лесника. Обвила шею.
Капка резко дернула веревку на себя. Лесник упал на дорожку. Выронил ведра и лом
из мигом ослабевших рук.
— Ну, что? Не пофартило слинять тебе, старая плесень? — подошел Шакал к
задыхающемуся леснику.
Седой глянул на Шакала глазами, полными слез. Он понял, теперь уж не уйти.
— Я слово дал тебе! Но ты, паскуда, заложил кентов и маэстро. Пятерых моих
законников посеял я из-за тебя уже здесь. И четверых в Звягинках! Не дороговато
— за одну суку?!
— Твоя взяла! — хрипел лесник, пытаясь сорвать петлю с горла. Но навощенная
веревка была накрепко схвачена Задрыгой. Она не ослабила ее.
— Но я откинусь в своем доме! А ты, как волк, попухнешь! В капкане! Будь
проклят! — понял, что к спасенью нет дороги и надежды.
Седой услышал отчаянный вой Тайги, доносившийся из зимовья и улыбнулся светло,
подумав, что хоть эта тварь оплачет его смерть и пожалеет исчезнувшего навсегда
недолгого хозяина. А может, это волки уже подошли к зимовью и окружают его со
всех сторон, чтобы отомстить людям за убийство?
Они лишь звери. Немногим лучше людей, тех, с какими провел большую часть жизни.
А может, это мертвые кенты, их души собрались неподалеку и ждут его обратно в
свою стаю?
Но нет сил встать и поспешить навстречу. Чтобы простить и стать прощенным. Не
прячась, во весь рост бы побежал для этого! Но… Застрял нож в груди. Словно
гвоздем прибил к снегу человека. Теперь уж не подняться, хоть вся природа
заплачь человечьими голосами. Ей — чистой, где понять, что живые умеют прощать
только мертвым…
Оглавление
Глава 1 Задрыга
Глава 2 Капка-дочь пахана
Глава 3 Лихая судьба
Глава 4 Седой
Глава 5 «Сука»
Глава 6 Сходка
Глава 7 Встречи
Глава 8 Приговоренный