Книга: Каин и Авель
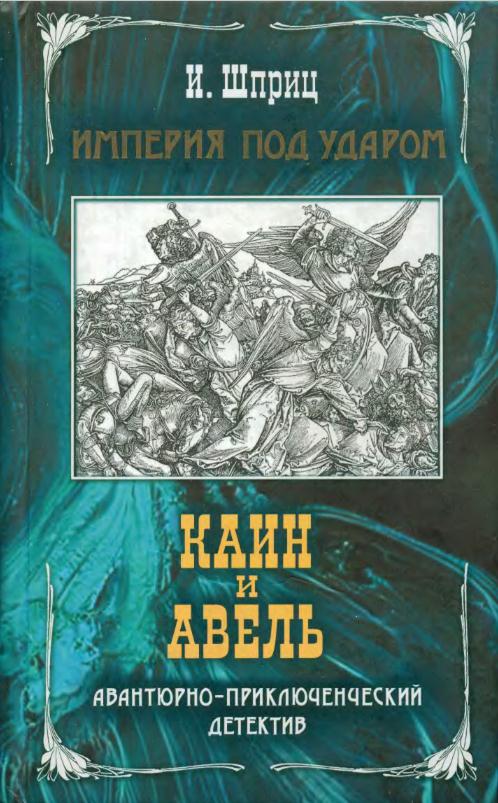
Империя под ударом: Каин и Авель.
Тесная каюта, которую он делил на двоих с корабельным ревизором, мичманом Черниловским-Соколом, была удобна уже тем, что все необходимое находилось на расстоянии вытянутой руки.
Он протер тело губкой, пропитанной одеколоном с терпким травяным запахом — купил несколько флаконов во французской лавке в центре Чемульпо, — и надел приготовленное вестовым чистое белье. От рубашки пахнуло свежим морским воздухом, и от этого быстрее захотелось наружу, на верхнюю палубу, к своему дальномерному посту.
Мичман граф Нирод взглянул на часы — до сбора офицеров, назначенного командиром, оставалось четверть часа. Можно дописать письмо невесте. Он надел верхнее платье, морские полусапоги и бросил взгляд в иллюминатор. Дождя нет и не предвидится, время циклонов еще не наступило, но и солнце не проступает сквозь ровно затянувшие небо облака. «Это хорошо! Очень даже хорошо! — подумал мичман. — Не будет бликов на воде, дистанцию можно будет выдавать с предельной точностью».
Сегодня он сам сядет за дальномер. Слишком все серьезно. Неужели японцы будут стрелять? Это не по-джентльменски. Как хорошо было бы воевать с англичанами, на худой конец с французами! День воюешь, а вечерами миришься с недавними противниками в местном казино. И так все лето. А осенью у него отпуск в столицу...
Нирод с нежностью взглянул на тонкое обручальное кольцо, опоясавшее безымянный палец правой руки, — предмет товарищеского подтрунивания всей кают-компании. Соня ждет его приезда, все решено и расписано... К лету эта дурацкая война закончится, если вообще начнется! Ну кто может серьезно думать о том, что маленькие желтые япошки продержатся против российской громады, против чудо-богатырей хотя бы несколько недель? Англичане ставят на русских шесть, а то и все восемь против одного.
Они будут венчаться в Казанском соборе, а после поедут в свадебное путешествие. В Париж? Нет, уже скучно. В Лондон! Там он оденется с ног до головы и сможет заказать себе самые модные морские атрибуты.
Обязательно нужны пара биноклей с новейшей цейсовской оптикой, гуттаперчевый плащ-накидка, непромокаемые сапоги и хороший запас марсалы, напитка адмирала Нельсона. Вот все обрадуются, когда он вернется в кают-компанию не простым новобрачным, а с двумя ящиками темно-янтарного зелья морских богов!
«Допишу вечером!» Мичман надел фуражку, выверил ее положение относительно линии щегольских усов и, ловко перебирая полу сапогами по ступенькам почти отвесного трапа, поспешил на свою дальномерную станцию номер один, расположенную на топе фок-мачты.
В окуляре дальномера, расчерченном тонкими штрихами, перед его взором предстала вся бухта корейского порта Чемульпо. На серо-зеленой спокойной воде чернели туши четырех крейсеров: английского «Тэлбот», итальянского «Эльба», американского «Виксбург» и французского «Паскаль». Третьего дня они нанесли ответный визит французам. Было выпито много отличного вина и провозглашено изрядное количество тостов за почти нерушимую франко-российскую дружбу.
И вот теперь «Варяг» должен уйти из гостеприимной бухты. Япония объявила войну России. Мичман несколько раз глубоко вдохнул свежий воздух, зачехлил окуляры и поспешил в командную рубку. Все будет хорошо. Японцы сторожат выход из Чемульпо. Но они не посмеют открыть огонь в нейтральном порту.
* * *
В Мариинке давали «Жизель», а посему все балетоманы столицы загодя сели в свои годами насиженные кресла и ложи в ожидании праздника души и балетного тела.
Павел Нестерович Путиловский, надворный советник Особого отдела Департамента полиции (ласково именуемого в народе «охранкой»), тихо приотворил дверь ложи и проскользнул на свое место. Ложу он снимал пополам со своим закадычным другом, профессором университета по философской кафедре Александром Иосифовичем Франком.
Многочисленное семейство Франков занимало отнюдь не половину, но большую и лучшую часть ложи. «Ты сам виноват в этом! — в ответ на робкие намеки приятеля резонно возражал Франк. — Что мешает тебе жениться, наплодить детей и занять почти все?» Крыть было нечем и некем, поэтому Путиловский смирился.
Сам Франк в настоящий момент сидел с закрытыми глазами и профессионально дирижировал оркестром. Но музыканты (к счастью для них и увертюры) этого не видели и продолжали упорно следить за штатным дирижером чехом Направником.
— Валторна фальшивит! — прошипел Франк в ухо приятелю, не забывая при этом жевать шоколадные конфеты, которые он с боем отвоевал у своих же деток из большой семейной коробки.— Еще не выходила...
— Кто? — шепотом поинтересовался Пути-ловский и тоже украл у детей конфету: он с утра ничего не ел.
— Твоя Карсавина! — съехидничал Франк, зная пристрастие Путиловского к совсем еще свеженькой балерине.
— Слава Богу...
Из царской ложи на них недовольно покосились. Путиловский привстал и поклонился плотному человеку с большими моржовыми усами на широком невозмутимом лице. Человек ответил коротким кивком.
— Кому это ты лизнул? — полюбопытствовал Франк.
— Министру... — прошелестел Путиловский, дабы не вызвать гнев вышестоящего начальника.
— Это Плеве? Серьезный господин! — и Франк вернулся к роли дирижерской палочки.
ДОСЬЕ. ПЛЕВЕ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился 8 апреля 1846 года. Из дворян. Окончил Московский университет со степенью кандидата юридических наук. С 1867 года - на службе в Московском окружном суде. В 1879 году назначен прокурором Санкт-Петербургской судебной палаты. С 1891 по 1884 годы - директор Департамента полиции. С 1884 года - сенатор, в 1894 году назначен государственным секретарем. С 1899 года - министр, статс-секретарь Княжества Финляндского. С 1902 - министр внутренних дел Империи.
В этот момент на сцену выпорхнула балерина со смуглым восточным лицом и замерла на долю секунды в ожидании аплодисментов. Ждать ей пришлось совсем недолго.
— Браво, Карсавина! Браво! — гаркнул Пути-ловский над ухом Франка, отчего тот подскочил на кресле.
Голос надворного советника потонул в криках сторонников юной балерины и ее недоброжелателей. Шуму было много, однако пока из ничего.
Но как только вступили духовые, недвижная фигурка неожиданно ожила, и стало ясно: вот оно, настоящее! Карсавина не делала ничего особого, но ножку тянула чуть выше, прыгала чуть дальше, а зависала в воздухе чуть дольше — и все это создавало ощущение близкого счастья, которое мгновенным образом электризовало зал, превращая его из набора достойных и солидных личностей в единый многодышащий организм.
— А-а-ах...— ахнул этот организм и разразился криками восторга в ту же секунду, как только стройная фигурка вновь застыла статуэткой. — Фора! Бис! Карсавина! Бис! Бра-а-а-во-о-о!!!
Франк толкнул Путиловского в бок и кивком показал на царскую ложу. Министр если и не безумствовал, то вел себя неподобающим образом: встал и аплодировал!
— И этот туда же! — иезуитски шепнул Франк.
* * *
Капитан первого ранга Руднев, снявши форменную фуражку, размашисто перекрестился на судовую икону, ради такого случая внесенную корабельным батюшкой отцом Михаилом в командирскую рубку. Затем тихо сказал старшему помощнику:
— Ипполит Семенович, с якоря сниматься...
Негромкая капитанская команда эхом понеслась по крейсеру, и на баке засуетилась дружная боцманская бригада. Послышались имена дьявола и ангелов его.
— Мичман Нирод!
Юный граф, бывший в любимчиках у командира, преданно вырос перед капитаном.
— Голубчик, прошу вас, докладывайте дистанцию до «Асамы» каждые шестьдесят секунд. При сближении до четырех миль переходите на тридцатисекундное определение.
— Есть! — и мичман морским чертом сиганул по трапу на свое боевое место.
— С Богом! — Руднев надел фуражку. — Самый малый вперед!
— Есть самый малый вперед!
Вахтенный начальник двинул ручку машинного телеграфа, и крейсер «Варяг» медленно вдвинул свою многотысячетонную тушу в узкий фарватер корейского порта Чемульпо. Стояла низкая вода, и двигаться надо было более чем осторожно.
Штурман взглянул на хронометр и записал в бортовой журнал: «27 января 1904 года. 11.20. Рейд порта Чемульпо. Снялись с якоря. Идем по фарватеру». Вслед за «Варягом» несколькими минутами позже, на расстоянии полутора кабельтовых, послушно встала в кильватер канонерка «Кореец».
За всеми маневрами русских внимательно наблюдал командор английского крейсера «Тэл-бот» Фрэскотт. Команды иностранных кораблей были выстроены во фронт, на итальянском крейсере заиграли «Боже, царя храни!», прокричали «Ура!».
— Безумцы, — глядя в бинокль, прошептал Фрэскотт.
Но его никто не услышал.
На фоне острова Риху, в пяти милях от входного знака фарватера, дымили трубы японской эскадры, всего 14 вымпелов: шесть крейсеров в строю пеленга во главе с «Асамой» и восемь миноносцев позади крейсеров.
Как только «Варяг» вышел за входной знак, с дальномерной станции пришел доклад мичмана Нирода:
— На «Асаме» поднят сигнал «Предлагаю сдаться».
В рубке стало тихо. Бледный Руднев сглотнул набежавшую слюну и хрипло прокричал:
— Продолжать движение! Малый вперед!
— Есть малый вперед! — отрепетовал вахтенный.
— К бою! Все орудия на «Асаму»!
Прогремели боевые колокола, но по палубе никто не пробежал — все расчеты уже давно точно прикипели к своим местам.
В 11.45 Фрэскотт, не отнимавший бинокля от глаз, чертыхнулся:
— Годдэм... Вахтенный! В журнал: «Асама» открыл огонь по «Варягу». Все катера к спуску! Спасательные команды на катера!
Восьмидюймовое баковое орудие «Асамы» выплюнуло густой черный клубок дыма.
— Дистанция — сорок девять кабельтовых... сорок семь... сорок шесть... — Быстрая скороговорка Нирода заполнила сразу ставший тесным объем боевой рубки.
— Пристрелочным — огонь! — буднично сказал Руднев и успокоился: боишься — не делай, делаешь — не бойся. — Сейчас у «Асамы» будет недолет.
— Недолет! — секундой позже донесся рапорт сигнальщика.
— Трусят задеть англичан, — прокомментировал старпом.
— Ну, нам трусить нечего, — проворчал Руднев и скомандовал: — Залпом — огонь!
«Варяг» и «Асама» дали залп из всех орудий одновременно до долей секунды.
* * *
Чтобы не смущать своим видом светское общество, министр велел подать легкий ужин с шампанским в ложу и сейчас наслаждался кратковременным отдыхом от трудов праведных за бутылкой «Шарль де Казанов» с фруктами. Общество министру внутренних дел составлял министр военный, генерал Куропаткин, которого Плеве всячески протежировал на роль главнокомандующего русскими войсками в будущей, а ныне настоящей русско-японской войне.
Генерал был несколько мрачен, точно предчувствовал нечто нехорошее от короткой баталии с «макаками» (так уже обозвали японцев пронырливые журналисты).
Кличка «макаки» понравилась простому народу чрезвычайно, вследствие чего в столичный зоопарк резко увеличился поток зевак, а в обезьяннике к клетке с макаками было просто не протолкнуться: все жаждали видеть своих противников. Процентов семьдесят зевак были уверены в том, что японцы и макаки — суть одно и то же иродово племя. И ежели макаку приодеть в форму цвета хаки, то выйдет чистый японец.
Обезьянья семейка под водительством старого опытного самца Яшки наплыву посетителей вначале обрадовалась, рассчитывая на конфеты и апельсины. Но умелое манипулирование общественным сознанием сделало свое черное дело, и каждый посетитель считал себя обязанным кинуть в макак чем-нибудь несъедобным или просто плюнуть в их сторону.
Воинственный Яшка воспринял всю эту возню вокруг его личной клетки как посягательство на свой сексуальный авторитет и принял ответные меры — разинул рот и показал громадные желтые клыки. Не помогло. Тогда он дождался счастливого случая, повернулся к посетителям красной лакированной задницей, показал свои весьма примечательные гениталии, чем вызвал дополнительный приток обидчиков, злорадно ухмыльнулся и обильно полил остро пахнущей мочой группу наиболее воинственных мастеровых с их подвыпившими подружками.
Охладив таким образом пыл противников, Яшка перешел к артиллерийским экзерсисам, а именно, стал быстро метать в патриотов обезьяньи фекалии, которые ему заботливо подносили макаки-подростки. Меткость была поразительной, что заставило наиболее трезвую часть публики задуматься: а не победят ли нас столь меткие воины?
Но усомнившихся тут же объявили пораженцами и пообещали набить морду. К чему, за недоступностью Яшки, и приступили. Разгорелась маленькая, но победоносная драка, о которой на следующий день патриотически настроенные газеты известили как о первой победе русского духа над макаками-японцами.
Плохо понимающие истину восприняли эти заметки как сигнал и поставили свечки в ознаменование первой победы русского оружия. Впереди маячили победы более основательные и громогласные.
Куропаткин, однако, не разделял такого мнения. Будучи начальником штаба у самого Скобелева, он понимал все трудности предстоящей войны. Генералы на самом деле ужасно не любят воевать, потому что знают, какое это мерзкое и грязное занятие — посылать молодых, красивых, здоровых мужчин на верную смерть. И на следующее утро не помнить этого и посылать следующих. У гражданских лиц этот порок отсутствует.
Вот и сейчас Плеве с легкостью, подобной той, что обнаружила толпа у клетки с бедным Яшкой, бил японцев и справа и слева, и на суше и на море. Посягнул было на воздушное пространство, но вспомнил, что люди не птицы и не летают. Маленьким фруктовым ножичком Плеве творил просто-таки чудеса, протыкая насквозь желтые груши, точно покорных его ножу японцев. Завершив разгром вазы, министр внутренних дел заявил:
— Алексей Николаевич, вы не знаете внутреннего положения вещей. Нам во как, — он резанул себя серебряным ножичком по горлу, — во как нужна маленькая победоносная война!
— Для чего? — хмуро осведомился Куропаткин.— Что мы потеряли в Японии? Курильские острова? Сахалинскую каторгу? Для чего мы лезем на рожон?
— Только для того, чтобы сдержать революцию. — Плеве с сожалением посмотрел на генерала, нисколько не представлявшего себе всей остроты революционного момента. — Ничто так не оздоровляет и не сплачивает нацию, как маленькая, но обязательно победоносная война. Вы уж там постарайтесь! А мы вас тут поддержим.
И он стал доедать поверженную грушу. Куропаткин тяжело вздохнул. Ему предстояло сражаться на два фронта — и против японцев, и против наместника на Дальнем Востоке адмирала Алексеева, чей выдающийся полководческий талант особенно был заметен на строевых смотрах: Алексеев, будучи человеком морским, до судорог боялся лошадей, а те в ответ боялись его. То есть явно отсутствовало взаимодействие разных родов войск — Алексеева и лошадей, без чего современная война не может быть выиграна по определению.
Об этом говорили многие даже в антракте. Путиловский и Франк на правах зрелых балетоманов завернули в кабинет к театральному полицмейстеру, где в честь объявления войны силами администрации был накрыт походно-полевой стол а-ля фуршет, с запотевшими рюмками русской водки и бутербродами от буфета. Франк нацелился на осетрину, а Путиловский предпочел простую английскую закуску — чернослив с расплавленными кусочками чеддера вместо косточек, завернутый в бекон и проткнутый маленькой серебряной шпажкой.
Адмирал в отставке Негода, маленький и жукастый, от возмущения брызгал слюной на собеседника, провозгласившего тост в честь главнокомандующего:
— Да знаю я, как ваш Алексеев делал карьеру! Лично видел! В Марселе, милостивые государи!
— Ну-ка, ну-ка! — зашумели балетоманы.— Владимир Степанович, извольте рюмку не в очередь. Да объяснитесь! Алексеев далеко, а мы — тут.
Негода лихо выплеснул содержимое рюмки в адмиральское горло, закаленное ветрами пяти океанов (он служил по снабжению Балтийской эскадры, что само по себе не умаляет ничьего достоинства до тех пор, пока не проворуешься), крякнул, закусил, прожевал и начал морской роман:
— Шли мы кругосветкой под вымпелом великого князя Алексея Александровича...
Все знали подоплеку этого путешествия и ехидно заулыбались: великий князь сочетался морганатическим браком с некоей Жуковской. Император Александр II, очевидно завидуя смелости и решимости молодого супруга, после медового месяца послал его проветриться вокруг света — дело долгое, года на два, не меньше. Чтобы другим великим князьям неповадно было. Noblesse oblige!1
— Прошли мы всю Балтику, Бискай, через Гибралтар завернули в Марсель. Там недалеко, налево за угол. Дело молодое, пошли по дамам. Дамы в Марселе, я вам скажу, ничуть не хуже петербурженок! — и Негода лихо закрутил ус.
«Левша» — автоматически отметил Путиловский.
— Верим! Верим! К делу! — закричали балетоманы.
— На судне я был ревизором. Ввечеру пошли в один приличный домик. Поцеловали ручки дамам — и понеслась! Только один Алексеев дамам ручки не целовал, а все в углу на роялях поигрывал да поигрывал... Ну, мы отстрелялись каждый по своей мишени, выпили, закусили да по второму кругу пошли. А тут англичане приперлись. Да еще какие-то торгаши! Первым делом Алексееву врезали, а потом пошли крушить весь дом! с прислугой! — Негода закатил глазки, вспоминая славное времечко. — Я недурно отмахался кортиком: двух в койку уложил наверняка.
— А что князь? — осторожно, дабы не прервать связующую нить времен, вопросил Франк.
— Молодой, здоровый! Только женился, кровь играет! Человек четырех ухайдакал лишь кулаком. В зеркало одного просто впечатал, аки в рамку! Ну, мы рассчитались благородно, прихватили Алексеева под мышки — ходить он не мог — и вернулись на корабль. Да... — Негода пустил в потолок мечтательную папиросную струю.
Воцарилась пауза.
— Ну и?! — не выдержал самый молодой из допущенных в полицмейстерский кабинет.
Все обратили на него взоры: дескать, не мешайте человеку наслаждаться воспоминаниями юности, это единственная драгоценность, что остается на склоне лет! Вопрошающий покраснел и стал жевать пустую булку.
— На следующее утро на корабль прибывает полицейская делегация, — вспоминал блаженно Негода,— и требует визита великого князя в управление. Грозят наложить арест на судно. Один англичанин отдал Богу душу, а хозяйка запомнила лишь великого князя — еще бы не запомнить! Великан!
— В каком смысле? — робко поинтересовался Франк.
— И в физическом, и в физиологическом. Так вот, наш Алексеев заявился в управление и заявил, что всех баб-с и всех мужчин попользовал он один, без сотоварищей, за что и должен нести заслуженную кару. Буйство, дескать, совершил он, Алексеев, а отнюдь не князь Алексей! Он так мастерски запутал французов — Алекс, Алексей, Алексеев, Алексей Алексеевич Алексеев! — что те ошалели и отпустили грех всем участникам. Наложили на него штраф, за который он потом и стал адмиралом.
— На его месте так поступил бы каждый,— съязвил Путиловский.
Негода окинул Путиловского ироничным взглядом и ответствовал:
— Натурально поступил бы! Однако мы все проспали с похмела — на корабле добавили изрядно, а этот не пил и прибежал в управление первым! Шустер был не годам.
* * *
Мужчина и женщина шли по заброшенному известняковому карьеру неподалеку от Берна. Мужчина был одет в черное длинное пальто и черный котелок. В руках он уныло нес плетеную корзину для пикника, в которой обычно находится пара бутылок красного вина для взрослых, оранжад для детей, стаканы и большие бутерброды с деревенской ветчиной и пармезаном.
Время для пикника было выбрано удачным — светило солнце и пахло весной. Но место определенно навевало тоску: ржавые вагонетки на ржавых же рельсах, недобитые глыбы почти белого известняка и полное отсутствие зелени.
Однако даму это не смущало. Она придирчиво выискивала одной лишь ей удобное местечко, руководствуясь при этом непонятными соображениями. Несколько горных синиц сопровождали парочку, надеясь на сытный обед из крошек от бутербродов.
Наконец дама выбрала самое подходящее место, с точки зрения синиц ничуть не годившееся даже для неприхотливой трапезы. Она остановилась на гребне холма, внизу которого на расстоянии нескольких саженей рыжели две пустые вагонетки.
— Вот отсюда и туда, — показала рукой на вагонетки Дора Бриллиант и достала из меховой куньей муфточки серебряный женский портсигар с монограммой «DB», выложенной мелкими зелеными изумрудиками по матовому полю.
Мужчина чрезвычайно аккуратно поставил плетеную корзинку и облегченно потер себе поясницу. Синицы поняли, что корзина тяжела и наполнена всякого рода вкусностями, из которых более всего они ценили маленькие кусочки сала, обычно отбрасываемые людьми в сторону. И подлетели поближе.
Алексей Покотилов (так значилось в российском паспорте мужчины) достал из кармана платок, отвернулся в сторону, снял котелок и аккуратно промокнул вспотевший лоб, изъязвленный нервной экземой. От возбуждения на его высоком челе проступили маленькие кровяные пятнышки, точно комары покусали, и платок покрылся мелким клюквенным узором.
— Не волнуйтесь, — низким голосом успокоила его Дора, раскуривая на слабом ветру дамскую пахитоску. — Ничего страшного не произойдет. Просто кинете в вагонетку и спрячетесь за бугор. Он вас прикроет от осколков. Мы здесь уже не раз кидали. Все элементарно.
— Да, — коротко ответил Покотилов, достал из внутреннего кармана плоскую фляжку и сделал несколько быстрых глотков, закидывая голову, точно воробей, пьющий из лужи. Пахнуло коньяком.
Дора прислушалась к окружающей их тишине и отбросила недокуренную пахитоску:
— Едут.
Она откинула крышку корзины.
Наиболее смелый синиц пролетел на бреющем полете над нутром корзины и — увы! — ничего интересного там для себя не узрел. Всю корзину плотно заполняла крупная стружка, среди которой чернели три чугунные сферы, каждая весом в добрых десять фунтов. Поэтому Покотилову так ломило спину.
Из-за поворота, плавно покачиваясь на рессорах, показалось длинное острорылое авто, ведомое тощим шофером в клетчатой кепке и очках-консервах. Не доезжая до мужчины и женщины, авто остановилось. Шофер покинул свое насиженное место, не торопясь обошел машину и открыл дверцы с обеих сторон.
Несколько секунд никто из авто не появлялся, наконец вылез пожилой почтенный господин в касторовой шляпе — седой, бородатый, с внимательными и печальными библейскими глазами. Вслед за господином, сопя и слегка чертыхаясь на узость дверки, показался Евно Азеф.
ДОСЬЕ. АЗЕФ ЕВНО ФИШЕЛЕВИЧ (ЕВГЕНИЙ ФИЛИППОВИЧ).
Родился в 1869 году в местечке Лысково Гродненской губернии, в многодетной семье портного. С 1874 года семья проживает в Ростове-на-Дону. В 1890 году закончил гимназию. В 1892 году под угрозой ареста за распространение революционной прокламации уехал в Карлсруэ (Германия), где поступил в политехникум. С июня 1893 года - секретный сотрудник Департамента с окладом 50 рублей в месяц, кличка «Раскин». В 1899 году получил диплом инже-нера-электротехника.
С 1903 года руководитель Боевой организации (ВО) партии эсеров, партийная кличка «Иван Николаевич», «Толстый». Женат, воспитывает двоих детей.
Господин в касторовой шляпе бросил шоферу короткую фразу по-английски, тот послушно наклонил голову, сел в машину и отъехал метров на пятьдесят.
— Кто из них бомбист? — тихо вопросил господин. По-русски он говорил правильно, но медленно, с неустранимым южно-местечковым акцентом.
— Мужчина, — ответил Азеф.
Все это время господин внимательно следил за движениями авто. Видно было по всему, что он не отдает инициативу никому, даже в самой малости, все планирует тщательно и на долгий срок.
— Я доверительное лицо консорциума выходцев из России. Но мы не желаем, чтобы наша... — господин замялся, подыскивая русское слово, — инисиэйшн... инициатива! да, инициатива где-нибудь и когда-нибудь стала известна широкой публике. Ни слова никому, иначе наши дальнейшие контакты и, возможно, будущие контракты будут мгновенно разорваны. Сейчас, если результаты испытаний меня удовлетворят, вы получите половину оговоренной суммы. Вторая — после успешного завершения нашей договоренности. Меня и моих соучредителей не интересует распределение денег между лично вами, вашими людьми и вашей партией. Нас интересует только конечный результат. Вы меня понимаете?
— Разумеется. — В речи Азефа зазвучал тот же южный акцент. — Я не новичок в серьезных делах. У нас очень строгая конспирация и такая же строгая дисциплина. Мои люди умрут, но ничего не скажут!
— Вот умирать зря никому не надо. — Взгляд господина стал еще печальнее. — И без того слишком много смертей. Нам нужна только одна. Око за око, зуб за зуб.
— Скажите... — Азеф замялся. — В Кишиневском погроме у вас погибли родственники?
— Да. Пять человек.
Господин замолчал, приводя свои мысли и чувства в порядок. Азеф деликатно молчал.
— Вы хотите наличными или чеком в нашем банке в Сан-Франциско?
— Если можно, наличными.
— Хорошо. Откуда я могу смотреть на все это? Я хочу стоять как можно ближе.
Тем временем подошли к Покотилову и Доре. Азеф обошелся без представлений.
Дора прикоснулась к рукаву господина:
— Встаньте сюда. От осколков вас прикроет насыпь, но взрывную волну вы почувствуете.
— Вы еврейка? — неожиданно спросил господин, бесцеремонно оглядывая Дору с головы до ног.
— Да, — ответила Дора. — Но это не имеет никакого значения.
Обратившись к Покотилову, господин невозмутимо продолжил статистический опрос:
— А вы?
— Я русский, — с достоинством ответил По-котилов. — Дворянин.
Взгляд господина стал чуть менее печальным:
— Очень хорошо.
ДОСЬЕ. ПОКОТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ.
1879 года рождения. Сын генерала, студент Киевского университета, близкий друг С. В. Балмашева, убийцы министра внутренних дел Сипягина. За участие в демонстрации у Казанского собора (Санкт-Петербург) в 1901 году выслан в Полтаву, откуда скрылся. В том же году Покотилов собирался убить министра просвещения Боголепова, но его опередил Карпович. Страдает хроническим алкоголизмом (начальная стадия). Партийная кличка - «Алексий».
— В будущем, за которое мы отдадим свои жизни... — Покотилов прочистил горло (по всему было видно, что он волнуется), снял пальто, сюртук и остался в романтической белой рубашке.— В этом счастливом будущем не будет ни сословий, ни национальностей!
— Дай Бог, — коротко и сухо ответил господин.
— Ну-с, давайте приступим, скоро стемнеет. — Азеф широким жестом руки пригласил всех поучаствовать в испытаниях, но сам отступил далее всех. — Алексий, вперед!
Покотилов покраснел, лоб его покрылся испариной, руки нервно задрожали крупной дрожью. Он наклонился к корзинке. Кончики пальцев у него стали мокрыми, и бомбу он достал только со второй попытки.
— Алекс! — прикрикнула на него Дора. — Осторожнее!
Покотилов нервно улыбнулся и в знак своего душевного спокойствия покачал бомбу в руке. Азеф на всякий случай отошел подальше, господин же стоял как каменный.
— Закройте уши. — Дора прикрыла ладонями свои маленькие розовые ушки. — Кидайте!
Размахнувшись левой рукой («Я и не знал, что он левша!» — удивленно подумал Азеф), «Алексий» с гребня молодецки метнул бомбу во внутренности дальней вагонетки.
Черный шар летел неправдоподобно долго и медленно, нарушая своим полетом все мыслимые Божьи и человеческие законы свободного падения черных тел. За бомбой летела пара бойких синиц, ожидая от падения такого увесистого предмета каких-то своих, сиюминутных синичьих выгод...
* * *
Лету снарядам от «Асамы» до «Варяга» было несколько коротких секунд, но и они растянулись во времени, так что мичман Нирод всем своим существом и фибрами ощущал каждую секунду, точно представляя, сколько еще их осталось до того мгновения, когда станет ясно, будет попадание в «Варяг» или нет.
Опытный дальномерщик, он знал, что при удачном освещении и траектории можно увидеть снаряды в виде чрезвычайно маленьких черных точек, удаляющихся от корабля, с которого произведен залп. Вот и сейчас он с восторгом наблюдал за полетом шести снарядов, плотным строем приближавшихся к «Асаме». Чутьем боевого офицера он понял, что залп удался и «Асама» будет накрыт по корме, где у него чудовищными грибами росли башни орудий главного калибра.
Но в первый раз в его короткой морской жизни стреляли и с противоположной стороны. Как он мог об этом позабыть! Нирод стал шарить острым взглядом вблизи предполагаемой траектории японских снарядов. И сразу увидел их! Шесть черных блох медленно перемещались во внезапно замершем поле зрения, быстро увеличиваясь в размерах от геометрически малой точки до заметного макового зерна. Ошибиться было невозможно. Он стал смотреть, стараясь не упустить ни малости в этой редкой для каждого артиллериста картине.
В какое-то мгновение зрение его разделилось и боковым своим лепестком стало ожидать судьбы варяговских снарядов, выпущенных чуть ранее или летевших чуть быстрее. Но основной взгляд по-прежнему был прикован к шести ангелам смерти, уготованным провидением для Ни-рода и его милых товарищей.
Любого моряка с азов учат: если пеленг на опасность не меняется, значит, вы с ней сближаетесь. В первые доли секунды он видел, что японские болванки, начиненные пироксилином, уходят чуть левее от него. Но потом это движение влево остановилось и вдруг исчезло совсем. Черные точки лишь увеличивались в размерах.
Это означало одно: надеяться можно было лишь на перелет или недолет. Если этого не случится, снаряды лягут точно в «Варяг»! И мичман стал бешено быстро молиться Богу, чтобы этого не произошло, потому что жизнь после такого попадания стала бы невозможной.
Он мысленно произнес несколько слов молитвы и замер — точки стали стремительно расти, при этом расходясь веером. И только одна из них стояла на месте, заслоняя собой все видимое и мыслимое. Боковым зрением Нирод отметил черные разрывы на «Асаме», но понять то, что снаряды уже достигли японского крейсера, не успел. Центральный снаряд пришел в соприкосновение с верхним мостиком. Удара не было, он стал входить в дальномерную, как горячий нож входит в брусок масла.
Если бы не взрыватель, тонко чувствующий все толчки, снаряд с японскими иероглифами на обгоревших от выстрела боках пробил бы стенки, оборвал крепления фок-мачты и ушел в воду цвета нежного нефрита. Однако взрыватель сработал штатно и подорвал основной заряд. Сто шестнадцать килограмм пироксилина сдетонировали за несколько тысячных секунды и превратили дальномерную станцию номер один в мгновенный филиал ада.
Все погибли безболезненно и сразу. Когда рассеялся едкий дым, от мичмана Нирода осталась лишь одна правая рука с обручальным кольцом (по нему и определили останки мичмана), крепко вцепившаяся в дальномерную трубку. По иронии судьбы на трубке не осталось ни царапины...
Все остальные снаряды легли в воду за «Варягом» и взорвались, потревожив глубины и косяк крупного лосося шарами взрывов. На поверхности бухты выросли пять белых пенных дерев, усеянных, как библейскими страшными плодами, черточками гиблых рыбьих тел.
* * *
Бомба исчезла внутри вагонетки, и мучительно короткую долю секунды ничего не было видно и слышно. Мысль о неудаче пошла у всех из одного полушария мозга, ведавшего мыслями, в другое, ведавшее чувствами огорчения и радости, но дойти ни у кого не успела. Из вагонетки вырвался короткий и толстый столб пламени, вздувший ее бока до беременного состояния. Однако вместо маленькой новорожденной ваго-неточки оттуда был исторгнут плотный шар черного дыма.
Все осколки ушли вверх и посекли в крошево чету бойких синиц (это несколько изменило ход естественного отбора синичьего племени в сторону большей осторожности). Взрывной волной у господина из Сан-Франциско сорвало котелок. Иных разрушений и смертей замечено не было.
В течение нескольких секунд вокруг царило полное молчание: во-первых, все изрядно оглохли, а во-вторых, природа действительно замолчала. Затем внезапно от противоположной стены карьера пришло гулкое эхо, заорали всполошенные взрывом маститые вороны, горные синицы исполнили короткий молебен по судьбе навеки усопшей парочки, вдалеке залаяла невесть откуда взявшаяся псина.
Издалека послышалось стадное мычание утомленных швейцарских коров. Какие-то ноты в грохоте взрыва напомнили им о существовании исполинского быка, призывавшего исполнить их природный долг.
Господин из Сан-Франциско прикрыл глаза, смакуя секунды после взрыва, как гурман смакует глоток весьма удачного вина.
— Пройдемте вниз? — предложил Азеф, всем видом показывая, что он нисколько не сомневался в результатах взрыва и своим предложением хочет лишь продемонстрировать солидность молодой фирмы по уничтожению царских сатрапов.
— Зачем? — задал риторический вопрос господин без котелка и, естественно, не получил никакого ответа.
Покотилов сладостно скалил зубы, почувствовав, что при удачном раскладе совершенно не обязательно, убивая, быть убитым самому. Радость жизни перла из каждой клеточки его худого тела, заставляя буйствовать, бежать, размахивая руками и выкрикивая бессмысленные звуки торжества. Но поскольку он был европейски воспитанной личностью, «Алексий» ограничился глотком коньяка из горлышка любимой фляжки.
Дора, невзирая ни на кого, быстро спустилась к убитой вагонетке и провела профессиональный осмотр места взрыва, не упустив ни мельчайших деталей, как-то: степень поражения внутренних стенок, наличие крупных и мелких фрагментов оболочки, а также невзорвавшихся кусков динамита, коих обнаружено не было.
В качестве научной добычи Дора продемонстрировала обществу большой осколок.
— Надо будет делать мелкую насечку на поверхности, — сказал Азеф, тщательно изучив фрагмент.
— Зачем? — снова спросил господин.
Абсолютно невозмутимый шофер принес ему котелок и ожидал дальнейших распоряжений.
— Чем больше осколков, тем больше шансов на успех.
— Успех чего?
— Убийства, — чуть раздраженно вставил реплику Покотилов, понимая, что сейчас у него отнимают лавры победителя.
— Молодой человек, запомните. — Господин впервые обратил взор на исполнителя. Взгляд его был печален и тяжел одновременно. — Убивают невинных. Злодеев — казнят. Авель может быть только убит. А Каин — казнен.
Сверху, точно в подтверждение этих слов, явилась благая весть: на котелок господина, плавно вращаясь, опустилось светло-желтое перышко погибшей синицы, безвременно отдавшей свою короткую жизнь за человеческие идеалы.
— Перышко, — кротко сказал Покотилов.
— Что? — не понял господин.
— У вас перышко на котелке.
Господин посмотрел на шофера, тот приблизился и удалил знак небес.
— Благодарю, — сказал господин Покотилову.
И, более не говоря ни слова, пошел к машине. Все последовали за ним. Дора и Покотилов по знаку Азефа остановились поодаль. Шофер достал из багажного отсека небольшой чемоданчик, обитый коричневой телячьей шкурой, поставил его на капот и открыл. Внутренность чемоданчика была плотно забита банковскими билетами в казначейской упаковке.
Из груди Азефа вырвался вздох, на что господин ответил косым понимающим взглядом. Он отсчитал несколько денежных кирпичиков, на которых покоится мир, подумал, добавил еще два и приглашающим жестом указал Азефу на пачки. Тот не заставил себя долго ждать, и все это бо-гатство перекочевало в глубокие карманы широкого азефовского пальто.
Шофер спрятал волшебный чемоданчик, с помощью сложно выгнутой ручки привел в действие мотор и торжественно уселся на свой водительский трон. Господин исчез внутри авто, не сказав ни слова и не удостоив никого прощальным рукопожатием. Шофер нажал резиновую грушу клаксона, огласив окрестности переливчатой мелодией, и тронул машину с места.
— Ну что ж, пусть будет Каин. Забавно...— сказал сам себе Азеф и крикнул Покотилову: — Алексий! Поздравляю! Завтра вы можете ехать в Петербург.
После балета не пошли, как водится, к Кюба: надо было отвезти детей домой, да и у Путиловского утром ожидался в присутствии министра внутренних дел доклад «О состоянии террористической деятельности социал-револю-ционной партии и Боевой организации».
Решили завернуть к Путиловскому и за дружеским ужином прояснить кой-какие мучавшие Павла Нестеровича вопросы.
Дома их ждали с любовно накрытым столиком в кабинете две преданнейшие хозяину личности — экономка Лейда Карловна и серый сибирский кот Максимилиан Первый.
Такая кличка дана была спасенному при взрыве коту с расчетом на то, что вслед за смертью в почтенном возрасте (коты живут чуть меньше хозяев) его преемника можно будет назвать Максимилианом Вторым, Третьим и так далее. Лейде Карловне подобную кличку не дали. По всему было видно — она переживет всех.
Как было заведено, второй прибор всегда накрывался для неумолимого гостя, профессора Франка, которому для постоянного проживания в доме Путиловского не хватало сущей малости — разрешения собственной супруги Клары. Иногда в пылу ярости она такое разрешение давала, изгоняя Франка из лона семьи дня на три, но не более.
— Ну, что ты скажешь про японцев? — спросил Путиловский, утолив первый голод балетомана холодной паровой осетриной и малосольной ряпушкой, каковую Лейда Карловна, потомственная эстонская рыбачка, ловила на рынке и солила безупречно. Запивали эту вкусность совершенно новым и модным напитком, соответствующим злобе дня, — японским саке, добываемым из странной квадратной бутылочки.
— Какая дрянь это ваше саке... — пробурчал Франк, до сих пор пивший все на свете с умильным выражением лица. — Вот убей меня, не люблю японцев! Идиоты. Чего они к нам пристали? Замкнутая цивилизация.
— A propos2, идиотами в средние века называли не знающих латыни. А мне нравится... Говорят, что после него утром голова не болит. —
И Путиловский со вкусом выпил четвертую рюмку столь целительного средства. — Что означает твое «замкнутая цивилизация»?
— Не нуждающаяся в контактах с соседями. Они так жили несколько сотен лет, но потом поняли, что проигрывают, и стали догонять Европу.
— Ты думаешь, они нас догнали?
— Война покажет. Думаю, да. Собственно говоря, война в таких случаях является теми двумя ногами, которыми человечество идет по пути прогресса. Сначала одна страна вырвется вперед и победит, затем вторая ей ответит. Так и шагаем вперед.
— Мне кажется, войн более не будет.
Путиловский миролюбиво предложил Максимилиану кусочек осетрины, но тот обиженно отвернулся — осетриной кот был сыт по самые уши. А в ряпушке ему Лейда Карловна отказала из-за нежности кошачьей натуры по отношению к соли.
Павел Нестерович воровато оглянулся и сунул одну ряпушку под стол. В ответ оттуда донеслось короткое благодарственное урчание.
— Человечество сильно, как никогда. Динамит, броненосцы, скорострельные мортиры. Мы тут с Бергом были на верфях, смотрели новые подводные субмарины. Это невероятная вещь! Подкрадывается к кораблю совершенно невидимым макаром и — бабах! Корабля нет! Кто же согласится воевать? Одна демонстрация силы — и все.
— Ерунда! — Франк решил уничтожить ненавистное саке единственно доступным ему способом, а именно выпив его. — Ты знаешь... вроде неплохо! Интересно, из чего они его гонят, желторукие? Войны, мой милый, будут всегда. Лейда Карловна! Осетринка-то тю-тю!
Вплыла Лейда Карловна со свежей порцией осетрины. На минуту оба замолкли, отдавая должное белоснежным ломтям, чуть подернутым по краям желтоватыми прожилками жира.
— Передай хрен, — взмолился Франк. — Это невозможно — так готовить! Не оторваться! Ты меня откармливаешь на убой. Так вот, если люди воюют несколько тысяч лет подряд, значит, война есть одна из естественных составляющих человеческого бытия. Весь вопрос в том, как она меняется и меняется ли при этом сам человек. Давай поставим мысленный опыт. Доведем ситуацию до абсурда. Допустим на секунду, что изобретено абсолютное оружие, могущее уничтожать целые государства.
— Я по роду службы знаком со всеми самыми разрушительными проектами. Такого оружия нет и не будет.
— Двойка по истории. Точно так же говорили и древние римляне. Где они? Ау!
— Черт с тобой. Предположим.
— Итак, два государства имеют такое оружие. Они готовы применить его на практике. Ты — государь. На тебя напали. Твои действия?
— Они этого не применят.
— А ты?
— Никогда.
— Хорошо. Они это сделали. Твое государство почти уничтожено. Будешь наносить ответный удар? Тогда ведь никого не станет!
— Дай подумать...
— Некогда! Они близко, сейчас у тебя отнимут оружие возмездия! Ты готов мстить до логического конца, когда не останется никого, ни тебя, ни твоих врагов?
Путиловский задумался. Обвел взором уютный кабинет, мысленно прощаясь со всеми милыми сердцу мелочами. Не станет Максимилиана Первого, не будет и Второго, исчезнет Франк (не жалко, давно пора!), Лейда Карловна, маленькая княгиня Анна Урусова и их тайный сын Александр (надо будет зайти поздравить, ему скоро год)... Плеве так точно не жалко. И Департамент не жалко. Господи, как мало у человека на этом свете...
Франк хохотнул:
— Пьеро, ты задумался! И это указывает на твою слабость как государя. Государь не должен допускать ни тени мысли на своем челе, а должен действовать, и причем мгновенно! Объясняя потом все свои нелепые поступки Божьим промыслом. Скажи правду, о чем думаешь?
Путиловский печально вздохнул и налил себе и Франку остатки саке.
— Об одиночестве. Мало людей и вещей, о которых буду грустить...
— Вот ты и прокололся — ergo, не будешь мстить! Я слушал тут одного адъюнкта по кафедре военной истории, так тот провел исследование воинского духа у младших чинов во время турецкой баталии. Оказалось, что хотели убивать и реально убивали не более десяти процентов солдатиков!
— Как так? — удивился Путиловский, по роду своей следовательской службы привыкший к мысли, что убивают все: и солдаты, и солдатки, и малолетки, и безземельные земельных, и любовники любовниц, и наоборот (что чаще!), а также убивают себе подобных монахи, трезвенники и дети высокородных родителей.
— Послушай, — поморщился Франк, — Фу, какая гадость во рту после твоего саке... дай коньяка прополоскать рот.
Пришлось выставить коньяк и приготовиться к мысли о полной утрате последнего: никогда — никогда! — Александр Иосифович Франк не оставлял ни малейшего шанса содержимому бутылки. Оно исчезало внутри Франка аки ягненок внутри льва алчущего. Наконец рот профессора был полностью очищен от японской мерзости и готов для глубоких философских откровений.
— Такой же анализ готовности к душегубству в древности показывает, что человечество меняется.
— В лучшую сторону?
Путиловский примирился с утерей коньяка и пытался извлечь из нее пользу, оттяпывая у Франка часть содержимого, пусть даже малую.
— Природа не знает, что такое хорошо и что такое плохо. И это замечательно! Мы меняемся — и более ничего. Вот ты был маленьким, потом стал юношей, с грехом пополам мужчиной. Что лучше? Ты просто меняешься. Потом умрешь, и нет в этом никакого смысла. Так и человечество — меняется... И точка.
Поставив логическую точку имперским коньяком, Франк продолжил:
— Войны будут идти, пока они не угрожают человеку как биологическому виду. Как только станет понятно, что исчезнут последние Адам и Ева, так мгновенно вступит в силу Божья заповедь «Не убий».
— И снова все начнется сначала. Родят Каина с Авелем...
— ...и Каин убьет Авеля, и тэ дэ, и тэ пэ.
— А мы с тобой появимся?
— Несомненно и в означенный срок!
Прослезившись, выпили за собственное возрождение, потом за детей. Франк осторожно пощупал Путиловского за больное место:
— Как там маленький князек?
К чести отца надобно отметить, что сыном своим он ни перед кем не хвастался, оберегая покой семьи Урусовых. Франка во все тайны посвятила сама маленькая княгиня, пытаясь таким несложным манером воздействовать на отцовские чувства своего любовника.
Сам Путиловский с интересом наблюдал в своей душе два совершенно различных вида любви — к сыну и к Анне. Первая росла со скоростью, ограниченной лишь общественным мнением и конспирацией. Вторая колебалась точно так же, как и ранее: от дружбы к страсти, от страсти к дружбе — вечные качели вечных любовников, обреченных на объятия до конца жизни.
— Растет, — коротко сообщил отец скудную и очевидную информацию. — Уже говорит «папа». Но не мне, — добавил он со смешливой горечью.
Выпили за истинного папу.
— Тебе надо жениться! — вдруг прозрел Франк. С философами такое случается. Скорее всего, от совместного действия коньяка и саке.
Вошедшая некстати Лейда Карловна только гневно фыркнула, обозначая тем самым свое отношение к браку хозяина. Максимилиан тоже вышел из-под стола и с недоумением уставился на Франка: все так хорошо, все дружно живут, дом — полная чаша, еды хватает только-только, крыс в доме нет, так зачем нам лишний рот, неминуемые котята и прочая семейная мерихлюндия?
— Навряд ли я теперь решусь на этот шаг. — Путиловский горестно вздохнул и посмотрел на портрет покойной Нины. — Я приношу женщинам несчастья. Это какой-то рок...
Вздохнув, выпили в память ушедших из этой жизни. Натурально, после такого пришлось пить за здоровье всех отсутствующих, а потом и присутствующих. Франк предложил пить здоровье кота Макса, на что кот ответил ласковым мурчанием и прыжком на Франковы колени.
— Он точно все понимает! — вскричал пораженный Франк и выпил за кота дважды.
— Кстати, — осторожно поинтересовался Путиловский, — как поживает твоя красавица кузина? Она ведь родила?
— Ого! — закричал Франк, отчего Макс с его колен пулей стартовал в коридор: кот очень не любил громких звуков, напоминавших о перенесенной минно-взрывной травме. — Еще как! Самый умный мальчик во всей Варшаве. Из местечек специально приезжают на него взглянуть. Уже умеет играть в шахматы. Правда, только двигает фигуры, но почти правильно. Вот увидишь! Он весь в меня, только еще умнее. Будет премьер-министром, новым Дизраэли. Помяни мое слово!
— Давай выпьем за здоровье Мириам. — Путиловский щедрой рукой разлил остатки коньяка, плеснув Франку раза в два больше. — Как там бишь назвали младенца?
— В честь дяди, Александром!
Тут хозяин тоста закашлялся (коньяк попал не в то горло, так бывает от сильного душевного волнения при питие коньяка, посему данный продукт надо поглощать в полном спокойствии), и Франк стал бить его по спине. Прибежали Макс и Лейда Карловна, ввязались в оказание скорой помощи и преуспели. Франк не догадался соотнести рождение племянника с данным эпизодом, и тайна рождения Александра (второго) была Путиловским благополучно скрыта.
Итак, господа присяжные, подведем итоги: на сегодняшний день у подсудимого имеются в наличии два незаконнорожденных сына, причем первый из них православный, а второй — обрезан! Один князь, другой совсем наоборот — иерусалимский дворянин. Отягощающим вину обстоятельством служит тот факт, что оба носят имя Александр. Виновен. Десять лет каторжных работ в адовых смоляных котлах (по пять за каждого)!
Путиловский тихо засмеялся приговору. Франк тут же заподозрил его в помешательстве, вызванном монашеским образом жизни:
— Тебе нужно завести подругу! Я помогу.
— Ты? Чем? — удивился помешанный.
Франка можно было обвинить в чревоугодии, в пьянстве, в славословии, но в бабниках он не ходил никогда, даже в славные студенческие времена Кенигсберга. «Клара, Клара и еще раз Клара!» — было начертано на знамени сего славного рыцаря. Никто не мог указать на Франка как на развратника. Он был чист, как жена Цезаря, если не еще чище.
— Я познакомлю тебя с Карсавиной, — пролепетал Франк, припадая к последним каплям коньяка, как приговоренный к жажде припадает к ручью на самом краю пустыни. — Тебе она нравится, не отрицай!
— Как познакомишь?
— А ее брат преподает на нашей кафедре. Зайдем в гримерную, представимся друзьями Льва — и все дела. Доверься мне.
— Она еще слишком юна, — вздохнул балетоман. — Зачем ей такой старый перечник?
— Отстань! — махнул рукой Франк. — Тоже мне, Иосиф прекрасный! Через неделю она танцует, готовься. Вот только не надо задерживать меня своим кофе! Что я скажу Кларе?
— Каким кофе? — снова удивился Путиловский.
Но тут в кабинет вплыла Лейда Карловна, держа в руках фаянсовый поднос с двумя медными джезвами и чашечками тонкого саксонского фарфора. Толстая коричневая пенка венчала каждую турчанку. Запахло востоком, пряностями и трезвой головой.
— Фаш кофе, госпота!
И в это умилительно счастливое мгновение явился горевестник нового века — зазвонил телефон.
* * *
Одернув на себе крестьянский армяк и пригладив непокорный юношеский вихор, молодой человек осторожно постучал в скроенную из цельных дубовых плах дверь, могущую выдержать натиск не одной татаро-монгольской орды. Стоявшая позади сына Акилина Логиновна трижды осенила крестом узкие плечики своего любимца, своей кровинушки, сыночка богоданного, младшенького, Егорушки... «Господи! Спаси и сохрани!» — мысленно в который раз попросила она Отца Небесного.
Из-за приоткрытой двери послышалось разрешающее:
— Заходи...
Дверь отворилась и закрылась, не пропуская ни звука. Акилина Логиновна в тщетной надежде припала к двери ухом, но — увы! — ни звука оттуда не услышала. Тогда она ушла в свою давно уже одинокую спальню-келью и стала молиться на семейную икону, намоленную за два века так, что разобрать что-либо на темном проолифленном дереве не было никакой возможности, только видны были два сияющих синих глаза Того, кто все знает и всех прощает.
Сергей Лазаревич Созонов, один из богатейших купцов Уфы, сидел за столом, сколоченным из таких же дубовых плах, что и дверь, и печально взирал на младшего сына. Сын его надежд не оправдал.
ДОСЬЕ. СОЗОНОВ ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ.
Родился в 1879 году в Вятской губернии, в патриархальной религиозной семье. Отец из кре-стьян, богатый купец, крупный лесопромышленник. За участие в студенческом движении в 1901 году Созонов исключен из Московского университета. В 1902 году вступил в партию эсеров, вскоре был арестован. В июле 1903 года сослан в Восточную Сибирь на 5 лет, но в том же году бежал и вступил в Боевую организацию. Партийные клички «Авель», «Яков».
Внешностью Егор Созонов был точной копией своей матери, маленькой вятской крестьяночки, пленившей молодого Сергуню Созонова своей беззащитностью и нежным взором чуть раскосых темных глаз. Тот же высокий лоб, широкие дуги бровей, узкая кость и несокрушимый дух, заставивший ее пойти супротив всей семьи. Не побоялась Акилина гнева отца-матери, отдала свою первую и последнюю любовь крепышу Созонову, хотя многие деревенские парни глубоко вздыхали, глядя вслед стройной тонкой фигурке с двумя ведрами на коромысле.
Сергуня был из бедной, малоземельной семьи, но основателен до крайности и в своей основательности продумал в жизни, казалось бы, все до мелочей — от тайной женитьбы до смерти в кругу домочадцев. Он даже домовину себе изготовил, тоже дубовую. Иногда примеривался к ней, ложился; один раз — Господи, прости душу грешную! — заснул и проснулся в полной уверенности, что уже отдал Богу душу.
И действительно, жизнь удалась: из простых тягловых лесорубов он стал уважаемым человеком, членом «обчества», оплотом царя и государства. Вот только не захотел сын идти по стопам отца. Все дело в энтой учебе! Она, проклятая, сгубила сынка. Не надо было разрешать ему идти в университеты, последнее это дело для крестьянина, неискушенного в ловушках сатанинских. Обольстили его злые люди, нашептали всякой дряни, соблазнили развратом бездуховным.
И вроде бы самая пора отрезать ломоть, да как отцовской рукой резать по живому?! Не смог Сергей Лазаревич отбросить сына, закручинился и смирился с его иной судьбой. Пути Господни неисповедимы, кто знает, куда они заведут Егорушку? Вдруг одумается, станет иным, вернется, как блудный сын из Писания; и тогда зарежут они с матерью жирного тельца, созовут всех Созоновых на пир и забудется, как дурной сон, семейное смутное время и извилистые пути греха, по которым плутал отступник. Ибо помрачение это и соблазн греховный — присвоить себе Божескую силу наказывать людей.
А пока отец с печалью наблюдал за иконописным лицом сына.
— Уезжаешь... — не прося ответа, вымолвил кряжистый Созонов-старший.
— Уезжаю, — просто молвил сын.
— А куда? — не выдержав, спросил отец.
— Правду искать, — так же коротко ответил сын.
— Дома, значитца, для тебя правды нет! — закипая, встал из-за стола Созонов-старший, но сам себя охолонил: не дело расставаться с сыном, ругаясь и матерясь. Не в лесу, чай, с работниками.
— Прощайте, батюшка. — В доме Созоновых по старинке младшие величали старших на «вы». — Простите, если что не так...
— И ты меня прости. — Созонов взял припасенную для такого случая икону со святым Егорием и окрестил ею сына. — Господь с тобой, Егорушка! Помни Спасителя нашего и нас не забывай. Ежели что, мы завсегда ждем тебя дома. Почему в простом платье?
— Так надо. — Созонов-сын трижды поцеловал икону и приложился к отцовской руке. — Я напишу вам из столицы.
— С матерью простись. — Созонов-отец тяжело вздохнул, отвернулся, смахивая непрошеную слезу, и махнул рукой. — Ступай, ступай же!
Акилина Логиновна ждала сына в прихожей, куда служка вынес сундучок с нормальным господским платьем и домашней снедью на неделю пути. Отчего-то Егорушка захотел ехать в столицу под видом извозчика, взял для этого из отцовской конюшни неказистого, но самого крепкого конька, самые добротные санки и приоделся точно извозчик-ванька — в армяк, подпоясанный широким кушаком, ватную шапку-цилиндр и теплые валяные сапоги с красными калошами.
Она уже давно не понимала того, что говорил и делал сын, — его убеждения находились далеко вне ее маленького и добротного мирка. Одно она знала точно: ее Егорушка — самый добрый и честный сын на свете. И что бы ни говорили вокруг злые люди, все было неправдой. Правду знало ее сердце, а материнское сердце не обманешь.
Вот и сейчас ее кинуло в жар от мысли, что видит сына в последний раз. Тихо заплакав горючими слезами, она припала к Егоровой груди, вцепилась в армяк и запричитала:
— Не пущу! Не пущу!
Егор осторожно высвобождал одежду из рук матери, но, отняв одну руку, она еще крепче цеплялась второй. Казалось, что восьмирукая индийская богиня ожила в простой вятской женщине.
— Не пущу... — всхлипнула мать в последний раз и отпустила.
Егор поцеловал мать в знакомый до морщинок высокий лоб, в закрытые веки, из-под которых соленым ручейком сочились слезы, и быстро вышел.
Конек уже бил копытами, чуя длинный веселый путь. Светило солнце, снег был утоптан и тверд, дорога укатана. Погрузили сундучок. Егор Созонов перекрестился на ближайшую маковку церкви Варвары-мученицы, вскочил на облучок и лихо, почти по-настоящему взмахнул кнутиком.
— Пошел! — крикнул он коньку.
Тот удивился незнакомому голосу, но пошел и взял бойко. Чуть кренясь на повороте, санки выскочили за родные ворота и покатились к тракту.
Созонов укутался в чистый, свежий тулуп и радостно засмеялся — так хорошо и морозно было на дороге, так резво бежал застоявшийся за зиму сытый конек. Господи, ну что за прелесть эта простая трудовая жизнь!
* * *
Дуся была хорошей, веселой сучкой и, как всякая собачья девочка, все схватывала на лету — и кусочки хлеба, и следопытскую науку. Она еще не настолько повзрослела, чтобы отказаться от игр и искать себе суженого. Весь окружающий мир Дуся воспринимала как один большой праздник, в котором главным затейником был ее Хозяин и Вожак — Иван Карлович Берг.
Оный молодой военный человек, волей судьбы и силой обстоятельств так же, как и Дуся, не помышлявший о женитьбе, отдался дрессуре полностью. Он был увлекающейся натурой и все в жизни старался делать по-немецки основательно и педантично. Единственной процедурой, которой он противился всей душой, было купирование Дусиных ушей и хвоста.
Нежное сердце Берга отказывалось верить в необходимость сей зверской операции, но ревнители породы были неумолимы: с целыми ушами и хвостом доступ в высший добермановский свет для Дуси был бы закрыт навсегда. И Берг дал согласие.
Процедуру эту Дуся перенесла много легче Берга, на третий день все уже позабыла и весело скакала вокруг умиляющегося хозяина. В таком виде Берг привел ее на службу — пусть привыкает к атмосфере Департамента, где ей наверняка предстоит прославить себя и своего дрессировщика.
Путиловский в душе был котофилом (Макс успел приручить его), приходу Дуси он обрадовался несколько формально, погладил собаку (Макс потом два дня на него дулся), скормил ей крыловский кусочек сыру и просмотрел все фокусы, которыми к тому времени овладела гениальная псина: апорт, стояние и лежание по команде.
Медянников по своей крестьянской натуре к собакам, особливо к ученым и городским, относился как к пустому месту: никакой пользы — ни мяса, ни шерсти, чистый пустобрех. К тому же при своих ночных сыщицких вылазках он был часто собаками атакован и травмирован. Пришлось ему завести у себя в кармане пачку нюхательного табаку — кидать озверевшему псу в мордуленцию. Средство это выручало Медянникова неоднократно, вот и на сей раз Евграфий Петрович при виде Дуси предусмотрительно сунул руку в карман.
Но Дуся, уловив от хозяина токи расположения, прыгнула Медянникову на грудь и облизала все его непривычное к женской ласке лицо, чем покорила одинокого вдовца раз и навсегда. Отныне ей было разрешено вторгаться в медян-никовскую частную жизнь и творить там радость пополам с короткой шерстью, оставляемой на сюртуке. Эту шерсть Медянников собирал и подсовывал канарейкам, а те употребляли ее при строительстве гнезд, что служило на пользу птенцам. Вот так в природе воцаряется мир и согласие.
Сейчас Дуся полностью отдавалась новой игре. Берг, одетый перед сном фривольно, в галифе и одну лишь белую рубашку, прятал в разные места кусочек динамита, изъятого из раскрытой подпольной лаборатории. Без взрывателей динамит был безвреден, как простая глина. Да и выглядел он подобным же образом.
Берг спрятал коробочку с динамитом в шкаф, в карман парадной шинели. Затем он вхолостую посетил еще несколько квартирных мест. Дуся, склонив коричневую голову, смотрела на все это внимательными шоколадными глазами. Наконец Берг сунул ей под нос ладонь, пропахшую эсеровским запахом, и скомандовал:
— Ищи! Ищи!
Дуся радостно вскочила с места и стала, пользуясь верховым чутьем, вроде бы беспорядочно метаться по комнате. Но в ее метании прослеживалась определенная система: она посещала все места, обозначенные Бергом. Обежав все по первому разу, Дуся встала посреди комнаты, затем, приняв решение, ринулась в шкаф и схватилась зубами за карман шинели, но сделала это по-женски нежно, дабы не порвать сукно. После чего села рядом с шинелью и стала облаивать схрон, искоса поглядывая на Берга.
— Ай Дуся, ай молодчина! Получилось!
Берг стал целовать тонкую Дусину морду, а Божья тварь стала лизать Берга. Это называется взаимной любовью. Многие одинокие люди, отчаявшись найти таковую в жизни человеческой, посему и становятся собачниками — там такая любовь цветет пышным платоническим цветом.
Дойдя до экстаза, Берг схватил Дусю на руки и от избытка чувств стал с ней вальсировать, точно юнкер с барышней на выпускном балу в Смольном институте благородных девиц собачьего происхождения. В конце концов, своей родословной Дуся утерла бы морду многим девицам из упомянутого учреждения. А уж сообразительностью так однозначно!
И как всегда в моменты наивысшего счастья, раздался громкий стук в двери, сопровождаемый истошным воплем: «Откройте, полиция!»
Берг крику удивился, Дуся выскочила из его объятий и с громким лаем кинулась к двери, чем обрадовала своего хозяина еще раз: растет отличная охранница!
Охраняемый отворил дверь и пригласил невидимого в тени служителя закона:
— Входите! Дуся, фу!
На пороге, точно медведь из берлоги, возник улыбающийся Медянников. Радостная Дуся стала прыгать на его богатырскую грудь, между прыжками успевая длинным языком обработать всю широкую физиономию нежданного гостя.
— Собирайся, Иван Карлович. «Арсенал» взорвался!
— Весь? — Казалось, Берг ничуть не удивлен тем фактом, что крупнейший в столице оружейный завод исчез с лица земли. Он, Берг, в отличие от «Арсенала» всегда был готов к взрывам и пожарам, равно как и они были готовы к появлению Берга. — Почему я тогда не слышал взрыва?
— Непонятная вещь: там какая-то соль взорвалась, которая взрываться не должна.
— Бертолетова? — деловито уточнил Берг, натягивая сапоги.
Дуся, чувствуя нежданную прогулку, всячески ему в этом деле мешала.
— Ваня, я в этом не силен. Поэтому за тобой и прислали.
Берг по-военному быстро оделся, взялся за Дусин ошейник, и тут ему в голову пришла блестящая местами мысль продемонстрировать Ев-графию Петровичу новообретенную собачью профессию. Гениально!
— Евграфий Петрович, голубчик, постойте спокойно.
Медянников, пожав плечами, подчинился. Берг сунул в медянниковский карман коробочку с динамитом и приказал:
— Дуся! Ищи! Ищи!
Верная Дуся тут же облаяла Медянникова и его карман, затем полезла туда еще и мордой.
— Здорово? — спросил счастливый Вожак и Хозяин.
— Чегой-то она?
— Динамит унюхала! В коробочке динамит! А? Какова Дуся?
Но Медянников не проявил ни малейшей радости. Более того, он превратился в живую иллюстрацию Священного Писания, а именно того места, где описывается Лотова жена, застывшая соляным столпом в окрестностях Мертвого моря. Соляной столп попытался заговорить, но из его горла слышны были лишь невразумительные звуки:
— Э-э-э... Ваня... Христом Богом...—и далее неразборчиво.
— Что с вами? — забеспокоился чуткий Берг, уловив в неподвижности Медянникова все признаки скорого радикулита.
Дуся продолжала атаковать карман с динамитом, что отнюдь не прибавляло Медянникову решимости. По лицу последнего потек холодный пот, состояние стало приближаться к обморочному. Осторожно, одним лишь движением бровей бедолага показал на карман.
— А-а! — весело рассмеялся Берг, доставая из кармана коробочку. — Он же не взрывается!
И в доказательство своей правоты тут же брякнул коробочку об пол. Медянников закрыл глаза и приготовился к мгновенной смерти, а когда открыл очи, Дуся весело носилась по квартире со смертоносным кусочком в пасти.
Евграфий Петрович невообразимо быстро перешел из состояния ступора в состояние ярости, схватил Берга за горло и припечатал его к стене. Дуся восприняла это все как продолжение большой игры и стала в шутку хватать жертву за сапоги.
— Он же не взрывается, — взмолился Берг, пытаясь спасти себе жизнь.
— Зато я взрываюсь! — проревел Медянников и отпустил шею Берга. — Нас ждут на «Арсенале».
— Боевики есть? — вновь ожил Берг, полностью удовлетворенный полевыми испытаниями собаки-сыщика.
— Кусками, — рявкнул Евграфий Петрович. — И не шути так больше с динамитом!
— Дуся! — скомандовал Берг. — Вперед!
Все трое скрылись в темном проеме лестницы.
* * *
На шканцах «Варяга» начался пожар, на который вначале не обращали внимания — не до того было: только что японцы подбили шестидюймовку, почти вся прислуга была убита или тяжело ранена. Затем пожары стали разгораться в совершенно неожиданных местах.
Ревизор Черниловский-Сокол с двумя подручными нижними чинами метался по верхней палубе. Еле успевали потушить в одном месте, как разгоралось в другом. Осколками верхнее платье на мичмане было доведено до состояния одежды опереточного нищего, но милостью Божьей на теле не было ни одной царапины.
На траверзе острова Йодолми два снаряда поколебали решимость командира вести бой до логичного конца. Первый из них попал в трубу, в которой проходили все рулевые приводы, отчего управление крейсером из рулевой рубки мгновенно стало невозможным.
Осколки второго снаряда поразили боевую рубку. Командир капитан Руднев был контужен в голову, а стоявшие по обе стороны от него горнист и барабанщик погибли мгновенно. Ординарца ранило в руку, а рулевого старшину в спину, но оба ранений своих не заметили: все стоявшие в рубке были в крови, своей ли, товарищей ли — разобраться в этом аду уже не было никакой возможности.
Почти теряя сознание, Руднев отдал приказ на выход из боя. Выйти из него можно было только двумя способами: спустить боевой флаг и сдаться либо вернуться в порт Чемульпо и там в спокойной обстановке продумать дальнейшие действия.
В 12.15 развернулись обеими машинами, дали задний ход, показав при этом левый борт неприятелю, чем те незамедлительно и воспользовались. Огонь усилился, и «Варяг» тут же получил.весьма серьезную подводную пробоину. Стала заливаться водой третья кочегарка. Вода подобралась к топкам, поступил приказ открыть аварийные клапаны и стравить пар, чтобы избежать неминуемого взрыва. Вездесущий мичман Черниловский-Со-кол командовал подведением пластыря на пробоину с таким умением, точно всю жизнь занимался подведением пластырей.
Один из снарядов, разрушая на своем пути устоявшиеся мирки, прошел через офицерские каюты, пробил палубу и зажег муку в провизионном отделении. Этого ревизор стерпеть не смог, бросил пластырь на надежных людей, взял себе в подмогу старшего боцмана и храбро ринулся спасать урожай. Оттуда оба выбрались полностью в муке, как два клоуна в цирке, и пахнущие свежевыпеченным хлебом.
Огонь японцев стал опасен для иностранных кораблей, и командир «Тэлбота» даже сыграл боевую тревогу, готовясь дать предупредительный выстрел по «Асаме». Но такие меры не потребовались. В 12.45 японцы прекратили огонь.
Неожиданно стало тихо, лишь под тремя палубами как ни в чем не бывало продолжали работать судовые механизмы и винты за кормой все так же ритмично взбивали пену кильватерного следа.
Всего через четверть часа «Варяг» отдал якоря на месте своей прежней спокойной стоянки, но теперь вид его был ужасен. Почти все орудия вышли из строя, обнаружилось еще около десятка мелких подводных пробоин. Руднев приказал осмотреть корабль, потому что часам к четырем ожидалась повторная атака японцев. Иностранные корабли были готовы уйти из бухты, тем не менее все прислали шлюпки с врачами и санитарами. Началась перевязка и эвакуация раненых.
Бесполезная канонерка «Кореец» приплелась и уныло встала рядом. На ней не было ни царапины, ни одного раненого. Капитан «Корейца» прибыл с рапортом, и тут только Руднев осознал, какую глупость он совершил, поддавшись ложному чувству товарищества.
Времена героической фразы «Сам погибай, а товарища выручай!» закончились уже несколько жизней назад. Говорили же молодые офицеры: надо бросить «Корейца» как никчемную ношу, пересадить весь его экипаж на «Варяг» и ночью, в самый высокий прилив, драпать мимо японской эскадры, да не по фарватеру, а по мелким местам и узкостям! Скоростью «Варяг» превосходил всех япошек, штурмана на нем отличные. Можно было увлечь пару крейсеров в погоню, а потом дать им дрозда в чистом поле, где все шансы были у русского крейсера...
Но после драки кулаками не машут, и Руднев, стоя на мостике, заикаясь и подергивая от контузии головой, принимал доклады от офицеров. Он уже и сам понимал, что ловить в порту нечего. Продолжение боя могло стать самой позорной страницей в его послужном списке. Один офицер погиб, трое ранено, тридцать восемь нижних чинов пали смертью храбрых, не успев даже понять, какую храбрость они проявили за час кровавой бойни.
Лишь Черниловский-Сокол, переодевшись в чистое и целое платье, ходил по кораблю гоголем и вписывал свои пожарные подвиги в вахтенный журнал, не преувеличивая, но и не преуменьшая заслуг перед отечеством.
Когда Руднев глухим и сиплым голосом приказал экипажу покинуть корабль, многие заплакали. Ревизор в пылу служебного рвения даже попытался организовать спасение уже однажды спасенной муки, но благословения не получил и тоже заплакал от огорчения.
Первой мыслию Руднева была, конечно же, мысль о взрыве. Тогда «Варяг» будет уничтожен наверняка. В ином случае его смогут поднять и обратить против своего же отечества, чего допускать было нельзя ни в коем случае. Но командир французского «Паскаля» от имени всех коман-диров попросил не взрывать корабль, справедливо опасаясь детонации погребов и последующей опасности для всего порта и судов.
Напрасно старший артиллерист умолял Руднева дать приказ о взрыве: он сделает все так тихо и хорошо, что ни одна крыса у этих лягуш-коедов-французов даже и не пискнет! Руднев, понимая, что теряет управление и может каждую секунду потерять и сознание, тихо проговорил артиллеристу:
— Петр Евдокимович, не мучайте меня... Трюмных механиков ко мне...
Оставшаяся в живых команда покидала крейсер. Взяли с собой только самое необходимое: вахтенные журналы, иконы и личные вещи в малых чемоданах. Офицеры, занятые эвакуацией и подготовкой к затоплению, вообще ничего не успели захватить. Только забежали товарищи в каюту графа Нирода и захватили парадный мундир мичмана — вручить невесте последнюю память. Кольцо с руки мичмана решили не снимать.
На шлюпках по договоренности пошли к французам, англичанам и итальянцам. Американцы извинились, но принимать людей с тонущего крейсера отказались, ибо не получили разрешения от своего морского министра. Тот рассудил по-американски здраво: русские далеко, Аляску у них купили, так что больше толку с них никакого, а с японцами Америке еще жить и жить в мире да согласии.
Старший и трюмный механики вместе с хозяевами отсеков открыли все возможные клапана и кингстоны. Началась реализация известной школьной задачи: имеются трубы А, Б, Ви так далее... Бассейн должен был заполниться часам к шести, не ранее. Все сели в шлюпки и отвалили, истово крестясь на крейсер, как на родного отца, преданного детьми и оставленного умирать в страшных муках. Он уже заметно кренился на левый борт. Плакали все без исключения, некоторые в первый и последний раз в своей суровой мужской жизни...
Капитан Руднев в сопровождении старшего боцмана Харьковского лично обошел все уцелевшие помещения, чтобы убедиться, что никого не забыли. Он вспоминал свой первый обход корабля в качестве командира. Тот же боцман сопровождал его в той гордой инспекции, когда сердце радостно замирало: каким прекрасным кораблем он будет командовать, какие чудные люди у него в подчинении!
Все это осталось в прошлом, чудовищные металлические раны отверзлись по всему корпусу, отовсюду несло запахами войны — горелой краской, смертным потом и кровью. Сил смотреть на все это не оставалось, но смотреть надо было.
Закончив обход, Руднев подошел к штормтрапу, последние ступеньки которого уже глубоко погрузились в нежно-зеленую послеполуденную воду. Двое матросов баграми одерживали командирский катер, сиявший полированным красным деревом и чищеными бронзовыми дельными вещами. Катер во время боя стоял на своем штатном месте по правому борту и остался целехонек.
Руднев спустился по трапу и застыл. Крайняя тиковая ступенька то уходила в воду, то обнажалась. Боцман осторожно тронул капитана за шеврон:
— Владимир Федорович, пора... — и, как маленького упирающегося ребенка, стал теснить к борту катера.
Руднев покорно зашел на катер и только там потерял сознание.
Командор Фрэскотт собственноручно записал в бортовой журнал: «6 часов 10 минут пополудни “Варяг” затонул». Пошел в свою каюту, в одиночестве налил себе стакан шотландского виски (он был патриот Шотландии), выпил залпом и сел писать отчет о произошедшем бое в адмиралтейство.
ГЛАВА З. СТРАННОСТИ АНГЛИЙСКОГО БРАКА
На Николаевский вокзал прибыл утренний из Москвы. Парочка филеров лениво наблюдала за редким потоком пассажиров. Если бы Евграфий Петрович не отсыпался после бессонной ночи, проведенной на «Арсенале», эта парочка имела бы бледный вид — настолько небрежно и неталантливо они изображали из себя случайных зевак.
Из купе первого класса носильщик вынес несколько щегольских, типично английских баулов, вслед за баулами на перроне появились и хозяева багажа — двое молодых супругов, общавшихся меж собой на языке Шекспира. Впрочем, тут же выяснилось, что англичанин из них всего один — муж. И ежу было ясно, что он не русский: тонкое породистое лицо кельта с узким изящным подбородком.
В угол рта англичанина была воткнута прямая трубка, тотчас же исторгшая из себя клуб ароматнейшего дыма. Англия-с!
Жена была хороша полным отсутствием костистой великобританской породы — то ли парижанка, то ли украинка, то ли одесситка. Маленькая, с огромными черными глазищами, тонкой талией и белоснежной кожей. И без того красивую головку венчала громадная шляпа, колыхающая в такт походке черными страусиными перьями.
— Супруги-с! — шепнул проводник любопытствовавшему филеру. — Она кафешантанная певица из «Буффа»-с, а он коммивояжер по велосипедовым делам-с!
Велосипеды быстро входили в моду, лучшими марками являлись английские «Дуке» и «Скотт», посему подозрения парочка не вызвала. Тем более что английский господин был по-спортивно-му ловок и хорош. Изысканные гости столицы отбыли на Большую Морскую, в отель «Франция», о чем и была сделана запись в книжечку.
Прибыв в гостиницу, парочка тотчас же потребовала себе номер с видом на площадь, горячую ванну и завтрак в номер, причем заказ был сделан певицей надлежащим тоном с обещанием швырнуть поднос в лицо гарсону, ежели что-либо малейшее будет сделано неподобающим образом. То есть по всему было видно: гость своенравный, но богатый и понимающий толк в хороших манерах.
Все это время господин безмятежно пускал клубы дыма и любовался величавым видом из окна. Направо золотилась громада Исаакиевского собора, вдоль по Большой Морской по-утренне-му неторопливо плыли экипажи. Полное отсутствие велосипедистов не вызвало у господина профессионального оживления, что можно было списать на утомительное путешествие.
Когда все требуемое было налито и доставлено, оплачено щедрыми чаевыми и дверь номера закрыта изнутри, случилось чудо: господин всего за несколько мгновений овладел русским языком, причем проделал это без малейшего затруднения, точно от самого рождения владел им в совершенстве. Впрочем, так оно и было.
ДОСЬЕ. САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ.
Из потомственных дворян. Родился в 1879 году в Варшаве, в семье юриста. Бывший студент юридического факультета Петербургского университета. Исключен за участие в студенческих беспорядках. Вначале примыкает к социал-демократам «экономистам», затем к социалистам. В 1901 году арестован и сослан в Вологду, где переходит на позиции эсерства. В 1903 году бежит за границу, где предлагает свои услуги в святом деле террора. Член Боевой организации, заместитель Азефа. Партийная кличка «Викентий».
Дора Бриллиант, сняв блестящий наряд, превратилась из кафешантанной певички в задумчивую тургеневскую девушку.
— Я приму ванну и лягу спать. Викентий, помогите расстегнуть крючки.
Она повернулась к Савинкову спиной. Тот, нимало не смутившись и не выпуская трубку изо рта, проделал привычную для любого джентльмена процедуру и продолжил осмотр местности, окружающей Мариинскую площадь. Затем уселся в кресло и стал просматривать утренние газеты, предусмотрительно захваченные Дорой из холла гостиницы.
В империи все дышало начавшейся войной. Извещалось о подлом и вероломном нападении превосходящих сил японцев на русский крейсер «Варяг» и канонерку «Кореец». Гордый «Варяг» не сдался врагу и предпочел смерть позору плена. «Кореец» был взорван и последовал за старшим товарищем.
Море кипящей типографской краски было вылито на головы тупоголовых япошек-макак. Казалось, еще несколько дней — и наши доблестные православные воины доберутся до них. Воевать с макаками журналисты собирались не более месяца. Два месяца считалось среди них трусостью, а три — чистым предательством в пользу японцев.
Савинков с презрительным удовольствием просмотрел все это. Он считал патриотизм последним прибежищем идиотов и был в идеале человеком вселенной (где хорошо — там и родина). Однако мешало одно обстоятельство: ему везде было плохо, на родине — тем более. И эту ситуацию он собирался поменять в корне. Далее изменение мира следовало продолжать все по той же схеме. Лично он сам не возражал стать мировым диктатором — если попросит благодарное человечество.
Посвежевшая после ванны Дора появилась в гостиной, облаченная в пеньюар. Влажные волосы были укутаны в полотенце.
— Викентий, советую принять ванну. Вы просто воскреснете, — сказала она и удалилась в спальню, на ходу вытирая волосы досуха.
Савинков подумал и согласился. Все-таки им надо будет изображать мужа и жену в течение месяца, а то и поболе. Избегать каких-либо семейных удовольствий — ванны, туалета, совместного нахождения в замкнутом пространстве — невозможно. Это будет выглядеть чрезвычайно глупо и поставит под удар все задуманное. Играть роль мужа надо достоверно, вплоть до... Деталей он сам себе уточнять не стал. Как получится. Главное — революция, все остальное — побоку. И он пошел в ванную комнату.
Ожиданий лжеангличанина она не обманула. Чуть желтоватая раковина ванны, выточенная из большой глыбы итальянского мрамора, на четырех львиных, ножках стояла посреди теплой комнаты. Вода еще пенилась от тех солей, которые Дора щедро посыпала в воду. Пахло морем, свежестью и присутствием молодой, красивой женщины.
Савинков разоблачился и с удовольствием посмотрелся в большое туалетное зеркало. Строен, красив, подтянут. Ни капли лишнего жира, голоден до жизни, точно хорошая борзая перед охотой на крупного зверя. Он погрузился в еще горячую воду, положил под голову сложенное вчетверо полотенце и задремал коротким расслабляющим сном.
Точно в туманной картине ему предвиделась картина казни Плеве. Вот министр выходит из своего дома, вдыхает свежий утренний воздух и останавливается. Вот кто-то (не сам Савинков) кидает ему под ноги бомбу. Министр окутывается клубом белого дыма, далее картина становится неясной.
Савинков очнулся, мотнул головой — померещилось! — и продолжил очищающие водные процедуры. Дора права, после российских дорог ванна кажется обретенным раем.
В темно-зеленом шелковом халате он сел в кресло у окна, налил из кофейника в чашку белого фарфора холодный кофе и, смакуя его маленькими глотками, стал вновь рассматривать Мариинскую площадь, уже наполненную гуляющими с детьми мамками, гувернантками и гувернерами.
Быть революционером ему нравилось более всех профессий на свете. Много думать, много чувствовать, разъезжать не обремененному ничем по всему свету, нигде не показывать своих истинных намерений и влиять на ход большой истории малыми, но точными ударами в нервные общественные узлы и сплетения, как оса, одним ударом парализуя жертву многим более себя,— вот удел настоящего мужчины!
Ну а если придется проиграть, то он всегда будет хозяином своей жизни и никому не позволит командовать ею помимо собственной воли. На такой случай Савинков всегда имел при себе запас цианистого калия, вполне достаточный для того, чтобы быстро уйти из мира сего, прихватив за компанию изрядное количество друзей или врагов — меж ними он не делал большой разницы. И те, и другие были простыми картами в его колоде. Тасовать же эту колоду он предпочитал сам, и только сам.
Допив кофе, в прекрасном расположении духа он вошел в спальню. Шторы были чуть прикрыты, поэтому в ней было светло, но неярко. Более чем достаточно для короткого дневного сна. Постель была одна, но вполне широкая для того, чтобы на ней разместились, не мешая друг другу, пары три, не менее.
Дора дремала с полузакрытыми глазами, полностью покрытая пуховым одеялом. Волосы черной волнистой короной возлежали на подушке.
— Куда же вы пропали, Викентий? Я чуть было не заснула, ожидая своего супруга, — с чуть заметной издевкой проговорила Дора, не открывая глаз. — Как верная жена, грею, грею место, а он все не идет...
Откинув одеяло, она скользнула на свою холодную половину.
Савинков усмехнулся: Дора лежала нагой и не стеснялась своей наготы, потому что красота ее от этого ничуть не страдала, а только еще более выигрывала. Он сбросил халат на толстый ковер (ноги утопали в его ворсе по щиколотку) и присел на край супружеского ложа, внимательно рассматривая тело будущей боевой супруги. Дора тоже шевельнула ресницами, приоткрыв глаза. Они не торопили друг друга. Впереди была вся короткая жизнь.
Дорина ступня была узкой, но не крохотной. Каждый сустав был тщательно вылеплен. Такую ступню художники называют «скульптурной» и часто используют как модель для рисунков на библейские темы. Большой палец веками ношения сандалий из грубой буйволиной кожи чуть отделен от остальных, но не по длине — второй палец превосходил большой и задавал рисунок всей остальной четверке. Сквозь белую кожу на подъеме стопы чуть голубели кровеносные сосуды, оплетавшие тонкую породистую щиколотку и исчезавшие чуть выше.
Подошва и кончики пальцев розовели точно как на картинах эпохи Возрождения, кожа на них была мягкой и нежной, без малейшей загрубелости. Савинкову захотелось потрогать подошву, но он удержался, чтобы растянуть это чувственное удовольствие.
Икры у Доры не выделялись упругими мускулистыми комками. Такие комковатые икры были у первой савинковской женщины, и у второй, и у третьей... Здесь присутствовала тонкая бедуинская кость жительницы пустыни, на эту кость напластованы мышцы, и все это заключено в футляр из нежной женской кожи. В отличие от подошв цвет здесь менялся от нежно-сливочного до белоснежного.
Колено было не круглым, а удлиненным, точно неведомый плод с божественного дерева. Савинков подивился разгорающейся в нем страсти. Такого он давно в себе не наблюдал, даже при встречах с опытными парижскими красавицами, коих он уже за красавиц и не держал. А перед ним лежала красавица, богиня террора и смерти. Он даже задохнулся от радостной мысли, что это сама смерть в прекрасном обличии явилась перед ним. Его возбуждение только усилилось.
Бедра в сравнении с голенью были неожиданно широки, но не до безобразия, а до форм классического греческого кувшина. Все дуги и поверхности бедер и лона плавно перетекали друг в друга, без малейшего указания на таившийся под ними грубый костяной скелет. У этой женщины скелета не было, она в нем просто не нуждалась.
Чтобы не взорваться и не броситься к предмету своих вожделений, Савинков прилег рядом, но на небольшом отдалении, и понюхал прядь волос, разметавшихся по подушке. Волосы пахли фиалковой водой, и запах этот успокаивал.
Он ощутил сухость в горле, захотелось пить, но это была не та жажда, которую можно утолить водой или кофе. Приподнявшись на локте, он с любопытством первооткрывателя неведомой ранее страны прикоснулся к шее. К его удивлению, она не поражала длиной, скорее формой и плавным переходом в узкие, но сильные плечи. Из большого опыта наблюдательного человека Савинков знал, что очень длинная женская (да и мужская) выя всегда сопровождается удивительно короткими и вульгарными ногами, поэтому, увидев истинную Дорину шею, он с удовольствием отметил правильность своих многолетних анатомических наблюдений. Только сильные плечи могли вынести тяжесть полных грудей, которые сейчас, когда их обладательница лежала навзничь, должны были бы по своей нежной природе растечься по телу, представляясь двумя небольшими курганами, мечтой археолога-любителя, тщетно возжелавшего найти в них какие-то сокровища. Однако они стояли гордо в своем двойном одиночестве, увенчанные небольшими твердыми сосками в форме чуть недозрелых клубничек, которые рвать еще рано, но любоваться ими уже можно.
Савинков понюхал и эти клубничники. Действительно, пахнуло ягодами. Он даже лизнул ближнюю к себе, но вкуса не уловил, так что дальнейшую дегустацию отложил на потом.
Дора не шевельнулась, не издала ни звука, только дрогнули длинные ресницы.
Оставив в покое соски, он скользнул ниже, к плоскому, как у подростка, животу. Маленькой раковиной посреди морского дна таился девичий пупок. Такое трогательное зрелище не могло пройти мимо внезапно развеселившегося мужского взора, и Савинков кончиком языка приветствовал ту самую заросшую нежной кожицей дырочку, через которую питался еще не родившийся и не обретший пол ребенок.
И вновь Дора осталась недвижимой и спокойной. «Может, она заснула?» Савинков бросил взгляд на ее глаза. Нет, они внимательно и покойно следили за всеми его движениями.
Покончив с животом и сказав ему мысленно «до свидания», он двинулся дальше и совсем неподалеку наткнулся на нечто заставившее его замереть в восторге. Такого в своей мужской жизни он еще не встречал. Это было...
* * *
На доклад к министру Путиловский и Лопухин, директор Департамента полиции, приехали загодя.
ДОСЬЕ. ЛОПУХИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
1864 года рождения. Из дворян. Окончил Московский университет, юридический факультет, кандидат правоведения. С 1886 года служба по судебному ведомству. С 1889 года - прокурор Московского окружного суда. С 9 мая 1902 года - и. о. директора Департамента полиции; с 6 мая 1903 года - директор Департамента полиции.
— Павел Нестерович, а что там взорвалось на «Арсенале»? — нервно меряя шагами ковер в приемной Плеве, поинтересовался Лопухин. — Ходят какие-то совсем уж страшные слухи!
— Мне поздно вечером позвонили, я отправил Берга и Медянникова.
Путиловский на секунду оторвался от бумаг, которые он дописывал ночью, вложив туда немало мудрых философских мыслей от Франка. Последний мог об этом только догадываться, ибо его же идеи сразу секретились и становились достоянием узкого круга лиц, куда сам изобретатель этих идей допущен не был.
— А что этот Берг, он понимает толк во взрывах? Не молод ли?
— Ваше превосходительство, на сегодняшний день это самый проницательный специалист в расследовании причин всякого рода взрывов и пожаров. Дельнее его нет во всей России. А может, и во всем мире.
— Похвально, похвально, — успокоился Лопухин, но нервничать не перестал. Всякий визит к министру для подчиненных есть экзамен.
Тут вышел секретарь:
— Господа, его превосходительство ждет вас.
Лопухин, как первый ученик, вызванный к доске, мгновенно успокоился и бодрым шагом пошел к месту казни.
— У вас полчаса, — сухо отметил Плеве, всем своим видом показывая государственного человека, чье время на вес золота или даже бриллианта.
Путиловский, зная педантичность министра (Плеве был литовец по отцу и поляк по матери), приготовил булавку и петельку заранее, быстро вывесил плакат и вооружился указкой.
— Я сразу приступаю к статистическим данным по всей России в целом, по губернским городам, по Москве и столице в отдельности. Красным цветом выделены данные партии социалистов-революционеров, они занимают по всем графам первые места. Синим цветом — террористические акты социал-демократов. Черным — анархисты и прочие малозначащие террористические группы. Как видите, все цифры показывают тенденцию к увеличению террористической активности. Особенно в части, касающейся убийств чиновников всех рангов и экспроприаций денежных средств из банков, как частных, так и государственных.
Лопухин горестно вздохнул: не далее как третьего дня поступило сообщение о крупной экспроприации в Тифлисе. Разобрать в отдельности, кто кого чем убил и за кем бежал с целью помешать унести награбленное, не было никакой возможности: особенности грузинского менталитета превратили донесение в юмористический рассказ для журнала «Осколки».
Для перевода пришлось пригласить настоящего грузинского князя, чистокровного тифлисца. Князь смог в пять минут грамотно изложить подоплеку всего произошедшего, а потом целый час вместо гонорара рассказывал сказки старого города, запивая их вином, принесенным с собой. Голова после этого у Лопухина побаливала.
Плеве встал из-за стола и подошел к плакату поближе (он был близорук, но очков не носил и скрывал свой дефект). Прищурясь, он стал брезгливо рассматривать цифры. На это время Путиловский деликатно, чтобы не смущать начальство, смолк. Затем Плеве посмотрел на Путиловского и неожиданно спросил:
— Мы ведь с вами вчера встречались в балете?
— Так точно, ваше превосходительство!
Путиловскому захотелось встать в первую позицию, но усилием воли он удержался: министр просто мог его не понять, хотя балетоманы именно так приветствовали друг друга, правда в неофициальных ситуациях.
— Карсавина прелестно танцует, не правда ли? — задал риторический вопрос Плеве и вернулся в свое кресло.
Лопухин мысленно перекрестился, думая, что самое страшное позади и сейчас все начнут говорить о балете. Но Путиловский не стал хвататься за соломинку:
— Она еще молода, у нее все впереди. Итак, я, с вашего разрешения, продолжу.
И он стал разъяснять министру внутренних дел тонкости террористических актов, проводить сравнительный анализ деятельности различных боевых групп в провинции и в столице. Лопухин слушал внимательно, хотя всю статистику знал не хуже Путиловского, но в первый раз он увидел развернутую картину надвигающегося террора, и эта картина его не радовала.
— Обращает на себя внимание тот факт, что эти провинциальные группы не двигаются ни в Москву, ни в столицу, хотя ясно, что наибольшая концентрация денег и чиновников именно в этих двух городах. Почему так происходит?
— В них сильна полиция! — вставил свое слово директор Департамента.
— Выскажу соображение, что это не совсем так. При нынешних методах конспирации проникнуть в столичный город не есть большая проблема. Более того, именно под крылом у полиции и Охранного отделения можно беспрепятственно проводить серийные теракты. Лично я со своими людьми неоднократно наблюдал безалаберность и отсутствие профессиональной охраны при проведении официальных мероприятий, на которых более всего и возможен теракт. Я полагаю и готов далее доказывать, что есть некая могущественная сила, которая, препятствуя проникновению мелкой террористической швали, тем самым создает плацдарм для так называемого «центрального террора», направленного исключительно против первых лиц государства. Эта сила — Боевая организация социал-революцион-ной партии.
Наступила томительная тишина. Путиловский поставил логическую точку:
— При ее участии возможны также акты против членов августейшей семьи.
— Чепуха! — взорвался Плеве. — Я не верю в ваших революционеров! Какие партии? Где они? Жалкая кучка инородцев, которых надо приструнить со всей силой вашего полицейского аппарата!
— Однако ваш предшественник, — не выдержал Лопухин, — ваш предшественник пал жертвой именно этой самой Боевой организации.
— Он пал жертвой собственной неосторожности и глупости! В него стрелял сын народовольца. Я лично уничтожил эту хлипкую организацию еще двадцать лет назад. Одними жесткими мерами. — Плеве всем телом повернулся к Лопухину, вперив взгляд в его побледневшее лицо. — Тогда я, я был директором Департамента полиции! А вы разводите всякие мерихлюндии с рабочими! Наши солдатики в Маньчжурии япошек щелкают как куропаток, а вы в тылу миндальничаете. Рабочие кружки! Чаепития! Зубатовщина! Надоело! Дело надо делать! Все. Вы свободны, господа.
Покинув кабинет, обескураженные Лопухин и Путиловский отправились в свой родной Департамент.
— Павел Нестерович, не переживайте! Может, в действительности не все так страшно, как вы расписали, — успокаивал Лопухин. — Наше доверенное лицо в эсеровской верхушке уверяет нас, что в ближайшее время никаких действий против царской фамилии и членов правительства не планируется. Гершуни далеко, на акатуйской каторге, равных ему организаторов террора не видно даже близко. Все будет хорошо! Началась война, в стране растет патриотизм. Представьте себе, даже самые заклятые враги существующего порядка стали на сторону нашей армии! У эсеров сейчас не на кого будет опереться.
Путиловский, нервно куривший папиросу, сухо рассмеялся:
— А если мы проиграем войну?
— Господи, Павел Нестерович! Типун вам на язык! Да как вы можете такое говорить! Надеюсь, вы не японский шпион? Ха-ха, извините за сравнение!
— Говорить можно все. Представьте себе невозможное: мы проигрываем русско-японскую войну. Что тогда с революционным движением? Куда оно идет?
Он повторял в точности рассуждения Франка о вреде маленькой победоносной войны, которая внезапно оборачивается поражением. Лопухин пожал плечами:
— Ну... если только отвлеченно... Если проиграем — будет... будет плохо.
— Не плохо, а очень плохо! Уровень народных чаяний сейчас высок как никогда, все ждут чего-то лучшего. Но если они обманутся в своих ожиданиях, начнется поиск виновных. И искать будут не у нас с вами! Искать будут на самой вершине, вплоть до государя. Вы понимаете, что такое русский бунт? С кого все спрашивают на Руси? Кого кличут выйти на крыльцо?
Мимо, точно специально, промчался царский выезд, сопровождаемый шестеркой летучих кирасир на крупных вороных конях. Занавески в карете были задернуты, но по времени и сопровождению Путиловский понял: государь возвращается в Зимний. Что-то не совсем ладно на Дальнем Востоке...
— Успокойтесь и работайте. Подкорректируем вашу деятельность, все будет хорошо. — Лопухин поощрительно похлопал Путиловского по плечу. Тот панибратства не любил, но на сей раз сдержался, — Кстати, направьте своего гениального пожарного поручика на бал в дом баронессы Кноритц. Там в прошлый раз был пожар, так пусть хоть проинструктирует. И заодно присмотрит.
А в это время в приемной министра его секретарь, Константин Ефимович Пакай, несколько месяцев назад замеченный Плеве в Департаменте полиции и переведенный за усердие в Министерство, высунув кончик розового язычка, с усердием копировал данные и выводы Путиловского прямо с плаката на отдельный листок бумаги. Делал он свою работу быстро и качественно, как и все, за что брался. Прошло не более пяти минут — и бумага была сложена в отдельный конверт с заранее записанным, ничего не говорящим постороннему лицу адресом. Конверт передан с посыльным в экспедицию, сложен вместе с сотнями других похожих министерских писем и отослан по адресу.
Схема, которую придумал сам Пакай, была очень простой. Никому и в голову прийти не могло, что секретные сведения могут таким мака-ром пересылаться из Министерства в любую точку империи. Или, как в вышеописанном эпизоде, за границу. Конверты с грифом «Министерство внутренних дел» в «черный кабинет» не поступали, там хватало работы и без этого. Все гениальное просто, но ведь и все простое — действительно гениально!
* * *
...Это было лоно. Оттого что щека Савинкова при повороте головы прижалась к плоской пустыне живота, взгляд его исказился до такой степени, что ему представилась действительная пустыня, безжизненная и горячая, по которой бредет он сам, лишенный влаги путник. Он чуть смежил веки, чтобы нереальность воображаемого стала более реальной. Помогло. Он ползет, умирая от жажды... Силы на исходе, и подняться ему, видимо, уже не придется. Вокруг, куда ни бросишь взгляд, плавные барханы, сотканные из песчаного шелка. Ни травинки, ни кустика.
Чуть приподняв голову, путник видит вдалеке привычный сознанию мираж-оазис, которому он не верит, потому что грезил о нем постоянно последние — действительно ли последние? — дни бесконечного путешествия-умирания... Никакой надежды у него не осталось, но инстинкт обманывается и на этот раз. Может, это реальный оазис и он спасется, потому что растительность уж очень густая и животворящая. Никогда еще он не видел таких богатых оазисов, хотя путешествует в подобных краях не первый год. Из последних сил он ползет по миллиметру вперед, все ближе и ближе. И чудо свершилось: это не мираж, это реальность.
Вот уже пальцы коснулись первых жестких кустиков, чуть простирающихся за четко обрисованную линию лона. Белая пустынная кожа — и пышная растительность, под которой не видно ни пяди земли... Очертаниями сей обманчивый мираж напоминает переплетения мельчайших черных лиан-волосков, пробиться сквозь которые, на первый взгляд, невозможно. А ведь он должен найти источник, припасть к нему и напиться за несколько дней страданий, напиться на несколько недель вперед, ибо такого оазиса он уже может и не встретить, а пустыня так велика и безгранична, что никто из вступающих в ее пределы не может знать ни цели, ни окончания своего путешествия...
Он закрыл глаза, не веря обретению сиюминутного счастья. В пустыню пришла ночь, целительная и прохладная. Уже на ощупь, одним лишь средним перстом он стал шарить в диком кустарнике, чуть колючем и непролазном, пробираясь все глубже и глубже, не находя в нем протоптанных дикими зверями дорожек (хотя пахнуло зверем) и радуясь своему неявному первопроходчеству.
Наконец он набрел на то, что искал. Заросли расступились, и перед ним, вернее, перед его единственным пальцем, куда сейчас устремилось все его существо (он превратился в один большой средний палец, мыслящий и чувствующий, а тело существовало при нем просто как источник жизни и способ движения по направлению к искомому), открылась расщелина, куда и были направлены все его поползновения, сухая и горячая по краям. Он продвинулся чуть дальше и ощутил всем своим покровом целительную близость влаги. «Спасен!» — молвило все его существо и перевело дух. В благодарность за реальный мираж он поцеловал спасительный, пахнущий диким зверем кустарник, ощущая во рту колючую сухость его неломких веточек и нежную головку похотника.
В пустыне все молчало и не двигалось. Боясь неожиданного нападения, он медленно, одним только кончиком пальца стал проверять края, боясь раньше времени соскользнуть и упасть внутрь. Вот более глубокие слои переходят во влажную пещеру, узкую и непроходимую. В благодарность он второй раз припал к пустыне. Тишина. Можно двигаться глубже. И он пополз, весь превратившись в палец-змею.
Достигнув какой-то чувственной точки, он почувствовал первые тревожные толчки, предвестники телотрясения. Пустыня постепенно стала преображаться, на ней возникли складки, новые рельефы, и чьи-то нежные руки изгнали его из рая-оазиса и опрокинули на барханы прохладных простыней.
— Не торопитесь, — шепнул из ночи женский голос, и тонкие пальцы прикрыли готовящиеся открыться веки.
Он покорно застыл, распластавшись иной пустыней перед новым путником, тоже потерявшимся и идущим той же дорогой к неведомому, но спасительному оазису.
Точно прочитав все его мысли и ощущения, она тронулась в дальний путь, повторяя все его мельчайшие повороты, поцелуи и прикосновения.
От легких укусов сосков он чуть вздрогнул, но остался лежать недвижимым, повторяя и ее реакции на неведомое. Она припала к его животу, плоскому рельефу атлета, острым язычком проникла в первородную впадину отсохшей пуповины и двинулась вниз, к разделяющимся бедрам, ожидая там увидеть оазис, но уже свой.
Теперь он переселился из пальца в ее тело, в ее глаза и губы и стал предвидеть все ее ощущения, особенно когда почувствовал, что в его оазисе, пусть кустарник и победнее, но растет гордость пустыни, великолепная в своем одиночестве финиковая пальма, готовая накормить страждущих сладкими плодами, произрастающими глубоко под землей. Пальма росла и крепла ежесекундно, животворящим столпом возвышаясь над окружающей пустыней, главою непокорной, казалось бы, привлекая ее внимание... Но нет, путешественница была не менее опытна, нежели он сам. Она бродила кругами вокруг пальмы, делая вид или просто не видя той цели, к которой стремилась. Такое кружение не могло пройти незамеченным, и он попытался привлечь ее внимание, сдвинув все тело в сторону ее тела. Но тщетно. Сейчас все решала она сама и его движения в расчет не принимались.
Устав ждать, сладкоплодоносящее древо жизни поникло вершиной и стало опадать раньше времени, не дождавшись плодов. Наступила осень, листья пожухли и опали. Ствол усох, вершина совсем почти вернулась к прежним очертаниям. И тут женщина оказала первые знаки внимания заброшенному растению. Скорее всего она ждала именно такой минуты, когда гордое древо склонит перед ней свою вершину. Повинную голову меч не сечет, и первые ласковые поцелуи показали правильность выбранного пути смирения и покаяния. Она ласкала поникший ствол короткими прикосновениями влажных губ, отчего буйная страсть ушла, впиталась в песок, и осталось лишь нежное чувство к женщине, названной другими, чужими людьми его женой...
Действительно вначале всегда слово. И это слово начало действовать давно, как только ему сказали: «Она твоя жена» и забыли про это. И он забыл. Подумаешь, какая малость по сравнению с тем, что им предстоит совершить вместе! А на самом деле это все было придумано только для того, чтобы сейчас они стали мужем и женой, Адамом и Евой, родителями Каина и Авеля. Только вот кто был первым, он запамятовал. Кажется, Каин. Ну что же, они готовы сотворить Каина, и Авеля, и Сима, и длинную череду других мужчин и женщин. Силами чресел своих.
Плотское желание впиталось в песок. Она это почувствовала, она к этому и стремилась. Вот теперь пришло желание духовное. Она легла рядом. Он зарылся губами в ее черные волосы, нащупал губами розовую раковинку уха и стал тихо-тихо шептать туда заветные слова, которые еще никому не шептал:
— Когда безгрешный серафим взмахнет орлиными крылами, небесный град Иерусалим предстанет в славе перед нами. Ни звезд, ни солнца, ни луны, светильник града — Ангел Божий... У городской его стены двенадцать мраморных подножий. Смарагд, и яспис, и вирилл, богатствам Господа нет счета... но сам архангел Гавриил хранит жемчужные ворота... Я знаю: жжет святой огонь, убийца в град Христов не внидет, его затопчет Бледный конь и царь царей возненавидит...
Она безмолвно покрыла его лицо тихими нежными поцелуями благодарности. И стало им хорошо. И заснули они в объятиях друг друга, муж и жена, так и не познавшие друг друга в первый день творения.
Усталые, но довольные Медянников и Берг спешили на службу. Бессонная ночь, проведенная в трудах праведных на месте взрыва в «Арсенале», быстрое разоблачение причин и виновников взрыва наполняли их души радостью и согласием. Они успели прихватить пару часиков сна в кабинете управляющего заводом, там же плотно позавтракали на счет все того же управляющего, написали соответствующие бумаги, где сам взрыв усилиями Берга был представлен как последнее слово химической взрывной науки, и были с почетом отпущены в Департамент.
Сумрачный Путиловский сидел в кресле, погрузившись в него с головой, и с угрюмой радостью мечтал об отставке. Вот сейчас он возьмет чистый лист бумаги, выведет на нем соответствующие вензеля, вложив туда всю горечь и сарказм, переполняющие его душу, и положит все это на стол Лопухину, минуя все остальное бездарное начальство, менявшееся с калейдоскопической быстротой. Вечером сходит в балет, принародно покажет кукиш Плеве (ежели тот окажется), познакомится с Карсавиной, поведет ее к Кюба...
Далее фантазия отказывала, но это ничего, можно прожить и без фантазий. В крайнем случае можно пригласить Франка и вместе с ним надраться так... Впрочем, Франк, подлец, никогда не надирается! Надраться одному и спать, спать, спать... Можно записаться добровольцем в армию, успеть к шапочному разбору и вернуться героем войны, в орденах и японках... Интересно, сильно ли отличаются по душевному складу и физическому устройству японские жёнки от родных россияночек? Мысли об отставке почему-то выбрали несколько другое, более приятное направление.
И тут заявились эти два гаера.
— Где вы шляетесь целыми днями? — раздраженно вылез из кресла начальник.
— Павел Нестерович! — обиженно, но понимающе прогудел Медянников. — Мы же всю ночь с Иваном Карловичем, как последние цуцики, в дерьме рылись!
Путиловский нахмурился и вспомнил.
— Прошу прощения, я совсем забыл. Ну, и что там на «Арсенале»?
— А-а! — небрежно махнул рукой Берг. — В цейхгаузе аммиачная селитра сдетонировала.
— Вы уверены? Первый раз слышу, что удобрение детонирует.
— Во! Я ж говорю — чтобы навоз взрывался? — вставил свой довод Медянников. — Думали — умысел! Они же там и японских шпионов успели поймать. Глаза узкие-узкие!
— Шпана с Охты! Набили им морды, вот глаза и сузились, — авторитетно опроверг Берг слабую теорию японского шпионажа. — Все просто. Они неправильно хранили аммиачную селитру. Под открытым небом. Она, натурально, смерзлась. Вместо того чтобы ломами раздолбать, решили маленьким взрывом все это сделать. В «Химише цайтшрифт» описан подобный случай. Селитра может детонировать, если постараться.
— Виновник найден?
— Кусочками. И наполовину.
Путиловский прошелся по кабинету.
— Напишите подробный отчет. Но это после. Теперь о делах более существенных. Наш доклад и выводы признаны неверными. Велено поменьше заниматься взрывами и побольше — охраной. Революционеров нет, террора нет, надо сильнее закрутить гайки — и все будет в порядке!
— Как же они не понимают очевидного? — Берг воздел руки к небесам, но оттуда никаких поощряющих знаков не поступило. Тогда он опустил очи долу, но и на полу ничего не нашел.
— Плеве тридцать лет в полиции! — раздраженно бросил Путиловский. — Что мне оставалось? Под козырек и шагом марш!
— А я только-только Дусю выучил... — печально шмыгнул носом Берг.
— Какую еще к черту Дусю? — с удивлением уставился на Берга Путиловский, полагая, что тот опять завербовал новую осведомительницу из очередного развеселого дома.
Евграфий Петрович ринулся спасать Бергову репутацию, но промахнулся:
— Да это Ванина сучка!
— Сучка?!
Путиловский укрепился в своих подозрениях и гневно уставился на Берга. Тот мгновенно стушевался: кто его знает, может вышел новый секретный циркуляр, запрещающий обучать собак женского полу?
— Собачка! — спас Берга Медянников. — Помните, мы ему щеночка подарили? Шустрая такая! Он, сучий потрох, мне динамит в карман сунул, так Дуся меня чуть не съела!
— За десять метров запах динамита чует, — радостно доложил Дусины тактико-технические данные Берг.
Путиловский тяжело вздохнул:
— Рад за вас. Действительно, интересно. Но Дусю отставить. А то нас всех отставят. Террора же нет! И быть не может!
— Да не расстраивайтесь вы так, Павел Нестерович. — Старый служака Медянников и хулу, и поощрения переносил с олимпийским спокойствием. — По-ихнему, нету — значит нету! Пока жареный петух в задницу не клюнет.
— Спасибо, Евграфий Петрович. Да, Иван Карлович, директор просит вас лично курировать охрану благотворительного вечера у баронессы Кноритц. Он состоится через неделю. Возможно, будет государыня с детьми. Время есть. Особенно обратите внимание на пожарные опасности. А то у графини Клейнмихель из-за фейерверка чуть дом не сгорел!
Берг стал лаконичен и серьезен:
— Знаю.
— Вы, Евграфий Петрович, найдите себе дело сами. А я, с вашего позволения, отбуду домой. Если будут спрашивать — приболел-с!
Путиловский зашел в свой кабинет, открыл шкафчик, достал оттуда графин с водкой, налил полстакана, подумал, выпил, занюхал промокашкой и заел лавровым листиком, предусмотрительно отложенным на крайний случай. Этот случай настал. Освободив таким простым образом весь день, он вышел в оперативную часть, записал на себя дежурную пролетку, влез в нее и сказал:
— Давай-ка, братец, дуй-ка ты на Острова.
Очередной кучер попался веселый:
— Так Острова большие, ваше благородие!
— На Петровскую косу, в яхт-клуб! — уточнил Путиловский и задремал под мягкое покачивание рессор.
* * *
Произошедшее понравилось новизной ощущений, и по нескольку раз за день они теперь ласкали друг друга, так и не позволяя себе до конца стать мужем и женой. Это вошло в привычку и помогало поддерживать огонь в очаге страсти, хотя пару раз, не стерпев накала, Савинков посетил дом терпимости, тем сняв напряжение и получив возможность доводить Дору до более высокого градуса. Шла древняя любовная игра — кто первый не выдержит. Пока оба были на высоте.
Остальная жизнь текла своим чередом. Окольным путем из Швейцарии через Норвегию прибыл посыльный с динамитом и корпусами бомб. Дора придирчиво и не торопясь подыскивала хорошую квартиру, которая должна была стать опорным пунктом для сбора всей команды. Легенда разрасталась: кафешантанная дива-барыня с мужем-иностранцем, при них старенькая экономка, двое слуг по хозяйству и кучер с экипажем для поездок по городу. Наконец подходящая «фатера» нашлась, дело было за слугами и экономкой.
Въезжать лучше всего было полным составом, чтобы не вызывать подозрений окружающей челяди некомплектом прислуги. Могли сразу посыпаться предложения, которые надо логично отвергать, что сразу вызовет кривотолки и мелкую месть в виде доносов: приехал немчура, наверняка японский шпион. Тем более что у Савинкова действительно в лице было немного татарщины, отчего при внимательном рассмотрении и болезненной фантазии его могли принять за японца.
Два таких случая уже произошли. Выручили безупречные английский и документы.
Гуляя утрами по столице, он посетил дом Плеве и отметил в окрестностях чрезвычайную концентрацию агентов в штатском. Любого остановившегося тут же начинали пасти несколько молодцов без определенного рода занятий. Руководил ими грузный пожилой человек с лицом смекалистого простолюдина. Вычислил его Савинков случайно: неторопливо раскуривая трубку, задержался у подъезда и видел, как этот простой прохожий завел одного молодца за угол и там дал ему по шее, очевидно за ротозейство. Евграфий Петрович таким образом выполнял волю Путиловского, велевшего ему найти занятие по душе.
Относительной свободой возле дома министра пользовались только извозчики и папиросники, но их было трудно подделать. На это и указал Савинкову Азеф, проделавший с ним пару экспедиций к дому Плеве.
— Привычное не привлекает внимания. Никаких офицеров, студентов, дам в вуалях или евреев! Только серенькие, незаметные личности, лучше крестьянские тупенькие личики. Вот вас, Викентий, трудно вообразить кучером. А Авель — это идеальный извозчик. Второй — папиросник. Им будет Боришанский.
— Он же иудеи! — логично возразил Савинков.
— Нетипичный. Я вот тоже иудей, но могу быть и русским купцом.
Азеф состроил туго думающую купеческую морду, и Савинков рассмеялся: похож!
— Они все выследят, вычислят распорядок, маршруты — и Плеве наш. Если не будет провокации, — добавил Азеф необходимое и достаточное условие. — И вот еще что: купите автомобиль. Пора внедрять новые, прогрессивные методы террора.
— Зачем нам авто? — искренне удивился Савинков. — Тысячу рублей на воздух!
— Вы не понимаете современную молодежь, Викентий. — Азеф мечтательно поднял глаза к небу. — Они любят все новое, техническое. Век такой пошел, все хотят стать инженерами. Представьте себе: Плеве убит из проносящегося мимо авто! Да это просто символ эпохи — новое ликвидирует старое! Вся молодежь с потрохами будет наша, поверьте мне. Вот еще бы цеппелин приспособить... или авиетку раздобыть!
— Летающую этажерку? Вы шутите!
— Нисколько, милый мой! Надо быть инженером, чтобы увидеть новое в непривычном. Вот вы, юристы, все делаете по древним рецептам: римское право, английское право... тьфу! Право у тех, кто моложе, кто энергичнее, прогрессивнее. Вот я начиню авиетку бомбами, взлечу из пригорода — и пусть меня охранка ловит! Прилетаю на место, кидаю бомбы — и через несколько секунд меня уже не видно!
— А если промахнетесь?
— Логично. Тогда сажаю юношу, готового на все, он просто врезается в кортеж и ценой своей гибели меняет ход истории. Одна авиетка, один юноша — одна революция! Согласитесь, совсем небольшая плата!
Так они бродили по столице дня три, развивая друг перед другом планы будущего технического террора, способного за несколько дней переделать весь мир. Кровь бурлила, мысли текли самые необычные. Перед ними раскрывался такой радужный, светлый мир, что Савинков готов был тут же обнять Азефа и расцеловать его. Он полюбил этого внешне неромантичного, толстого, некрасивого человека, способного сквозь серые будни видеть рассвет и сияние будущего, одним-двумя штрихами обозначить дорогу, зажечь в любом сердце огонь жертвенности.
В отличие от Гершуни (Савинков встречался с Григорием, но инстинктивно не поверил его пустословию и болезненной энергичности) Азеф все делал основательно, прочно, ничего не пуская на самотек. Он подходил к делу ликвидации Плеве как к решению пусть сложной, но вполне выполнимой технической задачи.
Имеются начальные условия: физическое тело П весом в пять пудов каждый день в определенное время совершает путь из определенной точки А в точку Б. Движется со скоростью С. Любой мыслящий человек с гимназическим математическим багажом в состоянии оценить траекторию движения данного тела, расставить на его пути другие физические тела, способные пойти на смерть и тем самым распылить на атомы исхбд-ное тело П. Что и требовалось доказать. Все очень просто.
Азеф пел дифирамбы любимому социальному механизму:
— Террор, он же концентрация политической борьбы, способен как сильное, но чудодейственное лекарство вылечить любую социальную несправедливость в кратчайшие сроки. Но, как и всякое лекарство, он должен назначаться а — профессиональным террористом, бэ — строго дозированными порциями и вэ — только при случаях болезненных! Считайте, что Плеве уже нет.
— Хорошо, — согласился Савинков, раскуривая очередную порцию свежего табака, только что купленного в Гостином дворе у поставщика его императорского величества. — Плеве исчез. Вместо него другой. Убиваем и его.
— Ни в коем случае! — радостно возразил Азеф и даже замахал рукой. — И не мечтайте! Террор — это диалог двух систем. Одна из них старая и не могущая реформироваться самостоятельно. Вторая еще слишком молода и слаба, чтобы захватить власть традиционным путем. Мы хотим достучаться до Николая. Мы будем уничтожать всех его сатрапов, пока на месте министра внутренних дел не очутится приемлемый для нас человек. Приемлемый хотя бы на десять, на пять процентов! Чтобы он нас услышал и начался цивилизованный разговор.
— А если Николай не остановится?
— Тогда мы остановим Николая. Уберем его из истории. Знаете ли вы, что в самих верхах уже зреют мысли о том, что хорошо бы убрать Николая из политической жизни любым способом? России не повезло с государем. И мы исправим это положение!
— Так может... — и Савинков, указывая на двуглавого орла в витрине рыбного магазина купцов братьев Худолеевых, сделал характерный жест рукой — дескать, свернуть ему голову, и амба!
— Рано, — серьезно ответил Азеф. — Еще рано. У него очень большой кредит доверия, как говорят англичане. Нас не поймут в деревне. А Россия — это одна большая деревня. Он должен сделать что-то ужасно непопулярное, чтобы мы получили карт-бланш на устранение государя. Вот война с японцами. Мы ее проиграем.
— Да бросьте вы! — Савинков даже огорчился, оттого что такой умный человек не понимает силы государства российского. — Они же двадцать лет йазад жили в средневековье!
— Ерунда все это. А мы живем до сих пор! Русский мужик не инициативен, необразован и не индивидуален. И это самое страшное: ему никогда не стать европейцем, пока он не поймет, что община есть зло. Он должен быть мобилен и одинок. Тогда дешевые рабочие массы начнут двигаться в свободные районы, они расцветут, и Россия станет богатой по краям. А когда только середка сыта, краешки не играют! Страна растянута как червяк, голова в одном месте, руки в другом, так что Куропаткин точно будет в заднице. Японцам мы проиграем. У них компактный остров, все делается быстро, и уровень техники у них выше. А значит, все двигается быстрее. В этом проигрыше для нас скрыта большая удача!
— Разве? — Савинков душевно не мог примириться с поражением. — Народ патриотичен и не простит нашей пораженческой позиции.
— Русский народ, как бы это сказать помягче, совсем не богатырь. То есть он, может быть, и богатырь, но слегка убогий по уму и по развитию. Толпа всегда ходит по протоптанным дорожкам, вот мы их и должны протоптать!
Проходя мимо торговки мочеными яблоками, Азеф бросил ей в кошель копеечку, сунул руку в бочонок, не глядя достал крупное яблоко и стал вкусно есть.
— Рекомендую! Весьма полезная вещь для нашего климата. Я всегда ем их зимой, отлично помогает пищеварению. Так вот, следите за ходом моей мысли: мы немного проигрываем войну, подписываем весьма неудобный мир, народ стервенеет, мы указываем на истинных виновников катастрофы и инициируем выступления. Учтите, что все это подкреплено точечным центральным террором! То есть мы направляем реку истории в нужное нам русло.
— Но мы же не можем беспрерывно убивать!
— Вы задали главный вопрос: до каких пор? Естественно, до логической точки — принятия конституции и передачи всей полноты власти парламенту, думе, собранию... да любому выборному органу европейского типа! Они в Европе даром времени не теряли. Выработаны довольно совершенные, либеральные механизмы управления государством!
Азеф догрыз яблоко и вытер рот тонким шелковым платком цвета давленой малины со сливками.
— И что с монархией?
— Она должна перемениться и ограничить себя в правах. Не захочет — тогда вот что! — и Азеф ловко метнул огрызок яблока в бочонок с грязными опилками, который малец тащил из рыбного магазина. — На свалку истории! В нужник! А пока их надо дрессировать, как зверей в цирке: выполнил наше требование — получил отсрочку, не выполнил — вот тебе кнутом!
— А если охранка нас переиграет? — задал мучивший его все время вопрос Савинков. Как сын юриста, он инстинктивно боялся ареста, тюрьмы и каторги.
— Ха! — ухмыльнулся Азеф. Видно было, что для него все эти вопросы давно заданы и решены. — Знаете, почему удаются побеги из тюрем?
— Нет, — признался Савинков, до сих пор счастливо избегавший подобной участи. — Подкупают стражу?
— Это всего лишь один из способов. Просто узник все время думает о побеге, а тюремщик —
только на службе. Так вот, я все время думаю о терроре. Днем и ночью, наяву и во сне. А охранка думает обо мне только на службе, да и то не каждый день. Ей меня не провести!
— А если у нас в организации появится провокатор? Мы ведь не застрахованы от провала.
Азеф приблизил свое тяжелое лицо вплотную к лицу Савинкова:
— В Боевой организации нет провокаторов! Нет провокаторов! Повторяйте это три раза в день — и провокаторов не будет! Я знаю, как искать нужных людей, кого выбирать и кому отказывать. Понимаете ли вы, что человеческие глаза не в силах обмануть? Они всегда говорят правду, даже если вы лжете. Как только я увижу в ваших глазах ложь, я первый устраню вас. Но если вы увидите ложь в моих глазах, то безо всякого сожаления тоже должны устранить меня. В этом наша сила! — Прошел некоторое время молча и добавил: — А охранка — дрянь люди. Мелкие и глупые. Поверьте мне, я их хорошо изучил.
— Где? — спросил Савинков.
— Хороший вопрос. У меня были контакты с охранкой. Когда-нибудь я расскажу о них. — Азеф хитро прищурился, даже остановился. — У вас ведь тоже есть опыт общения с этими господами?
Савинков несколько секунд молчал, потом ответил:
— Естественно. Ведь я был под стражей. Они не упускают таких моментов...
— Я знаю, — серьезно ответил Азеф и продолжил путь. — Давайте зайдем в этот кафешантан. У них хорошая кухня, повар из Франции. Без обмана. Уже пора быть спарже.
И они пошли есть первую спаржу...
Савинков достал брегет, прозвонил — время ленча. Но до этого надо встретить первого из незнакомых посланцев. Он подошел к длинной череде извозчиков, стоявших позади Казанского собора, по описанию нашел нужного и несколько секунд вглядывался в его лицо.
Улыбчивый парень ничем не показывал своей причастности к Московскому университету. Обычная тамбовская морда, откормленная на свежем деревенском воздухе, голубые глаза, румянец во все щеки. «Ошибка», — вяло подумал Савинков и уже хотел уйти от греха подальше. Но в последний момент решил рискнуть и произнести условленную фразу. Хвоста за собой он не видел, так что английский язык сейчас был ни к чему.
— Эй! — сказал он парню.
— Барин! — обрадовался тот. — Куда изволите, барин? Сей минут домчу!
И в подтверждение своих слов мастерски щелкнул кнутом. Крепкий конек осел на задние ноги и насторожил уши, собираясь рвануть с места в карьер.
— На Знаменку, — сказал Савинков и оглянулся — никого.
— Такой улицы, барин, здесь нет. Эта улица, барин, в Москве! — ответил Созонов. Он уже дня три ожидал этого вопроса.
Соседи по очереди заржали в полный голос:
— Так и вези барина в Москву! Не меньше двадцати рублев бери! Да на этом мерине им ни в жисть до Москвы не добраться!
— Цыц! — гаркнул на них Созонов.
— Небось, много берешь за провоз? — Савинков сел в сани.
— По-божески, — ответил второй половиной фразы Созонов и тронул конька.
Сзади засвистели:
— Москва не в той стороне, милай!
Савинков наклонился и тихо сказал:
— Здравствуйте, Авель!
— Викентий, как я вам рад...
— Давайте к Лавре.
Савинков укутал ноги меховой полостью. Чудно, все идет по плану. Все-таки «Толстый» — гений конспирации и организации дела. Когда он, Савинков, станет диктатором России, то точно назначит Азефа премьер-министром. Вдвоем они перевернут этот мирок.
* * *
Берг лихорадочно искал чистое и целое белье. Дуся сидела тихо, склонив набок умную коричневую головку, и наблюдала за Хозяином, не понимая, чего он хочет от шкафа, коробок и застиранных кальсон.
В другое время и при иных обстоятельствах Берг надел бы привычное ношеное, не сильно задумываясь о последствиях. В конце концов, при визитах нескромного рода все белье рано или поздно оказывается на полу спальни и никому своим видом не мешает, потому что в спальне темно и ее обитательнице (обитательницам!) не до разглядывания Бергова белья — они торопятся невесть куда, а достигнув конечной точки, быстро хотят начать процесс сначала — и так до бесконечности (в идеале).
Но сейчас визит был совсем иного качества! Впервые Берга пригласила в свой дом аристократка, да не простая, а баронесса N! Имени ее Берг не произносил даже мысленно, однако искушенный в светской жизни человек мог догадаться с трех раз, тем более что за два дня до назначенного свидания Берг дежурил в доме баронессы на благотворительном балу в пользу раненых матросиков с крейсера «Варяг».
Сами матросики еще были в долгом пути, но к их приезду уже готовились по мере сил. А поскольку баронесса Кноритц ничего, кроме балов, делать не умела, тут же был изобретен новый «морской» бал. Завистницы кусали себе локти, что не они придумали первыми такое роскошное зрелище.
Для этой цели все слуги в доме баронессы были одеты в военно-морскую форму, отчего опустел один из складов в Кронштадте. Дом был украшен по фасаду флагами расцвечивания. В одном месте шутники-матросы якобы случайно выложили на военно-морском языке неприличное словосочетание. Никто, кроме причастных к пониманию морской азбуки, об этом не догадывался, а догадавшиеся только хихикали и указывали друг другу на матерное посвящение баронессе.
Разумеется, государю тоже донесли, и он специально проехал мимо дома баронессы, чтобы посмеяться. Ей было доложено, и душа ее, не ведая истинной причины, возликовала и вознеслась на мгновения к небесам. Вернувшись на грешную землю, баронесса с удвоенной энергией принялась за организацию бала, заручившись для начала приглашением самого модного дирижера-распорядителя танцев. Он немного пококетничал, но потом милостиво согласился.
Все было бы просто замечательно, если бы не супруг, мешавшийся постоянно. У супруга, кроме титула, не было никаких мужских достоинств — ни чина, ни роста, ни стати, ни приличествующих титулу пороков: он не играл, не кутил, не заводил себе любовниц или, на худой конец, любовников. Добро бы он пил! Это примирило бы баронессу с его существованием. Так нет! Он ходил за ней, как нитка за иголкой, и скулил о том, что она не так тратит его деньги, не так одевается, не так рожает, а родив — не так воспитывает. В общем, барон был редчайший зануда, и представить себе жизнь, до конца наполненную бароном, баронесса не могла. Это приводило ее в тихий ужас. Надо было.что-то предпринять.
Она открыто ему изменила с одним великолепным стрелком и бретером, надеясь, что они с бароном будут стреляться и на лбу ее благоверного между рогов появится маленькая дырочка, несовместимая с бароновой жизнью. Но — увы! — супруг, прознав (не без помощи супруги) о появлении вышеозначенных рогов, добавлять к ним дырочку отнюдь не поспешил. Более того, он посетил своего соперника и стал выговаривать ему: зачем разбил любовь, зачем не предупредил его, зачем то, зачем это...
В отчаянии бретер бросил и соблазненную, и службу в столичном полку, записался на фронт и, по слухам, уже почти успел сложить голову за отечество, государя и баронессу. Это все только прибавило занудности супругу. Теперь он корил жену за будущую смерть молодого человека.
Чтобы не привлекать внимания, Берг прибыл на бал загодя и в штатском, имея на руках малую химическую походную лабораторию, чем вызвал повышенное внимание баронессы, оказавшейся довольно-таки прожженной пироманкой. По ее просьбе были запалены две пиротехнические свечи, устроен для тренировки слуг малый пожар в камине и при этом основательно испорчен туркестанский ковер, свидетель грехопадения баронессы. Ковер погиб, не выдав этой тайны.
Тапером был приглашен Альвист, самый выносливый из столичных таперов. Он опробовал рояль, остался им недоволен и потребовал совершенно несоразмерную плату. Пришлось пойти и на эти расходы. Уже были заказаны корзины мимоз, гвоздик, нарциссов и гиацинтов. Терять было нечего, ожидался успех, и даже зануда-хозяин был приспособлен к делу: он репетировал со слугами живую картину гибели «Варяга». Получалось премиленько, почти как на самом деле.
Берг осмотрел место будущей баталии, дал несколько ценных советов, потом не выдержал, засучил рукава и за пару часов приблизил картину морского боя к натуральной настолько близко, насколько позволяла обстановка и обстоятельства. Буде его воля, Берг взорвал бы к чертовой бабушке весь особняк баронессы, но вовремя сдержался и не стал усердствовать в организации «последнего парада». Все равно должно было получиться великолепно!
И получилось. Слухи о прошедшем бале взбудоражили Петербург не менее, чем само известие о гибели крейсера. Наиболее отсталые в умственном развитии петербуржцы поверили в то, что действительно в доме баронессы Кноритц вечером произошло сражение с японцами, закончившееся полной победой баронессы над макаками. К дому были стянуты лучшие силы окрестных пожарных частей, но благодаря талантам Берга самого худшего удалось избегнуть. Хотя, не скроем, были моменты, когда душа Берга уходила в пятки и долго оттуда не показывалась. Но Бог милостив, и все прошло как нельзя лучше.
Альвист играл как никогда, и на крышке рояля перед последним танцем — котильоном — горой лежали подарки и банты, знаки всеобщей дамской признательности. Распорядитель танцев носился по бальной зале как черт.
— Этот молодой человек далеко пойдет, — сказала великая княгиня Мария Павловна, глядя на стройную фигуру распорядителя-конногвардейца. — Как его имя?
— Барон Врангель, ваше сиятельство, — почтительно прошелестела хозяйка бала.
— Смешная фамилия, — улыбнулась великая княгиня, но запомнила.
Сбор в пользу матросиков достиг небывалой суммы — тысячи две, не менее, одними только ассигнациями! А еще серебряные портсигары, заколки с рубинами, .серьги с изумрудами, кольца без счета и прочей мишуры тысяч на семь. Вот будут счастливы защитники отечества! Кому-то хватит на новую деревянную ногу, кому-то — на руку... «Кому-нибудь не мешает приобрести и заменить голову!» Последняя фраза, мгновенно облетевшая залу, принадлежала молодому флотскому офицеру Колчаку.
Между танцами и хлебом (так назвали ужин) поместились зрелища. Притушили свет. Из-за портьеры, изображавшей море, выплыл картонный «Варяг». Из труб валил настоящий дым, а из орудийных стволов стали греметь настоящие выстрелы. Это Берг, идя сзади за картоном, ловко поджигал короткие бикфордовы шнурики, и через секунду орудие стреляло пышным снопом искр. Многочисленные барышни визжали от восторга и кричали «Браво!».
Японские миноносцы были много меньше по размерам и стреляли гораздо чаще. Из-за них показались два японца, коих изображали нанятые на Сенной площади китайские торговцы. «Японцы» скалили зубы и предательски размахивали (за неимением лучшего) кривыми турецкими ятаганами из оружейной комнаты барона. Нечисть — она везде нечисть, и ятаганы вкупе с китайцами были приняты за чистую японскую монету.
В завершение был дан миниатюрный салют цветов российского флага, и под эту патриотическую трескотню «Варяг» погрузился в серую портьеру. Все, кроме Колчака, встали. Колчак же матюгнулся сквозь зубы и покинул с двумя приятелями поле сражения. В соседней зале были накрыты столы для ужина. Три офицера взяли по большой рюмке водки и выпили, не чокаясь, в память погибшего товарища, графа Нирода, — они вместе служили гардемаринами в своем первом кругосветном вояже на броненосце «Ретвизан». В бальной зале послышались звуки «Боже, царя храни» — то пели приглашенные хористы Мариинского театра. Колчак вновь нехорошо отозвался о происходящем и поднял вторую рюмку:
— За тех, кто в бою!
И тут к ужину хлынули гости. Офицеры в мундирах всех цветов радуги, степенные дамы, девушки на выданье в бальных нарядах с обнаженными спинами стали есть и пить во славу русского флота. Все шло так' хорошо, что баронесса исплевалась через левое плечо, предотвращая козни со стороны аристократических подруг.
Когда последний гость покинул теперь уже самый гостеприимный дом столицы, силы оставили хозяйку, и она без задних ног, на одной только воле поплелась в залу приглядеть за слугами. В пустой зале в совершенном одиночестве исполнял свой долг позабытый всеми храбрый поручик Берг. Он отыскивал несгоревшие петарды, удалял горючие материалы, заботливо оберегая вверенный ему дом от неминуемого пожара. Такая ретивость удивила баронессу. Усердие требовало вознаграждения, и она велела подать ужин прямо в залу, где и уселась, пригласив Берга разделить трапезу.
Поскольку оба с утра ничего не ели, то накинулись на еду удивительно дружно и уже к третьему бокалу шампанского почувствовали себя давними приятелями. Боже упаси, Берг понимал всю глубину разделявшей их сословной пропасти и не претендовал ни на что, кроме как на хороший ужин. Однако бес всесилен, и если Берг не претендовал, то баронесса призадумалась, держа в зубах воображаемый сыр в виде молодого поручика.
Совершенно некстати в зале показалась безутешная фигура барона, с унылым видом подсчитывавшего убытки, нанесенные дому. Барон был изгнан из зала настолько быстро, что Берг принял его за слугу и даже прикрикнул на неради-, вого, чему тот удивился, но посчитал полицейские полномочия Берга достаточными для того, чтобы безропотно удалиться.
Баронесса тут же увидела в Берге человека молодого и энергичного, способного привлечь внимание дамы не первой свежести и небольшого ума. На правах старшего друга она попросила позволения называть его несколько на старославянский манер — Иоанном, каковое позволение было дано без промедления. Что-то либо в лице Иоанна, либо в одежде — она геройски пропахла порохом, а запах пороха удивительным образом возбуждает дам! — привлекло внимание баронессы, и при неизбежном прощании, когда Берг, щелкнув несуществующими шпорами, склонил пробор над ручкой баронессы, она отнюдь не по-матерински подняла его голову и подарила ошеломленному поручику благодарственный поцелуй, отдающий шампанским.
В каждом поцелуе всегда присутствует некая временная константа, которая позволяет участнику этого чувственного процесса классифицировать данное действие как поцелуй отеческий, материнский, братский, дружеский и так далее вплоть до поцелуя смерти, коему предшествуют лобзания страстные, удушающие и оргиастические.
Берг, будучи в начале самостоятельной жизни учеником весьма отстающим в поцелуйной науке, последние пол года преуспел, догнал товарищей по счастью, а некоторых и перегнал. Поэтому он стал мысленно считать секунды, отделявшие поцелуй материнский, на который он и претендовал, от прочих видов. Часики тикали, и из материнского поцелуй плавно перетек в дружеский, затем в полустрастный и далее в страстный. Ошибиться Берг не мог, потому что в его ротовую полость, которая у млекопитающих развита не менее, чем у парнокопытных, проник язычок баронессы и стал вести себя в чужом рту, как у себя дома.
«Однако!» — подумал Берг и перешел от процесса думанья к процессу чувствования. Но почувствовать ему не дали: в зал вернулся зануда-барон, и баронесса прервала процесс на самом интересном месте, когда два язычка встретились и залепетали что-то свое, глубоко интимное.
«Я найду тебя!» — прошептала баронесса и вытурила Берга из своего дома.
И вот теперь, по прошествии двух дней, она его призвала. Явился посыльный в малиновой фуражке и принес приказ о мобилизации поручика Берга к девяти вечера. В животе и чуть ниже сладостно заныло. Живот заныл от предчувствия хорошего ужина, ниже ныло все по той же пагубной привычке к разгульной жизни.
Берг нашел чистую пару неношеного белья невыразимо фиолетового цвета, входящего в моду благодаря тихому расцвету угро-финского течения в художественном искусстве. Оно получило название «северного модерна», хотя некоторые критики не признавали за «чухонцами» этого права. Бергу цвета такие нравились. Он облачился в белье, сверху надел свежевыглаженную форму артиллерийского поручика, натянул сапоги и придал им необходимый матовый блеск.
Дуся завиляла хвостом — как всякая молодая дамочка, она обожала военных. Покормив собаку, Берг сделал ей внушение, попросил не волноваться, если будет долго отсутствовать, и вышел, провожаемый взглядом, полным любви и тоски. Положительно, иметь собаку много спокойнее, нежели жену. Достаточно представить, что сказала бы жена, когда бы муж намылился ввечеру к другой. Хвостом бы уж точно вилять не стала!
За несколько часов до вышеописанного у могилы великого композитора, гения русской музыки Петра Ильича Чайковского стояло двое молодых людей — барин и извозчик. Что привело сюда таких разных по общественному положению персон, было непонятно.
Но пара городовых, гулявших по аллеям Александро-Невской лавры и оберегавших покой ранее высокопоставленных, а сейчас низколежащих усопших, не выказала никакого беспокойства. Может, у них родство душ. Может, барин слушает народные песни, а потом перелагает на свой лад. И привел народного певца поклониться автору вечного балета «Щелкунчик».
Савинков, надев очки с синими стеклами, спокойно покуривал очередную трубку. Не баловавшийся табаком Созонов с удовольствием подставлял лицо почти весеннему солнцу.
Тишина была замечательная, сам Петр Ильич слушал бы да радовался. Ее лишь изредка нарушали крики ворон, уже начинавших, повинуясь проснувшимся в них сокам, эпизодически строить гнезда. Если холодало, строительство прекращалось, но ненадолго — солнце, как правильно писали в газетах, «уже вступило в свои права».
— Идет, — заметил Савинков, наблюдавший за окрестностями.
Вдали показался спешащий молодой барин, одетый совсем по-парижски, в золотой холеной бородке, украшавшей породистое нервное лицо. Одет он был не хуже, нежели Савинков, а местами так даже и помоднее. Это был Покотилов, сегодня утром приехавший из Норвегии.
— Не понимаю... — обиженно проговорил Со-зонов. — Ну почему он исполнитель?
— Так решено, — пожал плечами Савинков. — Центральный комитет назначил его. Он Боголепова должен был убить, да опередили. Заслужил, все-таки три года ждет. Авель, вы все боитесь, что на ваш век не хватит?
— Боюсь, — честно сознался Авель. — Он уберет Плеве, начнется революция, кому я буду нужен?
— Да успокойтесь вы, разве они сдадутся так сразу? Кидать нам не перекидать!
— Вы клянетесь, что следующим буду я?
Савинков усмехнулся:
— Обещаю, но не клянусь. Все может перемениться, и вы будете нужны на более крупную дичь.
— На кого?
— Например, на государя...
Созонов замолчал, потом нерешительно возразил:
— Я не могу поднять руку на помазанника Божьего.
— Вот как? — удивился Савинков и даже поперхнулся дымом. — Плеве убить готовы, а Николая нет?
— Я не могу идти против воли Божьей,— укрепился в своей правоте Созонов. Лицо его окаменело. — Я не стану убивать избранника Господа, какое бы зло он ни творил. Все во власти Всевышнего.
— Хорошо, — взял себя в руки Савинков. — Хорошо, что сказали мне это заранее.
— Здравствуйте, господа! — Запыхавшийся Покотилов распахнул объятия, обнял и трижды поцеловал Савинкова. — Здравствуйте, Викентий! Здравствуйте... — Он запнулся, не зная, как именовать извозчика.
— Это Авель, — коротко пояснил Савинков.
— Здравствуйте, Авель!
Чуть помедлив, Покотилов поцеловал и Созо-нова, но только один раз.
— Господа, я уверен в удаче. Уверен, что именно я, я убью Плеве! — Он поискал глазами купола лавры, перекрестился: — Господи, прости меня, грешного! — и как к родному обратился к Созо-нову: — Авель! На святое дело идем! На святое...
Меж могил вдалеке показались двое дежурных городовых. Не видя никого вокруг, они по молодости и по избытку душевного здоровья нарушали порядок — кидались, точно маленькие дети, снежками.
— Городовые...
Покотилов возбудился и стал оглядываться в поисках врага:
— Где? Где?
Увидев городовых, он вырвал из кармана маленький дамский револьвер:
— Уходите! Я удержу их на несколько минут! — и сделал несколько быстрых жертвенных шагов в сторону городовых.
Савинков еле успел в два прыжка догнать его и остановить.
— Что вы делаете?! С ума сошли? Спрячьте свою игрушку!
— Уходят. — Созонов даже не тронулся с места, и это спокойствие понравилось Савинкову.
Покотилов такими же быстрыми шажками вернулся к могиле бедного Петра Ильича, со страхом внимавшего непонятной возне вокруг места его успокоения.
— Это к удаче! Вот увидите, это к удаче! Бог послал нам последнее знамение. Он благословляет на террор! — В подтверждение благословения Покотилов быстро достал из кармана фляжку и сделал пару изрядных глотков коньяка. — Нас мало сейчас. Вы увидите: завтра будет много! Потом меня не станет. Я счастлив этим, я горд!
Через неделю, максимум две Плеве будет убит! Вот увидите!
— Где вы остановились? — спросил Савинков, разжигая потухшую было трубку.
— В «Северной» гостинице.
— Бомба готова?
— Разумеется! И не одна! Я даром времени не терял. Вы мне не верите? Я вижу, не верите! Давайте испытаем ее в деле. Подъедем к Департаменту и на полном ходу швырнем в часового! И страху напустим, и бомбу проверим.
Савинков устало закрыл глаза. Всего за пять минут Покотилов собрался наделать глупостей на несколько лет вперед.
— Я запрещаю вам предпринимать какие-либо, пусть малейшие, шаги без согласования со мной, — После паузы добавил: — Вам ясно?
— Конечно, конечно, — обрадовался Покотилов. — Я ничего самостоятельно предпринимать не буду. Я чту партийную дисциплину. Я просто выдвигаю инициативы, понимаете? Инициативы, не более того!
— Ладно. Расходимся. Завтра утром буду у вас. Посмотрю на бомбы. Выспитесь как следует. У вас кровь на лбу.
— Это нервное. — Покотилов вытер лоб платком. — Экзема. Как спать в такую ночь? Я буду молиться! За нас всех... Отче принимает нашу жертву!
— Поменьше про Отче, — пробурчал Савинков. — Расходимся так же, как и пришли. Идите первым.
— Конечно же, конечно! — Покотилов приподнял каракулевую шапку-пирожок. — Жду вас! Жду вас утром.
И ушел, крестясь на собор.
Они постояли, Савинков докурил трубку, выбил пепел из чубука об ограду Петра Ильича.
— Пошли, брат Авель.
Созонов шел впереди, вроде как показывая барину дорогу.
— Послушайте, это все-таки несправедливо. Почему он? Я должен убить Плеве. Каина должен убить Авель.
— Забавно. Хорошая аналогия. Успокойся. Он готовился и знает бомбу.
Уже сидя в санках, Савинков добавил:
— Промахнется — бросишь ты. На всех хватит. Отвезешь меня к «Франции».
Созонов тронул сани с места и покачал головой:
— Несправедливо.
И, проезжая мимо часовни, неслышно задвигал губами, читая дорожную молитву.
* * *
Филер Фрол Правдюк всю свою короткую жизнь очень старался. И все из-за происхождения. Его отец, бедный малоземельный Псой Тихонюк, никогда особым тихоней не был, постоянно высовывался из толпы малоземельных и кричал обидные для волостного начальства вещи, за что обычно был нещадно бит и сажаем в кутузку малость охолодиться. При переписи населения волостной секретарь уничижительно посмотрел на Псоя, сказал окружающим: «Ну какой же он Тихонюк? Он правдюк!» — и записал свое изобретение страдальцу в паспорт. Псой Правдюку обрадовался и стал вылезать вперед много чаще.
Фрол, закончив четыре класса местной церковно-приходской школы, поступил в услужение к дальнему родственнику, купцу Тихонину, торговавшему рождественскими гусями и битой птицей по сезону. Вместе с купцом прибыл в столицу, где и занял место сидельца в лавке средней руки на Сенном рынке. Он очень старался, но из-за особого усердия у него все получалось как-то не в лад: то недосчитает, то обсчитает, то обвесит, то недовесит. Но память на физиономии у него была замечательной. Он помнил всех мелких воришек, за что последние его и невзлюбили: на опознания вызывали Фрола, он сыпал фактами, адресами и приводил обворованных людей. За такую замечательную память его и призвали в Охранное отделение, агентом наружного наблюдения.
Лично Евграфий Петрович Медянников осмотрел новобранца, внешним видом остался доволен: рост чуть ниже среднего, лицо никакое — два глаза, уши и рот с носиком, голос тихий, примет особых никаких, походка быстрая, усики так себе, задница сухая, умом обижен, усердием нет. «Пойдет!» — сказал Медянников.
Правда, была у Правдюка одна особенность, она обнаружилась несколько позже: не любил инородцев,*на дух не переносил. Вынюхивал их везде, чуял примесь чужой крови безошибочно. Оно и неплохо иметь такого под рукой, вот только надо было ему раза два в неделю давать по шее для острастки. А так — терпимо.
Вот и сейчас Медянников, проводя профилактический осмотр Апраксина двора, пошел на шум толпы и мигом узрел чрезвычайно довольного Правдюка, возглавлявшего немалую ватагу, человек во сто, все время разбухавшую от притока любопытных извне и свистящую разбойничьим посвистом. В обеих руках счастливый Правдюк держал двух длиннокосых и косых от страха китайцев.
— Шпиёнов пымали! — радостно кричали в толпе, призывая к скорому военно-полевому суду. — Записывали! Бей макак! На фонарь их!
Медянников сразу определил китайцев как безвредный торговый элемент: что делать японским шпионам в этом людном месте? Что за тайны Апраксина двора? Однако лезть в толпу наперерез не стал, зная, что тут же может обратиться в пособника шпиона со всеми вытекающими оттуда последствиями, из которых битая морда будет самым малым и радостным событием.
Он следовал рядом, выжидая удобного случая. Правдюк уже понял, что из-за своего дурацкого усердия не он владеет ситуацией, а толпа владеет им и его трясущимися от страха пленниками. Уже выбежали из шорной мастерской два подмастерья с новыми вожжами в руках, на ходу профессионально завязывая петлю и присматривая подходящий фонарный столб.
Когда с таковым поравнялись, мастеровитые добровольцы быстро оседлали чугунную вершину и присобачили вожжи. Как и во всякой казни, наступил тот самый тягостный момент, когда из толпы должен выделиться носитель ее духа и взять на себя нелегкие функции распорядителя кровавым зрелищем. Промедление было бы подобно смерти, уже витавшей над сынами Поднебесной.
Медянников взял эту неприятную миссию на себя. Он достал из кармана револьвер, скорчил ужасное лицо и два раза выстрелил в воздух. Тишина наступила удивительная, точно Христос спустился на землю и приготовился напитать всех пятью краюхами ржаного и напоить пятью бутылками хлебного вина. Евграфий Петрович выстрелил еще раз, чем окончательно завоевал господствующие идеологические высоты. Один из шорников от испуга спелой грушей упал вниз. Тишина усилилась — слышно было, как из носа одного китайца течет кровяной ручеек. Где-то далеко-далеко заржала лошадь.
— В Генеральный штаб их! Чтоб указали на предателей!!
Голос Медянникова пробудил в слушателях высокие патриотические чувства.
— В штаб! Штаб! Предатели там!! — подхватили медянниковскую мысль наиболее понятливые.
Тут же нашлась крытая фура, фурман с широко сияющим лицом самолично мобилизовал себя в пользу действующей армии, китайцев мгновенно забросили внутрь, туда же залез бледный от страха Правдюк, Медянников же опытно прикрыл отступление.
— Спасибо, чудо-богатыри! — прокричал он традиционное царское приветствие.
Местные добрыни ответили разношерстным и хилым «Ура-а-а-а...» и угасли, потихоньку рассасываясь. Зрелище увяло, пора торговать.
Евграфий Петрович на прощанье дал залп из одного ствола и медленно удалился. Два тяжеловоза взяли рысью, но у них было свое понимание этого аллюра, так что ехать до Генерального штаба пришлось бы долго.
Однако туда Медянников не спешил. Завернув к цирку на Фонтанку, он велел остановиться, раскорякой сполз с облучка (резкие движения разбередили-таки старые филерские раны-прострелы) и пальцем выманил бедного Правдюка на белый свет. Китайцы от греха подальше спрятались под сырые рогожи, наваленные в углу фуры.
— Фрол Псоевич, голуба моя! — ласково начал Евграфий Петрович. — Какого рожна ты записал этих двух сяо-мяо в японские шпионы?
Правдюк стоял, глотая заслуженные слезы, и в последний раз смотрел на милый свет, который внезапно стал ему не мил. Он давно уже все понял и теперь желал лишь одного — быстрой смерти от руки близкостоящего начальства.
— Ну что мне с тобой делать? — простонал Евграфий Петрович, чуя нехристианский зуд в кулаках.
Правдюк шмыгнул носом и повесил голову меж узких плеч:
— Вижу, стоят с косами, пишут в бумажку что-то. Я заглянул туда через ихнее плечо, вижу эти самые... ну как их там?
И он протянул листок желтой рисовой бумаги Медянникову. Тот уперся взглядом в бумажку, чисто баран в свежеструганые ворота. На бумажке чернели незнакомые враждебные письмена. Что они означали, одному китайскому богу известно. А поскольку китайский пантеон насчитывает великое множество богов на все случаи жизни, понять там что-либо даже искушенному взгляду было невозможно.
— Может, отвезем их туда, — и Правдюк, шмыгнув носом, показал на родное здание Департамента полиции. — Близко уже, Евграфий Петрович... А так что с ними делать?
И Медянников сдался. Настало не его время: поймали китайцев, а понять он уже ничего не может. Придется отвезти и сдать в дежурную часть. Правда, позору не оберешься, засмеют, но ведь стыд не соль, глаза не выест.
— Поехали, черт с тобой да с этими твоими китайцами!
Правдюк легко вздохнул полной грудью. Слава Богу, пронесло, морда цела, теперь за все старшой отвечает.
Привезли китайцев, и тут сразу пронесся слух: фартовый Евграфий Петрович шпиона поймал! Да не одного, а целых двух! Искали, ироды царя небесного, тайну Апраксина двора, но не нашли, потому что ученик филера Фрол Правдюк узрел иностранную крамолу в зародыше и пресек действия враждебных агентов! Так и было записано в дежурной книге дежурным штабс-ротмистром Жеваго.
Дальше все стало напоминать сказку: из Генерального штаба приехали два офицера с караулом и увезли обоих китайцев и Фрола Правдюка в качестве... пока еще неизвестно кого.
По слухам, пришедшим сверху (вниз они приходят чуть раньше, потому что работают обычные законы физики падающих тел и слухов), были призваны виднейшие специалисты-синологи (в Департаменте решили, что это новейшая разведывательная специальность), которые по прочтению документа признали за ним отличную от нуля вероятность быть зашифрованным иероглифическим документом. Дескать, простое перечисление товаров могло быть списком воинских частей, готовящихся выступить на Дальний Восток.
Через два часа Правдюк вернулся в родную филерскую, обласканный чинами Генштаба, с наказом держать за зубами результаты расследования, что он и делал, чрезвычайно глупо улыбаясь и не отвечая ни на какие каверзные вопросы. В довершение всего он достал из кармана почти целую пачку дорогих господских папирос «Бильбао» и нагло закурил, всем своим видом показывая, что отныне фортуна повернулась к нему лицом.
Медянников вздохнул, рука дернулась дать наглецу по шее, но не дала, о чем Евграфий Петрович впоследствии жалел.
* * *
Солнце садилось в ясную линию горизонта, освещая поздними оранжевыми лучами арабскую гостиную в доме князей Урусовых. Гостиная была так плотно увешана и устлана коврами, что истинный цвет обоев определить не было никакой возможности. Хотя нет, вон в углу что-то синело! Итак, обои были синие, цвета бедуинского плаща.
Князь Урусов сидел, закутавшись в бедуинский плащ, курил кальян и рассказывал об арабских обычаях. Он только что вернулся из небольшой прогулки по Аравийскому полуострову. Все, что привезено, включая семь сортов фиников, было разложено на низком столике, перед которым нужно было сидеть, поджав ноги и всем видом оказывая предпочтение бедуинскому способу кайфа.
Маленький князь Александр восторженно ползал по коврам, жевал финики (косточки были извлечены!) и привыкал к родному отцу, иногда путаясь в показаниях и называя папой Путилов-ского. Тот краснел, а княгиня Анна улыбалась спокойной материнской улыбкой и направляла сына в сторону официального отца.
Согласно восточному гостеприимству, раскуренный хозяином кальян перешел к гостю. Путиловский вдохнул холодный тяжелый дым, пахнущий свежеочищенным яблоком, закрыл глаза и погрузился в бедуинские грезы.
...Наполненная народом СенНая площадь. В центре толпы стоит эшафот, на эшафоте палач в красной рубашке засучивает рукава, обнажая мускулистые белые руки. В дубовую плаху (на таких местные мясники за сорок секунд разделывают свиную полутушу.) воткнут гигантских размеров топор, и солнце блестит на его сверкающем полированном лезвии. Чувствуется, что палач свою работу любит и гордится ею и что народ любит своего палача и любуется им...
Путиловский глотнул свежую порцию прохладного дыма и приоткрыл глаза. Маленький князь, устав ползать, свернулся калачиком возле матери, подложив под голову цветастый шелковый валик, и тихо посапывал в две ноздрюшки. Анна перебирала в пальцах его длинные каштановые кудри. Князь тем временем, раскурив следующую порцию восточного дурмана, а именно гашиша, повествовал о своей одиссее:
— ...У этих пустынных племен совершенно отсутствует цивилизованный суд. При мне одну молодую женщину забросали камнями только за то, что она изменила своему мужу. Он первый бросил в нее камень и ушел, обливаясь слезами. Я спросил: почему он плачет? А мне отвечают: любит! Тогда зачем ее убивать? Простите и прощаемы будете! Нельзя, говорят, прелюбодеяние должно наказываться смертью. А согрешивший мужчина? Он же тоже был, говорю. А они: он не виноват, он молодой и одинокий, он не выдержал искушения. Я говорю: давайте я ее выкуплю! Не дали... дикий народ! Не смешно ли? Не правда ли, Аня?
И он захохотал. «Почему он смеется?» — удивился Путиловский, поймав взгляд Анны, одинаково ласково переходящий с мужа на любовника и обратно. Видно было по всему, что оба ей дороги одинаково, но сын дороже всего и что такой матриархат совершенно удовлетворяет все ее инстинкты. А битье камнями княгине не грозит, ибо на Руси давно живут цивилизованные люди.
Вошедшая нянька унесла обмякшего от сна маленького князя. Анна разлила по чашечкам из арабского узорчатого матового стекла расплавленный обжигающий кофе. Дым кальяна, смешавшись с гашишным, одурманил Путиловского до такой степени, что и глаза закрывать уже не надо было. Это облегчило положение гостя — он вроде бы и слушал хозяина, и при этом занимался своими грезами.
— ...Сидят на корточках целыми днями и даже не разговаривают — просто думают! Оттого там и зародились и христианство, и ислам! У людей есть время подумать. Пьеро, вот если бы нашего мужика заставить думать две тысячи лет, он бы тоже выдумал что-нибудь гениальное? А? Но у нас нет этих двух тысяч! Ха-ха, не смешно ли?
Действительно забавно.
...Толпа терпеливо ждала загодя обещанного зрелища, забавляя себя сытными прожаренными семечками, квасом и красными девками, для такого случая принарядившимися в модные бархатные кофточки с двумя рядами перламутровых пуговичек, распираемых изнутри мощными крестьянскими грудями. На отдельном свежесрубленном подиуме находилась публика много чище: молодые офицерики с девицами, почтенные матроны с лорнетами, недвижно уставленными на плаху, и женщины бальзаковского возраста с томиками Бальзака в руках. Все терпеливо сносили тяготы записных зевак — жару, мух и долгое ожидание.
Палач прохаживался по помосту и пару раз, дабы показать свое искусство и крепость оружия, вонзил топор в плаху, каждый раз с видимым трудом освобождая застрявшее в тугой дубовой древесине лезвие. Толпа приветствовала упражнения палача одобрительным жужжанием, точно медоносные пчелы слетелись со всей округи на богатый урожай нектара и только ждут условленного сигнала, чтобы приступить к сбору...
— ...Нам обязательно нужно завоевать средиземноморские проливы. Для этого надо просто взять Константинополь. И все! Османская империя развалится как карточный домик! Они же ненавидят друг друга — армяне, болгары, курды, хазарейцы, палестинцы. И турки, само собой... Это осиное гнездо можно уничтожить одним ударом. Вот дадим прикурить японцам — и надо тут же двигать все дивизии, пока они не остыли от побед, к турецкой границе! Я тебя уверяю — даже простые турки хотят русского царя! Мне это они не раз говорили тайком...
...Наконец издалека по неведомым каналам поступил нервический сигнал о движении кареты со страдальцем. «Едут! Едут» — первыми закричали и забегали в тесной толпе вездесущие мальчишки. Толпа разом возбудилась и сдвинулась к помосту, кто-то в давке истошно закричал. Городовые, образовавшие живую цепь вокруг помоста, грозно растопырили свои тараканьи усы и раздвинули толпу, давая проход карете.
И точно, карета появилась как по волшебству...
— ... Далее забираем у англичан Афганистан.
— Зачем? — заплетающимся языком спросил Путиловский, чтобы хоть что-то спросить и не быть гостем-букой.
— Афганистан — это ключ к Индийскому океану.
Оказывается, мы тем временем уже благополучно вышли к Индийскому океану! Дай Бог, дай Бог...
...Из кареты выскочили два плотно сбитых помощника палача и ловко вытянули какой-то куль. Куль вдруг распрямился и оказался до пояса человеком, а выше — мешком, надетым на его голову. Поскольку он не видел, куда двигаться, человек-мешок застыл на месте, поворачивая головой внутри темноты и стараясь определить свое место в этом мире и свою ближайшую судьбу. Ничего хорошего крики, начавшиеся при появлении узника, не предвещали: «Смерть! Смерть!!» — скандировала толпа. И вдруг замолкла.
С головы человека сдернули мешок. Ослепленный солнечным светом и опьяненный свежим воздухом, он несколько секунд стоял, совершенно не ориентируясь в окружающем пространстве, жадно вдыхая воздух и крутя головой в поисках незамысловатой правды жизни. Первым он увидел красное пятно, рубаху палача...
— ...У нас в руках очутятся все стратегические точки современного мира! С севера мы контролируем Европу, через Босфор и Дарданеллы мы диктуем свою волю Балканам, а на юге мы держим в руках все ниточки — от Красного моря до самой Австралии. Кстати, Пьеро, не хочешь составить мне компанию?
— Хочу, — еле провернул язык во рту Путиловский.
— Я собираюсь в Австралию. Надо убедиться, действительно ли там так много кенгуру.
Путиловский начал мучительно вспоминать все, что знал об этих животных. Выяснилось: почти ничего, кроме как прыгают.
— Отчего такой интерес?
— Хочу заселить ими наши Сальские степи. Представляешь себе — тысячные стада кенгуру!
— А зачем нам в России тысячные стада?
— У тебя нет деловой фантазии! Подумай только: мясо, шерсть, кожа на воинские ботинки. А если приручить? Я уже все прикинул. Взрослая самка кенгуру легко скачет с детенышем весом в десять —пятнадцать кило...
Путиловский представил себе скачущую Анну. В руках у нее лежал спокойно спящий Александр. Зрелище было убогим: через несколько прыжков Анна захромала и скакать перестала...
...Он стоял на помосте рядом с палачом. Палач одной рукой покровительственно приобнял жертву, вторую картинно положил на рукоять топора. Так они застыли на несколько секунд, ожидая, пока фотографы наведут свои зачехленные черной материей треноги и изящным жестом сдернут кожаные колпачки со всевидящего ока.
Невиданное ранее зрелище являла собой съемка туманных картинок; аппарат был открыт полностью, сбоку торчала ручка-кочерга, которую оператор вращал с удивительной плавностью. Какие-то обалдуи с открытыми аденоидными ртами встали перед оператором, закрыв своими дебильными лицами всю панораму казни, но на такой случай был припасен мужик со свирепым лицом, быстро давший всем обалдуям по шеям. Казнь началась...
— ...Каждая кенгуру сможет переносить на поле боя в своей сумке не только боезапас — патроны и снаряды в специальной упаковке, но и провиант, лекарства и донесения в штаб!
— Но ведь их могут подстрелить!
— В этом вся соль. Это исключено! Я провел сравнительный анализ движения пехотинца, лошади, собаки и кенгуру. Из всех этих животных только кенгуру совершает одновременно движения по двум координатам — горизонтальной и вертикальной. Вероятность попадания при шквальном огне уменьшается в четыре раза! Это очень большая цифра. Стреляющий никогда не сможет приспособиться к траектории прыжка кенгуру, тем более что эти животные могут менять не только направление прыжка, но и его высоту, и дальность!
— Откуда ты это все придумал?
— Вычислил! Вычислил, дорогой Пьеро! А теперь все это надо реализовать на практике: приехать в Австралию, там отстреляться по кенгуру для проверки и вывезти маточное стадо в двадцать, тридцать голов с тремя-четырьмя производителями в Сальск. И все! Через несколько лет мы с тобой станем сказочно богатыми, поставляя обученных кенгуру российской армии. И к тому же я уверен, что на нашей траве и при нашей зиме они превратятся в могучих животных. Возможно даже поставить самцов под седло. Калмыки ведь легкий народец! Только тсс, никому! Украдут идею! Я уже нарисовал схему упряжи...
...Со связанными сзади руками класть голову на плаху было неудобно. Палачу не хотелось до-ставлять казнимому беспокойства до последних мгновений жизни — в этом и отличие истинного палача от мучителя. Интимно пошептавшись, они пришли к обоюдовыгодному компромиссу: путы развязываются, а за это жертва дает слово не убегать с места действия до его логического окончания. В знак доказательства палач показал на толпу: дескать, смерть от ее рук будет непрофессиональной и потому мучительной, а у него большой опыт, холодная голова и горячее сердце, поэтому все будет быстро и не больно. Жертва согласно кивнула головой. Ей более всех хотелось покончить с этим неприятным казусом в своей уже короткой жизни...
— ...Ты пей, пей, — Князь Серж настойчиво лил в рюмку Путиловского темно-зеленый абсент, не замечая того, что рюмка давно полна и зеленое пятно красиво растекается по медному подносу. — Они еще здорово дерутся передними лапами! А задними могут просто выпустить кишки противнику, особенно если надеть специальные боевые когти. В рукопашном траншейном бою пара боевых кенгуру выстоит натурально против взвода хорошо вооруженных гвардейцев. Из траншеи на бруствер — раз! Два прыжка — и снова в траншею, но уже со спины противника — раз! И двух как не бывало! И снова прыжок!
Теперь князь в специальной трубочке размял и закурил светло-коричневый шарик опиума.
Дым стал густым и сладким, грезы приобрели натуральную плотность...
...Вынув из жилетного кармана золотые часы, жертва вручила их палачу, показывая тем самым, что не держит зла за будущую несправедливость. Толпа ответила на это рукоплесканиями и криками «Браво! Браво!» — здесь умели оценить настоящее благородство. Палач принял дар с подобающей моменту скромностью, показал часы публике, чтобы она тоже смогла порадоваться, и бережно убрал жирно сверкнувшую на солнце луковицу в задний карман, где она выделилась заметным бугорком, приятно щекотавшим ягодицы...
— ... Как только заинтересовать Генеральный штаб боевыми кенгуру? Они же все косные и тупые, не видят дальше собственного носа! Вот возьмем эти летающие швейные машинки, которые изобрели братья Райт. Ну как их там... эро... эро... тьфу!
— Летающие швейные машинки? — удивился Путиловский, в общении с князем Сержем запретивший себе чему-либо удивляться. — Разве швеи летают?
— Аэропланы! — вспомнил князь. — Это же гениально! Строим большую машинку, нагружаем бомбами и летим над противником. Бабах — и нету!
— Ты же только что собирался скакать на кенгуру!
— Вот видно сразу невоенного человека. — Князь снисходительно затянулся сладкой струей опиума. — Рода войск взаимно дополняют друг друга. Вначале я обрабатываю позиции с... ну с этих!
— Швейных машинок?
— Аэропланов. А потом стремительной лавой проходят мои калмыки верхом на боевых кенгуру! А сзади скачет обоз мамаш с провиантом и боеприпасами. И молодняк, обучаясь на ходу. Корма везде — завались.
Что-то знакомое было в железной логике князя. Действительно, ведь первые люди, приручившие коня, тоже выглядели безумцами. А те, кто догадался приспособить верблюдов? Ну чем верблюд лучше кенгуру? Безумен только первый шаг, вернее, мысль, а потом все развивается очень логично и последовательно! Опиум вверг основателя новой проавстралийской армии в краткий сон, что позволило Путиловскому завершить тревожащие душу грезы...
...Белую рубашку палач разорвал по вороту, оторванный лоскут картинно бросил по ветру в толпу, отчего та мгновенно заволновалась и принялась хватать плавно опускающийся счастливый кусок ткани. Послышался веселый смех, ведь обладатель сего плата мгновенно становился счастливчиком, ну, может быть, чуть менее важным, нежели палач и жертва, — не менее чем третье лицо в этой трагедии, что уже почетно. Даже два премьера на несколько секунд остановили свое кровавое действо и стали с неподдельным интересом следить за траекторией легкой шелковой ткани. Неожиданно подпрыгнув выше всех, лоскуток ухватила молодая девушка, по виду из среднего сословия, небогатая, но миленькая. Все обрадовались: теперь она быстро выйдет замуж, будет счастлива и плодовита. Палач свободной от топора рукой даже сделал ей нескромный поощрительный жест: дескать, ты должна со мной за это расплатиться полной мерой! И этот жест вызвал в свою очередь одобрительный смех толпы. Палач стал еще милее и симпатичнее.
Тем временем жертва поудобнее умостила свою шею на плахе, что сделать было трудновато, поскольку шея была короткой и широкой — палачу придется продемонстрировать все свое искусство. На площади воцарилась мертвая тишина. Слишком серьезное дело предстояло тем двоим: одному — расстаться с жизнью, а второму — эту жизнь отнять. Все понимали, что задача второго неизмеримо сложнее и что теперь уже ясно, кто главный в этой чарующей сердце игре. Палач взялся за топорище двумя руками и занес широкое лезвие себе за спину, приготовившись описать им широкую дугу, в конце которой должны были в одной пространственной и временной точке встретиться шея, топор и плаха. Единство места, времени и действия.
Последним в своей жизни усилием жертва подняла голову и повела по площади взором, прощаясь с этим миром и уже вглядываясь в мир иной, просвечивающий ей явственнее, чем кому-либо. В глазах читалось одно лишь любопытство путешественника, проделавшего путь длиною в жизнь и остановившегося в самой высокой точке перевала, не позволяя себе взглянуть в ту долину, к которой он так долго стремился. Интересно, там все так, как описывали другие путешественники, так же зелено, свежо и покойно, как мечталось?
Лезвие тронулось в свой идеальный круговой путь. Описать ему надо было около трех четвертей окружности, на что потребовалась изрядная доля секунды. Уже на излете, когда до желанной шеи остались несколько десятых дюйма, внимательному взгляду Путиловского стало ясно, что душа жертвы уже покинула бренное тело и чуть сбоку с любопытством взирает на совершенно бесполезную казнь неодушевленного, которая не может быть приравнена к казни, а является простым отделением туловища от головы на потеху публике. (Такова молодецкая игра мясника для покупательницы с целью очарования последней и возможного получения платы натурой, ежели покупательница не слишком высокородная особа. А впрочем, есть ли разница, какого рода эта особа?)
Толпа ахнула ранее, чем острое лезвие топора прошло сквозь шею, не почувствовав никакого сопротивления, как и шея не почувствовала никакого проникновения в себя. Атомы топора прошли мимо атомов тела, не вызвав ни малейшей взаимопроникающей реакции. Все кончилось, не успев произойти. Некоторые фотографы сумели сделать снимок до того, как голова упала в плетеную ивовую корзину, некоторые — после, но истинного успеха добился лишь механик при аппарате для туманных картинок. Все фазы полета топора и головы он вечером проглядел по отдельности, смакуя свою власть над временем и жизнью человека. Вот он пускает пленку в обратную сторону, и — о чудо! — голова из рук палача исчезает в корзине, затем вылетает оттуда и накрепко прилипает к ранее мертвому телу. Часы из заднего кармана сами собой возвращаются к ранее мертвому хозяину. Вся семья механика хохотала как помешанная, глядя на новую комедию, отснятую умелым отцом.
Но то было после. А сейчас палач с грустной усмешкой достал за уши (как фокусник кролика — человек был несколько лысым) бывшую в употреблении голову и продемонстрировал ее всем желающим. Все желали. Прошло секунд десять, желание медленно улетучилось, занавес опустился, и начались прозаичные будни. Голову и туловище воссоединили в мешке, и два помощника палача понесли скорбный груз к карете. Палач белым платком протер лезвие, ничуть не замаранное кровью, тщательно сложил платок и отдал некому человеку, судя по реакции, слуге покойного — он благоговейно поцеловал платок и спрятал за пазуху, ближе к сердцу. Путиловский внутренне ахнул: этот человек был вылитый секретарь Плеве Пакай...
В арабскую гостиную вошла княгиня Анна, протянула руку Путиловскому и повела его, безропотного от опиумного дыма и видений, в гостевую спальню. Князь остался грезить во сне посреди Аравийской пустыни, в каковой расстелено так много ковров, что не видно ни пяди песка.
В спальне было прохладно, темно и одиноко. Анна опытными, как у горничной, руками (откуда у нее это умение?) разоблачила догола вялое тело гостя, потом подтолкнула его к разостланной постели — оно упало с невидимым наслаждением и мгновенно спряталось под холодное одеяло. Затем так же быстро она разоблачила самое себя и скользнула тем же путем. Достигнув только ей ведомой цели, Анна покрыла острыми жалящими поцелуями жертву восточного гостеприимства, когда венцом пира является хозяйская жена.
Тело Путиловского откликнулось на поцелуи, результатом чего стала мучительная, но сладкая езда по постельным барханам, причем все это время они изображали то животное о двух спинах, то верблюда с двумя горбами, а то и боевого кенгуру с калмыцким всадником за спиной. Восточные благовония делали свое дело, и скачки растянулись до размеров Аравийского полуострова, а может, и поболе... В общем, когда они закончились, дух Путиловского был настолько мал и слаб, что покинуть тулово у него не осталось сил. Анна с сожалением вздохнула (период целомудрия у нее тянулся несколько долее периода беременности плюс кормления), подняла с ковра одеяло, укутала им безжизненное тело жеребца-верблюда-кенгуру, оделась и вышла. Наступил долгожданный сон без видений и скачек.
Но перед тем, как провалиться в спасительную тьму, Путиловский наконец понял, что его удивляло в безумных доводах Сержа Урусова относительно военного применения швейных машинок и боевых кенгуру: поразительная схожесть его программы с любой революционной. Вначале делается одно фантастическое, но желаемое допущение, а дальше все строится очень и очень логично, так что здание в финале строительства получается соразмерным, красивым и привлекательным. Если не учесть того малозначащего факта, что его фундамент замешан на соке растений, произрастающих на чистейшем песке Аравийского полуострова. Тьма проглотила все, но эта мысль осталась плавать на поверхности...
* * *
После легкого домашнего завтрака Азеф вдоль озера прогулялся к Женевскому почтамту, где у него был абонирован сейф. Туда по договоренности поступала корреспонденция на имя инженера Раскина. По дороге он встретил нескольких знакомых, с аппетитом пообщался, рассказал свои последние новости, выслушал чужие. Немного посмеялись «успехам» на японском фронте.
Оставшись с сейфом наедине, личным бронзовым ключиком он открыл замысловатую дверцу. За первой была вторая с шифром. Открыв и ее, Азеф-Раскин достал оттуда денежное письмо на получателя, вскрыл его, содержимым остался доволен и тут же в операционном зале превратил в живые деньги. Второй конверт он вскрывать не стал, ибо там денег не было. Конверт может подождать.
Один из почтальонов отозвал Азефа в сторону и поведал историю, рассмешившую «русского» толстяка. К нему и к ряду его товарищей-почта-льонов вот уже неделю пристает один человек с просьбой за деньги показывать ему корреспонденцию из России. Естественно, они ему в этом гневно отказали, и коллеги просили рассказать все это кому-нибудь из русских. Он выбрал господина инженера и уверяет его в благонадежности всех швейцарских почтальонов: почтовый долг для них превыше всего! Письмо должно быть вручено адресату лично. И точка.
Азеф крепко пожал почтальонскую руку и заверил, что российская колония будет знать об этом возмутительном факте. Как фамилия этого настойчивого гражданина? Да, это простая русская фамилия, он ее запомнит. Спасибо за информацию.
Забавная история. Надо будет написать об этом. Смешно.
Он любил радовать себя дорогими подарками в случае прихода трудовых доходов. Вот и сейчас зашел в мастерскую братьев Маркс, где давно присмотрел себе трость черного дерева, полую, со стилетом внутри и ониксовым набалдашником в виде лисьей головки. Стоила трость недешево, но она стоила того. Не то чтобы он боялся нападения — он действительно боялся, но при этом понимал, что лучше отдать все, нежели потерять жизнь. Просто он с детства любил красивые вещи, в душе понимал, что в нем умер великий ювелир и ценитель антиквариата, но не мог позволить себе тратить много, не вызывая подозрений у жены и товарищей по партии. Трость, однако, относилась к внешним атрибутам приличия: он не должен вызывать подозрений дикой псевдореволюционной внешностью. Многие «товарищи» из России прибывали именно в таком обличии. Один лишь Савинков сразу был одет барином, чем и понравился Азефу.
Уговорив себя таким образом на покупку, Азеф отдал деньги, любовно взял лисью головку в руку и пошел домой, чувствуя себя относительно счастливым. Он давно понял, как мало и как много одновременно нужно человеку для полного счастья. Чтобы порадовать Любу и детей, он зашел в их любимую кондитерскую и попросил наполнить коробочку пирожными — по паре каждому. Азеф был хорошим отцом, добрым и справедливым. Дети не должны страдать за грехи отцов.
Дети обрадовались пирожным, Люба обрадовалась толике денег, мир и согласие воцарились в этой на первый взгляд буржуазной семье.
Более всего, как ни странно, Азеф уважал эту европейскую буржуазность и всеми доступными ему средствами приближал Россию к своему идеалу. Вот и сейчас, уединившись в кабинете, он первым делом стал писать письмо в Департамент полиции, начальнику Особого отдела Леониду Ратаеву.
ДОСЬЕ. РАТАЕВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ.
1857 года рождения. Из дворян. Род Ратаевых происходил от татарина Солохмира. В1878 году закончил Николаевское кавалерийское училище. Корнет Уланского полка, штабист 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. С 1882 года чиновник особых поручений Департамента полиции, с 1894 года глава Особого отдела.
Профессиональный драматург, несколько его пьес поставлены московскими и петербургскими театрами.
«...Ваше письмо и деньги я получил. Спасибо! Встретил Левита. Левит едет теперь один, без жены. Одет он в черное пальто; черная с проседью борода, среднего роста, — скорее можно его назвать невысокого роста, полный; маленький лоб, орлиный нос, красивые глаза; одет он не франтовато, средне, мягкая черная шляпа; он может переодеться, конечно.
Упомянутая в прошлом Любовь Аксельрод переехала в Женеву, и говорят, что от “Искры" туда поедет Троцкий; хотя другие утверждают, что Троцкий туда не поедет, так как произошел раскол в редакции “Искры”, что от нее отделились П. Аксельрод, Вера Засулич, Мартов (забыл его настоящую фамилию), Крохмаль, Троцкий и Блюменфельд и что эти господа едут в Париж и думают там основать другую газету — социал-демократическую. Предмет разногласий этих господ с Лениным и Плехановым — это организационный принцип. Ленин и Плеханов желают, чтобы Центральный Комитет партии был перенесен за границу и все дела сосредоточились бы в руках Ленина и Плеханова. Оппозиция же их думает, что ЦК социал-демократов должен быть в России.
Здесь установлен один из ваших сотрудников, некто Рабинович. Этот Рабинович обратился к целому ряду почтальонов с просьбой за деньги показывать ему корреспонденцию. Ведет он себя крайне глупо и всем навязывается на знакомства. Этого дурака надо отозвать, и побыстрее, а то он наломает дров.
Всего хорошего, жму руку.
Ваш Иван».
Он аккуратно заклеил письмо, наклеил марки и после этого тонким до чрезвычайности инженерным карандашом предельной твердости нанес на конверт в условленных местах три волосяные линии. Не знающий об этих линиях перлюстратор наверняка нарушит целостность картинки и тем самым выдаст себя.
Исполнив долг по правильному обустройству российского общества, Азеф принялся за отложенное письмо, которое было подписано ничего не значащей фамилией чиновника Министерства внутренних дел — Ванчугов. На обороте конверта он нашел две тонкие карандашные линии, точно такие же, какие нанес перед этим, — по договоренности эти линии рисовал Пакай. Бумагу от Пакая Азеф исследовал долго, затем отворил походный шведский сейфик для личных бумаг и тщательно спрятал туда террористическую схему Путилов-ского, а сопроводительное письмо Пакая сжег в пепельнице.
Откинувшись в кожаном кресле, Азеф расслабился, созерцая пустынную в это время года гладь Женевского озера. Прожив молодые годы в Ростове, он полюбил воду в любом ее проявлении, будь то озеро, ванна, душ или дождь, в море любил заплывать далеко и, перевернувшись на спину, глядеть в небо. Благодаря природной толщине Азеф держался на воде подобно поплавку.
Однажды на спор он сплавал наперегонки с политическим противником социал-демократом Ульяновым-Лениным и выиграл. Тот молотил воду как бешеный, высовываясь из нее по пояс, а Азеф, несмотря на размеры, плыл плавно и быстро — как его учили ростовские рыбаки. То-то было радости в стане эсеров, презрительно считавших эсдеков чахлыми теоретиками, неспособными на революционный поступок. «Лишнее доказательство правоты нашей партии!» — сказала «бабушка русской революции» Брешко-Брешковская и поощрительно похлопала Азефа по щеке, чего он терпеть не мог, но перетерпел.
ДОСЬЕ. БРЕШКО-БРЕШКОВСКАЯ ЕКАТЕРИНА.
1844 года рождения. Урожденная Вериго, из дворян. Участница народовольческого движения 1870-х годов. Осуждена по «процессу 193» на каторгу. В 1896 году, вернувшись из каторги в Европейскую Россию, разъезжает по стране, пропагандируя идеи народничества. Одна из главных организаторов и лидеров партии эсеров. В 1902 году помогает Гершуни формировать Боевую организацию. В 1903 году под угрозой ареста выезжает за границу, где занимается мобилизацией эсеровских сил для работы в России. На первый план ставит массовую работу в крестьянстве.
Когда вся эта тьмутаракань закончится: с политической сцены будут устранены недостойные, в России произойдет революция, будет создан нормальный европейский парламент, страна встанет с колен и войдет полноправным членом в мировую цивилизованную семью народов, — он отойдет от партийных дел. К тому времени его персональный счет в лозаннском «Свисс банк» округлится до приемлемой цифры в... Он задумался, сколько же денег хватит ему и семье для безбедного существования на одни лишь проценты? Из ящика стола достал любимую логарифмическую линейку, движок быстро задвигался, на лист бумаги легла цифра. Однако очень солидно...
Надо будет проверить и поторопить Савинкова. Черт знает чем там занимаются, сорят деньгами направо и налево, а толку никакого! И не пошлешь никого, и самому ехать опасно. Он не должен оказаться в России в эту секунду. Он должен быть здесь и делать вид, что не замаран в этой истории ни малейшей своей частью.
Из Сан-Франциско не пишут, но это ничего не значит. Там напряженно ждут результата люди, в чьей власти он не сомневался и собирался рано или поздно стать одним из них. Господи, неужели это когда-нибудь произойдет?
Азеф тряхнул головой, прогоняя наваждение, и по инженерской привычке стал набрасывать пункты, необходимые для претворения в жизнь всех его ближайших планов. Под номером 1 стояла фраза: «Перевести внимание ОО с П. на Л.». ОО означало Охранное отделение, П. — Плеве, Л. — Лопухин.
После прогулки и покупки трости аппетит разыгрался порядочный. Можно бы уже и отобедать! Он достал плоские карманные часы. Животик хорошо бы немного убрать, надо будет съездить на месячишко в Баден-Баден, попить тамошней целебной водицы, что-то почки пошаливают.
Два часа дня. Однако он заработался, нельзя так много напрягаться, пора и расслабиться.
И тут снизу донесся Любин голос:
— Евгений! Дети! Обедать...
Ну что ж, в жизни есть место революционному подвигу, но оно маленькое и преходящее. А кушать хочется всегда. И, напевая в усы модную кафешантанную песенку, по скрипящей лестнице из темного мореного дуба он стал радостно спускаться навстречу обеду.
Иоанн, послушай... да не спи ты! Соня!
Берг вынырнул из короткого сна, в который его повергло полное истощение всех его хотя и молодых, но небеспредельных сил. Вначале, на первом свидании, он не понял сути происходящего и даже обрадовался, найдя в лице Лидии достойную партнершу. Но только сейчас ощутил, что, пожалуй, взвалил на себя ношу не по плечу. Одному. В этом деле отчаянно нужен компаньон. Или даже два-три.
Первое свидание прошло на ура. Как только он появился в особняке баронессы, его препроводили в ее рабочий кабинет. Сразу же был подан ужин на две персоны и громогласно (для барона) было заявлено, что они с поручиком будут целиком и полностью заняты устройством нового противопожарного благотворительного общества содействия детям-сиротам, пострадавшим от огненной стихии.
Очевидно, в этой паре Бергу отводилась роль сироты, а баронессе — огненной стихии, потому что не успели остыть следы бедного барона, с облегчением ушедшего до утра в клуб тихо тратить наследство своих, к счастью, уже покойных родителей, как не начавшийся ужин был прерван исключительно по сексуальной инициативе баронессы, впившейся вместо устриц в Берга со страстью морской медузы, наконец-то обретшей чью-то живую плоть.
К внезапному нападению бедняга Берг готов не был, заранее подготовленных тылов у него не оказалось, так что с первых минут бешеного соития вся инициатива перешла полностью на сторону баронессы. Сорвав с Берга остатки одежды, она ловкой подножкой свалила окаменевшего от испуга поручика на пушистый ковер и оседлала его, как в детстве дети седлают поверженного соперника по играм, требуя от него одного лишь крика: «Сдаюсь!»
Но сейчас от Берга требовалось совсем другое — не сдаваться до последней капли крови. И Берг держался. Первые секунды его сильно напугали, на что организм ответил совершенно естественной реакцией и попытался спрятаться внутрь. Попытку затруднило несколько суховатое телосложение поручика, где для пряток почти не оставалось места. Беглец был с торжеством извлечен из своего эфемерного убежища и подвергнут пытке с пристрастием, после чего сдал своего хозяина с потрохами и перешел на службу к баронессе под псевдонимом «маленький Иоанн».
Служба была тяжелой. Вначале был дан испытательный срок, который «маленький» сдал на «отлично», потому что не выдержала сама испытательница. То есть она выдержала, но покинула дистанцию намного раньше испытуемого и, тяжело дыша, распростерлась рядом с Бергом на персидском ковре. Дыхание загнанной лошади наполнило душу Берга уверенностью в своих силах, а «маленького Иоанна» — свежей горячей кровью.
Ожидая, пока пульс баронессы упадет ниже смертельной отметки, поручик разоблачил тело любовницы, подвергнув осмотру наиболее интимные места, и осмотром остался доволен. Сама подопечная осмотру не сопротивлялась, а, наоборот, подставляла все укромные местечки, напоминая о забытых или пропущенных. После осмотра Иван Карлович безжалостно прервал послеполуденный отдых чаровницы, на сей раз исполняя роль угнетателя. Попытки избежать насилия были пресечены им с должной жесткостью, что мгновенно усмирило восставшую из пепла, и она принялась догонять убежавшего далеко-далеко «маленького Иоанна».
Так они бегали друг за другом в пределах ковра, размеры которого отпечатались в подсознании Берга как четыре Лидии в длину и три в ширину. После он промерил ковер шагами, а Лидию пальцами и убедился в правильности такой весьма интуитивной и ненадежной оценки площади победы. И опять в процессе ковровых метаний кобыла баронессы рухнула первой. Берг слегка загордился своей мощью и позволил себе, лежа навзничь, выкурить первую за эти соревнования папироску. Естественно, испросив на то разрешения дамы. Дама в ответ так слабо махнула ручкой, что он даже испугался — а не плохо ли ей? Возможно, дамы высшего общества не приучены к таким лихим оборотам и он слишком взвинтил темп, в то время как надо быть медленным и печальным? В конце концов, речь идет о детях-сиротах, а в воздухе явно пахло паленым и жареным.
Тут Берг вспомнил, что он голоден и с утра не съел ни крошки. Стол был рядом, дама так же расслабленно махнула ручкой, дескать, делай что хочешь, я уже ничего не хочу... И Иван Карлович, в чем мать родила, уселся за стол и принялся жадно восполнять в своем теле внезапно образовавшийся дефицит жиров, белков и углеводов.
Во всем этом — стол, нагота, ковер, на ковре безжизненно обнаженное женское тело, по ковру в головоломном беспорядке перемешаны нижнее белье всех цветов радуги, верхнее белье и Просто белье, непонятно чье и откуда, — во всем этом был какой-то приятный упадок, можно сказать декаданс. Ваня на все уже смотрел как на привычный пейзаж и быстро ублажал себя всякого рода питательными продуктами из погреба барона. При этом он не забывал и о любовном напитке — вине, три бокала которого последовали в него безо всякой очереди. И далее приступил к птице, чью божественно зажаренную корочку проглотил сразу же. Он очень любил жареные корочки у гусей, уток и даже куриц. За корочку он готов был продать душу (но никто не покупал).
В самый приятный момент поглощения райской пищи Берг вдруг почувствовал, что сам становится предметом еды. Кто-то — а здесь не было никого постороннего — забрался под стол, приспособился к тесному пространству, нащупал там свою свежезажаренную корочку и стал ее ласково есть, помогая себе обеими руками.
Представьте себе неимоверную картину: голый джентльмен сидит за столом и с аппетитом ест, а в это время кто-то невидимый под столовой скатертью ест его! Такие же ощущения, единственные в своем роде, испытывал, наверное, покойный Кук, открывший дикарей и съеденный ими же.
Мыслями о Куке Берг смог сбить волну возбуждения, что разрешило ему продолжить трапезу. Под столом не возражали против такой схемы питания и продолжили свою трапезу тоже. Итак, в кабинете баронессы наступило так редко наблюдаемое в природе равновесие, когда и овцы целы, и волки сыты.
Естественно, подобное искусственное положение вещей долго продолжаться не могло. Внешние факторы в таких казусах играют роль спускового крючка. В дверь постучали. Из-под стола донесся голос баронессы, на долю секунды прервавшей свои экзерсисы:
- Да!
И в кабинет вошла молодая, красивая горничная. Берг застыл, как соляной столп на месте преступления. Но вот что значит английская школа муштровки прислуги! Горничная даже взглядом не повела, собрала пользованную посуду, составила ее на поднос, поставила перед Бергом чистую и удалилась, плотно закрыв за собой дверь. Иван Карлович до ужаса скосил глаза, глядя вслед красивой фигуре. Возбуждение его достигло крайней точки. И лишь в последний миг сквозь узкую щель закрываемой двери светлые очи горничной быстро прошлись по Берговой фигуре, не выказав при этом никаких эмоций, хотя одобрение им было замечено.
Берг перевел дух, но баронесса духа не перевела ни на секунду и продолжала питаться все той же бесконечной корочкой. Натурально, поручик уже никак не мог обуздать своего «маленького Иоанна», тот пустился наутек, и дело кончилось для него весьма плачевно, что случается каждый раз, когда кто-то неопытный отрывается от предводителя и пускается во все тяжкие. Плачевные дела длились не слишком долго, и все это время Берг сидел точно опустошенный. Впрочем, так оно и было.
Поняв, что дальнейшее добровольное заточение под столом стало бессмысленным, баронесса выползла на белый свет (несколько свечей погасло, так что белый свет можно было смело назвать полусветом) и, усевшись напротив Берга, как ни в чем не бывало с аппетитом принялась за еду, одновременно раскрывая перед визави все преимущества учреждения Общества помощи детям-погорельцам.
Покончив с ужином и сиротами, благотворители перебрались в спальню, причем не простым пешим способом, а оригинальным: Берг шел на четвереньках, а на его спине, приятно грея мехом последнюю, ехала баронесса, в одной руке держа блюдо с фруктами, а второй размахивая перед носом вьючного животного кистью винограда вместо морковки. Так и доехали, смеясь и дурачась. В спальне воцарилась совсем уже дружеская атмосфера. Берг был положен по стойке «смирно» и украшен оставшимися виноградинами и грушами во всех местах и местечках. После этого Берга снова начали есть, чередуя с фруктами. Такая смешанная диета возбудила новоявленных вегетарианцев до последнего градуса, который, однако, последним не оказался, а только дал начало ночным безумствам, описывать которые ни у кого не опустится на бумагу стило...
Результатом всего этого стала просто-таки физиологическая зависимость баронессы от Берга — и Берга от баронессы, правда в меньшей степени: он мог прожить без Лидии, но она уже не могла мыслить и ночи без веселья и объятий. Муж, несчастный барон, внезапно превратился в счастливого завсегдатая карточного клуба, которого никто не обвинял, не корил и не бил туфлей по щекам, когда он возвращался в родные пенаты, изрядно проигравшись.
Дуся каждую ночь верно ждала Хозяина, иногда навывая от тоски и печали одни ей понятные песни. Все собаки в округе, заслышав Дусино пение, враз начинали подвывать, отчего о Берге пошла дурная слава чернокнижника и злодея, у которого по ночам плачут души расчлененных невинных младенцев. Докладную о новоявленном маркизе Синяя Борода донесли до Путиловского, и тот разрешил Бергу иногда — но только иногда! — оставлять Дусю у Лейды Карловны, благо жили они не очень далеко друг от друга.
И без того тощий Берг за две недели устройства сирых детей сам приобрел все черты погорельца: худобу, постоянно печальный взор и черные круги под глазами. Баронесса же цвела и пахла, как майский розан, чем вызывала зависть у завсегдатаев ее пятничного журфикса. Слухи о трансцендентальных сексуальных способностях Берга в неявной форме заходили по столице.
Цвел и барон. Благодаря постоянным играм его рука приобрела искомую твердость при метании талии, и, кажется, он таки нащупал заветную систему! Никому ничего не говорил, но уже три раза подряд сорвал изрядный банчишко. Так что во всей этой истории страдальцев было два: Дуся, лишенная Хозяина, и сам Хозяин, лишаемый Дуси и здоровья.
Медянников, знавший от своих филеров и светлоглазой горничной всю подноготную Общества вспомоществования погорельцам, сказал как-то:
— Павел Нестерович! Неровен час, лопнет становая жила, помрет Ванюша без покаяния... Грех на нас с вами ляжет!
Путиловский глубоко вздохнул и задумался.
— У вас там есть осведомительница?
Медянников скромно потупился.
— Тогда велите последить за ними. И мне на стол — досье. А пока пусть побезумствует. Молодой, глупый...
Молодой и глупый тем временем спал сладким полусном.
— Иоанн, — пропела Лидия. — Ну что ты все спишь да спишь?
Берг привычно нащупал до боли знакомые контуры тела и спросонья принялся нести свой тяжелый крест. Донеся его до конца тернистого пути, сбросил и погрузился в тихую дрему, впуская в одно ухо нежное лепетание высокородной подруги.
— ...Ты должен освободить меня от этого убожества, надо мной смеются который год, мои балы должны стать самыми изысканными, а мне не хватает средств, он во всем мне отказывает, а сейчас, когда я так страдаю... — Лидия умело пустила слезу, чуть поплакала и так же умело прекратила маленький спектакль. — Ты должен сделать это!
— Что «это»?
Спросонья Берг не понял Лидию и начал делать то, что он понял, но был отвергнут. Удивительно! Ранее она себе такого не позволяла, так что данный феномен можно было посчитать за положительный знак. И Берг попытался уснуть. Но тут его стали щипать, кусать и дергать, а в завершение всего — щекотать, чего он боялся более всего на свете еще с кадетских времен.
Взвизгнув, он соскочил с постели, но был настигнут, повален, прижат к ковру и распят всем соблазнительным телом баронессы.
— Я хочу, чтобы ты избавил меня от моего мужа!
— Каким способом? — удивился Берг. — Жениться я на тебе не могу. Разве что стреляться с ним? Но это верная ссылка в Туркестан! Ты хочешь, чтобы мы вдвоем поехали в Туркестан?
— Дурак! — Голая Лидия вещала голую правду. — Какой Туркестан? Какое стреляться?! Я хочу, чтобы ты...
Тут она наклонилась и прошептала Бергу в ухо два слова. Наверное, простых по своему строению. Но эффект эти два слова произвели поразительный: все наличные на теле Ивана Карловича волосы и волосики (включая и рудиментарный подшерсток) встали дыбом! А «маленький Иоанн», наоборот, спрятался внутрь тела с головой.
Горничная, слушавшая разговор из соседней туалетной комнаты, этих волшебных слов не расслышала, но все остальное записала.
* * *
Мало кто из философов задумывался над основными вопросами бытия ближайших сородичей человека, каковыми являются женщина, пес и кот.
Несомненно, что первой приручили женщину, затем наступила очередь пса. Пес был приручен много ранее кота, когда человек жил одной лишь охотою и ему нужен был верный товарищ, соратник и защитник. Исключительно поэтому собачьих пород на земле много больше, нежели кошачьих, хотя в последнее геологическое время этот перекос выправляется. Кот появился тогда, когда человек стал земледельцем и возникла потребность в защите урожая от мелких грызунов. Как все логично!
Странно, а почему тогда на свете нет женских пород?
Они могли бы быть разных размеров, от фута в холке до полутора саженей в стойке на задних ногах. Могли бы быть пятнистыми или ровного окраса, с висячими ушами и стоячими. Хвосты могли быть разными, и шерстка тоже. Восемь сосков в два ряда по животу способствовали бы росту населения и процветанию государства. Если бы существовали женские породы, то одни могли бы бегать за добычей, как борзые, а другие — лазить по норам в поисках пропитания, как таксы. Одно бы не менялось: все лаяли бы и лаялись. Жаль, что женщины в процессе эволюции не преобразовались в разные породы. Отсутствие оных разбивает в пух и прах все построения. А то завел бы себе псарню и жил как барин...
Так лениво думал Путиловский, спрятавшись глубоко в любимом кресле, с любимым бокалом в руке, наполненным любимым напитком. На коленях у него дремал Максимилиан, вернее, делал вид, что дремлет. А на самом деле он внимательно отслеживал малейшее перемещение по кабинету Берговой суки Дуси.
На время внебрачных неистовств Ивана Карловича Дусю привели и заточили в квартире Путиловского под неусыпный надзор Лейды Карловны. Максу все это категорически не нравилось, и он уже было подумывал о смене места жительства. Но для умного кота такая процедура невыносимо мучительна, и этот вариант пришлось отбросить. Компромиссов с животными Макс не терпел, поэтому вынужден был выстраивать сложную систему взаимоотношений внутриквартирного проживания.
В силу своего твердого характера Макс мог выстроить кого угодно, включая Франка или Лейду Карловну, но с молодой энергичной собачьей девушкой было непросто. Дуся все время пыталась обнюхать, лизнуть или даже чуть прикусить Макса. Плохого в этом вроде бы не было, но Макс справедливо полагал, что опускаться до таких вульгарных отношений пристало скорее котенку, но не солидному коту, познавшему и страх смерти при взрыве динамита, и битвы с котами-силачами со всей округи, и любовь самых прелестных драных кошек в радиусе до трех верст от места проживания.
Передвижения по коридору превратились для Макса в подобие военизированного похода с предварительной разведкой и вынюхиванием мест возможного расположения противника. К счастью для Макса, Дуся, как и все собаки, не отличалась большой фантазией й устраивала засады в хорошо известных тайниках. Поэтому обходить их по верху шкафов или под вооруженным прикрытием Лейды Карловны было довольно легким занятием.
Но как это усложняло ранее простую и бесхитростную жизнь, когда можно было лениво ходить из комнаты в комнату, зная, что ничего нового там не найдешь! Ведь такое привычное состояние и есть счастье взрослого домашнего кота. «Приключения — на улице, дома — полный покой!» — вот кредо Макса. И теперь он, увы, вел жизнь несчастливую.
Послеобеденный сон сморил всех присутствующих. Дуся дремала на ковре, положив узкую голову на длинные изящные лапы. Макс свернулся клубком на коленях Путиловского. Из соседнего кресла доносилось тихое посапывание ра-зомлевднего Франка. Даже Лейда Карловна, сидя на кухне, прислонилась к стене и дремала, хотя это было не в ее правилах.
Путиловский не спал. Он анализировал свои тревожные ощущения, которые обычно в его следовательской практике никогда его не подводили. Что-то мешало ему представлять нынешнюю ситуацию благополучной. По своему опыту он знал, что именно в такие тихие моменты готовится нечто эдакое, что внезапно взорвет тишину. Можно считать данное время затишьем перед бурей.
Начальство гак не считает. Оно уверено, что главные события остались позади, а впереди только хорошее. Он так считать не должен, иначе он не профессионал. Итак, против него и государства зреет большой теракт. Положим это допущение в основу всего рассуждения. Кого хотят убить?
Это основной вопрос. Если кандидатура будет определена правильно, значит, полдела уже сделано. Все остальное будет делом техники.
Самый лучший метод — это поставить себя на место террориста. Итак, я террорист. Я хочу при минимальных затратах нанести максимальный вред. Для этого у меня есть несколько напарников. Не менее двух-трех. Возможно, четверых. Большие группы привлекут внимание. В столице не ходят большими группами, разве что по ресторанам. Пятерка — оптимальное число. Должна быть женщина. Скорее всего, одна. Анализ структуры групп боевиков по полу показывает обязательное наличие одной. Для связи, слежки или исполнения.
Теперь об исполнении. Навряд ли будут стрелять из пистолета — слишком мала вероятность при плотной охране приблизиться, прицелиться и попасть. Навалятся, собьют с ног, в крайнем случае собьют прицел. Значит, будут взрывать. Кидать бомбу. Для того чтобы наверняка поразить карету с жертвой, необходимо не менее трех фунтов динамита плюс три фунта оболочки. Итого шесть-семь фунтов. Прекрасно. То есть ничего прекрасного в этом нет, но прицельное метание шести фунтов можно проводить на расстоянии до десяти саженей, не более. И при скорости движения экипажа не более пяти верст в час.
Кидать надо или навстречу, что повышает вероятность смерти исполнителя, или на повороте, когда скорость кареты снижается вследствие естественных причин. Как раз во время поворота карета будет как бы крутиться вкруг исполнителя, что даст ему большую вероятность на удачу. При таком варианте исполнитель должен стоять внутри поворота. Тогда временной контакт с целью будет максимальный — около трех-четырех секунд.
На маршруте следования надо выделить все углы, повороты, мосты и узкости. Именно там должны стоять и вести контрнаблюдение проинструктированные люди Медянникова. Хорошо бы пустить ложную цель, то есть иметь в кортеже два совершенно одинаковых экипажа с задернутыми шторками. Тогда внимание будет раздвоено, исполнитель начнет крутить головой, выискивая настоящую цель, и в этот момент он легко вычисляем! Так, это уже что-то...
Впереди кортежа должен быть кто-то или что-то, могущее в момент определения исполнителя быть направленным на него, чтобы сбить с ног и позволить жертве не стать жертвой. Министры очень не любят, когда что-то маячит впереди, но ничего не попишешь, жизнь дороже... И Путиловский отхлебнул коньяка, чтобы взбодрить мысли. Взбодрилось.
Лежащая пластом Дуся приняла движение Путиловского за приглашение подойти поближе и начала робкое движение к креслу, но якобы спящий Макс ответил на это предательское вражье поползновение змеиным шипом и оскалом верхних клыков с одновременным сморщиванием носа и косой укладкой ушей вдоль головы. Подействовало. Дуся смутилась, поняла ошибку и, чтобы показать чистоту своих намерений, дважды покрутилась на месте и улеглась на нагретое. Макс смежил очи, привел уши в нормальное положение, тяжело вздохнул и вновь стал следить за Дусей.
Вот так надо реагировать на любое проявление террора — мгновенно и эффективно. Каждый поднявший меч должен от меча и гибнуть. При всей христианской ценности человеческой жизни должна быть относительная шкала этих ценностей: невинный не должен гибнуть, а если убит невинный — должен быть казнен и убийца. В непротивлении злу Путиловский никак не был согласен с графом Толстым. Он уважал талант графа проникать пером в глубь человеческой психологии, но если бы поставить Льва Николаевича на место Медянникова, то наверняка взгляды его сиятельства изменились бы коренным образом. И в кратчайшие сроки.
Итак, немедленная стрельба на поражение при первой же попытке провести теракт. Но поражение не смертельное, а по ногам. Возможно всякое, в том числе и случайный взмах рукой с коробкой конфет. Плохо, когда страдает невиновный, а в случае ранения ног можно обойтись официальными извинениями и курсом лечения за счет государства.
Не забыть и знаки предупреждения о проезде. Обычно фантазия не идет далее платков, снимания шляп и прочих глупостей. Хотя, если задуматься, знак должен быть четким, ясно видимым и читаемым на большом расстоянии однозначно. При всем при этом он не должен сильно выделять подающего из толпы. Вытирать лоб красным фуляровым платком в летнюю жару — это сомнительно, на каждой улице десятки потных толстяков подают такие знаки.
Надо будет поручить Медянникову составить приблизительный перечень подозрительных сигналов, наверняка их будет не так уж и много: платки, раскрытие дождевого зонта в безоблачную погоду, развертывание и свертывание газеты в сильный ветер, когда ни один любитель новостей не рискнет делать это. Можно все предусмотреть. Потом расставить ложных террористов по пути следования какого-либо министра и учить филеров реагировать на явно нелепые действия адекватным образом.
Составить перечень простых вопросов-ловушек, однозначно отсеивающих подозрительных личностей. Такой вопрос не должен вызывать промедления в ответе: спрашиваемый отвечает сразу же и совершенно определенным образом. Спросим: «Милостивый государь, а как пройти на Невский проспект?», находясь на Невском. Всякое промедление и мучительное мычание должно вызвать второй вопрос, чуть сложнее. При невразумительном ответе в крайнем случае у простого сословия можно проверить документы, а за людьми образованными установить явную слежку. Если человек чист как слеза, он такой слежке подивится, но не среагирует. А террорист с нервами, напряженными как струна, даст промашку, поторопится или просто начнет делать определенные телодвижения, скажем, явно уходить от «хвоста». Тут его раз — и на цугундер!
Необходимо попросить у Леонида Александровича Ратаева последнюю сводку его личных агентурных данных. Недаром он при всякого рода предсказаниях многозначительно закатывает глаза и намекает, что ежели кому что неясно, то в первую очередь надо спрашивать у него персонально, потому что у него есть такой верный источник информации, настолько приближенный к эпицентру революционных террористических событий, что он, Леонид Александрович, узнает обо всем готовящемся много ранее самого исполнителя. И тем самым предотвращает всякого рода кровавые события.
Не далее как третьего дня был арестован видный деятель эсеровской партии, некто Левит, мужчина отнюдь не революционной наружности, однако, по описанию информатора, чрезвычайно опасный преступник. Правда, он еще ничего не успел преступить, но, кабы не Ратаев, этот самый Левит уж понаделал бы делов! На допросах Левит сморкался, крестился на образа и клялся, что ни в чем не виноват, что он последовательный противник всякого террора и насилия, но, судя по всему, это ему не сильно помогло.
Из профессионального любопытства Путиловский с разрешения Ратаева один раз присутствовал в кабинете и ушел с убеждением, что этот человечек действительно не в состоянии причинить вред даже мухе. Если, конечно, ему не дать в руки власть. Со властью в руках даже самые кроткие способны на все — примером служат многочисленные биографии кровопивцев и душегубов крупного масштаба.
Сонное царство потихоньку стало пробуждаться безо всякого поцелуя принца, да и не нашелся бы принц, в здравом уме и трезвой памяти согласный поцеловать спящего Франка. Поэтому Франк очнулся сам и стал напоминать о себе тяжелыми вздохами, наподобие тех, что издает гиппопотам, вылезший из воды на сушу. (Где его и подстрелил храбрый князь Серж, показавший в лицах всю эту сцену.)
Проснулся Франк, проснулась Дуся. Судя по звукам, доносящимся из кухни, проснулась и Лей-да Карловна. Только Макс принципиально отстаивал свободу выбора и не хотел вставать, хотя по глазам было видно, что не спит хитрый кот, а только притворяется.
И действительно, стоило обманутой Дусе увлечься поисками несуществующей блохи и зарыться носом в дальние углы своего организма, как Макс серой хвостатой молнией соскользнул с ног Путиловского и бесшумно исчез в направлении кухни.
Дуся, изображавшая на морде радость от смерти блохи, обомлела, увидев отсутствие Макса, и, взвизгнув от огорчения, стремглав бросилась за ним в погоню. Но поскольку инерция ее тела была много больше Максовой, то первые доли секунды она отчаянно скребла задними лапами в безнадежной попытке мгновенно набрать скорость, а когда набрала и скрылась за дверью, Макс, судя по звукам, встретил ее там во всеоружии, спрыгнув на Дусину холку с сундука и вцепившись в коричневую шерсть всеми двадцатью когтями.
Донесся короткий собачий визг, крики Лейды Карловны, шипенье Макса, и все закончилось. Дуся виновато вернулась на место и стала длинным языком зализывать две царапины на узкой морде.
— Вот так и маленькие японцы причесывают нас, будто собак, — подал голос Франк. — Пьеро, ты как себя чувствуешь?
— Прекрасно, — отозвался Путиловский.
— О чем думаешь?
— О балете, — соврал Путиловский.
— Врешь. — Франк грузно вылез из кресла. — Ты все время думаешь о работе. А это неверно, непродуктивно и, главное, очень вредно. Работа должна думать о тебе! Только тогда в голову придут стоящие идеи.
— Почему японцы нас причесывают?
Франк стал рассматривать люстру сквозь донышко пустого бокала.
— Потому что они не думают о работе.
— А о чем же они думают?
— Единственно о том, как сохранить лицо, — ответствовал Франк и сморщил свое при виде пустого сосуда.
— Что? — не понял Путиловский.
— Они сохраняют лицо. В любой ситуации — на работе, дома, в толпе, в одиночестве. И тогда больше ни о чем не надо думать. Все получится само собой. Вот тебя Плеве прижучил по службе. Он этим не ограничится, ты попал в список не-любимчиков. Он и дальше будет тебя прикусывать. Как Дуся Макса. Но ты должен хранить лицо в любой ситуации. И тогда твой Плеве рано или поздно проиграет.
— Но тогда проиграю и я?
— Э нет, батенька. Давай-ка выпьем-ка по рюмончику... что-то зябко со сна. — Франк ловко плеснул Путиловскому и себе по изрядной порции коньяка. — Ты не проиграешь, потому что ты незаменим. Ты выиграешь. Как Макс.
— Не дури. — Путиловский стал греть бокал в руке. — Незаменимых нет.
— Опять не понимаешь. Вот возьми реальную власть. Она вроде пирамиды из шаров. Пирамида власти. Согласен?
— Да. И я в самом низу. Меня можно выкинуть и заменить любым другим шаром. От этого пирамиде ни холодно, ни жарко.
— Дурачок! Пирамиде все равно, если снять шар с самого верха. Понимаешь, ее равновесие не нарушится ни на йоту. А если вынуть шар из низа, то что?
— Она обрушится?
— Точно. Вся рассыплется. Поэтому ты основа государственного устройства, а не Плеве. Если его вынуть, ничего не изменится. Вынуть тебя, двух, трех, четырех — и все начнет сыпаться. Не сразу, конечно, но постепенно придет в прах.
— Ты мне льстишь.
— Конечно. Льстить надо всегда и везде по двум причинам: во-первых, льстимому это нравится; во-вторых, это нравится льстящему. Потому что потом ты будешь льстить мне. Это как чесать друг другу спинку. Взаимно приятно. Тсс, она идет! — и Франк радостно застыл.
В кабинет вплыла Лейда Карловна, руки ее были приятно заняты подносом, на котором не оставалось свободного места, ибо весь он был уставлен не отягощающими желудок вещами.
Сердце радовалось при виде мягких и твердых сыров, дымящегося кофе и сливок. Франк благоговейно вздохнул и сглотнул слюну.
Сглотнула слюну и Дуся — только в этом гостеприимном доме она познала вкус дичи, изысканного сыра и остатков телятины. Берг не имел обыкновения кормить собаку деликатесами, потому что сам был воспитан в простоте. Да и жалование не позволяло разгуляться и угощать любимую псину.
Путиловский заметил печальный собачий взгляд, отломил ломтик сыра и поманил Дусю пальцем. Макс смотрел на все это из-за двери с недовольным выражением морды: если и дальше будут так попирать его кошачье достоинство, все-таки придется найти себе дом попроще, но без унижений. Лучше хлеб с любовью, нежели жареный телец с ненавистью! Он демонстративно повернулся и удалился на кухню.
Дуся протянула свой замшевый аристократический нос как можно ближе к волнующему ее запаху, деликатно понюхала и отвернулась, чтобы не показывать степень своего желания. Так девушка тянется к первому поцелую, но стесняется роковых побуждений, заставляя соблазнителя первым протянуть ей губы помощи.
Путиловский понял эту собачью стеснительность и подсунул кусочек прямо под Дусин нос. Дуся легко вздохнула, показывая свое согласие насилию над личностью, и, скосив коричневый глаз, аккуратно взяла сыр, отошла в сторону, прилегла, положила сыр меж лап и съела его, подлизав затем все крошки.
— Идеальная женщина, — угадал Франк мысли Путиловского. — Любит до гроба, ничего не требует, одежд и украшений не носит и не возражает, если хозяин приведет другую. Счастливец Берг!
Точно по дьявольскому закону подлости раздался звон дверного колокольчика. Дуся насторожила уши и одним прыжком взлетела с насиженного места. Лейда Карловна поспешила вслед за ней, уже догадываясь, кто явился в сей поздний час.
Дуся завыла, застонала, запрыгала у входной двери, бросаясь на нее всей грудью.
— Берг, — безошибочно сказал Путиловский.
Иван Карлович всем своим видом напоминал трость камышовую, ветром колеблемую. Дуся протиснулась сквозь узкую щель открываемой двери и бросилась Хозяину на впалую от ночных бдений грудь. Подвывая от неразделенной любви, она вылизала ему все лицо и шею. Кожа Берга приобрела болезненную мокроватость, точно беднягу пробил смертный пот. По этой причине с него, несмотря на борьбу и возражения, сняли шинель, дали в руки бокал и направили к креслу, куда Берг и выпал, точно в осадок.
Макс безо всякой боязни и с внутренним ликованием наблюдал эту картину. Опытное животное понимало, что сейчас его врагиню посадят на унизительный для любой твари, кроме собаки, поводок и уволокут отсюда на несколько дней. Он пытался вычислить интервалы отсутствия Дуси, но они были какие-то неравномерные. Не мог же Макс догадываться о первопричине — баронессе Лидии. Это было выше даже Максова сознания.
— Иван Карлович, что вы думаете о посылке эскадры в Японское море? — вопросил Франк эксперта по вооружению.
И хотя Берг в последние дни совсем не думал о русско-японской баталии, поскольку не хватало ни времени, ни сил, ни желания, он все-таки встрепенулся и выдал Франку все секретные сведения российского военно-морского вооружения. Если бы Франк обладал нормальной мужской памятью, он бы мог неплохо заработать на всю оставшуюся жизнь, продав сказанное японскому адмиралтейству. Но к счастью для России, знакомых японцев у Франка не было, как не было и памяти на эти самые технические штучки.
— Сейчас туда идет «Петропавловск», новейшее вооружение, он покажет этим воякам, что значит современный линейный корабль! У меня там служат два приятеля, командуют орудиями главного калибра.
Тут Бергу впервые пришла в голову спасительная мысль, как избавиться от нескромного предложения баронессы: надо срочно записаться добровольцем на дальневосточный фронт и там храбро сложить голову. Да, так он и сделает! Это избавит его от мучений, барона — от смерти, а баронессу — от позора каторги.
Выпили за победу русского оружия. На душе стало хорошо, точно своим действием они как-то приблизили эту победу. Такое состояние души в последнее время наблюдалось повсеместно на Руси: взрослые мужчины, вместо того чтобы личным примером увлекать солдат в атаку на позиции микадо, пили немеряно, и все за одно — за быстрейшее поражение японцев. Если бы японцы знали все это, то война была бы ими проиграна сразу же. Но, видать, у них была хорошо поставлена цензура, они ничего не знали и продолжали строить успешные козни Куропаткину.
— Если не выиграем, будет плохо, — опять принялся за старое Франк. — Помяните мое слово, после японцев придется воевать вам!
Берг удивился и заинтересовался:
— Как это, как это?
— Да вот так это. Я сегодня ходил на скачки. Так представьте себе, открываю программку — батюшки светы родные! Клички лошадей, специально запомнил, Анархист, Бомбист, Баррикада и Динамит! Вот вам крест!
— Ну и что? — пожал плечами Путиловский и подлил Бергу, ибо тот уже клевал носом и вообще был какой-то странный и вдумчивый. Даже Дусино присутствие, по всей видимости, не радовало его в должной мере.
— Как это ну и что? Это же значимое ожидание общества! Раньше скакали Генерал, Банкнота и Гусар. Они были героями. А теперь Динамит! Скачки — это нерв любого общества. Это значит одно: общественное мнение в пользу анархистов и бомбистов. И это настораживает.
— Ты на кого поставил? — в лоб спросил Путиловский — и угадал.
— Да на Динамита, — печально скрючился Франк, со вздохом вспоминая подлую кличку, обокравшую его семью на месячное профессорское жалование.
— Ну и как? — ехидно продолжил Путиловский.
— Пьеро! Я как раз хотел тебя просить о небольшой ссуде. На месяц-два... три максимум!
— Понятно. — Путиловский отсчитал две «ка-теньки». — Этого достаточно?
— И не говори Кларе! — Жертва общественных устремлений сразу повеселела. — Ну-с, давайте на посошок!
Идея показалась настолько плодотворной, что посошок растянулся еще на несколько верст длиной, так что Макс вздохнул свободно только через полчасика, когда ушли все гости и в квартире перестало едко пахнуть псиной. Запах еще останется дня на три, но это будет уже воспоминание. Хотя, подумал Макс, иногда ему не хватает Дуси. Все-таки к плохому быстро привыкаешь...
Лейда Карловна принесла Путиловскому ночной травяной настой и поставила его на тумбочку.
— Я фот что фам сказу. Эта Туся — японская сопака. Она хочет съесть нашего Максика. Если она бутет его опижать, я ее сама у пью!
Путиловский, уже лежавший под одеялом, заулыбался. Общество поляризуется на глазах, даже кошачье-собачье. Коньячные мысли медленно текли в голове, принимая причудливо-сонливые очертания. Вот Дуся с узкими глазами и в кимоно гонится за Максом, который одет в полевую российскую форму... «Забавно!» — подумалось Пу-тиловскому, и это была последняя мыслишка. Далее он провалился в сон.
* * *
— Ничего страшного, господа, я верю в счастливые цифры! — Великий князь Кирилл смотрелся молодцом в боевой рубке броненосца «Петропавловск». — Если прочитать тринадцать наоборот, то получится тридцать один. Это значит, что сегодня, тридцать первого марта, все будет хорошо!
Адмирал Макаров угрюмо отвел глаза и беззвучно выругался. Впереди ожидались минные поля, и, хотя планы этих полей имелись, нельзя было исключить навигационную ошибку. Штурмана бегали вкруг боевых карт, каждые несколько минут наносили точку, треугольник ошибок и истинный курс. Таблица девиации была старой, прокрутить свежую девиацию не успели, и тут пара-другая градусов могли сыграть свою роковую роль. К тому же карты морского штаба, хотя и были точными относительно глубин и береговых очертаний, не содержали сведений о господствующих течениях в это время года.
В рубке было темно, только квадрат штурманского стола светился желтым прямоугольником да тускло горела подсветка путевых компасов. Все огни и знаки вдоль береговой линии вследствие начала военных действий были потушены, и поэтому приходилось идти исключительно по прокладке.
Прежде чем стемнело, удалось запеленговать три береговых ориентира, получить свое место с очень хорошей точностью и определить скорость бокового сноса вследствие местного течения. Теперь оставалось молить высшие силы о том, чтобы в этом проходе в ночи течение сохранялось постоянным и прокладка оставалась в пределах обычной погрешности. Это уже напоминало не обычную штурманскую работу, а какое-то ночное колдовство. Флагманский штурман, прежде чем поставить очередную точку и назвать курс следования, молился каким-то своим штурманским богам, прожевывал губами цифры, остро отточенным карандашом на полях карты чертил одному лишь ему понятные знаки и наконец выдавал единственную фразу:
— Курс семьдесят два!
Рулевой громко репетовал курс и чуть перекладывал штурвал вправо.
Макаров шептал сам себе: «Осторожнее... осторожнее...» и, не дыша, заглядывал через плечо флагманского штурмана. Минные поля на карте казались штабной фикцией, не более, но все кожей чувствовали по обе стороны броненосца подводные шарообразные бутоны на минрепах, ждущие своего мгновения, чтобы расцвести цветами смерти для любого, кто сломает хрупкие рогатые тычинки, обильно утыкавшие бока шаров.
В углу рубки, никем не замечаемый, сидел художник Верещагин и лихорадочно заполнял на-бросочные картоны своего походного блокнота. На его коленях стоял маленький керосиновый фонарик, отбрасывая дрожащий свет не далее быстро двигающейся руки художника.
Шелестел карандаш Верещагина, скрипели карандаши штурманов, и это был единственный шум, помимо шума механизмов глубоко внизу, в машинном отделении. Ход был тихий, но достаточный для того, чтобы корабль слушался руля.
Верещагин рисовал в основном очертания лиц, движения рук и характерные позы всех, кто попадал в освещенное пространство. Это были даже не художественные фразы, а просто обрывки, буквы, куски тканей и людей. Потом он все это вспомнит, перенесет на холст, а сейчас он должен успеть, пока офицеры не видят его и не принимают героических поз и значительных лиц.
Скорбное лицо штурмана, должного произнести ожидаемую цифру, от которой зависит жизнь тысячи человек, говорило больше сотни портретов, написанных в нормальной обстановке, и посему Верещагин не отрывал карандаша, из одной линии мгновенно переходя ко второй, так что картоны напоминали не то фрески Гойи, не то бред гениального сумасшедшего, поклявшегося нанести на бумагу все мгновения, секунды, минуты и часы своей сумасшедшей жизни...
— Э-э-э:.. — начал было великий князь новую фразу, но Макаров кинул в его сторону взгляд, полный такой злобы, что князь поперхнулся и от греха подальше вышел на ходовой мостик перекурить острый момент.
Море в это время года было прохладным, температура воды не поднималась выше десяти по Цельсию. От штевня броненосца отваливали небольшие буруны, вспыхивавшие в полной темноте синеватым коротким свечением. Кильватерный след светился много дольше, и по нему хорошо были видны все малейшие маневры броненосца.
В целом картина радовала сердце великого князя, в уме уже писавшего письмо государю о трудностях морской службы, об анекдотических историях, имевших место в ходе дальнего похода. Ники будет смеяться, получив это письмо. Скоро рассветет, можно будет уйти с мостика в уютную каюту без ущерба для великокняжеской репутации и записать все мысли на бумаге с гербом рода Романовых...
Далеко отсюда и по расстоянию, и по времени гигантская экваториальная циркуляция воды впервые за семь лет изменила свою пространственную ориентацию и, вместо того чтобы вращаться по часовой стрелке, стала вращаться против. Вся эта перемена заняла несколько месяцев, но имела роковые последствия для жизней миллиардов рыб, миллионов птиц и десятков тысяч людей.
Из океанских глубин перестали поступать тысячи тонн взвешенных и растворенных солей и минералов. Первыми на это отреагировали водоросли и простейшие: их просто не стало. Незамедлительно за этим стали гибнуть анчоусы, маленькие рыбки, питавшиеся этими простейшими. Гибель анчоусов означала голодную гибель птиц и людей. Печально...
Это послужило спусковым крючком и в жизни «Петропавловска», ведь изменение ориентации губительно не только для продолжения рода. Атмосферные вихри, отвечающие за весенний сезон циклонов в Юго-Восточной Азии, вследствие других граничных условий тоже отклонились сильно к югу. Прибрежные течения изменили свои привычный ход и силу. Отбойная гигантская струя воды со скоростью всего в пол-узла медленно и неотвратимо давила на левый борт «Петропавловска», вытесняя его с безопасного пути на минные поля, аккуратно расставленные японскими миноносками в согласии с планами адмиралтейства на случай войны.
Флагманский штурман этого не знал и знать не мог. Не было вблизи берегов Эквадора российских измерительных станций. Но даже если бы они и были, связать все эти факты воедино не мог ни один блестящий военный ум. Даже такой, как адмирал Макаров.
Ночное небо все из-за тех же циклонов было завешено серой низкой пеленой облаков. Дождя не было, но пронзительная сырость заставила великого князя быстро докурить папиросу и нырнуть в теплое чрево боевой рубки.
— Курс семьдесят пять, — вынес свой очередной вердикт штурман.
— Курс семьдесят пять! — эхом откликнулся старшина-рулевой и переложил руль, чуть-чуть, всего на три градуса левее.
Непослушная махина броненосца с запаздыванием в несколько минут откликнулась на движение рулей и девятиузловым ходом пошла на минные поля, обозначенные на ходовой карте россыпью красных значков, точно в этом месте заразная ветрянка одолела здоровый морской организм.
Рогатые шары тихо спали на надлежащей глубине, каждой своей рогулькой ожидая соприкосновения с любым материальным предметом, достаточно массивным, чтобы сломать выступ и тем самым запустить мгновенный механизм ликвидации мины и предмета.
Выставленные несколько месяцев назад, мины уже успели покрыться малыми обитателями глубин — рачками, ракушками, зачатками кораллов и длинными нитями водорослей. Вот и сейчас стая мальков кормилась, выщипывая тонкий зеленый слой слизи, покрывшей рогульки. Но это не мешало мине дремать.
Подводная тишина сменилась низкими басовитыми нотами гигантских гребных винтов «Петропавловска». Броненосец был еще далеко, почти на линии горизонта, но звук по воде идет в пять раз быстрее, нежели по воздуху, поэтому мальки на всякий случай кормление прекратили и переместились за мину, в теневую сторону звука.
«Петропавловск» неотвратимо приближался к границе минного поля и к той секунде, когда любой маневр станет уже бесполезным, потому что вступают в силу незыблемые законы инерции массивных тел, в особенности ежели тело обладает массой в несколько тысяч тонн броневой стали, угля, чугуна, меди и человеческих тел, составляющих малую, но решающую долю в составе боевого корабля.
— Не близко ли мы проходим, Варсонофий Матвеевич? — деликатно осведомился Макаров у флагманского штурмана. — А вдруг течение от берега? Смотрите, здесь точно ситуация, как у мыса Пакри, а там всегда сносит при сильных западных ветрах.
— Может быть, может быть... — Штурман в десятый раз читал местную лоцию. — Здесь ничего не говорится об отбойном течении... Я уж все учел! Хотя... давайте возьмем ближе к берегу. Три градуса к норду!
— Есть три градуса к норду!
Сиплый тенорок рулевого старшины заставил всех прислушаться к происходящему. Так, начальство начинает нервничать...
Броненосец стал отворачивать от минного поля, но все уже было предопределено одновременно несколькими месяцами и двумя минутами ранее. Далекое прошлое и настоящее сошлись в одной точке, поставленной карандашом штурмана с ошибкой в одну милю и три кабельтовых. Ерунда в мирное время, две минуты полным ходом...
Звенящий звук работающих винтов усиливался с каждой секундой, пока не наполнил собой все минное поле. Корпуса мин резонировали, как гигантские шаровые барабаны, словно перекликаясь друг с другом и спрашивая: «Кто это? кто это?» Но звуки не должны были привести к детонации. Мины точно дрожали в блаженном ожидании прямого материального контакта.
Стайка мальков, спасаясь от звона, пошла на глубину, прижалась ко дну, где всякая морская мелочь на всякий случай спрятала усы, жвала, клейкие нити и бахрому, стараясь уйти от неизвестного, большого и ужасного. На такую глубину не проникал даже дневной свет, однако свечение организмов, взбудораженных корпусом броненосца, было заметно.
В кромешной темноте издалека показалось длинное светящееся веретено, за которым тянулся такой же светящийся след. Веретено делалось все больше и больше, пока не заполнило собой весь невидимый подводный мир. Оно скользило по самой кромке минного поля, где могло встретиться с одной, максимум двумя минами, игрой случая чуть выдвинутыми из шахматного строя десятков рогатых шаров.
Уже подводная волна от штевня броненосца заставила колебаться в едином медленном танце все близкие мины, когда махина в несколько тысяч тонн стала отворачивать к северу, правым бортом точно облизывая невидимую границу между жизнью и смертью. Корма не вписывалась в эти границы, силой инерции ее стало чуть заносить к осту.
Все решили несколько дюймов дистанции между крайней миной, дрожавшей на своем минрепе в опасной близости от самого незащищенного участка борта, скользившего мимо. За несколькими сантиметрами броневого пояса находились цистерны с питьевой водой, а за ними — пороховые погреба с боеприпасами, спрятанные глубоко внутрь корпуса, чтобы в случае прямого огневого контакта никакой шальной снаряд не смог бы проникнуть в святая святых боевого корабля.
Адмирал платком вытер со лба внезапно проступивший пот, причину которого он списал на духоту, царившую в рубке. Пройдем поля — поставлю свечку Николаю-угоднику, покровителю православных моряков...
Мучительно медленно броневой пояс шел вдоль мины, не оставляя последней никаких шансов на роковую встречу, как вдруг в миделе пошло небольшое уширение корпуса. Этих лишних двадцати дюймов оказалось достаточно для того, чтобы мину притерло к «Петропавловску». Легкий скрежет металла о металл не мог услышать никто, кроме трюмной команды. Но по боевому расписанию там никого не было.
Мину потянуло за корпусом, стало вращать на минрепе, две крайних рогульки смялись почти одновременно... и спящая смерть проснулась!
С утра прибыло начальство, всех построило в зале и заставило ждать полчаса. Руководители делопроизводств курили отдельной группкой, обсуждая грядущие перемены в структуре Департамента, последние новости с театра военных действий и новые назначения. Причину экстренного сбора никто не знал.
Наконец поступил сигнал о движении министра внутренних дел, все поспешно загасили папиросы и выстроились осмысленными шеренгами. Особый отдел боевой выправкой не отличался, поэтому его всегда прятали на левый фланг департаментских построений, чтобы он своим безалаберным цивильным видом не портил общего настроения.
Но оказалось, что именно из-за Особого отдела всех оторвали от дел и мариновали почти целый час. Министр откашлялся, расправил свои пышные моржовые усы и придал лицу выражение чрезвычайной государственной важности. Соответственно такое же, но несколько менее важное выражение снизошло и на лица начальников делопроизводств и далее по нисходящей вплоть до рядовых филеров, последним из которых стоял мелкий Фрол Правдюк. Его всегда затирали при общих построениях, чем несказанно обижали.
Вот и сейчас Евграфий Петрович молча показал ему большой кулак, с которым Правдюк был знаком не понаслышке, и указал на место. Самое заднее из всех задних мест. Правдюк проглотил невидимые миру слезы и решил: «Уйду!» Хотя понимал, что из Департамента его вынесут вперед ногами — уж очень он не любил работать, а любил наблюдать и подглядывать.
Стоя позади всех, он занялся своим любимым делом — праздными мечтаниями, которым предавался всюду и везде, даже ведя наблюдение за подозрительными элементами. Ежели элементом была красивая женщина, он мечтал о законной связи с нею. Если она была некрасива, мечтал о связи незаконной и короткой. Глядя на мужчину, мечтал о таком же сюртуке, или трости, или трубке. Или просто о такой фигуре, которая должна у него вырасти сама собой. Чудом.
Вот вчера он пошел за супружеской парой, проживающей в гостинице «Франция». Он — англичанин, она — из кафешантанных певиц. Пошел просто так, по наитию, уж больно шикарно смотрелись оба. Шел за ними и мечтал: вот женюсь, возьму девицу из благородных, с хорошим приданым, приоденусь на женины денежки, ее тоже одену чинно-благородно и буду гулять с нею. А она глазищами туда-сюда зырк-зырк! А потом возьмет и поцелует его прилюдно. Вот как этот англичанин с супругою. А товарищи, фланирующие на дежурстве, рот раззявят и скажут: «Ну, Правдюк! Ну, молодца! Ишь какую цацу-ярочку отхватил!»
Тут все обернулись и стали на него глазеть. Правдюк не понял, а потом покрылся смертельным потом: никак опять конфуз в одежде? Ме-дянников схватил его за руку, вытолкал из строя и зашипел:
— Иди, дурень! Иди! Медаль тебе дают! — и проорал министру: — Вот он, ваше высокопревосходительство!
Вытолканный взашей Фрол Псоевич пошел по инерции ровно туда, куда пхнул его Медянников. Он шел, шел да и уперся в министра внутренних дел. От такого поворота Правдюк окончательно потерял разум. В покинутую голову разум вернулся лишь после того, как министр взялся за правую ладонь филера, долго мял ее, говоря при этом какие-то непонятные фразы, и в завершение всего прицепил на грудь медаль «За усердие», а в ладонь сунул конверт с наградными.
Плеве взял маленькое лицо Правдюка в обе руки, поцеловал его в губы, щекоча своими густыми усами, одобряюще похлопал по плечу, развернул и сообщил телу награжденного толчок, обратный медянниковскому, отчего ошалевший медаленосец вдруг очутился на прежнем месте в строю сослуживцев, но уже не как пария, а как полноправный герой, ровня, а может, даже и повыше самого Евграфия Петровича.
Когда улыбающаяся толпа сотрудников (все уже знали историю про «японских» шпионов) рассосалась по служебным кабинетам и закоулкам, Медянников расстроенно проинформировал Путиловского:
— Я утром этих китаез на Апрашке повстречал. Живые, здоровые, улыбаются, как ни в чем не бывало. Какие ж они после этого шпионы?! Мать их с косами!
Путиловский улыбнулся:
— В шпионской практике есть такое понятие — двойной агент. Это когда человек вроде бы работает на одну разведку, а на самом деле он притворяется и работает на другую. Скорее всего, их перевербовали. Но мы об этом не узнаем.
— А кто знает, что они притворяются? — резонно спросил Медянников. — У меня тут один каторжник притворялся, крестился на образа, что всю правду мне открыл. А я от других узнал, что он меня за фуфлыжника держит!
— И что с ним стало? — полюбопытствовал Путиловский.
— Пропал! Как в воду канул! — пожал плечами Евграфий Петрович, и Путиловский нутром почувствовал, что каторжник действительно сгинул в воде, но догадки своей не выказал.
— Кстати, что там у нашего Ивана Карловича? — вскользь спросил он, вспомнив, с каким отсутствующим взором Берг покинул его дом.
— Непонятно. Что-то дамочка темнит, какие-то предложения тайные Бергу делает. А тот с лица спал и думает.
— А именно?
— Дескать, хорошо бы, чтобы барон того... А что того — на ухо шепчет. Не слышно. Чует мое сердце, подговаривает Ваню мужа убить! — с библейской простотой заявил Медянников, точно это было житейски незамысловатое, дело и по всему Петербургу каждый день не менее сотни супружниц отправляли своих благоверных на тот свет. — Все эти дамочки одного поля ягоды! Вот если бы такое устройство сделать, чтобы человека издалека слыхать было, вот хорошо бы стало, — расфантазировался Медянников. — Сидишь себе на службе и слушаешь в оба уха!
— Это уже по Берговой части! — рассмеялся Путиловский, представив себе гигантский телефонный аппарат в пол комнаты. И пошел к главе Особого отдела выспросить о свежих террористических планах, которые каждое утро ложатся на стол Ратаеву. По крайней мере, он так утверждал. Кстати, не забыть: вечером они с Франком идут знакомиться с Карсавиной.
Тем временем Берг, подозреваемый в вольнодумии, сидел за своим рабочим столом и в который раз помышлял о самоубийстве. Видно, у него такая несчастливая натура: за что ни возьмется — все доходит до жизненного абсурда и мировой меланхолии. Наверное, он родился под несчастливой звездой. Дальше так жить невозможно. Выполнить желания Лидии никак нельзя, но и без нее он тоже прожить не в силах. Остается почетная смерть от пороха и свинца. Да, никто не будет плакать на его могиле, никто не оросит слезами свежий зеленый дерн.
Мысль про дерн показалась ему очень симпатичной. Он даже написал на бумаге строчку: «Могильный дерн никто не оросит слезами...» Прочитал и восхитился: это же стихотворение! Пусть короткое, но талант виден явно. Здесь и свежий образ, и дерн тоже свежий. Подумал и переписал: «Могильный свежий дерн никто не оросит слезами...» Тютчев, ей-богу, Тютчев! Или даже еще лучше. Если подобрать музыку, то получится недурной романс.
Тут Иван Карлович вспомнил, что не умеет играть на музыкальных инструментах и не знает нотной грамоты, и огорчился еще сильнее. Даже здесь он в проигрыше: только открылся талант, а дальше просто нет никакой дороги. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит... Да что сегодня за день такой?! Он говорит стихами! Записал и эти строчки, но, записав, вспомнил, что Пушкин уже где-то это сказал. Точно! Опять неудача...
Дверь отворилась, и в кабинет вошел именинник Правдюк. Лицо его сияло, от него слегка попахивало дешевым ромом, походка была танцующей.
— Евграфия Петровича, стало быть, нету? — спросил он развязно и подмигнул Бергу, как старому знакомому.
— Стало быть, нету! — коротко ответил Берг, уязвленный незаслуженным возвышением Прав-дюка. — Может, что ему передать?
— Передайте, мол, Фрол Псоевич заходили! — и гордый до потери пульса именинник пошел дальше собирать заслуженный урожай лести и похвал.
В его изложении поимка двух китайцев выросла до раскрытия целой законспирированной сети японских шпионов с самим микадо в главной роли. Правда, микадо сидел на троне в Японии, но у Правдюка руки подрастали после каждой рюмки, и он целенаправленно грозился дотянуться ими и до Сына Небес.
Только Берг задумался вновь о способе ухода из жизни, как вошел Путиловский. Вид у него был чрезвычайно довольный и веселый;
— О! — сказал он радостно. — Вы-то мне и нужны! Ну-с, рассказывайте, каковы Дусины успехи в поисках динамита? Она это прилежно делает? Если так же рьяно, как и гоняет моего Макса, то это очень хорошо!
И Берг радостно вздохнул. Будет работа! Самоубийство временно откладывается.
* * *
Серый от грязи Обводный канал, куда сваливали снег со всей округи, в этом месте делал крутой поворот. Громадный доходный дом двумя своими фасадами этот поворот повторял. Снаружи дом цветом не отличался от канала.
Савинков брезгливо осмотрел серую громадину. Жить здесь можно было только разве что после смерти. Он огорченно вздохнул, заглянул в бумажку с адресом и спросил дворника, чье лицо тоже мало отличалось от господствующего повсюду колера:
— Где тут Кавонкины проживают?
Лицо дворника отобразило усиленную работу одинокой мысли. Более одной этот мозг воспринимать не мог, да и одна тоже потребовала мобилизации всех внутренних ресурсов.
— Чаво? — спросил он через минуту размышлений.
— Кавонкины где живут? — вопросил Савинков.
В общении с простым народом его всегда душила легкая злоба, из-за которой он давно понял, что работа с массами — не его призвание. Массы дико раздражали своей тупостью и кретинизмом. Особенно выводили из себя маргинальные жители столицы, из крестьян ушедшие, но не пришедшие к фабричным. Террор, только террор! Будь его воля, всех бы истребил до основания, снес бы эти мертвые доходные дома и начал бы с нуля.
— Кавонькины, говоришь? — промямлил наконец дворник. — Так тута Кавонькиных, почитай, полдома живут. Все с одной деревни! Нешто угадаешь, какие вам подойдут? Есть Кавонькины трезвые, есть гулящие... Васька Кавонькин, так тот вор первостатейный! Можа, вам он нужон? К нему тоже господа захаживают...
— У них жилица угловая, Дарья Кириллова, проживает, — заглянул в бумажку Савинков, кляня все на свете: конспирацию, Азефа, народовольцев и Плеве.
— Это, значитца, тебе, барин, те Кавонькины подходят, которые слесарем на Обуховском работают. У них старушка Божья тварь столуется и подночевывает. Лядащая, скоро в гроб, а туда же... все с разговорами лезет, сучья натура. Видать, ни семьи не нажила, ни деток, а все учит, змея подколодная! Вона в ту дверь, на самый верх иди, там она... только что из лавки пришла!
Позабавившись такой злобной и пространной характеристикой, Савинков пошел в указанном направлении и действительно тут же набрел на старушку, да не на одну, а на целый выводок. Они сидели на гигантском сундуке, лузгали семечки и молчали какие-то им одним ведомые мысли.
— Тетки, а где здесь Дарья Кириллова живет? — спросил Савинков, грустно оглядывая морщинистые лица, результат многолетнего унижения простой русской женщины.
Лица в ответ злобно сверкнули угольками глаз и промолчали, лишь крайняя ткнула пальцем по коридору налево.
Там в проеме двери стояла маленькая бабушка лет пятидесяти, одетая с головы до ног как совершенно простая крестьянская бабка. На голове платок, на ногах сапоги.
— Я и есть... она самая, — тихо молвила бабушка.
Савинков ошалело смотрел на нее и молчал. Неужели это и есть известнейшая народоволка Ивановская? Прошедшая огонь, воду и все российские каторги? Железная старуха! Своими требованиями она довела до умопомешательства трех начальников тюрьмы. Двух вылечили, одного признали безнадежным.
ДОСЬЕ. ИВАНОВСКАЯ (ПО МУЖУ ВОЛОШИНА) ПРАСКОВЬЯ СЕМЕНОВНА.
1853 года рождения. Дочь священника. Состояла членом Исполнительного комитета партии «Народная воля». Участвовала в заговоре на жизнь Александра II. В 1882 году арестована в Витебске, где намеревалась заложить типографию. На процессе «17 народовольцев» осуждена к ссылке на каторжные работы, на заводе, без срока. По сокращению срока каторги была на поселении в Сибири. Вернувшись оттуда, начинает работать в партии эсеров.
— Я ищу недорогую кухарку, — громко заявил Савинков, понимая, что и дворник, и старухи обязательно обсудят и визит барина, и все его слова, обращенные скорей к ним, а не к Ивановской. — Мне вас рекомендовали как женщину порядочную и умелую.
— Я согласная, — прошелестела в ответ условленным паролем Дарья Кириллова.
— Вот адрес, завтра можете переезжать в свою комнату, — и он отдал ей бумажку с прописью «Улица Жуковского, дом 31, квартира 1». — Надеюсь, у вас немного багажа. Учтите, у вас будет испытательный срок. Два месяца. Я строг, но справедлив!
Ивановская, не говоря ни слова, припала к ручке барина сухими теплыми губами, потом кончиком головного платка вытерла уголки рта, перекрестилась на какие-то воображаемые образа и заплакала от радости мутноватыми старческими слезами.
Старухи, внимательно наблюдавшие за этой сценой, остались довольны натуральностью сыгранного и тут же начали свое тараканье шуршание, обсуждая привалившее убогой Дарье счастье: комната, жалование, питание и добрый, трезвый хозяин! Вот она, счастливая старость. Бог все видит! Хотя и дал все это не заслужившей такового греховоднице.
Савинков бежал поскорее из этого рассадника клопов и вшей, еле поймал извозчика, приехал в снятую квартиру и принял ванну с полной сменой белья. Нет, он никогда бы не смог стать народовольцем и пойти в народ, чтоб ему, этому народу, пусто было...
Облачившись после ванны в барский халат цвета зеленых оливок, он блаженно растянулся на полудиванчике, придвинул к себе курительный столик, плеснул в стакан виски, из баллона с сельтерской прыснул туда же пенистой струей, закурил и сделал первый, чуть обжигающий горло глоток. Все, на сегодня никаких революций, кроме разве что сексуальной!
Сочетая приятную полудрему по очереди с сигарой и виски, он не услышал, как открылась входная дверь. Это пришла с покупками Дора. Савинков дал ей денег и велел не скупиться, чтобы соответствовать образу.
Прежде не знавшая роскоши, Дора вначале пыталась сэкономить для революции, но быстро поняла разницу между жизнью простой и роскошной. Последняя ей понравилась много больше. К тому же это нужно революции, а ее жизнь скоро закончится жертвой. Поэтому можно перед неминуемой смертью немного себя побаловать.
Увидев спящего «мужа», Дора будить его не стала, а прошла в ванную, разделась, подумала и залезла в еще не остывшую воду. Так они и дремали: один — в гостиной, вторая — в ванной...
Дора проснулась от прохлады — вода уже остыла. Она вытерлась полотенцем, бросила его на пол и, не облачаясь, вышла в гостиную.
Сигара догорела сама собой, и в ониксовой пепельнице лежал один лишь серый цилиндрический столбик пепла. Дора пригубила из стакана и сморщилась — невкусно. Потом походила босыми ногами по ковру. Хозяйка квартиры была немка, отсюда и происходила вся эта педантичная чистота, повлиявшая на выбор именно этой квартиры. Ничего русского в обстановке не было, все немецкое, в крайнем случае финское.
Захмелевшей Доре захотелось немного пошалить. Подумав, она на цыпочках сходила в спальню, откуда принесла нежную пуховку. Осторожно присев на ковер, она аккуратно откинула полу савинковского халата и замерла, залюбовавшись силой и красотой чресел своего так пока и нетронутого «мужа». Затем, сдерживая смешинки, самой нежной частью пуховки стала водить по разным интересным местам, останавливаясь во время этой экскурсии на прежде невиданных, а теперь хорошо различимых при свете дня странных подробностях мужского организма.
Естественно, эти самые части тела, вернее, самая примечательная и выдающаяся не смогла остаться равнодушной к эфемерным прикосновениям и приподняла голову в тщетной надежде разглядеть причину своего возбуждения...
Савинков проснулся от этих ангельских прикосновений и несколько минут лежал, наслаждаясь покоем, уютом, теплом и присутствием красивой и обнаженной женщины, готовой стать его собственностью по обоюдному желанию. Скоро это произойдет. Они не говорили на эту тему, но понимали, что любовь и обладание будут призом в страшной игре, которую затеяли. На месте пролившейся крови в гот же вечер расцветет пряный букет их соития, медленного и чувственного. Это будет единение душ и тел, единственное в своем роде.
Так, наверное, безумно любили друг друга римляне и римлянки: во время кровавых ристалищ, когда один только вид окропленных гладиаторской кровью тигров возбуждал всех без меры. Ради таких минут можно и потерпеть, тем более что терпение в их случае доставляло своеобразное удовольствие, а постоянное возбуждение, как ни странно, до предела обостряло логическое мышление.
Савинков проанализировал сей странный феномен и пришел к довольно-таки парадоксальному выводу: поскольку они добровольно наложили запрет на полный телесный контакт, желание довести дело до конца и получить за это райское яблоко грехопадения только помогает им в нелегком деле планирования и исполнения теракта. Очень высока планка требований, и организм мобилизует все свои ресурсы в погоне за единственно доступным ему наслаждением. Он даже вывел формулу их отношений: «Страсть через кровь!»
И теперь, открыв глаза, с усмешкой наблюдал за Дориной экспедицией, уже далеко не первой, но и не последней.
Она по опавшему предмету исследования поняла, что он проснулся, и заскользила губами вдоль тела, ища в таком длинном поцелуе его губы. Нашла и прильнула. Обычные поцелуи, сродни застарелым супружеским, превратились в привычку, поэтому уже совсем не волновали, что помогало сбить пагубную страсть, могущую нарушить чистоту чувственного эксперимента. А кто знает, когда еще подвернется такой удачный случай? Министры внутренних дел на дорогах просто так не валяются. Их туда прежде надо уложить метким броском Покотилова.
Застыв в бесплодных объятиях, они целовались так медленно и долго, что успели проголодаться. Поэтому, с усилием разлепив тела, не хотящие разъединяться, оделись и поехали в ресторан ужинать. По-семейному.
* * *
Человек, от которого одновременно зависели судьба империи и плотско-райский финал духовных забав Савинкова и Доры, тем временем по-своему пытался снять внутреннее напряжение, присущее неопытным палачам. У опытных напряжения не бывает, потому что они любят свою работу и своих жертв, обеспечивающих им занятость и кусок хлеба в старости.
Алексей Покотилов в молодые годы уже умел пить не по-молодому зрело и тягуче, растягивая это старинное русское удовольствие на неделю, а то и поболе. Аккурат сейчас шла первая половина недели, когда он еще выеживался и старался пить не просто водку с огурцами, а по-революционному, красиво, с обязательными думами и разговорами на тему всеобщего братства, свободы и равенства.
Он просыпался утром с сильной, непреодолимой жаждой, но запрещал себе пить до тех пор, пока не приводил себя в порядок обтиранием холодной водой вперемешку с полукипятком. Далее Алексей брился, всячески лечил свою экзему, протирая кожу лечебными эмульсиями. Иногда это помогало. Одевшись в выходное платье, он садился за стол и только тогда, заработав честно первый стакан портвейна, выцеживал его не торопясь, ощущая каждой клеточкой блаженный переход от похмельной депрессии к возвышенному чувству. Постоянно пополняемый запас портвейна хранился в шкафу.
Собственно говоря, все это он делал ради этих первых двадцати минут любви к ближним и к самому себе. В обычные дни Покотилов себя не любил и считал, что единственное дело, на которое способно это неумное тело, — погибнуть в очистительном пожаре теракта и тем самым обессмертить имя в грядущем. Никто никогда не забудет Алексея Покотилова, избавившего мир от злодея.
В таком расположении духа он выходил в город, наказав коридорному не соваться к нему в номер. Желтенькая бумажка в руку подтверждала намерение барина лучше всяких слов, за что Алексей был любим простым народом, если за таковых считать наглых половых и коридорных. Уже при самой гостинице на выходе, в буфете, его ждала утренняя стопка холодной водки и порция севрюжинки. Иногда при одной севрюжинке выпивалось две стопки.
Благотворное влияние водки, пришедшей в радостный контакт с портвейном (все-таки родственники!), полностью избавляло больную голову от надоедливого шума и страха смерти. Именно с крыльца гостиницы «Северная» распростертый перед путником мир выглядел особенно прекрасным и любвеобильным. Окрыленный Алексей шел в близлежащий парк, где у него в кустах был припрятан изрядный булыжник. Именно так он улучшал меткость швыряния бомбы на расстояние до десяти саженей.
Поупражнявшись в бросках (точности он достиг почти идеальной) и нагуляв аппетит, он шел в средней руки ресторанчик на Крюковом канале, где со вкусом выпивал большой графинчик хлебного вина, закусывая миногой в горчичном соусе. Помимо миноги хорошо шел и копченый угорь, а также ряпушка. Покотилов вообще предпочитал рыбный стол, справедливо считая его более полезным для здоровья, нежели мясной.
Желудок старался не набивать, потому что в противном случае оставалось мало места для пития. И к тому же сама водка тоже представляла довольно сытное кушанье. Однажды он неделю, помимо водки, ничего не ел и почти не похудел, а экзема за это время так и вовсе прошла. Все врут календари: пить полезно, вредно не пить...
Действительно, кроме нервов, все остальное у Покотилова работало безупречно: печень, почки, желудок, спинной мозг. Он мог исходить весь город, на ходу обдумывая проекты дальнейшей жизни. Если не повезет, он останется жить, пройдет каторгу, устроит побег и уедет в Европу. Там он все-таки закончит университет и вернется в обновленную Россию... кем? Ну естественно, специалистом в винокуренной области! Кто знает и может распознать до пятидесяти сортов водки? Кто владеет секретом правильного пития? Спросите любого революционера, и тот ответит посреди ночи: конечно же, Алексей П.!
Ему говорили, что в Италии (божественная страна!) есть университет по виноделию, так там с раннего утра все студенты только и делают, что пьют и пьют. Но не просто так, а обучаясь! Придав питию высокий академический статус, мечты сразу приобретали реальный оттенок...
Темно-синее итальянское небо быстро светлеет под напором горячего южного солнца. Пока утренняя прохлада еще царит в старинном замке двенадцатого века, десятки бакалавров (то бишь холостяков) со всех концов света спешат в темные винные подвалы, сплошь заставленные бочками из потемневшего от старости французского дуба.
Целый город, состоящий из винных, коньячных и прочих улиц, прячется в известковой горе, изъеденной штольнями, как упавшее дерево червями. Только в отличие от деревяшки здесь сухо, прохладно и пахнет давленым виноградом. Темнота разгоняется масляными фонарями, дающими маленький круг света, но и этого круга достаточно — в группах немного студентов. Ведомые пожилым профессором, они проходят в дальние штольни, исследуя неделя за неделей, месяц за месяцем все винные богатства мира, свезенные сюда прогрессивными промышленниками, растящими мировую элиту — дегустаторов вина, коньяка и водки.
Перед каждым обучаемым стоят до двух десятков бутылок неизвестного вина, прозрачные бокалы, лишенные каких-либо украшений, и оцинкованное медное ведерко, смысл которого непонятен и печален. Все по очереди наливают в бокал на донышко испытуемый напиток и начинают священнодействовать. Вначале этим малым вином как бы ополаскивают бокал и принюхиваются к незнакомцу. Потом, решившись, делают пробный маленький глоток, но не выпивают, а гоняют по полости рта так, чтобы все участки нёба участвовали в распознании. Это малое количество деликатно выплевывается в ведерко. И только затем делается большой глоток, проходящий по пищеводу и уже там, внутри, оцениваемый всем желудком.
А профессор спрашивает и наливает, наливает и спрашивает... Не сдашь экзамена — переэкзаменовка на следующий день. И так каждый день, каждую минуту. Трудна учеба! А по вечерам студенты разных стран собираются в местном кабачке и снова пьют, пьют и пьют, но на сей раз как простые посетители. Райская жизнь!
И тут фантазии начинали сливаться с реальностью. По столице было натыкано множество питейных заведений, все больше дурного толка, но между ними попадались и завлекательные. Скажем, вина македонские и черногорские... Сразу рисовались картины высоких гор: смелые, гордые люди собирают черно-лиловый виноград в узких долинах межгорья. В свободное от работы на виноградниках время они, вооружившись старинными ружьями, борются за свободу маленькой, но гордой страны.
Покотилов, не жалея времени и ног, целенаправленно добирался до такого погребка, садился за угловой стол спиной к стене и лицом ко входу. Шляпу он таинственно надвигал на самые брови, одной этой деталью превращаясь в македонского революционера. И начинал мыслить и пить по-македонски. Жаль только, что мастью он не вышел — все черногорцы наверняка черные, а он рыжеват. Жаль... Но проходил час, другой, и эта родительская оплошность переставала играть значимую роль.
Если к столику подсаживался случайный посетитель, то начинался осмысленный разговор о судьбах македонского народа.
Всем психиатрам известен тот факт, что при повышении концентрации этилового спирта в крови побудительные мотивы к свободомыслию постоянно растут, но физические кондиции, необходимые для их воплощения, резко падают, иногда практически до нуля. Поэтому суммарный эффект свободоискательства у отдельно взятого пациента является величиной постоянной, иначе бы мы наблюдали постоянную миграцию мужского населения из областей с повышенным содержанием спирта в области с пониженным. Однако никто из солидных ученых такого мощного феномена не описывал, а значит, и не наблюдал. Обратное движение, то бишь регрессию, иногда фиксируют, но приписывают ее поиску свободных особей женского пола для последующего совокупления и продолжения рода. В природе все взаимно уравновешено и предопределено.
Ежели погребок торговал фальшивыми итальянскими винами, то темой для разговора служили карбонарии, Гарибальди, Микеланджело и Папа Римский, в особенности постулат о его якобы непогрешимости. В немецких рейнвейнских магазинчиках говорили все больше об Эльзасе и Лотарингии, о великой Германии от Атлантики до Двины и о происках еврейских банкиров. Везде бурлила жизнь, везде было чрезвычайно интересно.
Сегодня своей географической целью Покотилов избрал удаленную область гордых скоттов и их знаменитое скоттское (по-русски шотландское) виски. Подавали эту экзотику на Казанской улице, неподалеку от Казанского собора.
Прежде чем добраться сюда, он предварительно зашел и отметился у Елисеевского магазина, что на углу Невского и Малой Садовой. Там в буфете подавалась целебная водка о сорока семи травах, что позволяло одновременно лечиться и радоваться. Кто его знает, чем травят честной народ эти самые скотты, не любящие революцию и революционный образ мышления? О том, что в Великобритании очень трудно поднять население на вооруженную борьбу, знали все.
Укрепив дух и тело, Покотилов дошел до подвальчика под вывеской «Вальтер Скотт», излюбленного места петербургских англоманов, чтивших «Английский клуб» и этот подвальчик.
Конечно, виски здесь подавалось малость подешевле и попроще, нежели в клубе, но ведь и цены были божеские! С видом утомленного путника, наконец-то достигшего меловых берегов туманного Альбиона, Алексей зашел внутрь и приятно удивился: здесь он был первый раз, и вид традиционного английского бара показался ему вдруг родным и желанным, точно он всю предшествующую жизнь провел именно в таких уютных местечках!
Мебель была исключительно мореного дуба из запасов Петра Первого, повелевшего забить в дно Маркизовой лужи череду дубовых кряжей для защиты молодого города от морского нашествия шведского либо английского флотов. За двести лет дуб промори лея насквозь, а флот так и не напал, поэтому сообразительные столичные мебельщики по зиме нанимали старательных чухонцев, и те по льду аккуратно доставали вековые бревна и отвозили на распилочные фабрики.
Мрачную дубовую атмосферу оживляли шотландские национальные ткани в крупную клетку и пара доморощенных половых, одетых в клетчатые же юбки и гетры, из-под которых виднелись не сухие волосатые икры горцев, а срамные поросячьи коленки ядреной мощи.
Пахло дымом. Покотилов, изучивший предварительно вопрос происхождения виски по Брокгаузу и Ефрону, уже знал, что этот нектар готовится исключительно из ячменного зерна, которое размачивают, а потом любовно сушат в токе торфяного дыма. Перегнанный дистиллят заливают в дубовые бочки, но не простые, а те, в которых до этого хранились херес и мадера, привезенные из самой Испании.
Вот поэтому в промежутке между Елисеевским буфетом и скоттским подвалом знаток и будущее светило мирового винокурения зашел к испанцам и специально для такого случая подготовил себя двумя небольшими — небольшими! — стаканчиками хереса и мадеры в очередь. Вот в таких нюансах и познается разница между человеком просто пьющим и человеком интеллигентным, пьющим тоже интеллигентно! Ведь всякий процесс, даже процесс пьянства, может быть превращен в интересный и познавательный...
Рядом с ним сидели и ожидали своей порции два очень симпатичных господина, одетые чисто и с университетским огоньком в глазах. Они были явно старше Покотилова, но для истинной мудрости не существует возраста, и поэтому опытный в таких контактах Алексей сразу проверил господ на образованность, спросив простое:
— Ле вэн э тире, иль фо ле буар?3
На что меньшой из господ, яснолицый темноволосый орелик с удивительно чистыми и понимающими Покотилова глазами, откликнулся чрезвычайно быстро и в пандан:
— Кадит куэстио!4
Знакомство состоялось. Были произнесены имена, которые прошли мимо сознания знатока французского. Он понял лишь, что гораздо более крупный господин является профессором Петербургского университета, а мелкий — учителем математики где-то далеко в тьмутаракани.
Сам Покотилов назвался Матецким, почему-то специалистом по винному делу. Нельзя было не отметить здравость этого чисто конспирационного маневра: в винных делах поймать его было чрезвычайно трудно. В этой области Матецкий профессор, господа! И понеслось...
Попросили карту, в которой было не меньше двух дюжин висок, потому бросили простой жребий. Выпало начать с «Гленфиддиша», лжешотландцем-половым выбор был одобрен и удовлетворен с максимально возможной скоростью, потому что, как объяснил большой профессор, они с приятелем-провинциалом торопятся на балет. У них времени мало, а у приятеля там же ответственное свидание с одной дамой, перед которой тот испытывает страх, поэтому надо слегка накачаться, но не сильно, иначе страх пропадет совсем и наступит отвага, могущая даму напугать до колик. От решения нервической дамы зависит дальнейшая судьба бедного учителя... математики или чего там? И профессор стал надсмехаться над своим другом из провинции.
Этого делать не стоило, потому что Покотилов-Матецкий в любой степени трезвости органически не выносил унижения простых людей из народа, к каковым, конечно же, следовало отнести и математика! Геометр жалобно хлопал длинными ресницами и просил у профессора пощады, но тот не щадил его мужского достоинства и заодно достоинства дамы. Кстати, дама каким-то волшебным образом во время предстоящего свидания должна была быть одета совершенно неприличным образом да еще и закидывать ножку выше головы... Странные дамы у учителей алгебры!
Тут принесли заказанное, тригонометр оплатил счет, да так быстро, незаметно и симпатично, что Покотилов полюбил его всей душой и предложил первый тост за смерть английской королевы, свободу Шотландии и вхождение оной в состав будущей республики мира, созданием которой он займется лично уже на следующей неделе. И подмигнул со значением, но не более: он не может сказать всей правды.
Тост понравился своей новизной. Опрокинули по стаканчику светло-коричневой жидкости, пахнущей дымком, хересными полями Испании, ржаным зерном и туманами, укутавшими можжевеловые пустоши, поросшие промеж куполов кустарника изумрудно-чистой густой травой. Потрясенные фантазией господина Медведского (вы говорили — Матецкого! Господа, ну какая разница? Мутицкий я!), повторили за пустоши, причем на глазах у профессора появились две прозрачные мечтательные слезы, по которым было видно романтика, погрязшего в быту по самую душу.
К чести шотландцев надо отметить, что изобретенный ими напиток в отличие от водки, душу размягчавшей, наполнял сердца людей мужественностью, что неудивительно: десятки кланов и беспрестанные войны промеж ними требовали особого напитка воинов. Первая порция кончилась удивительно быстро, и так же быстро в душе
Покотилова зрела решимость сегодня же покончить с надоевшим делом и убить Плеве! Не упоминая имени, он дал последнему ряд весьма нелестных характеристик, чем вызвал полное несогласие профессора и поддержку со стороны учителя чистописания.
Поскольку вокруг только ленивый не проходился насчет Плеве, все выглядело убедительно и логично, так что профессору в либерализме было отказано, а учителю было предложено встретиться и поговорить относительно радикальных мер по изменению государственного строя. На что тот согласился и записал адрес, данный Покотиловым. В последний момент новоявленный вербовщик икнул, в мозгу что-то щелкнуло, ц он дал адрес фальшивый. На всякий случай.
После второй порции, вновь быстро и красиво оплаченной стереометристом, профессор завел разговор о французских винах. И тут, как бывает очень редко, сошлись два гиганта, две исполинских глыбы. Первым нанес удар профессор: ехидно улыбаясь в рыжую («Мы оба рыжие!» — мелькнуло у Метлицкого) бородку, он завел якобы случайный разговор о винодельческом районе Кот-де-Нюи.
— Знаем-с, — небрежно ответил Покотилов, с удовольствием поцеживая невинную шотландскую жидкость. — Походил, попил...
— Надо же! — воскликнул профессор. — Это мой любимый уголок! Вон-Романе! Бывали?
«Проверяет!» — хитро ухмыльнулся Покоти-лов, а вслух начал перечислять знаменитые вина коммуны Вон-Романе:
— «Романе Конти», «Ришбур», «Романе Ла Таш»...
— И «Романе Сен-Виван»! — поставил точку рыжий и чуть не расплакался, но сдержался и только расцеловал Покотилова. — Да вы, голубчик, знаток!
Покотилов привстал и поклонился. Память у него была отменной, он мог за несколько секунд просмотреть лист книги и с точностью до запятой записать весь текст.
А зоолог с огорчением вздохнул:
— К несчастью, полностью лишен такого дара. Я предлагаю тост за нашу славную молодежь!
Прослезились и выпили: одни — за уже утерянную молодость, а Покотилов — за предстоящую потерю. Потом так хорошо сложившаяся компания вдруг дала трещину: словесник начал показывать на часы и укорять профессора за будущее опоздание к началу спектакля. Дошло до того, что профессор отказался уйти без Покотилова и стал приглашать его в балет, завравшись до утверждения: дескать, у них там целая ложа, они все посмотрят, познакомят робкого холостяка-физика с весьма физической дамой, а потом продолжат путешествие по Европе. Он знает несколько уютных уголков, где есть весьма интересные вина с богатой биографией...
Тут провинциал извинился, проявил недюжинную силу и уволок профессора в неведомую даль, из которой они более не вернулись. И Покотилов задумался о превратностях судьбы, которая на несколько мгновений послала ему интересных собеседников и тут же исключила их из его жизни. Что есть предопределение? Как оно влияет на человеческую жизнь? Детерминирована ли последняя?
Этот вопрос он и задал в лоб подсевшему посетителю, совершенно лысому молодому человеку, вначале заказавшему себе порцию виски с содовой и только потом, после первого глотка и долгого раздумия, спросившего:
— В каком смысле? В смысле Декартовом или в смысле Аристотелевом?
Вечер явно обещал стать интересным...
Секретарь Плеве, прилежный молодой человек Константин Ефимович Пакай, при появлении шефа почтительно встал и не садился все то время, пока тот отдавал последние указания перед тем, как отбыть в театр. В последнее время шеф отчего-то зачастил именно в балет, хотя до этого ни в каких пристрастиях к великосветским развлечениям замечен не был.
— К девяти положите мне на стол все бумаги для доклада государю. Я хочу еще раз проштудировать. Мне не нравятся выводы комиссии по Николаевской губернии. Если что-то срочное, вы знаете, где я. При любой новости высочайшего уровня мне нарочного. Не отлучайтесь, пока я не появлюсь у себя и не позвоню вам. Помните, в министерстве всего два работника — вы и я. Остальные — бездельники!
Это была дежурная шутка, на которую надо было обязательно рассмеяться, что Пакай чистосердечно и сделал. Он в самом деле считал это за правду: Плеве умел хорошо работать, и за это его которое десятилетие держали на вершине власти и терпели, потому что нормального человека не могло не раздражать ослиное упрямство в делах канцелярско-бумажных, собачья преданность престолу и неспособность понимать шутки.
Дождавшись, пока карета министра не отъедет к театру, Пакай на всякий случай запер входную дверь и положил на свой стол открытый дневник, который он вел на случай прикрытия. Дневник был полностью безобиден и насыщен весьма милыми характеристиками относительно Плеве. Уже несколько раз Пакай, уходя из приемной, якобы случайно оставлял там свои откровения.
Конечно же, Плеве никогда бы не стал читать чужие дневники, но пару раз он наверняка бросал случайный взгляд на открытую страницу, где соответственно моменту писались восторженные, но умные славословия, предназначавшиеся министру. Прием нехитрый, но очень действенный. Пакай это заметил по двойным наградным, незамедлительно поступившим сразу же после прочтения двух страниц.
Вот и сейчас дневник лег на стол, предупреждая своим хитрым телом возможный приход министра или его товарищей, которые имели право доступа в исключительных случаях. А сейчас, во время боевых действий, такие случаи могли происходить на каждом шагу.
Обезопасив себя свежей записью и стилом, брошенным якобы случайно поперек листа, Пакай уже совершенно спокойно зашел в кабинет Плеве. Гигантский письменный стол со столешницей из карельской березы, крытый посредине темно-синим сукном, удивлял своей пустынностью — Плеве был педантичен до сумасшествия, и любая неприкаянная бумажка тут же изгонялась с чистой, ничем не замутненной поверхности. Это помогало при поисках. Вот и сейчас Пакай уверенно выдвинул третий ящик и достал синюю папку Охранного отделения с последними донесениями Ратаева. Да, как и ожидал, есть совершенно свежее с пометкой «От Раскина!»
Никуда не отлучаясь, он стал копировать основные положения на отдельный листок, предусмотрительно украденный из канцелярии. На листке был личный шифр начальника канцелярии, что позволяло в случае обнаружения замести следы. Поскольку еще в гимназии маленький Костя прекрасно овладел искусством подделки учительских почерков, то сейчас он писал почерком Плеве, что наверняка бы вызвало дикое изумление при перехвате письма и увело бы дознавателей не в ту степь.
Он уже дописывал последние пункты, когда за дверью приемной что-то произошло: она вздрогнула, затем затряслась, точно за ней находился дикий зверь, ломящийся на свободу. Пакай быстро положил синюю папку на место, листок аккуратно сложил и сунул в карман сюртука и пошел открывать дверь, делая вид, что огорчен таким бесцеремонным поведением ломящегося.
Открыв дверь, он был поражен видом ворвавшегося внутрь начальника егерской службы генерал-майора Шахвердова, но своего поражения не выказал.
— Где Плеве? — вскричал генерал, выкатывая на Пакая и без того выкаченные восточные глаза.
Пакай иезуитски вздохнул, остужая пыл Шахвердова, но не охладил, ибо тот заорал еще неистовее:
— Где твой министр?!
— Он в балете, — тихо и достойно ответил Пакай. — Но в случае острой необходимости он велел слать курьера.
Шахвердов размышлял не более секунды, проорал что-то непонятное на каком-то восточном языке, скорее всего армянском, затем развернулся и мгновенно исчез. Чтобы сам предводитель егерей поехал к министру в балет? Невероятно! Случилось нечто, а он, Пакай, не ведает. Зато он теперь знает, что над начальником Департамента полиции Лопухиным нависла смертельная угроза — эсеры хотят его убить. Забавно. Поохотимся на зайца...
И Пакай, вернувшись в кабинет Плеве, аккуратно проверил ящик, внимательно осмотрел стол, затем спокойно удалился к себе закончить начатое дело. Письмо Азефу должно уйти завтра утром. Что бы ни случилось, порядок прежде всего. Но все-таки интересно, из-за чего такой дикий переполох?
* * *
Успели вовремя, хотя по дороге Франк таки умудрился нырнуть в одно уютное местечко и, прежде чем Путиловский его обнаружил, быстро опрокинул в себя рюмку коньяка, которую здесь держали наготове для постоянных клиентов.
— Запишите на мой счет! — кричал уволакиваемый профессор, цепляясь за латунные вензеля дверей. — Завтра!..
Крик его затих в направлении к Мариинскому театру. По дороге хмель выветрился, и посему в ложу уселись совсем серьезные знатоки балета, готовые при любом удачном антраша взвизгнуть от восторга «Фора! Фора! Бис!» и зарукоплескать.
В оркестровой яме уже слышались милые сердцу каждого меломана хаотичные звуки настраиваемых инструментов.
— Между прочим, идеальный хаос так же недостижим, как и случайные цифры, лежащие в основе криптографии, — вещал Франк, просвещая между делом Путиловского. — Приходится изобретать машинки для производства случайных цифр, но и они несовершенны и через какой-то промежуток времени цифры повторяются. Очень сложная математическая проблема!
— Хочешь наблюдать идеальный хаос? — усмехнулся Путиловский. — Зайди утром в понедельник в любое министерство — ты его увидишь в первозданном виде. Как перед сотворением тверди и воды.
— Все было! — продолжал Франк. — Это первым подметил еще Екклесиаст. Значит, уже тогда люди наблюдали цикличность, казалось бы, случайных процессов! Вот мы с тобой сидим в этой ложе, потом Питер будет разрушен, стерт до основания, затоплен наступающим Балтийским морем, а через десять тысяч лет вновь построят такую же зеленую конуру, два одиноких немолодых господина выпьют, сядут в ложу...
— ...и будут разглагольствовать на ту же тему!
— Вот именно. Смотри, твой Плеве приперся! — и Франк толкнул Путиловского мощным локтем.
— И смотреть не хочу! — буркнул Путиловский, однако посмотрел.
В директорской ложе стоял мрачный Плеве и строго оглядывал зал, отвечая на поклоны и полупоклоны подчиненных и просто заинтересованных склониться перед могущественным царедворцем. Путиловский привстал сообразно своему чину и показал министру набриолиненный пробор. Плеве обождал секунду, демонстративно показывая свое нерасположение к этому чиновнику, но потом все-таки кивнул, однако кивнул с пренебрежением, что стало заметно по небольшой гримаске, проглянувшей из-под усов.
— Он тебя не любит, — протянул Франк. — Мы его тоже не любим! Хочешь, в антракте подойду и спрошу: «Где я мог вас видеть? Вы ужасно похожи на человека, чье дело по обвинению в разбое мой друг следователь вел в суде!»
— Перестань, — хихикнул Путиловский, хотя в душе позавидовал такой несбыточной каверзе. — Давай лучше на дам любоваться! Смотри, вон в той ложе какое семейство угнездилось.
И он поклонился совершенно незнакомой молодой даме, которая вспыхнула от удивления, но в ответ улыбнулась и сразу же зашептала на ухо компаньонке, смерившей Путиловского опытным взором старой балетоманки.
— Это, брат, купчихи, — мечтательно протянул Франк. — Хороша рыбина! Одного приданого, поди, миллиона три... А что, Пьеро, слабо вот так, просто, из одного только чувства приятности взять да и жениться на купчихе? Сейчас попадаются весьма образованные! Ты посмотри, анахорет, какие плечики! Сам бы ел, да грехи не пускают!
— В моем случае это будет чистейшая имму-рация,— печально вздохнул Путиловский.
Франк задумался над значением сказанного, но не осознал.
— Сдаюсь, — признался философ.
— Иммурация — прижизненное заточение, ведущее к гибели. Им мурус — в стену. Я гибнуть не хочу. Я хочу умереть сам, по собственной воле. А не по воле данной красоточки.
— Это ты зря. Говорить о смерти могут только профессионалы.
— Доктора?
— Покойники!
Все обещало приятный вечер. Взгляды прелестной купчихи становились настойчивее и красноречивее. И тут произошло непредвиденное и инфернальное: в тяжелом занавесе образовалась узкая щель, и из нее вылезла знакомая всем фигура Теляковского, управляющего императорскими театрами. У плеча Плеве возник егерь и конфиденциально наклонился к уху министра.
Все это действо происходило одновременно, и у Путиловского непривычно заныло сердце: случилось нечто неординарное.
— Господа, прошу внимания. — Обычно громкий кавалерийский голос Теляковского звучал глухо и растерянно.
Возникшая было в зале некая суета и перешептывание вдруг прекратились, и воцарилась гробовая тишина.
— Господа, прошу внимания, господа! — повторил Теляковский и заплакал.
— Что еще? — глупо спросил Франк.
— Тихо!
Путиловский встал. Плеве исчез из своей ложи, точно растворился в ее темноте.
Наконец Теляковский справился с самим собой и неожиданно воскресшим голосом заговорил твердо и громко:
— Господа! Только что получено сообщение: сегодня утром на японской мине подорвался броненосец «Петропавловск».
Зал застыл на вдохе.
— Погибли адмирал Макаров, двадцать восемь офицеров и шестьсот двадцать матросов. Великий князь Константин Божьей милостью спасен. Согласно высочайшему распоряжению, увеселительные мероприятия и спектакли отменяются. Прошу разойтись.
Несколько секунд стояла полная тишина. И вдруг как прорвало: внезапный шум, вскрики, у нескольких дам началась истерика. Путиловский осмотрел зал — сейчас начнется паника. Что-то надо предпринять. На Теляковского надежды не было никакой, он стоял на авансцене и уже в открытую плакал, даже не утирая слезы платком. Сейчас зал превратится в кисель.
— Гимн! — негромко, но четко крикнул Путиловский.
Голоса подхватили:
— Гимн! Гимн!!
Занавес раздернулся, как по волшебству на сцене оказался хор, Направник взмахнул палочкой. Заиграли вступительные такты, и хор вначале нестройно, но набирая силу, запел вступительные строки «Боже, царя храни».
Все встали и подпевали по мере возможностей. Хор вступил во всю мощь. Такого сильного исполнения, как потом писали газеты, никто припомнить не мог. Даже безголосый Франк пел, ничуть не стесняясь своего дарования.
По давней привычке Путиловский незаметно осматривал публику. Офицеры, в особенности морские, были бледны чрезвычайно, почти не пели, но играли желваками скул — понятно было, что в душе у каждого бушуют нешуточные гневные страсти. Гражданские лица, наоборот, были в основном красны от возбуждения и желания тут же переговорить и высказать свое квалифицированное мнение о настоящих причинах гибели такого мощного линейного корабля, каким слыл « Петропавловск».
И точно: едва только в ошеломлении вышли на улицу, Франк тут же стал излагать свои военно-морские мысли, как будто всю свою жизнь пропил старшим боцманом на корабле.
— Как можно было плыть одним в таком опасном месте? В таких случаях впереди надо пускать несколько малозначащих судов, груженных пустой породой, и только за ними плыть «Петропавловску»! — трындел Франк. — Боже, какой позор! Пьеро, ну что ты молчишь?
— Во-первых, плавает одно дерьмо. А корабли ходят. Во-вторых, Макаров поумнее всех нас, сидевших в этом зале, вместе взятых! — Путиловский поднял меховой воротник шубы, почему-то вдруг ему стало зябко, — В-третьих, это война. И потери неизбежны. Будут еще. Впереди должны были идти минные заградители и тралить проход для тяжелого «Петропавловска». Он же очень большой. А проходы в минных полях делают специально извилистыми. Вот на повороте и зацепил. Скорее всего. Не пёр же он прямо в минное поле! Я тебя прошу, помолчи!
И Франк покорно замолчал.
Можно было взять извозчика, но сидеть вначале в экипаже, потом дома, без движения и мысли, не хотелось чрезвычайно. Нужен был какой-то выброс всей печальной энергии, внезапно обрушившейся на сидевших в зале. Эти шестьсот пятьдесят (без одного) погибших в единую секунду не могли исчезнуть из жизни просто так, они взывали к памяти настолько мучительно ощутимо, что хотелось выть, но выть было невозможно в силу цивилизованности. Отбросить ее в сторону и отдаться чувствам можно было лишь одним, знакомым способом. Что Путиловский с Франком и сделали.
Они нырнули в первый попавшийся винный погреб, не обращая внимания на странные компании, тихо переговаривающиеся по углам, сели за свободный столик, заказали графин водки, готовую закуску, чтобы не ждать, и молчали — слова не приходили, а болтать просто так не было никаких сил.
Путиловский сидел, уставившись в глухую стену, на которой услужливое воображение рисовало картину гибели еще живых людей, не могущих выбраться с нижних палуб на спасительный воздух. Недавно они с Бергом инспектировали на предмет возможных террористических актов корабли, на которых регулярно бывал государь, и пролазали целый день, проникая в такие узкие щели, куда не ступала нога человека. Но матросы были везде.
И теперь он вспоминал узкие люки, отвесные трапы и темноту, охватившую их с Бергом, когда внезапно обесточились вспомогательные механизмы. Было страшно. А ведь все это случилось на корабле, стоявшем в тихой гавани. Что же было там, в далеком Японском море?
Какой-то подвыпивший субъект воспринял этот недвижный взгляд на свой счет, картинно оскорбился, встал с места и двинул корпус в сторону Путиловского. Пока он добирался, принесли графин. Путиловский попросил два тонких чайных стакана, налил водки вровень с краями и застыл, вновь обездвиженный страшными картинами гибели.
Благополучно добравшийся до их столика субъект приступил к главному действу своего сегодняшнего вечера:
— Сударь! Что вы себе позволяете?
Путиловский непонимающе уставился на подошедшего. Слова никак не проникали в его сознание. Унылое лицо, обрамленное неряшливой бородой, очки в железной облупившейся оправе, дурной запах изо рта. Чиновник Судебной палаты, тринадцатый класс.
— Сударь! — не унимался тринадцатый, забыв на время о своем несчастливом в этой жизни номере (душа жаждала справедливости). — Как вы смеете так дерзко смотреть в лицо незнакомому человеку? Вы хам, сударь!
Путиловский взял в правую руку стакан с водкой, в левую — кусочек мягкого сыра и, не обращая никакого внимания на взгляды окружающих, спокойно, точно воду, высосал стакан до дна.
— Браво! — произнес кто-то невидимый за спиной.
Франк исполнил тот же номер с таким же выражением лица.
— Я требую удовлетворения! — не унимался судебный. — Мы, сударь, не знакомы-с для таких взглядов!
— Как же так? Енотов, Елпидифор Евлам-пьевич, — отправив сыр по назначению, спокойно признался в знакомстве Путиловский, отчего у Енотова открылся рот, борода взъерошилась сама собой, а лицо приобрело еще более глупое выражение, хотя глупее, казалось бы, не бывает. — Младший делопроизводитель Судебной палаты, холост, в пьянстве не замечен. До сего дня.
И вышли, оставив Енотова в раздумий о таинстве произошедшего. Водка подействовала, на душе стало спокойнее, но мысли не уходили, а просто ждали своего часа.
— Давай-ка, Саша, прогуляемся, — предложил Путиловский.
И Франк согласился. Идти забыться в ресторане не позволяло петропавловское известие. Возвращаться домой тоже не хотелось. Оставалось одно — мерить ногами столичные першпективы.
* * *
Энотека (от греческого эно — вино) на сей раз попалась небогатая, но приличная, восемь наименований позволили приятно провести вечер. Соседи по столику периодически менялись, но каждый уходил от Покотилова не просто накачанный виски по самые уши, но и основательно просвещенный в энологии, благородной науке о вине, чьи основы были заложены еще древними греками.
Занятия энологией привели этих самых греков к развитию древнегреческой философии, поскольку пить и не рассуждать есть удел варваров, каковыми, к сожалению, являются основные российские народы: малороссы, великороссы и бе-лороссы, искаженное белорусы. Расцвет классической философии однозначно связан с началом пития вина и обусловлен раздвинутыми горизонтами мироздания, которые появляются у человека при значительных дозах вина в кровеносной системе.
В сию минуту Покотилов просвещал очередного сотоварища, зашедшего согреться иностранной микстурой, относительно изобретения средневековых алхимиков. Называлось оно квинтэссенцией.
— ... До этого эпохального события сущностей в мире было всего четыре: вода, воздух, земля и огонь. Вы следуете за ходом моих мыслей? — строго спросил Алексей у молодого семинариста, изучавшего все проявления дьявольских искушений на земле.
— Яко за пастырем овец православных, — смиренно ответствовал молодец с таким румянцем в обе щеки, что об них можно было смело прикуривать.
Судя по физическому здоровью будущего батюшки, духовная крепость у него также отличалась непробиваемостью. Впереди светила ясная дорога: матушка, большой и богатый приход, минимум восемь чад и обожание всех прихожанок от двенадцати до девяноста девяти лет.
— Так вот, квинтэссенция — не что иное, как дословно «пятая сущность»! Так алхимики назвали винный спирт, который впервые был получен в той же Греции при дистилляции вина в надежде получить таким способом «винную душу». И они ее получили!
— Неисповедимы пути Господни, — вздохнул красавец-семинарист, перекрестился и с наслаждением выпил свой стаканчик. В приходе, небось, такого уже не нальют. Ну да ничего, на самогоне продержимся... его ведь тоже можно в дубовых бочках держать.
— Александр Афродизи...
— Не слыхал-с,— пробасил семинарист и добавил за здоровье незнакомого Афродизи.
— Знаменитый комментатор Аристотеля!
— Про Аристотеля знаем-с, язычник! — и будущий батюшка опрокинул по поводу благовременного обращения языческой Руси в православие.
К чести Покотилова следует отметить, что он от семинариста почти не отставал, ловко совмещая деятельность просветительскую с потребительской.
— Далее от греков сия операция стала известна арабам, некоему Разесу, оттуда в Гишпанию и только потом в Италию. Вот.
— Католическую церковь отвергаю, не верю в непогрешимость Папы Римского!
Почему-то в этот год вся Россия просто помешалась на непогрешимости Папы, которому, однако, ничего об этом не было известно. Впрочем, даже если бы его поставили перед этим фактом, то святость Папина не пострадала бы, так как истинная вера не зависит от людских суждений.
Последнее утверждение направило мысли Покотилова в сторону богоискательскую: если он совершит грех, убьет плохого человека, спасется ли он сам? Кто смоет грех с его собственной души?
— Вот вы — будущий священнослужитель, — обратился грешник к семинаристу, на что тот перекрестился и смиренно ответил:
— На все воля Божья!
— Допустим, я хочу убить. Только допустим!
— Допущение есть грех сомнения. Не сомневайтесь в истине, и допущений не понадобится.
— Но на минутку! Допустим, я хочу убить человека. На минутку!
— Сие есть смертный грех, — спокойно и равнодушно ответил семинарист выученный на всю жизнь урок.
— А если это плохой человек?
— Суд может быть только Божьим.
— А если я — Бог?
— Значит, вы впали в еще один грех — грех гордыни! Итого, у вас уже два греха. Многовато для одного. А зачем вам лишать жизни человека? Не вы ему жизнь дали, не вам и лишать. Он же вас не лишает!
— Нет, — понурился Покотилов. — Но он не дает дышать прогрессу! Он поощряет погромы! Он... он велит сечь студентов!
— Ох-хо-хо,— заулыбался семинарист. — Да как же их, подлецов, не сечь, ежели они смуту сеют? Смутьяны ведь и в церкви есть.
— Их секут?
— Хуже. Такую епитимью наложат, что уж лучше бы высекли!
И семинарист откланялся, чтобы не опоздать к ночной службе и не заработать оную епитимью.
Покотилов остался один. Наступало самое плохое время суток — ночь, когда надо бы спать, но никак не заснуть: мучают мысли, кошмары и, самое главное, страх смерти, который днем спит как убитый, но стоит стемнеть, и он высовывает свою змеиную головку и начинает охоту за тобой. Мерзость!
У него были выработаны свои методы борьбы с этим страхом. Сейчас надо добраться до гостиницы, выпить перед сном чарочку и быстро лечь спать, пока действие чарочки не закончится. Потом, в разгар ночи, самое мучительное — проснуться и не заснуть, а забыться в какой-то гнусной полудреме, когда не отличаешь сна от яви, себя от умершего и комнату от гроба. Брр... Пора. До гостиницы надо пройтись пешком — тогда организм будет обманут утомлением и, может быть, удастся заснуть сразу. Кстати, на понедельник назначен акт. Осталось жить всего три дня. Забавно.
Расплатившись с обычной для него щедростью, Покотилов вышел на улицу, глотнул воздух, морозный, но уже пахнущий весной. Идти было порядочно. Вперед!
* * *
Спать не хотелось ни ей, ни ему. Вечер в ресторане был испорчен известием о гибели какого-то судна у берегов Японии, всех заставили подняться, запеть «Боже, царя храни». Поначалу Савинков остался сидеть, но Дора сделала вид, что он зацепился за стул, и помогла ему подняться, укоризненно шепнув:
— Что за мальчишество?
Он согласился с женской мудростью. Действительно, не хватало еще привлечь внимание, начнут осведомляться, наведут справки... Будет поставлен под угрозу сам акт, назначенный на понедельник. Если по какой-то причине он не удастся, то после анализа ситуации в спокойной обстановке будет избрана новая тактика, которая неминуемо приведет к успеху. И точка.
В отношениях между собой он и она тоже применили новую тактику, ибо все старые способы любовной игры уже приелись и не давали того воодушевления, которое так прельщало обоих во время медового месяца их игрищ. Они стали чуть проникать друг в друга. Чуть-чуть, не более, чем на четверть дюйма.
Позади остались несколько недель полного отказа от соприкосновений чреслами, когда неистовые желания начинали переполнять все уголки тел, совершенно, казалось бы, непричастные к этому: большие пальцы ног, самые оконечности локтей, подмышки, зубы (в особенности мудрости), уголки глаз, небо и гортань, ладони и подошвы ног.
Часами они исследовали свои и чужие угодья, находя все новые и новые доказательства присутствия любовной жизни во всех клеточках тела.
Проходили сутки — и вся энергия плавно перемещалась в совершенно новое, неожиданное местечко, охота за которым занимала следующую ночь или утро сразу после завтрака. Как хотелось.
А хотелось постоянно.
Вследствие постоянного томления весь город превратился в рай, изгнания из которого они ждали с нетерпением, как ждали вкуса яблока Адам и Ева. Иногда, совершенно случайно, мимо них проносился министерский кортеж Плеве; и в эти секунды обоюдное возбуждение нарастало до такой степени, что пару раз Савинков еле удержался, чтобы не согрешить неподвластным ему телом: тело поняло, что при смерти проехавшего мимо человека оно будет допущено до последних заветных уголков. То же самое, но в меньшей степени, испытала и Дора. Она была зачинщицей и судьей в любовных прикосновениях. И Савинков безропотно ей подчинялся, понимая, что разрушительная сила динамита, источника их будущих наслаждений, ему не подвластна. Дора богиня смерти. А он только ее служка, жрец. Скорее всего, даже не верховный.
Он понимал, что все очарование их отношений может исчезнуть, как только ЦК даст указание на новый теракт, в котором, возможно, ему не найдется места. И решать это будет скорей всего один человек — Азеф. Именно ему Дора доверяла полностью, как доверяет сука, не спрашивающая хозяина, зачем ей нужно бежать за дичью. Ее первый вопрос при решении какой-либо проблемы был одинаков:
— Что сказал по этому поводу Толстый?
И делала только то, что он сказал.
Но сейчас она делала то, о чем «Толстый» никогда даже и не думал, потому что в этой области отрицал всякую революционность и не помышлял о новизне — ему хватало старых устоев. Впрочем, Азеф никогда не вмешивался в любовные дела своих подопечных, предоставляя им полную свободу, лишь бы это помогало делу.
Конечно же, мужская выдержка Савинкова не была беспредельной. Он, хотя и воспитывал в себе сверхчеловека, понимал, что сверхчеловек и сверхмужчина — далеко не одно и то же понятие. Можно даже сказать наоборот, что это понятия взаимоисключающие. Недаром же великий Ницше не знал женщин, а когда его уязвленные ученики принудили учителя вступить в связь с нанятой проституткой, создатель богочеловека был неприятно поражен своими далеко не лучшими ощущениями, правда, скрашенными весьма кратким временем соития.
Привычными путями, уже обнаженные и усталые прошедшим днем, они легли на разостланную постель. Савинков потянулся было продолжить уже привычное, начатое и брошенное на полдороге, но Дора отвела его руку и узкой теплой ладонью закрыла его губы, так что он дышал в ее ароматную ладонь, изредка позволяя себе покусывать нежные кожаные шишечки у оснований пальцев. Несколько минут она его успокаивала. А затем села на его сильные ноги кавалериста (он отродясь не садился на лошадь, но знал, что если сядет, то сделает это хорошо) и застыла в позе амазонки, ожидая какой-то ей одной понятной минуты, какого-то ей нужного момента.
Когда эта минута наступила, она начала медленно наползать на его тело так, что его охватил страх: неужели она сейчас сделает то, чего они всячески избегали делать все эти последние дни, ожидая разрешения своих мучений только им одним понятным способом? На его лице в полумраке комнаты, освещенной одинокой скудной свечой, этот страх проступил так явственно, что она отрицательно покачала головой: не бойся, я не нарушу нашего бессловесного уговора.
Медленно, долями дюйма она наползала на готовое ко всему мужское тело, но остановилась и одним движением направила его по нужному пути. И снова успокаивающе покачала головой: не бойся, ничего не будет. Он понимал, что это самая последняя, мучительная прелюдия перед свершением. Но уже сейчас в нем зародился страх: а не обманутся ли они в своих ожиданиях, когда можно будет все, а они не смогут этого всего взять? Или возьмут в рот блаженную долгожданную влагу, а она не утолит ни грана жажды?
Ну что ж, подумал он, это тоже будет ответом и опытом. Дальше они придумают что-то новое или просто посмотрят в глаза друг другу, понимая, что все ушло и теперь более их ничто и никогда не свяжет в странную супружескую пару со страстью, но без супружества. По крайней мере, они будут не первые, кто попытался таким образом обмануть чувственную смерть. И если у них, как и у их предшественников, не получится ничего, они все-таки могут сказать: «Мы попробовали. А вы не смогли даже и этого!» Пусть будет что будет. И он стал наслаждаться короткими чувственными прикосновениями сокровенного женского уголка ее тела. Наверное, так дразнили львов в римских цирках, подсовывая голодному зверю еще живую жертву и отдергивая страдальца в последний момент перед кровавым прыжком.
Время остановилось, хотя тела не останавливались, влекомые все нарастающей тяжелой невыносимой похотью. Он уже несколько раз пытался одним движением закончить это страдание, но каждый раз она легко уходила от его движений, прикладывая палец к его рту: держись, дальше будет хуже...
И тут произошло нечто непонятное: откуда-то издалека донесся тяжелый вздох, будто у них прямо под кроватью, потревоженный их ритмичными движениями, устало вздохнул неимоверный великан. Мелко затряслись все стекла в окнах, вся посуда в горке, часы стали бить совершеннейшую чушь; кровать качнуло так, что Дора чуть не слетела вниз.
Савинков вскочил с кровати и в два прыжка очутился у окна. Вдалеке к Литейному проспекту светилось желтым цветом какое-то образование, вроде облака в виде гигантской поганки, непонятным образом выросшей в ночном петербургском небе.
Дора застыла, прислушиваясь к происходящему, но все стихло и более не повторялось.
— Что это было? — спросил Савинков.
— Взрыв, — просто ответила Дора, встав рядом у окна и прижавшись своим холодным телом к его горячему.
* * *
— Господи... — на ходу забормотал Франк. — Какие-то маленькие, плюгавые япошки — и наш «Петропавловск». Гордость нации адмирал Макаров! умнейший человек! флотоводец! И нате вам! — закричал он на Путиловского.
Проезжавшая мимо спокойная лошадь встала на дыбки, сама подивившись своей резвости.
Прошли несколько шагов. Целительное водочное успокоение закончилось, и очень хотелось поговорить.
Ну почему ты молчишь? — не выдержал Франк.
— Не ори. Тоже мне Аника-воин. Морской мине, знаешь ли, все равно — плюгавый ты или гордость нации, — хмуро проговорил Путиловский.
— А вы куда смотрите?!
— Кто мы? При чем здесь мы? Мне своих плюгавых террористов во как хватает! Хотя тут все при чем...
— Такое громадное, сильное государство,— не унимался Франк. — Армия, флот, кавалерия, драгуны, кирасиры, уланы, гусары! Калмыки-головорезы! Казаки! Пластуны легендарные! Это же не государство, а просто Голиаф! И маленький Давид с какой-то пращей ему в лоб — шарах! — и все. Где они все были? Те, которые на парадах так красиво ходят, что все плачут от восторга? А теперь плачут от унижения!
— Ты же философ, такой умный, все понимаешь. Вот давай, философ, разложи по полочкам! — не выдержал и съязвил Путиловский.
— Для занятий философией требуется одно лишь условие, необходимое, но и достаточное — спокойный и невозбужденный ум. Если он взволнован, то все тонкие философские построения мгновенно исчезают за грудой путаных эмоциональных мыслей. Я сейчас очень взволнован и в эти минуты по мыслительному уровню ничем не отличаюсь от тебя или вон от того дворника.
— Спасибо! — Путиловский остановился и отвесил поясной поклон.
— Паяц!
— Я Пьеро.
Дворник, встревоженный вниманием влиятельных господ к своей малозначительной персоне, на всякий случай привстал со скамейки, на которой вкушал пирог с грибами, и спрятал пирог за спину. Потом малость подумал и второй рукой сдернул с головы шапку.
— Чисто метешь, братец, — обронил на ходу Путиловский, не чуждый демократизма и знавший благодаря Медянникову слабые струны петербургских гераклов, ежедневно чистящих столичные конюшни.
И услышал в спину:
— Покорнейше благодарю-с!
— Да ты демократ! — Франк выпустил весь воздух с накопившимся ядом. — Ты не понял главной мысли: в состоянии душевного возбуждения все люди одинаковы!
— Да знаю я все это, проходил в судебной практике. Состояние аффекта, состояние депрессии — все едино для всех, от графа до приказчика. Я спрашиваю тебя как человека, должного по образованию воспарить над всей нашей суетой и сказать: вот так, мол, и так. И не иначе! А ты кроешь японцев не хуже приказчика из мясной лавки. Дай мне истину! Любую!
— Истину? Она, брат, в вине, — и Франк тоскливо оборотился вокруг, но, не сыскав никаких признаков разлива истины в мелкую тару (не крупнее стопки), опять впал в уныние и вновь стал поносить японцев, точно они в этом укромном уголке столицы раздавали патенты на торговлю хлебным вином.
Путиловский шел молча и привычно думал о том, что пора менять свою жизнь, уходить из Департамента, из Охранного отделения, рассчитать Лейду Карловну (или оставить девушку? пропадет ведь без него), отдать Макса в хорошие руки (если не рассчитывать Лейду Карловну, зачем тогда отдавать Макса?)... Дальше мысли путались, как следы зверей в лесу, и приходилось возвращаться к самому началу: надо уйти из Департамента на вольные хлеба. Точно. Он может выступать в суде, у него есть адвокатское обаяние, зачем скрывать правду? Станет модным и высокооплачиваемым защитником в самых щекотливых делах — бракоразводных и убийствах из ревности.
— ...Я бы собрал вот сейчас всех этих паркетных гвардейцев — и на Дальний Восток! На Дальний Восток! — витийствовал тем временем Франк. — Каждому бы в руки по винтовке — и марш-марш! Под пули! И только тем, кто доказал свою честь, позволить вернуться в Питер. А струсил, сглупил — на Камчатку!
— Что же им делать на Камчатке? — резонно спросил Путиловский.
— Жить. С камчадалками, — заодно решил философ и национальный дальневосточный вопрос. — Пойдет новая порода — желтые, узкоглазые, с голубой кровью.
«Эк его несет!» — про себя, дабы не раздувать огонь, подумал Путиловский, а вслух сказал нейтральное:
— Да уж...
И тут нечто стремительное, темное и прыгающе-меховое накинулось на Путиловского и стало в прыжках лизать ему губы длинным горячим языком.
— Дуся! — Путиловский почесал извивающуюся в ногах и повизгивающую от собачьего узнавательного счастья доберманиху. — Откуда ты, прелестное дитя?
— Любят тебя всякие бабы! — только и вымолвил оторопевший и ревнующий Франк. — Доберман Дуся? Что за русофильство! Я понимаю — Брунгильда, Валькирия, на худой конец Лорелея!
Дуся обиженно залаяла. Это точно была Бергова сука. Тут же объявился и ее хозяин, вынырнувший из-за угла с поводком в руке. При общем сборе Дусина радость достигла такого высокого предела, что пришлось несколько раз легко хлестнуть собачку, на что, впрочем, она нисколько не обиделась, а наоборот, восприняла наказание как некое поощрение.
— Добрый вечер, господа! — Берг был розов, свеж и тонок, точно кавалерийский хлыст, облаченный в шинель, и, не услышав бодрого ответа, забеспокоился. — Что-то случилось?
Дуся тоже поняла, что не все так ладно в непонятном человеческом мире, уселась на стройный зад и наклонила голову чуть в сторону, что означало собачье непонимание ситуации.
«Коты в таких случаях только расширяют глаза и внимательно наблюдают», — подумал Путиловский.
Оказывается, Берг был в полном неведении относительно «Петропавловска», и Франк тут же начал просвещать его, точно сам был знатоком в деле минирования водных пространств и способов безопасного преодоления последних крупными военно-морскими силами.
Берг оживился — речь пошла о знакомых ему материях! — и несколькими профессиональными залпами разбил в пух и прах все Франковы построения. Но тот не огорчился, а стал жадно впитывать доводы, чтобы впоследствии на кафедре блеснуть потрясающим знанием мельчайших деталей всей трагедии бедного броненосца.
— Странно! — вещал Берг. — У броненосцев этого проекта чрезвычайно развитой защитный пояс в районе ватерлинии как раз для таких вот случаев встречи с миной. Он должен был выдержать взрыв любой современной мины!
— Простите, Иван Карлович, — перебил его Франк. — Не могли бы вы пояснить, что такое ватерлиния? Я понимаю, что это воображаемая линия, наподобие оси ствола, каким-то образом связанная с водой, и что скорее всего именно по ней Макаров и должен был вести «Петропавловск», но уклонился... и она... тоже не выдержала? Не так ли?
— Вы закон Архимеда знаете? — спросил в лоб оторопевший от такого невежества Берг.
— Который? — с ловкостью студента, уличенного в незнании основ, переспросил Франк.
Но и Берг был не лыком шит:
— Основной, разумеется! Он же и единственный!
Взгляд Франка обратился вверх, ко Всевышнему, но никаких видимых знаков от небес на ночном сером небе не проступило. Тогда он низвел очи долу, украдкой, точно в школьные времена, посмотрел на Путиловского: «Выручай!» И Путиловский пришел на помощь товарищу по парте:
— Ватерлинией называется линия вдоль корпуса судна по границе воды и сухого корпуса. Так?
— Ну-у,— протянул Берг, — разве что в первом приближении. Их же несколько, ватерлиний: грузовая, теоретическая, в дедвейте, в балласте! Но и такое определение годится. В общем, так: скорее всего «Петропавловск» был сильно перегружен углем, водой и боевыми припасами, поэтому осел в воду так, что броневой пояс оказался ниже головки мины. И когда произошел взрыв, именно это обстоятельство и стало первопричиной скорой гибели. От снарядов тоже защищают в первую очередь палубу и ватерлинию. А в остальных местах корпус облегчен до предела.
Балетоманам стало много яснее, когда они услышали грамотный комментарий профессионала: так, прибежав на пожар и внимая брандмейстеру, мы испытываем облегчение от его пояснений на тему, почему тушить уже поздно и можно лишь спасти окружающие пожар строения, чем он сейчас и командует. Затем, когда занимаются соседские постройки, он так же грамотно объясняет причины появления новых очагов. И это длится до бесконечности, когда в идеале сгорает весь город. Аналогичной достоверности комментарий дают гадалки погоды, экономисты и профессиональные политики, за что и почитаемы в народе.
— Может быть, зайдем ко мне? Посидим, обсудим в тепле? — вопросил Путиловский. — Лейда Карловна будет рада!
Вопрос Франка обнадежил, но в утверждении он сильно сомневался. Впрочем, не он первый предложил, хотя озвученное Путиловским предложение давно жгло Франков язык.
Понятливая Дуся, услышав звукосочетание «Лейда Карловна», взвизгнула то ли от радости, то ли в одобрение. Эти звуки объединялись в ее женском мозгу с парной печенкой и котом Максом. Хотя Макс ее явно не ждал и любое Дусино явление воспринял бы как незаконное вражеское вторжение на свою законную территорию.
Берг однозначно сглотнул слюну, сопоставив пустоту своего буфета и изобилие буфета под руководством Лейды Карловны, но вслух сказал скромное:
Разве что на минутку...
В это время мимо них, бормоча французские слова извинения, протиснулся молодой человек в дорогом пальто с бобровым воротником. От воротника сильно пахло спиртным. Франк инстинктивно повел носом: водка, виски, потом шартрез и снова виски. Убийственная смесь, но, по-видимому, молодой человек обладал незаурядной устойчивостью к такому сочетанию, что возвышало его в глазах Франка и всего пьющего человечества.
— Послушайте, вы же наш соседушка! — ласково пропел профессор философии вслед странствующему Покотилову (это был он!).
Покотилов отреагировал, как и подобает воспитанному человеку: обернулся, сфокусировал разбегающиеся глаза на Франке, затем на Пути-ловском и только тогда снял бобровую шапку с высокого чела, уязвленного легкой экземой.
— Ба! — только и сказал он, узнав своих собутыльников. — Ба, кого я вижу!
И, распахнув объятия, припал к широкой груди знатока французских вин. Франк принял заблудшего и облобызал, ревниво принюхиваясь и прикидывая, что и сколько тот успел влить в себя после их расставания.
Учитель атлетической гимнастики ограничился легким поклоном, а офицер щелкнул отсутствующими шпорами и наклонил голову. После этого какая-то отвратительная вонючая псина стала запанибратски хватать Покотилова за все места и вдруг, отпрянув, оглушительно, порой срываясь на визг, залаяла, оглядываясь на офицера, точно призывая его разрешить мучительную для себя загадку.
— Дуся! Фуй! — прикрикнул на собаку хозяин.
Но успеха эта команда не поимела. Вышеупомянутая Дуся точно с цепи сорвалась, указывая всем своим видом на особые причины, заставляющие добродетельную собаку вести себя неподобающим образом.
— Дуся! — укорил собаку Путиловский, но с тем же успехом он мог корить лошадь Медного всадника, вздумавшую разок проскакать по темным улицам столицы.
Берг натужно улыбнулся, пристегнул поводок к продолжающей уже даже не лаять, а кашлять собаке и пошутил:
— Динамит почуяла.
Покотилов, заслышав невероятное (здесь и сейчас) заветное слово, окаменел и внезапно протрезвевшим взором стал оглядывать троицу с собакой. Собака извивалась на поводке, стараясь добраться до него, и он сделал два шага назад, тем самым поставив себя в выгодную позицию на тот случай, если вдруг кинутся и станут вязать руки.
Нахлынувшая трезвость в мгновение ока пробудила все спавшие по сию минуту страхи, мозг стал кристально ясно анализировать сложившуюся ситуацию.
Та-а-ак... трое и собака. Это не учитель математики! И не профессор — профессора так не пьют! Они вели его! Это ОХРАНКА! Знают про динамит. И следят за его реакцией. У них все готово для ареста, за углом стоят городовые, сейчас выскочат. Надо опередить. Господи, ну почему он не взял с собой револьвер? Можно было бы погибнуть по-геройски! А так будут пытать, он не выдержит и все расскажет! Позор. Револьвер?! Нужен револьвер! Гостиница совсем рядом, за углом! Как же он не догадался сразу? Надо будет пойти, потом побежать (от собаки не уйдешь), потом взять револьвер, и все. Отстреливаться до последнего, а напоследок швырнуть в них бомбу. Погибнут все, и он в том числе, но не будет позора! Почему все стоят? И хорошо, что стоят, вон, один уже достал портсигар и собирается прикуривать. Отводит подозрение! Подождать, когда загорится спичка, и бежать! Внимание...
Путиловский улыбнулся шутке Берга и чиркнул спичкой. Результат получился весьма неожиданным: молодой человек подскочил на месте, а затем, словно сорвавшись с цепи, побежал, скользя калошами на уезженном снегу, не оглядываясь и крепко держа в руке бобровую шапку. Дуся, натянув поводок в струнку, захрипела вслед убежавшему, и Берг заскользил на том же снегу, еле удерживая собаку весом всего тела.
Путиловский от удивления забыл прикурить, и огонек спички уже подобрался к его пальцам.
— Что это с ним?
— Павел Нестерович, это динамитчик! — Берг с трудом оседлал Дусю и держал ее между ног.
— Черт! — Огонек добрался до путиловского пальца и обжег. — Вы с ума сошли.
— Клянусь, динамитчик! Давайте проверим, Павел Нестерович. Дуся не ошибается!
— Держи динамитчика! — весело закричал вслед молодому человеку Франк, отчего тот подпрыгнул на бегу и стал петлять, как заяц, уворачивающийся от собак.
— Уйдет же, Павел Нестерович! — взмолился Берг, а молодой человек в ту же секунду скрылся за поворотом.
— Вдруг действительно? — сказал себе вслух Путиловский и рванул к углу. — Бежим!
Дуся все поняла без команды и сразу взяла такой резвый аллюр, что Берг мгновенно поимел фору саженей три, а то и поболе.
— Я с вами! Я с вами! Это японский шпион! Ура-а! — и грузный Франк заскакал за ними козликом, радуясь новым героическим приключениям.
Завернувши за угол, они успели заметить, что «динамитчик» влетел в подъезд гостиницы средней руки «Северная».
— Уйдет через черный ход, — на ходу крикнул Путиловский.
— Ни черта! — прокричал в ответ Берг. — От Дуси не уйдешь!
Дуся, понимая серьезность погони, берегла силы и неслась молча. Франк сил уже не берег, потому что их у него не осталось вовсе, — тот малый запас, что был, утратился безвозвратно на первых десяти саженях бега.
Покотилов вбежал в вестибюль, проскочил мимо портье, чему тот нимало не удивился: бывало, господа и не так рвали по лестнице, только бы успеть в ванную комнату — перепили-с! Тем более амбре за бегущим тянулось вельми густое и осязаемое. Но не прошло и пяти секунд, как вслед за перепившим длинной вереницей последовали собаки, владельцы собак, какие-то делового вида офицеры в штатском. Венчал же всю эту фантасмагорическую процессию высоченный господин изрядной комплекции.
В голове у портье за несколько мгновений сложилась удивительная картина: у постояльца наверняка развилась белая горячка, чего и следовало ожидать со дня на день, судя по количеству спиртного, которое он поглощал. Далее по логично выстроенному пути (профессия портье удивительным образом развивает наблюдательность и логику) следовало, что собака есть фантом, преследующий больного! Но эта версия была отброшена как чересчур заманчивая. Собака отнюдь не фантом. Она преследует больного, сбежавшего от лекаря, потому что фигура, замыкавшая процессию, явно принадлежала лекарю, как по национальному признаку, так и по выражению лица — доброму, но в то же время озабоченному судьбой пациента!
Душа портье наполнилась ожиданием скандала, начало ночи обещало быть весьма пикантным. Он бросил свое основное занятие — протирание стойки байковой тряпицей — и весь обратился в одно большое ухо, стараясь не пропустить ни грана звуков, доносившихся со второго этажа.
Вначале там было тихо-тихо, точно все виденное явилось галлюцинацией самого портье. Но потом раздался сухой треск, похожий на тот, когда приказчик-ярославец лихо отрывает от штуки ситца отмеренное количество товара. Невидимый лихой приказчик проделал этот фокус ровно четыре раза, затем раздался вопль, совершенно непонятный сквозь тяжелые перекрытия, но означавший единственное: приказ и действие!
«Черт!» — подумал портье, и это была последняя мысль в его голове. Далее были одни лишь эмоции, правда очень короткие, но весьма емкие. Непонятным образом наверху поселился великан, который лопнул. Кто его надул и отчего он лопнул, для портье осталось неизвестным, потому что серая площадь потолка внезапно пошла паутинообразными трещинами, вспухла и исчезла, превратившись в груду камней, летевших с невообразимой скоростью в голову застывшего любопытца. Первым же пластом вырост этот срезало напрочь, и оставшиеся камни стали бестолково терзать неподвижно стоявшее тело портье без головы. Руки сведенными предсмертной судорогой пальцами упорно цеплялись за латунные поручни стойки, пока их не переломало рухнувшими сверху дубовыми балками...
Когда Покотилов вбежал в гостиницу, вид знакомого и родного места успокоил его до такой степени, что он чуть было не свернул протоптанной дорожкой в буфет, где его ждала севрюжин-ка (он почувствовал, что проголодался, потому что после завтрака маковой росинки во рту не было, если не считать выпитого, а кто его считает?). Но разум пересилил чувства, и он сиганул вверх по лестнице, имея к тому времени фору в несколько корпусов по отношению к собаке. Завидев спасительную дверь, он бросился в нее и охолодел: забыл взять у портье ключ!! Бежать назад не было никакого резона. Покотилов с разбега вышиб хилый замок и ввалился внутрь, ликуя и ища глазами тумбочку, в которую он накануне спрятал револьвер. Тумбочка оказалась на месте.
Хрипя и задыхаясь от усталости, он сорвал крышку, нащупал сверток, и тут ему на спину бросилась проникшая за ним дьяволица во плоти — та самая мерзкая собака. Она проникла без спроса в чужое жилище и должна быть примерно наказана! Резким поворотом туловища он сбросил собаку с руки, и та, прежде считавшая преследование какой-то новой игрой, мгновенно вызверилась, оскалилась и теперь уже по-настоящему стала целиться в горло Покотилову. Оба застыли перед решающим прыжком: Покотилов — распутывая комок тряпки со спрятанным внутри револьвером, и собака — хлеща себя по бокам несуществующим хвостом. Как только он взвел револьвер, собака прыгнула.
Покотилов выстрелил два раза навстречу черно-шоколадному телу, но промахнулся, ибо даже малейшее попадание сбило бы упругое тело если не на пол, то хотя бы с траектории полета. Собака тоже промахнулась, потому что в эти мгновения по быстроте реакции взвинченные нервы Покотилова сравнялись с лучшими собачьими. Он выстрелил вслед пролетевшему мимо телу еще два раза и попал, потому что раздался леденящий душу каждого собачника визг подстреленного пса. Собака извернулась кольцом, пытаясь укусить жалящее ее бедро насекомое, не смогла поймать и развернулась для новой атаки. Покотилов тщательно прицелился и спустил курок — револьвер заклинило!
В отчаянии он кинул его в морду ополоумевшей твари, та увернулась, прыгнула и впилась Покотилову в руки, которыми тот инстинктивно прикрыл горло. Клыки рвали руки, кровь била из порванных артерий во все стороны, что свидетельствовало о повышенном кровяном давлении и возможности скорой кондрашки. Но не это занимало все оставшиеся мысли Покотилова: он попался в лапы самому Дьяволу! И поскольку убить Дьявола простому человеку нет никакой возможности, в его мозгу стала шириться одна, но быстро растущая мысль: он должен сделать ЭТО!
Покотилов вместе с Дьяволом, повисшим на его руках, ринулся к заветному сундучку, сорвал с него крышку, и тут в Дусины ноздри ринулся такой плотный запах динамита, что она, совершенно обескураженная, расслабила свою смертоносную хватку и застыла над сундучком, ничего не понимая и ожидая команды Хозяина. Этот ступор Покотилов расценил однозначно радостно: он угадал! ОНО боится взрыва! И, не дожидаясь трусливого сопротивления собственной плоти, он поднял сундучок и швырнул его об пол.
Пока содержимое сундука входило в контакт с нижней стенкой и получало от него согласно принципу сэра Айзека Ньютона действие, равное противодействию, душа Покоти лова обрела так долго ожидаемое спокойствие и наблюдала за процессом передачи противодействия со стороны, одновременно глядя на склоненную набок недоуменную морду товарища по предстоящему эксперименту: бессмертна ли душа и ежели да, то куда она удаляется?
Тут весь полный пуд заботливо приготовленного динамита не выдержал реакции инициации и сдетонировал со вздохом великана, у которого ничего телесного, кроме вздоха, нет. Но и этого оказалось достаточно, чтобы превратить в пыль пропитанное отличным шотландским виски тело страдальца. Видимых остатков души не наблюдалось. Благодаря удивительным взрывным парадоксам от торса Дуси отделилась совершенно целая голова и улетела сквозь оконную раму в неизвестном науке направлении. Весь ближайший окружающий это действие мир исчез в короткую долю секунды...
Берг несся впереди всех не только благодаря Дусе: он чувствовал охотничий азарт не менее своей воспитанницы. Если это действительно динамитчик, весь мир узнает о совершенном им, поручиком Бергом, перевороте в деле борьбы с террористами, а именно: собаки могут предварительно ловить организаторов взрывов, как во время подготовки, так и при перевозке взрывчатого вещества! Более того, они будут способны разыскивать во всех укрытиях спрятанные там фугасы, мины и прочие диверсии.
Эти мысли тряслись в голове Берга, в то время как ноги совершенно самостоятельно несли его к славе и орденам. Однако рассогласование между мыслями и ногами рано или поздно должно было сказаться, что и произошло: на совершенно ровном месте Берг запнулся, потерял равновесие и растянулся на полу. Кожаная петля поводка соскочила с руки, и освобожденная Дуся, в два раза увеличив свою скорость, скрылась за поворотом коридора второго этажа. Берг не то чтобы вскочил — он вспорхнул с пола, но, завернувши за угол, был несказанно удивлен: Дуся нигде не наблюдалась. Совершенно по инерции он проскочил все короткое колено коридора и уже углубился в следующее, как услышал сзади знакомый лай и револьверные выстрелы. На полном ходу заворотить не вышло, он проскользил на хорошо навощенном полу метров пять, но справился и повернул на лай Дуси.
В это мгновение лай сменился визгом, и Берг обомлел: его любимицу убивают!
Ревя на ходу нечленораздельное, Берг ринулся вперед, но споткнулся о чью-то выставленную ногу и пролетел мимо поворота коридора в глухой тупик. Врезавшись головой в плинтус, он на секунду потерял ориентировку в пространстве и во времени. Прислушался, но больше не услышал Дусиного визга. Обошлось? И в эту секунду, точно сочувствуя Бергу, некто большой и необозримый вздохнул так, что Берг потерял сознание и никак его больше найти не смог. Тьма сомкнула его очи...
Путиловский ровным бегом держался за Бергом, на пути изловчившись достать револьвер и прокрутить, проверяя на слух, барабан. Он был полон. Движением большого пальца Путиловский поставил револьвер на боевой взвод и теперь следил, чтобы ненароком не выстрелить в спину Берга, — такие случаи встречались в его богатой следовательской практике. Берг растянулся лягушкой на полу, отчего Дуся получила долгожданную свободу и не преминула ею воспользоваться. На ходу свободной рукой Путиловский успел подхватить Берга за воротник, тот птичкой очутился на ногах и умчался вперед.
С ходу проскочив колено коридора, Путиловский понял, что динамитчик остался позади — впереди был тупик с неподвижными дверями. Каким-то чутьем он увидел, что двери заперты и не колышутся. Он притормозил движение и в этот момент услышал два револьверных выстрела сзади сбоку, потом еще два и понял, что убивают Дусю. Правильность этой догадки подтвердилась последовавшим за выстрелами Дусиным визгом.
Берг был чуть впереди него и, услышав то же самое, так рванул, что у Путиловского возник страх за его жизнь, за жизнь предполагаемого динамитчика и только потом за Дусину. Черт знает, может быть, это совершенно невиновный ни в чем, кроме как в пьянстве, человек. И чем от него пахнет в действительности, одному Богу известно. Может, он динамитом по лицензии торгует!
— Стоять! — проорал Путиловский и, дабы упредить Берга, подставил ему сзади ножку.
Берг, согласно законам механики, устоять не смог и полетел головой вперед и прямо, не меняя траектории вплоть до соприкосновения головы и стенки. Путиловский не удержался на ногах и въехал в мягкое место Берга, которое по причине природной худобы последнего мягким оказалось только по классификации, а на деле сухим и весьма жестким. И тут в подтверждение этому кто-то пожалел Путиловского и вздохнул. Вздох был так нежен и всеобъемлющ, что, казалось, проник глубоко в каждую клеточку тела. Такое проникновение удивило Путиловского, он скосил глаза и увидел серую пыльную пелену, надвигающуюся на него, как самум надвигается на бедуина. И бедуин закрыл глаза...
Неповоротливый Франк последние метры тащился шагом, дыша, как паровоз на последней стадии Транссибирской магистрали. Однако он упрямо завернул за угол и увидел бегущих ему навстречу Берга и Путиловского. Что означал этот бег в обратную сторону, Франк не понял, но на всякий случай прижался к стене, чтобы пропустить бегущих и потом подумать, бежать ли ему вслед. Вокруг что-то визжало и стреляло. На полном ходу Путиловский вдруг сделал невообразимое — подсек сзади ноги Берга, тот вытянулся в струнку и полетел вдоль коридора, минуя тот поворот, из-за которого они все только вылетели. Вслед за ним с криком «Стоять!» улетел и Путиловский. «Как стоять?!» — удивился Франк. Он не мог оставить друзей в беде и ринулся туда же. Не успел он миновать угол, как сзади кто-то горестно вздохнул и тут же выдохнул, отчего Франк отделился от земли (в последний раз это было в юности) и полетел в кучу малу, образованную товарищами по ночным играм. После такого кунштюка сознание философа-идеалиста исчезло и снизошло духовное просветление, продержавшееся, однако, не более мгновения. Далее наступила спасительная темнота...
Все волны в природе подчиняются одним и тем же законам. И накат морской воды на берег, и рождение звездных туманностей, и движение сигарного дыма в токах воздуха, и колебания прекрасной дамы, выбирающей кавалера на сегодняшний вечер, — все непредсказуемо, все таит в себе загадку! Так и взрывные волны: вроде бы ходят где хотят, а на самом деле все их пути поддаются изощренному анализу пытливого ума.
Таковым умом в данный момент являлся Берг, очнувшийся, вследствие более здорового образа жизни, ранее своих товарищей по несчастью. Впрочем, сейчас они все выглядели одинаковым образом: серые пыльные мумии, две лежащих, одна стоящая.
Взрывные волны иногда творят чудеса, минуя отдельные закоулки. Так маленький залив, отделенный от океана узкой косой, блаженствует и отдыхает, в то время как рядом гигантские валы прибоя с ревом дробят в щебень куски прибрежных скал. Произошедший взрыв, не пощадив ничего живого в радиусе полгостиницы, сохранил целым небольшой уголок, в котором и лежали три героя. Взрывная волна прошла мимо и вынесла три стены, оставив одну целой и невредимой.
Стоящая мумия прокашлялась, потрясла лицом, и в ней проглянули черты Берга. Придя в себя, Берг удивился переменам, произошедшим с гостиницей за столь короткий промежуток времени его отсутствия. Во-первых, над ними было не совсем чистое петербургское небо — крышу снесло до основания. Во-вторых, рядом не оказалось пола и вследствие этого можно было легко попасть на первый этаж. В-третьих — и это чудо! — на нем не было ни малейшей царапины, все члены ходили без малейшего напряжения, в голове не шумело, и кровь из носа не шла. Убедившись в собственной целостности, он занялся Путиловским. Франк не был заинтересованным в расследовании лицом и поэтому мог немного подождать.
Путиловский очнулся сразу, как только Берг сдул с его лица мелко измельченную штукатурку.
— Что это было? — спросил Павел Нестерович, оглядывая архитектурные излишества и недостатки, воздвигнутые созидательным взрывом всего за долю секунды.
— Похоже, было не меньше пуда, — оценил Берг, поводя очами вкруг себя. — Как вы себя чувствуете?
— Чувствую, — признался Путиловский, уже познавший три года назад последствия взрыва. — Все хорошо, — добавил он, проведя инспекцию частей тела и головы. — А где Франк?
— Вот, — сказал Берг, указывая на якобы спящего Франка, уютно примостившегося между кадкой с финиковой пальмой и перевернутым креслом, защитившим голову спящего от приличного кирпича, тем самым сохранив для потомства все будущие Франковы мысли.
— Помогите мне!
Путиловский перевернул кресло, и они стали совместными усилиями затаскивать в него Франка, напоминая двух муравьев, тянущих слишком большую для них серую гусеницу.
Затем Берг растерянно оглянулся вокруг, восстанавливая картину мира до сотворения взрыва: что-то мешало ему чувствовать себя полностью счастливым и избежавшим смерти. Путиловский тоже наморщил лоб, вспоминая. Морщиться было больно, на лбу под пылью открылась свежая царапина.
— Дуся! — первым вспомнил Путиловский. — Дуся была здесь!
— Дуся! Дуся! Ко мне!! — истошно закричал Берг и замер, прислушиваясь к тишине.
Вдали послышались звуки пожарного колокола — это первые дружины по зову главного брандмейстера спешили к месту взрыва. Но ничего не горело, взрывы такой силы гасят пожары.
— Дуся... — прошептал Берг, вспомнил все и заплакал. Слезы текли по лицу, прокладывая в пыли мокрые бороздки и застывая на щеках серыми комочками,— Дусечка моя...
— Экхм, — прокашлялся из кресла Франк. — Пива... полцарства за пиво...
* * *
«Авель», отказывая всем, провел карету Плеве от Мариинского театра до Министерства внутренних дел, убедился в целостности министра и, чтобы не терять времени и денег, удачно взял седока до Лесного, где располагались дачи не.самых богатых чиновников. Ехать пришлось далековато, к Серебряному озеру на 2-м Мурин-ском проспекте. Редкие дома стояли далеко друг от друга, наезженных дорог было мало, так что и туда, и обратно пришлось попетлять. Но Созонов привык к своеобразному труду извозчика и находил успокоение и радость в таких длинных пустых перегонах, когда никто тебя не понукает, ты не понукаешь лошадку, все идет своим чередом и всегда можно остановиться у трактира, выпить чайку и задать сенца трудолюбивой скотине.
Вот и сейчас он малость не доехал до Финляндского вокзала, спешился и пошел к сбитенщику погреться горячим варевом, к которому привык за эти месяцы. Лошадка тут же ткнулась мордой в пристроенную торбу и захрустела сухим разнотравьем. От лошадиной спины дымился парок, такой же шел от кружки со сбитнем. Из-за пазухи Созонов достал пирог с капустой, с наслаждением прислонился распрямленной спиной к саням и стал вечерять.
Взор его устремился к небу, к чертогам Господним, где ему в скорости придется предстать перед Очами и держать ответ за все свои грехи, в основном будущие, поскольку до сих пор Егор не грешил даже и в мыслях. Представляя себе небесную встречу, он для полноты картины радостно зажмурился, а когда открыл глаза, то увидел нечто, что в первое мгновение принял за знамение и подтверждение своим мыслям.
По ту сторону Невы над домами поднялся яркий шар, завис невысоко над крышами и стал меркнуть снаружи, в сердцевине своей оставаясь светящимся. Отсюда он напоминал серый гриб-дождевик (такие собирали у них в деревне; пропущенный грибниками, он созревал и превращался в пустотелый кожаный мешочек, из которого при нажатии выпыхивал бурый дым). Потом донесся глухой звук, будто что-то лопнуло.
— Пожар! — уверенно сказал стоявший рядом бритый мещанин с Выборгской стороны.
— Какой те пожар?.— резонно возразил служивый из инвалидов. — Разорвалось там что-то!
Я такие взрывы в турецкую кампанию часто видывал. Солидная штукенция! На шрапнель похожа, только шрапнель куда жиже будет.
Какое-то туманное соображение заставило Созонова быстро дожевать пирог, запить остатками сбитня и хлестнуть лошаденку, только разговевшуюся сеном. Чем ближе он подъезжал к месту взрыва, тем сильнее росли в его душе подозрения, и к тому моменту, когда он выехал к оцепленному пожарными обозами зданию гостиницы, уже не оставалось никаких сомнений: Алексей взорвался!
Городовые только-только составляли оцепление, командовал ими совершенно пыльный господин с серым лицом. Созонов попытался сунуться ближе, но порядок стал восстанавливаться, и сразу же к нему подскочил бравый усатый человечек:
— Куды прешь, дурень? Что там позабыл? Пшел вон!
— Правдюк! Твою мать! Гони всех в шею! — Грузный большой мужик пробежал мимо, распекая всех и вся, — Нечего! Нечего! Идите спать! Тоже мне, цирк приехал!
Созонов не стал противиться, отошел в сторонку и прислушался. Отовсюду сыпались различные обоснования произошедшему, начиная от кары Божьей за грехи веселых постояльцев гостиницы до японских шпионов, ошибшихся адресом и подорвавших гостиницу, спутав ее с Генеральным штабом вследствие незнания основ русского языка. Но среди всех пустых разговор-цев один сразу сказал Созонову всю правду. Громко шептались две бабушки, по причине расстройства здоровья не спавшие и следившие через окно за улицей перед гостиницей. Такое бдение заменяло им и театр, и газету.
— ...Смотрю я, бежит по улице приличный молодой господинчик, простоволосый, в руке шапка, а за ним один с собакой и два пустопорожние. Вот как они все гуськом вбежали в гоштиницу вовнутрь, так анадысь и жахнуло! У меня все стекла повыбивало, чуть без глазынек не осталась, но Бог миловал. Заткнула раму подушками — и сюда!
— А зачем? — спросил Созонов.
— Что зачем? — удивилась очевидица. — Так сейчас градоначальника ждуть, претензии будет спрашивать. А ежели я без стекол осталась, так и претензию запишут. И помогут вдове. Знаешь, милый, почем нынче стекла-то? Никакой пенсии не хватит стекла вставлять! Динамитчики во всех гоштиницах, почитай, будут бонбы взрывать, а простому человеку отдувайся!
— А что, это динамитчик? — спросил Созонов, и внутри у него все запело.
— Динамитчик! Динамитчик! — заголосила бабушка. — Одних бонбов целый пуд у него было!
— Евграфий Петрович! Потрудитесь очистить площадь от праздношатающихся!
Пыльный распорядитель возник как бы ниоткуда, но несомненно все отчетливо слышал. Слабые сомнения Созонова испарились, и в душе воцарилась полная уверенность в происшедшем: за Покотиловым велась слежка с сыскными собаками, тот стал отстреливаться или просто отбрасываться бомбами, вследствие чего произошел взрыв, уничтоживший весь наличный запас динамита.
Это означало две очевиднейшие вещи. Первая — Созонов становился основным исполнителем в теракте против Плеве, что само по себе стало очень хорошей новостью. Но вторая новость была опасной: охранка может проследить все связи Покотилова и выйти на Савинкова, Дору и Созонова, что означает полный провал. Надо немедленно предупредить всех и избежать ареста. Динамит можно подвезти новый, но людей сразу не найдешь, а в одиночку справиться довольно трудно.
И «Авель», богобоязненно перекрестившись, чем вызвал полное доверие очевидиц, стал разворачивать сани, готовясь покинуть место трагедии, ставшей началом его звездного восхождения на Голгофу. Признав его за своего, бабушки затараторили вслед, выкладывая соблазнительные подробности:
— А еще нашли оторванную собачью голову, так один из погорельцев так убивался, так убивался, болезный! И все голову енту целовал, будто с женой прощался. А второй толстый точно с ума сдвинулся, ходил и все пиво спрашивал. Любые деньги сулил! Да где же тут посреди ночи пива подадут? Так городовые не поленились, сбегали к ресторану, принесли жбан, он весь жбан и выдул! От бонбы с него вся жидкость разом вышла, видать, обмочился с перепугу!
Последнее Созонов, нахлестывая лошадь, уже не расслышал. Уже через двадцать минут он был на съемной квартире, звонил и стучал в дверь, пока ему не открыл сонный Савинков. Созонов зашел внутрь, рассказал обо всем происшедшем, после чего в квартире стали тихо бегать и собирать вещи. В полчаса сборы были закончены, баулы, чемоданы и саквояжи погружены в сани и отвезены на запасную квартиру, снятую по настоянию Азефа. Именно сейчас Савинков понял, насколько Азеф был мудрее его самого, предусмотрев все возможные обстоятельства, в том числе и свершившееся.
После переезда Дора легла в постель и стала плакать в память о Покотилове: они были знакомы уже года два, связывало многое. Савинков сидел в кабинете и курил, обдумывая дальнейшие шаги, из которых спешное бегство представлялось ему наиболее безопасным.
А Созонов пошел в близлежащую часовню, поставил там свечку за упокой раба Божьего Алексея и стал молиться, вознося благодарность Всевышнему за то, что тот избрал его орудием Божьим в борьбе с сатаной в человеческом облике. Через несколько часов бдений к нему снизошло видение: явилась Богородица и своим светлым ликом благословила на жертву ради Сына
Божьего, ради искупления кровью грехов православного народа, погрязшего в безбожии и разврате... Аминь.
* * *
Работы хватило до самого утра. В сохранившемся крыле гостиницы накрыли скорый стол, за которым пили чай и писали первые бумаги по осмотру места происшествия. В соседней комнате над человеческими останками колдовали два медицинских эксперта, вызванные Путиловским для помощи Бергу. Когда принесли найденную в соседнем дворе Дусину голову, Берг отвернулся к стене и так постоял минуты две. После чего велел голову запаковать, положить в корзинку и стеречь от кражи. А сам стал неожиданно жестким и твердым голосом вести весь предварительный осмотр.
Путиловский даже изумился произошедшей с Бергом перемене, точно вдруг в мальчике проступили черты мужчины, ранее никем не замечаемые, но развивавшиеся до определенного момента и внезапно выскочившие из старой мальчишеской формы. Когда выпала минута и они смогли умыться теплой водой, Берг, стоя перед уцелевшим зеркалом, протер волосы на голове, всмотрелся, повторил процедуру, но бесполезно: одна прядка среди темных волос от самых корней белела свежей сединой. Впрочем, Берга это только украсило.
Из середины завала раздались крики, призывающие Берга, — при нахождении любых подозрительных предметов он требовал ничего не трогать, а звать его. Поскольку такие крики раздавались каждые десять минут, все уже привыкли, что Берг здесь самый главный и только он определяет, за что можно браться, а за что нельзя.
На сей раз нашли подозрительный саквояж, стоявший в углу или, вернее, в том, что осталось от угла номера «динамитчика». Берг присел на корточки и отер замок маленькой перьевой метелочкой, взятой из комнаты горничных. Потом подумал и осторожно открыл саквояж, не ожидая увидеть там ничего интересного, помимо заношенной пары мужского белья, оставшегося там после визита в баню.
Однако внутри лежало нечто наполнившее душу Берга горьким удовлетворением. Наконец-то он поймал то, за чем безуспешно охотился: в футлярах, оклеенных мягким портьерным плюшем, лежали три вороненых цилиндра.
— Позови Путиловского, — тихо сказал Берг городовому, обнаружившему саквояж.
Путиловский возник мгновенно, точно из-под земли.
— Смотрите, — Берг нежно дотронулся до черного цилиндра. — Это бомбы. Уцелели при взрыве, потому что здесь угол, воздушная подушка не дала прорваться взрывной волне, или волна сюда пришла уже ослабленная. Для детонирования не хватило энергии.
Путиловский снял перчатку и тоже дотронулся до цилиндра. Холодный.
— Велите всем отойти отсюда на несколько минут. Так, чтобы в прямой видимости никого не было. — Берг погладил цилиндр, точно приручая его.
— Может... — Путиловский прокашлялся,— Может, не трогать, а отвезти в безопасное место? А, Иван Карлович?
— Опасно нести. А тем более везти. Если внутри есть запалы — это маловероятно, но все-таки вероятность есть! — они могут сработать. И тогда будут новые жертвы. — Берг рассуждал спокойным тоном, точно собирался показать простой лабораторный фокус. — Я сейчас развинчу полуцилиндры, там есть место для запалов. Ежели что произойдет, похороните меня вместе с Дусей.
Путиловского забила легкая дрожь.
— Бог с вами, Иван Карлович. Все будет хорошо, я уверен!
— А я — нет. Уберите всех, я начну по вашему сигналу.
Пока Путиловский с Медянниковым силой одного лишь вербального убеждения разгоняли толпу, наполовину состоящую из зевак, а наполовину из бесполезных сотрудников полиции, Берг присмотрел себе доску, соорудил из кирпичей два столбика, положил дощечку и сел на импровизированную скамеечку. Вроде бы устойчиво. Потом согрел пальцы рук, размял их, добиваясь полной чувствительности, и стал вспоминать о Дусе.
Слезы наполнили его глаза, и он шмыгнул носом, точно маленький мальчик, впервые в своей жизни прочитавший сказку с печальным концом.
— Иван Карлович, мы готовы!
Путиловский встал посередине между Бергом и далекой толпой, сдерживаемой частой цепью городовых. Народу с каждой минутой прибывало все больше. Слух о взрыве оказался настолько притягательным, что многие мещане даже отпрашивались с работы по причине здоровья, стремясь все увидеть первыми, будто это давало в жизни хоть какое-то преимущество.
Берг шмыгнул еще раз и успокоился. Одной рукой он осторожно достал крайний левый цилиндр из углубления. Все тихо. Температура около нуля градусов, значит, металл чуть осел в своих размерах, и теперь успех его действий будет зависеть от того, какие допуски при точении резьбы давал неизвестный ему токарь. Если точил по прессовой посадке, то раскрутить удастся навряд ли, нужны слесарные тиски и теплое помещение. Ежели посадка с люфтом, то тогда должно пойти сразу.
Берг сглотнул набежавшую слюну и попробовал. Полуцилиндры не шевельнулись. «Плохо,— спокойно подумал Берг. — Так можно быстро встретиться с Дусей». Злость на неведомого токаря наполнила его душу горечью. Он плотно обхватил бомбу двумя ладонями и стал греть резьбовое соединение своим теплом. Только так появится маленький шанс на удачу.
Он сидел и вспоминал те милые шалости, которыми Дуся последние полгода скрашивала его одинокую, никому не нужную жизнь военного холостяка. Как она научилась терпеливо ждать его прихода, прыгая от радости предстоящей прогулки. Как мгновенно понимала все, что от нее ожидалось, и как быстро обучалась новым трюкам. Каждый день общения приносил ему ранее неведомую радость. И все кончилось...
Руки уже сводило от холода. Пора. Берг с силой поворотил один полуцилиндр против другого. Они шевельнулись. Есть! Он сжал зубы и застонал от боли в холодных пальцах. Медленно, нитка за ниткой, резьба прокручивалась по резьбе, пока наконец не заскользила плавно, открывая взору аккуратно проточенные винтовые канавки. Теперь внимание. Он поднес бомбу к самым глазам, пытаясь увидеть хоть что-то в тончайшую щель между последними витками резьбы. Левый полуцилиндр нижний. Точно! В нем должен быть запал. Есть! В просвете блеснуло тонкое стекло трубки с серной кислотой. Берг осторожно повернул бомбу вертикально, довертел до конца и снял верхнюю часть. Не глядя отбросил ее в сторону.
Теперь надо аккуратно достать запал. Если он ошибется в движении, трубка разобьется, серная кислота выльется на смесь бертолетовой соли с сахаром, эта смесь воспламенится синим пламенем (проделывал такое сотни раз), что вызовет подрыв гремучей ртути. А ртуть взорвет дина-мит, и от него, Берга, не останется ничего, кроме разного рода остатков, разбросанных по приличной площади. Их соберут, положат в красивый полированный ящик из цельного дуба и предадут... Предательство? Берг внутренне хохотнул: богат русский язык! Предадут земле с воинскими почестями.
Он вытер кончики пальцев о шинель, отчего те стали сухими и пыльными (это хорошо, скользить не будут), и попытался ухватить крестообразные стеклянные трубочки. Не хотят хвататься! Тогда он лизнул пальцы и попытался второй раз. Мокрая пыль улучшила контакт, и запалы, охваченные свинцовыми грузиками, поползли из своего плотного гнезда. Медленно он тянул непослушный хрупкий крестик, боясь услышать лишь одно — хруст раздавливаемой пробирки. Может, он успеет отбросить бомбу в сторону? Но осколки все равно посекут тело до смерти, так что лучше этого не допускать. Глубоко вздохнув, Берг выдернул запал, как зубной хирург выдергивает зуб, — решительно и быстро. Все!
Оставшиеся две бомбы он разоружил легко — в них резьба точно испугалась Берговой решительности и поддалась первому же усилию. Взяв в одну руку запалы, во вторую — саквояж, Берг скоро, но осторожно спустился по уцелевшей лестнице (кстати, отметил он, лестницы вследствие своей винтовой структуры сохраняются при взрывах!) и появился на сцене ровно в тот момент, когда все взяли под козырек, приветствуя самолично посетившего место взрыва министра внутренних дел. Взрыв ведь тоже был внутренним делом Российской империи.
Плеве вышел из кареты, опираясь на трость, не так уж и необходимую для его здоровья. Но он подметил, что государь как бы приветствует признаки дряхлости в своих ближайших сановниках, что дает возможность при беседах заботиться о них, расспрашивать и давать советы к поправке или облегчению болей. Всякая молодцеватость, напротив же, возбуждала в государе ревность и холодность. Плеве своими наблюдениями ни с кем не делился, но, заведя трость и легкую хромоту, тотчас же заметил все признаки потепления к своей персоне.
Пояснения ему давал Путиловский. Брезгливо морщась, Плеве обошел развалины, потыкал для чего-то тростью в кирпичи. Дальше линии городовых Путиловский заходить не разрешил:
— Поручик Берг проводит разоружение обнаруженных бомб. Есть опасность взрыва,— объяснил он министру.
— Он там один? — спросил Плеве.
— Так точно.
— Почему?
— Возможен взрыв.
— А вы здесь... — протянул Плеве. — Подчиненный там, а вы здесь. Странно. Боитесь?
Путиловский втянул ноздрями воздух, но ответ не прозвунал по весьма простой причине: из-под обрушенных стропил вышел Берг, держа в руке саквояж с бомбами.
— Вот он, — указал Путиловский на Берга.
— Без вас вижу, — холодно ответил министр и сделал два шага навстречу герою.
Берг поставил саквояж на снег, открыв его, молодцевато продемонстрировал бомбы, но в руки брать не разрешил, объясняя это тем, что на бомбах остались отпечатки пальцев и это поможет уличить будущих преступников. В довершение ко всему он объяснил устройство и продемонстрировал действие запала, пожертвовав одним из трех добытых. Брошенный в стену запал щелкнул, полыхнул коротким синим пламенем и исчез, разнесенный на мельчайшие крошки весьма малым количеством гремучей ртути. В публике тут же сложилось мнение, что оставшийся в живых террорист попытался убить самого министра, но благодаря Божьему промыслу тот остался жив.
Рассказ Берга о собаке Дусе и показанный им опыт воодушевил министра на необычайный для Плеве душевный поступок: он приблизил к себе Берга, обнял, трижды поцеловал, пообещал представить к награде и следующему воинскому чину; покопался в жилетном кармане, точно фокусник извлек оттуда часы и вручил их герою, зардевшемуся, как маков цвет. И уехал с личным докладом к государю.
По дороге к карете навстречу Плеве попался на глаза бравый Правдюк. Ради визита высокого гостя он даже расстегнул бекешу, дабы Плеве мог полюбоваться на медаль. Плеве остановился, полюбовался, прищурился, вспомнил историю с японскими шпионами и потрепал взопревшего от верноподданнического счастья Правдюка по щеке.
— Молодец! Подчиненные у вас хорошие! — на прощание с укоризной бросил он Путиловскому, не скрывая второй половины фразы: а сами вы, дескать, дерьмо!
Франк, коротавший время в импровизированной чайной, подошел к награжденному, поздравил его и послушал министерский подарок.
— Они же не тикают, — изумленно сказал профессор. — Ломаные.
— Неважно! — Берг ревниво отобрал часы и спрятал подальше. — Я их починю.
Путиловский сдал руководство службе градоначальника и сказал:
— Господа, господа! В Департамент! Нас ждут!
Ехали медленно, закрывая глаза от усталости. В ногах Берга стоял саквояж с бомбами, на коленях — плетеная корзинка. Он обнял ее и заснул. Ему снилась живая Дуся.
После быстрого переезда все осталось нераспакованным — в этом не было необходимости, потому что надо было уезжать из Петербурга. Но не так скоро, чтобы это походило на бегство, а не спеша и обстоятельно. Наверняка сейчас по всем вокзалам снуют шпики, наблюдают, сверяются с фотографическими карточками. А ведь Савинков уже наверняка занесен в картотеку, так что не стоит рисковать. Они решили ехать парой в Киев и там заняться убийством генерал-губернатора Клейгельса. После гибели Алексея в условленном месте, у некоего Швейцера, оставался динамит, достаточный для изготовления одной приличной бомбы.
После всех ночных переживаний решили лечь в постель и выспаться. Созонов, перевезя их сюда, вернулся к старой квартире сторожить и предупредить Ивановскую. Кто знает, вдруг найдут в бумагах Покотилова адрес и посадят засаду. Ивановская, конечно же, будет молчать как немая, но жалко, если ее, больную и старую, упекут в каторгу.
Дора лежала пластом, привычно ожидая Савинкова. Эти дневные или утренние страсти стали ежедневной привычкой, от которой не избавиться даже и воспоминаниями об ушедшем Покоти-лове. Савинков быстро разделся и нырнул к Доре под одеяло. Все старые уловки, не сговариваясь, оставили в прошлом и стали инстинктивно искать чего-то нового, достойного той страшной ситуации, в которую попали после пропажи такого количества любовно заготовленного динамита. И главное, остался Плеве, тем самым запрещая им жить полноценной физической жизнью, о которой мечталось ежедневно и еженощно, в бодрствованиях и во сне.
Тела отвергали все попытки возбудить себя проторенными ласками с заранее известным результатом. Эта патовая ситуация вскоре стала раздражать обоих настолько, что гнев против Плеве постепенно стал превращаться в гнев против самих себя. Почему, зная дурной алкоголический нрав Покотилова, они не отобрали у него хотя бы половину динамита? Тогда можно было бы подобраться к Плеве во время осмотра места гибели Алексея. Наверняка он туда уже приезжал — и уехал цел и невредим. А каким резонансом прозвучала бы гибель тирана на святом месте гибели героя! Господи, да это само в руки шло! Предупреждал Азеф: не кладите все яйца в одну корзину!
И Дора, забыв все, от злости сомкнула зубы на теле Савинкова. Вместо ожидаемой боли тот почувствовал возбуждение, которое не прошло мимо внимания Доры. Она поняла, что инстинктивно нащупала тайную тропинку к новым полям, где цвели невиданные ими прежде любовные цветы — кровь и насилие.
Совершенное ею открытие обрадовало обоих. Они поняли: у них в руках появилась волшебная палочка, способная окрасить все ранее испытанные способы совместного наслаждения в красные цвета, тем самым открывая новый, параллельный мир, в котором еще довольно много жизни, похожей на смерть, и гораздо больше смерти, похожей на жизнь.
Сперва она просто прокусывала его тело в самых нежных местах, отчего все оно покрылось отпечатками узких девичьих челюстей с запекшимися капельками крови, подобными тем, что проступали во время сильных нервных потрясений на лбу Покотилова. Затем она протерла все прокусанные места хлопчатой бумагой, смоченной одеколоном, одновременно остужая боль своим дыханием. И легла рядом, предлагая свое тело для таких же кровавых ласк.
Но он придумал для нее кое-что более изощренное: достав несколько простыней, быстро и ловко связал руки и ноги, распяв ее крестом на кровати так, чтобы ни на йоту не сумела сдвинуться в сторону, а могла лишь извиваться и молить о пощаде. Это моление он и стал выбивать из нее с помощью весьма острого кожаного ремешка. Она терпела наслаждающую боль, испытывая одновременно с ней такой острый чувственный подъем, что непонятно было, куда тело сорвется ранее — в крик от боли или в крик от радости. И когда она разрыдалась, не в силах более терпеть муку ожидания, он несколькими ударами довел ее до вершины, безжалостно прекратил всякие прикосновения, одним движением скинул узлы с рук и ног и лег рядом, обняв это содрогающееся в рыданиях любимое тельце, такое нежное, что и представить себе трудно, как у него поднялась рука.
Сама дрожа от нежности, она стала целовать его в губы, прося прощения за крики и укусы, кляня себя за то, что раньше не догадалась, как близки рядом смерть и любовь... и какое невыносимое чувство — идти по лезвию бритвы между двумя пропастями, нисколько не боясь сорваться в любую из них, потому что на дне этих пропастей покоится одно и то же — сладкое забвение...
И, не познав ничего боле, они заснули в объятиях друг друга.
* * *
Фрол Псоевич Правдюк, обласканный самим министром, мышиным жеребчиком скакал по Петербургу, обнюхивая все углы и закоулки и примеряясь ко встречным инородцам — вдруг повезет еще раз с японскими шпионами? Дня два назад он попытался разыграть эту же карту, вроде бы поймав тех же самых китайцев во второй раз, но получил от Медянникова по шее:
— Я те дам — таскать шпионов! Ишь, наловчился на дармовщинку! Еще раз притащишь какую-либо шваль, я тебя сам оформлю два раза как шпиона, не пожалею. И меня к медали представят. Запомнил мою печать? — и Медянников показал Правдюку кулак, не запомнить который не было никакой возможности.
«Завидует!» — решил Правдюк и на время успокоился. С его феноменальной памятью он поймает еще не одного динамитчика, вроде как сегодняшнего. И прославится на сей раз окончательно и бесповоротно. Недаром сам Плеве его заметил и выделил!
И действительно, память его не подвела. Навстречу шла старушка с двумя связанными узлами, переброшенными через плечо. Таких бабушек по всему Петербургу шастало туда-сюда видимо-невидимо, так что Правдюк наизусть мог рассказать, что в узелках за богатство, нажитое на всю оставшуюся жизнь: смена истончившегося бельишка, мыльце, шильце да мотовильце с посмертным саваном. Ну, еще иконка личного святого, помогавшего этой бабушке всю ее трудовую жизнь.
Взгляд у встреченной, которым она окинула Правдюка, был тихий и смиренный; жест, которым она отирала уголки глаз и рта, был таким родным и знакомым, что мысли поневоле свернули к родной матери. Стоит, сердешная, у плетня, смотрит на дорогу и вот так же отирает глаза, на которых слезки ожидания: завернет ли до дому милый сердцу Фролушка? И так захотелось Правдюку съездить на свидание, что он тут же решил дождаться светлой Пасхи и отпроситься в деревню. Дней на пять, не боле! А то Плеве ненароком спросит: а где той смышленый парнишка? И огорчится. А начальство огорчать — последнее дело.
Так он шел себе и шел, не ведая печали, как что-то остренькое кольнуло в мозгу: тю! Так он же знает этот взгляд, эти смиренные глазки, эту бабку! Сегодня видел при просмотре книжки филера, которую ввели Путиловский с Медянниковым... Да на первой же страничке она сидит! Ё-мое!! И, не веря мозгу своему, тут же достал книжицу. Точно, она! Ивановская. Народоволка и эсерка. Что это значит, он не понял, но и понимать тут было нечего. Сердце радостно застучало в ожидании очередного праздника души: ну ты, Фролка, и молодчина! Заприметил бабушку, мимо которой все пройдут и даже не вспомнят Божью тварь! Где она, милая?
Он догнал Ивановскую в несколько секунд, но выходить вперед не стал, а принял позу ожидающего мещанина-приказчика, у которого где-то сейчас должна подъехать фура с товаром, а вот все не подъезжает — видать, с адресом вышла путаница. Он бегал по проспекту туда-сюда, бил картузом оземь, словом, производил собой столько шума и толкотни, что и ежу было ясно: у человека пропадают кровные денежки, и ничем боле он в этом свете не интересуется.
Он даже забежал вперед бабки-Ивановской, но ни разу не взглянул в ее сторону, а просто разыграл еще один маленький спектакль, радостно кинувшись к какой-то фуре и чрезвычайно огорчившись, узнав, что не та, которую ждет.
Забежав во двор, он мгновенно переменил внешность: снял картуз, вынул из-за пазухи и надел меховой колпак по самые бровки. Мать родная не узнала бы Фрола — чистый азиат-татарин с характерной вывороченной походочкой вышел из ворот и пошел, не торопясь, за подозреваемой...
Созонов дремал на козлах, посматривая за подворотней, в которую неминуемо должна была войти Ивановская. С ней самой он уже встречался в Твери, провел в богоспасительных разговорах несколько вечеров и был совершенно очарован ее ровным характером и несокрушимой решимостью освободить крестьянство от многовекового гнета. Правда, дальнейшая программа вызывала споры: что делать освобожденному крестьянину после работы?
Созонов доказывал необходимость постов и молитв как средств спасения и развития души. А Ивановская все клонила к тому, что освобожденный человек должен заняться математикой, физикой, чтением Чернышевского, Герцена, рисованием и лепкой из глины. В особенности почитала она лепку и сама любила мять в руках кусочек глины, время от времени превращая его то в птичку, то в поросенка, а то и в портрет собеседника. Сему искусству она выучилась на каторге, где для политических было много времени и мало работы.
Расстались они влюбленные друг в друга, но не в мечты собеседника. Впрочем, воплощение программ лепки и постов откладывалось до скорой победы очистительной революции. Созонов представил себе батю, читающего Герцена или лепящего чертиков, и хрюкнул в свою молодую бородку: более нелепое зрелище трудно вообразить.
Тут показалась Ивановская. На плече она тащила два узла и так натурально склонялась вбок под их тяжестью, что Созонов с трудом подавил в себе желание соскочить с саней и помочь ба-бушке-народовол ке.
И правильно сделал: Ивановская опустила узлы на снег, выбрав местечко почище и посуше, и стала растирать поясницу, скрюченную годами и непосильным рабским трудом. На самом деле она проверяла, не тянется ли за ней хвост в виде шпика? Вроде нет. Бабушка с трудом взгромоздила узлы на другое, отдохнувшее плечо и вошла в подворотню, чтобы пройти к господам через черную лестницу.
Мимо подворотни проковылял татарин, остановился и заглянул вслед. Это было настолько неожиданно для казанского князя, что Созонов сразу насторожился. Татарин подумал и вроде бы невзначай шмыгнул за Ивановской. И тут Созонов признал это лицо: всякий раз, когда он следил за выездом Плеве, этот замызганный человечек крутился рядом, пару раз точно выполняя приказ начальника министерской охраны. Шпик! Ивановская привела шпика и тем самым поставила под угрозу провала все дальнейшие планы.
Стало мучительно обидно за бесцельно проделанную работу. Он не спал ночами, днями следил за министром, составляя график его еженедельных поездок. И тут какой-то филер одним только свистком сломает все хрупкое здание террора, которое они с Савинковым возводили, не щадя живота своего? Нет, он не позволит!
Созонов тронул лошадку и подъехал к подворотне. Дворника в это время тут не бывало, он хорошо знал время обеда и время бодрствования местного цербера. Медленно и степенно вошел во двор. Ивановская искала нужную лестницу, вытянув шею и подслеповато сверяясь с адресом, написанным на клочке бумаги. Вот еще улика — почерк Савинкова!
Татарин тем временем делал вид, что забежал справить малую нужду на кучу мусора. Вернее, справлял и в самом деле, поворотом головы следя за тем, в какую сторону пойдет Ивановская. Так что Созонова он видеть никак не мог.
Егор вытащил из-за голенища короткий сапожный нож, точенный из обрезка пилы (такие ножи были у всех извозчиков — в случае чего резать постромки), и пошел мимо татарина. Проходя рядом, но не попадаясь ему на глаза, он быстрым движением выставил левую руку и ткнул ею под левую лопатку наблюдающего. И кашлянул, чтобы подать знак Ивановской.
Правдюк мочился с удовольствием, как мочатся все, дорвавшиеся до спасительного уголка. Все складывалось замечательно. Сейчас он узнает, куда пошла Ивановская, а дальше будет действовать по разумению: ежели она войдет и не выйдет, то пошлет дворника за подмогой и накроет всю шайку. А ежели выйдет, то пойдет за ней и проследит другие концы, по пути известив Медянникова о найденной плохой квартире. По дороге всегда попадется кто-нибудь из своих.
Он уже выдавливал из себя последнюю капельку, как сзади мимо прошел некто, слегка коснулся его спины и кашлянул. От этого прикосновения почему-то сладко кольнуло сердце, лоб похолодел и покрылся потом, а ноги вдруг перестали слушаться и начали подгибаться. Руками он еще инстинктивно прятал срам, но голова, повернутая к Ивановской, уже почти ничего не понимала. Тут его подхватили под мышками, и он доверительно прильнул к человеку, пытающемуся ему помочь...
Ивановская сообразила все в долю секунды, зорко огляделась и подошла к Созонову. Вместе с двух сторон они повели, а вернее, потащили тело филера к саням, так что ни у кого эта сцена не вызвала ни малейшего подозрения: старушка-мать и младший родственник тащат упившегося мастерового домой, поближе к родным пенатам.
— И угораздило же тебя набраться! Тьфу, какой тяжелый, сынок... сыночек... — бормотала Ивановская, заискивающе улыбаясь встречным. — Вот зальют глаза с утра пораньше, а мы — мучайся... Вот так... садись, миленький, — захлопотала она, умащивая тело поудобнее. И села рядом, придерживая клонящегося набок сына. — Вот так...
Созонов посмотрел вдоль улицы — товарищей филеру не наблюдалось — и тронул сани. На ходу вскочил, уселся поудобнее, хлестнул лошадку и поехал в дальнюю сторону, в Лесное, где можно будет без помех оставить человеческий груз, не вызвав этим ничьих подозрений.
Жизнь уходила из подколотого тела неохотно, по капелькам, так что несколько минут Фрол еще наблюдал по-весеннему голубое небо с кувыркающимися в нем воронами. Потом вороны исчезли, небо уменьшилось, превращаясь в серую овчинку... в эту овчинку заглянул чей-то внимательный глаз... овчинка скукожилась в яркую точечку... потом пропала точечка, и все стало черно. Последней пропала чернота.
* * *
«Что-то надо предпринять...» — меланхолично подумал Берг, заявившись из Охранного отделения домой и узрев очередное послание баронессы Кноритц. Это уже становится похожим на фарс. Так бывает между людьми, связанными сильной безлюбовной страстью: вначале один зависит от другого, потом — второй от первого, но никогда — оба друг от друга.
Теперь баронесса Лидия зависела от мужских чар Берга, а его все эти африканские страсти стали припекать. Он не понимал сущности их взаимоотношений, но теперь, когда не стало Дуси, влечение к баронессе превратилось в ненужную потребность, от которой хотелось отказаться как можно быстрее. Любым способом, пусть даже и несколько обидным для женщины.
— Ты сама этого просила! — сказал вслух Берг, надел поверх домашней одежды рабочий халат и сел за ярко освещенный химический стол.
Все нужные компоненты находились под рукой: марганцовокислый калий, сажа, бездымный порох, сахар и запал, подобный тому, что сегодня утром он держал в руках. Но, естественно, не такой силы.
Вначале он склеил из тонкого картона коробочку, по размеру чуть меньше, чем маленькая конфетная коробка-бонбоньерка, которая лежала пустой, словно дожидаясь удобного часа. И дождалась. Когда швы схватились, Берг проклеил их на всякий случай папиросной бумагой. Вставил коробочку внутрь бонбоньерки — все сходилось.
Далее он взял фарфоровую ступку с пестиком, поставил перед собой и стал, отмеряя компоненты маленькой мерной ложечкой, засыпать их последовательно в ступку. Подумав немного, добавил сажи. Потом подумал и добавил еще.
Все это аккуратно размолол пестиком и ссыпал в коробочку. Потом нарезал маленькие бумажные квадратики и, сопя от усердия, долго рисовал какие-то только ему понятные узоры на каждом квадратике. Полюбовался нарисованным и остался доволен. Коробочку с составом тщательно заклеил и уложил в конфетную коробку. Поверх картонной коробки разложил в беспорядке бумажные квадратики.
В наружной коробке оставалось немного места для запала. Берг шилом проделал во внутренней коробочке дырку, вставил туда запал и заполнил свободное пространство ватой. После чего протянул сквозь две коробки шелковую нить, одним концом перевязанную поперек запала, закрыл бонбоньерку и заклеил ее сверху папиросной бумагой. Саму бонбоньерку обвязал красивой шелковой лентой с подарочным бантом. Положил бонбоньерку на стол и полюбовался. Вышло очень элегантно.
Берг налил полный стакан водки, выключил свет, в темноте выцедил водку в один прием, зажевал черным сухариком и, не разоблачаясь, повалился на диван. На душе было мерзко. Потом он заснул.
* * *
После короткого доклада в Департаменте сил куда-либо ехать, кроме как домой, не осталось. Клара с детьми отправились на Пасху в Кенигсберг, поэтому Франк был доставлен к Путиловскому. Впрочем, он такой судьбе и не противился — еще ночью, до взрыва, имелось приглашение, которое просто было отложено. И теперь настало время его принять.
Все пропыленные взрывом одеяния поступили в распоряжение Лейды Карловны. Макс тщательно обнюхал скинутое, извлек из этого массу полезной информации, но никому об этом даже и не мяукнул. Он наверняка понял, что хозяин попал в ту же неприятную ситуацию, в которой оказался сам Макс двумя годами ранее, — запахи беды были одни и те же.
Утомленные взрывом, его последствиями и горячей ванной с релаксирующими солями, оба проспали до глубокого вечера. А когда проснулись, в столовой под серебряным колпаком (с маленькой спиртовкой снизу) их ждал горячий ужин. Так в халатах и сели. Большому Франку все халаты хозяина были малы, поэтому он все время запахивал полы, а потом перестал, делая это только при появлении Лейды Карловны.
— Завтра утром на кафедре буду героем,— блаженствовал Франк, обильно поливая куски розового кроличьего мяса соусом бешамель. — Передай, пожалуйста, бутылку. — И он запил все это чревоугодие розовым же вином, предварительно ознакомившись с этикеткой: — «Клоде Вужо»... Пьеро, растешь не по дням!
Путиловский выпил тоже и промокнул губы льняной салфеткой.
— Я тебя прошу: никоим образом эта информация не должна стать достоянием вашей университетской общественности. Тебя там не было, ты спал дома после хорошей пьянки, ничего не помнишь и ничего не знаешь.
— Послушай, Пьеро, — обиженно начал было Франк, но его грубо прервали в самом начале речи:
— Саша, помолчи! Это уже не игрушки! Я не советую, как организовать твои кафедральные дела, но и ты не мешай мне делать свою работу. Я всегда готов искать твоего совета. Но не в деле политического сыска. Тут должна быть служебная тайна.
— Надеюсь, ты не предполагаешь, что за твоей спиной я рассказываю все секреты?
Франк обиженно надул губы, шмыгнул носом и в знак обиды налил себе полный бокал, не предлагая хозяину. Путиловский раскусил нехитрую уловку Франка.
— Передай-ка бутылку. Нет, не предполагаю. Просто начинается тонкая игра, где каждая малейшая информация может стоить жизни любому участнику этой игры.
— И мне? — простодушно спросил Франк.
— И тебе в том числе. Ты ночью был на волосок от гибели. Ну представь себе, что бы я сказал Кларе? Что ее муж погиб при исполнении служебных философских обязанностей? И дальше что?
— Дальше? Дальше ты должен был бы, как честный человек, жениться на ней! — Судя по оживлению Франка, такая мысль устраивала его полностью. — И достойно вырастить наших с тобой общих деток.
— Ну разве что, — ухмыльнулся такому развитию событий Путиловский. — Тебе бы в этом случае и пенсия не полагалась!
— Почему?
— Ты посторонний. Случайная жертва.
— Жаль. — Франк положил себе вторую порцию. — Прекрасный кролик, Лейда Карловна! В чем вы его вымачивали?
— Ф своих слесах! — Прослышав о взрыве, Лейда Карловна совершенно справедливо полагала, что без Путиловского там не обошлось. — Педный-педный Перг! Как он пудет жить пес своей Туси?
И ушла на кухню кормить Макса. Если бы Макса разорвало взрывом, ее жизнь была бы сродни Берговой. Но пока кот жив, он должен быть сытым.
Поужинав, развалились в креслах и закурили: Франк — сигару, а хозяин — свою любимую трубку, купленную в Провансе, на родине древовидного вереска-бриара. Было тихо, но легкий звон в ушах напоминал о ночном кошмаре.
— В каком ухе звенит? — спросил Путиловский.
Франк прислушался:
— В обоих.
— Это минно-взрывная травма. Легкая степень.
— А кому все это предназначалось?
— Хороший вопрос. Знать бы ответ! Сегодня уже идет проверка всех отъезжающих из столицы. Кстати, паспорт нашего «Матецкого» фальшивый. Но, боюсь, они просто затаились на время...
— И?
— Повторят попытку.
— Завтра?
— Нет. У них нет динамита. Подвезут новый и повторят.
— Ты уверен?
— Я должен быть в этом уверен. В ином случае я не соответствую своему служебному положению.
— А чего ты в этом деле больше всего боишься? Что не узнаешь, кого хотят взорвать?
— Нет. Предательства.
— Тогда я тебе сочувствую, — вздохнул Франк. — Ибо предательство себе подобных есть неотъемлемая часть нормального человеческого поведения.
* * *
«Деньги, которые я вчера получил, шли сюда целых 11 дней. Я очень Вам благодарен, что выслали. Что же касается сообщенных примет революционера в Северной гостинице, то, несмотря на их подробность, не могу припомнить, встречал ли я такового. Вообще очень трудно по одним наружным приметам восстановить личность. Было бы хорошо знать, по какому паспорту он жил и не остались ли какие-нибудь бумаги у него. Вообще вся эта история очень странная. Очень нелепо приехать из-за границы (судя по платью, из Женевы, Монтре) в петербургскую гостиницу производить опыты с взрывчатыми веществами. Не должно ли было состояться на следующий день покушения и этот революционер приготавливал снаряды, то есть составлял их. Я об этом думаю еще и потому, что, как Вы пишете, было четыре заряда, из коих три уцелели, а один мощный взорвался. Во всяком случае, это очень счастливый случай: с одной стороны, не было покушения, с другой — я уверен, что это нагонит страх на революционеров и они будут избегать заниматься взрывчатыми веществами.
Очень важно бы узнать: связано ли это с боевой организацией, или это одиночка какая-нибудь; хотя, судя по тому, что было 4 снаряда, вряд ли это была одиночка.
По дороге постараюсь все узнать, что касается этого дела.
Всего хорошего, жму руку.
Ваш Иван».
Азеф прочитал написанное, остался доволен и вложил письмо в конверт. Далее надписал ничего не говорящий постороннему взгляду адрес и отложил заклеенный конверт в кипу других, таких же по внешнему виду.
Потом взял чистый лист и стал писать следующее сообщение:
«Дорогой друг!
К несчастью, как Вы уже знаете из газет, весь наличный запас динамита погиб за два дня до покушения, которое должно было быть успешным на все 100%. Однако в жизни все происходит не так гладко, как мы с Вами планировали. Я не теряю надежды восстановить группу, которая успешно вела это дело, для чего срочно выезжаю в Петербург. Для дальнейшего производства необходимого количества свежего динамита потребно некоторое количество денег. Надеюсь, Вы понимаете срочность денежного перевода на мое имя в известное Вам отделение.
Всего хорошего, жму руку.
Ваш Иван».
И это письмо легло в ту же кипу.
Взгляд Азефа остановился на противоположном склоне, сплошь покрытом новой свежей зеленью. Говорят, расцвели фиалки... надо пойти полюбоваться. А то все работаешь, работаешь на благо человечества, а о себе, о детях не заботишься. Нельзя так, вот честное слово, нельзя!
Он вышел из кабинета, склонился над лестничным пролетом:
— Люба! Дети! Всем одеваться! Идемте собирать фиалки! Весна пришла...
* * *
Начальник Главного морского штаба вице-адмирал Зиновий Петрович Рожественский сидел над диспозицией, когда в его кронштадтский кабинет вошел флигель-адъютант с бумагой от государя.
Рожественский отослал посланца, перекрестился и сицилийским кинжалом, приобретенным во время своего первого зарубежного вояжа, вскрыл конверт. Прочитал короткий приказ, задумался, глубоко вздохнул, вынул из кожаного бювара чистый лист, снял с пера невидимый волосок, обмакнул его в чернила и стал писать:
«Во исполнение приказа Государя кораблям Балтийской эскадры броненосцам “Князь Суворов”, “Император Александр III”, “Бородино”, “Ослябя”, “Наварин”, “Адмирал Ушаков”, “Сисой Великий”, “Адмирал Сенявин” и “Генерал-адмирал Апраксин”, крейсерам “Дмитрий Донской”, “Светлана”, “Адмирал Нахимов”, “Владимир Мономах”, “Аврора”, “Олег”, “Жемчуг”, “Изумруд” и “Алмаз”, вспомогательному крейсеру “Урал”, миноносцам “Буйный”, “Громкий”, “Быстрый”, “Безупречный” и “Бодрый”, транспорт-мастерской “Камчатка”, гошпитальным судам...»
Российская армада начала готовиться к походу в Тихий океан.
* * *
Положительно во всем цивилизованном мире наступила эпоха эпистолярного жанра. Почта творит чудеса, доставляя письма и бандероли во все части света со скоростью, сравнимой со скоростью хорошего почтового голубя, — всего за неделю, а то и менее.
Так думал Константин Ефимович Пакай, дописывая очередное послание своему постоянному читателю, инженеру Евгению Филипповичу Азефу. Писал не таясь, поскольку был защищен не только высоким положением секретаря министра, но и общественной моралью, не позволявшей смотреть чужие письма.
«...Расследование взрыва в Северной гостинице ведет группа господина Путиловского, но только со стороны технической. Со стороны организационной все дело взято под контроль самим министром, так что буду сообщать все последние новости о расследовании. Мимо меня они не пройдут. Из последних сообщений ничего интересного нет, кроме как разве нашумевшего убийства “ловца шпионов”, некоего Цравдюка, служившего по Охранному отделению. Он прославился в патриотически-идиотических газетах как поимщик двух японских разведчиков. А потом его тело нашли в Лесном. Говорят, япошки отомстили. Убит был мастерски, одним ударом японского ножа прямо в сердце. Похороны были очень торжественны, выступал сам министр, говорил долго. От Государя был венок и пенсия родителям».
Взялся запечатывать письмо, передумал и дописал смешное:
«Появилась мода на шутейные взрывы. Барону Кноритцу в экипаж бросили конфетную коробку, начиненную подобием динамита, только очень слабым. Эта коробка взорвалась, не причинив никому никакого вреда и засыпав сажей физию барона. Пострадала и его репутация, и без того довольно подмоченная: подкаблучник, неудачный игрок и вообще глупая рогатая личность. Так вот, после взрыва по всему экипажу были разбросаны эпиграммы и неприличные рисунки, на которых был изображен “рогатый” барон. Естественно, в окарикатуренном виде. Чьих рук дело — неизвестно. Во дворце смеялись».
Тут из кабинета появился Плеве, заглянул через плечо секретаря, демонстрируя тем самым демократичность. Пакай почтительно встал, нисколько не боясь за содержимое письма: у министра была очень сильная близорукость, которую он не хотел демонстрировать на людях.
— Работаете? Ну-ну! Молодцом! Я в балете. Если что — курьера!
И Плеве вышел, напевая что-то увертюрное. Певец из него был неважный.
* * *
«Авель» отвез Савинкова и Дору на вокзал. Они съездят в Киев, убьют там Клей-гельса, а потом вернутся в столицу. Тем временем он составит новое расписание поездок Плеве, измененное после гибели Алексея. Маршруты стали непредсказуемы, филера много пристальней вглядывались как в прохожих, так и в проезжающих. Созонов отрастил совсем уже солидную бороду, стал походить на отца семейства, и его иначе как «батя» уже почти и не окликали.
Привычной дорогой он выехал к зданию Министерства внутренних дел и встал в очередь ожйдающих. В ней он чувствовал себя совершенным старожилом, позволяя себе иногда со скандалом отвоевывать богатых клиентов. Уже несколько раз он возил одних и тех же ездоков, в основном чиновников министерства, так что стал, можно сказать, своим и узнаваемым. Просил он по-божески, бедные или скупые предпочитали подождать его.
Карета Плеве вынырнула из-под арки внутреннего двора. Сзади почти впритык неслась пролетка с двумя вооруженными охранниками в штатском. Впереди никого не было. Вот так его и надо будет брать — на встречном маневре.
Светило весеннее солнце, и окошки у кареты были открыты. Министр, вопреки своей обычной привычке прятаться глубоко внутри, подставил бледное лицо заходящему солнцу.
У поворота, где стоял «Авель», министерская карета притормозила. Взгляды «Авеля» и Плеве встретились.
Плеве по роду службы интересовался национальностями, населяющими империю. Ему было лестно по одному лишь характерному лицу безошибочно определить происхождение простолюдина, чем он иногда изумлял государя, ценившего странные знания.
Вот и сейчас, глядя на застывшее иконописное лицо Созонова, Плеве мысленно читал его национальную родословную:
«Вот эти узкие, с большим лбом, все больше из удмуртов или чувашей. У чисто русских не бывает такой скуластости и болынеглазия. Немного татарской крови... казанской, без южной диковатости... очень хорошее лицо! С такими вот человеками... ну как нам не вырасти?» И, откинувшись на подушки, умилился собственной проницательности.
А Созонов, оглядываясь вслед министру, тихо вздохнул. Все хорошо, все, слава Богу, живы-здо-ровы... и в ожидании есть своя томительная прелесть.
1
Положение обязывает (фр.).
2
Кстати (лат.).
3
Вино откупорено, надо его пить (фр.).
4
Вопрос отпадает (лат.).