Книга: Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921

Три цвета знамени. Генералы и комиссары. 1914–1921
© А. Иконников-Галицкий, 2014
© А. Рыбаков, оформление серии, 2012
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство КоЛибри®
В окне виднелось сероватое пространство Финского залива. Над блеклой водой взлетали и пикировали чайки. Их тревожные крики не проникали сквозь плотно закрытые окна кабинета. В кабинете было очень тихо, настолько тихо, что тиканье каминных часов казалось нестерпимо громким и назойливым. Стрелки на циферблате показывали четыре часа три минуты.
Лучик, пробившийся из заоконного простора, ударился о белый циферблат, отразился от него и точкой-зайчиком упал на темно-зеленое сукно письменного стола. Чернильный прибор, несколько фотопортретов в рамках, настольная лампа – больше на широкой поверхности стола ничего не было. За столом на вращающемся стуле с удобной дугообразной спинкой сидел человек. Он сидел прямо, не опираясь на спинку стула. Телосложения он был среднего и роста, по-видимому, среднего. Образцово сшитый мундирный китель облегал его непримечательную фигуру точно и гладко, не морща. Его правильное, приятных очертаний лицо, оформленное аккуратной бородой и соразмерными усами, ничего не выражало. Только под глазами залегла неожиданная пугающая темнота. Он сосредоточенно смотрел вниз, на ближний край письменного стола, и молчал.
По другую сторону темно-зеленого суконного поля на стульях с высокими резными спинками помещались еще двое: один – в военном мундире с аксельбантом, другой – в штатском сюртуке и жилете, при галстуке, охватывающем стоячий воротничок. Оба были напряжены, оба ждали чего-то.
Лучик-зайчик добрался до граненого края чернильницы и рассыпался маленькой радугой. В этот миг человек за письменным столом поднял глаза и, не меняя позы, не меняя выражения лица, заговорил, обращаясь к сидящим напротив. Он говорил с трудом, и в его глуховатом баритоне звучало что-то мучительное, что-то такое, что резко контрастировало с неподвижной бесстрастностью благообразного лика.
– Сергей Дмитриевич, принять сказанное вами – это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?..
Он вновь умолк, как будто боясь выпустить на волю слово, которое потом не поймаешь, которое натворит неслыханных бед.
– Но, ваше императорское величество, – штатский нарушил готовую вновь установиться тишину, – вы сделали решительно все, что было в ваших силах, дабы предотвратить непоправимое. Не на вас, не на вас ляжет ответственность за последствия. И мы, ваши слуги, в точности исполняли вашу волю. Но из ситуации, которая сложилась не по нашей вине, нет иного выхода.
Человек за письменным столом молчал. Темнота под его глазами обозначилась еще резче, еще тяжелее. Наконец, как бы поднимая огромный камень, произнес:
– Вы правы. Нам ничего другого не остается делать, как ожидать нападения. Передайте начальнику Генерального штаба мое приказание о мобилизации.
И встал, давая понять, что разговор окончен.
Министр иностранных дел Российской империи Сергей Дмитриевич Сазонов и генерал-адъютант Илья Леонидович Татищев тоже встали, отдали поклон и вышли из кабинета императора.
Через несколько минут на столе начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Янушкевича зазвонил телефон. Генерал снял трубку:
– У аппарата Янушкевич.
– Говорит Сазонов. Николай Николаевич, я телефонирую из Петергофа. Я был у государя и только что получил от него повеление передать вам приказ об общей мобилизации.
Семнадцатое июля 1914 года. Последний день перед началом мировой войны.
Когда Первая мировая война назревала, когда начиналась, никто, ни один человек в мире не знал, какой она будет и к какому рубежу приведет человечество. Думали, что она продлится два-три месяца, много – полгода. Думали, что армии повоюют да и разойдутся. Николай II, хозяин земли Русской, возможно, больше других боялся и не хотел войны, потому что лучше других понимал, как велика и взрывоопасна его держава. Но и он в своей беседе с Сазоновым говорит о сотнях тысяч смертей. На самом деле на полях сражений погибнут миллионы. А главное – война не замрет на этих заваленных гниющими трупами полях сражений, она ринется по тылам, она свергнет правительства, она опрокинет устои общества, она перевернет вверх тормашками законы морали, она отменит все, что было до нее. Огонь войны переродится в пламя мировой революции, сожжет целые державы в междоусобных смутах, потом ненадолго утихнет, потом вспыхнет снова и еще страшнее огненным смерчем Второй мировой войны. И наконец, атомным взрывом 6 августа 1945 года вознесется до космических высот.
Изменив мир, война изменила и душу человеческую.
Эта книга – о войне и о людях, изувеченных войной. В отличие от миллионов других изувеченных, к этим вместе с увечьем пришла слава. Думаю, не ошибусь, если скажу, что никому из них слава не принесла счастья.
Про каждого из них можно написать книгу. Про многих книги уже написаны.
Чтобы не повторять многократно рассказанное, мы сосредоточим наше внимание на том, как эти люди, совершенно разные и в то же время чем-то похожие, оказались на фронтах Первой мировой войны, как прошли ее дорогами, как были захвачены вихрями революции – русской смуты – и как потом разошлись по разные стороны фронтов войны Гражданской.
В начале третьего часа пополудни 29 января (11 февраля) 1918 года на втором этаже Атаманского дома в Новочеркасске, в комнате, расположенной напротив кабинета войскового атамана, прогремел выстрел. Короткая траектория револьверной пули, пробившей навылет сердце генерала Каледина и расплющившейся о железную сетку походной кровати, прочертила границу между двумя войнами – Первой мировой и Гражданской – и сцепила их в единое, непрерывное кровопролитие. Весть о гибели атамана Всевеликого войска Донского полетела по телеграфу вслед за опубликованным в тот же день приказом красного главковерха Крыленко о демобилизации русской армии. Накануне народный комиссар Троцкий объявил в Брест-Литовске, что Россия выходит из войны. Это был выход в бездну.
Лесистые горбы карпатских предгорий потонули в волокнистом тумане. Дожди зарядили не на шутку: казалось, вся Галиция залита небесной водой. Речка Стрвяж, месяц тому назад казавшаяся игрушечной, славной, радовавшая солдатский глаз бодрящими солнечными переливами, теперь помутнела, вздулась, шумела раздражительно, почти грозно. Раскисшая, скользкая дорога тянулась в узкой долине, прижимаясь к сварливому потоку. Дорога была наполнена движением – таким же недовольным, хмурым, как погода. Имя этому движению – отступление. 12-я кавалерийская дивизия вот уже пятый день под нескончаемыми дождями продвигалась на восток, от Ольшаницы на Хыров, под защиту пехотных позиций.
Война шла уже два месяца, и шла она как-то неправильно. Все происходило не так, как ожидалось. Не было ни блестящих атак, ни победоносных походов, ни полководцев, скачущих на белых конях. Нескончаемые массы людей, лошадей, повозок, орудий и всевозможного армейского скарба толклись и крутились в разных направлениях, без видимого порядка, сталкиваясь друг с другом и расходясь; люди иногда двигались организованно, иногда разбегались в панике, иногда бросались друг на друга в необъяснимом остервенении. Где-то над всем этим были штабы армий и командующие; из заоблачных высот время от времени прорывались телеграммы и вестовые с указаниями: выдвигаться туда-то, концентрироваться там-то, овладеть таким-то пунктом… Но через несколько часов или дней новые телеграммы приносили новые директивы, в корне противоречившие предыдущим. И массы подвижного живого и неживого материала разворачивались, перестраивались, перетекали по дорогам, горным проходам и речным долинам. 12-я кавалерийская дивизия, за два месяца дважды приняв участие в крупных боях, тоже металась, изматывая собственные силы в бесконечных переходах: от Тарнополя[1] к Рогатину, от Рогатина к Миколаеву, от Миколаева к Комарно; оттуда – через горные кряжи в долину реки Сан. И вот теперь это отступление на восток, столь же непонятное, как и предшествовавший ему бросок на запад.
Отступление угнетающе действует на людей. Кавалеристы ехали понуро, кутались в промокшие насквозь шинели, изредка материли лошадей и старались не смотреть на валяющиеся здесь и там гниющие конские туши – воспоминание о боях, прокатившихся по этой долине месяц назад. Драгуны и уланы давно прошли поэскадронно во главе колонны и теперь, наверно, уже грелись в обывательских хатах в Хырове. Вслед за ними тянулся дивизионный обоз: сотни телег, колымаг и двуколок. Обозным строго-настрого было приказано двигаться в два ряда по краям дороги, оставляя среднюю часть свободной для передвижения верховых. Но утомительный путь усыплял возниц, и лошади, предоставленные своей воле, то там, то сям вытягивали повозки на удобную, менее размокшую середину и тащились по ней. Потом раздавался окрик какого-нибудь унтера, звучала непродолжительная ругань – и повозки снова выстраивались в две цепочки по краям дороги.
В очередной раз одна из телег выкатилась на запретную середину. Обозные командиры не успели вернуть ее в строй. Послышался топот копыт нескольких десятков лошадей, из-за поворота появилась группа всадников и, разбрызгивая грязь, подлетела к злополучной повозке. Посреди верховых выделялся крупный, чуть сутулый усатый седоватый кавалерист; выкатывая глаза из-под густых, яростно сведенных бровей, он что-то кричал вознице, но слова его сливались с чавканьем подков по лужам. Лампасы на штанах, три звездочки на генеральских погонах.
– Батюшки! Дивизионный, Каледин, – успел шепнуть обозный унтер легкораненому бойцу, полусидящему рядом с ним на двуколке, спрыгнул и вытянулся перед начальством.
Возница на злополучной телеге ничего не замечал. Он сидел, согнувшись в три погибели, завернувшись в шинель, и, видимо, крепко спал.
Очевидец, подполковник фон Валь: «Подводчик с закутанными башлыком ушами не услышал криков сзади, потом медленно повернулся. Пока смысл слов дошел до его мозгов и произвел нужную эволюцию, в течение которой он раскрыл рот, вытаращил глаза и дал лошадям идти в прежнем направлении. Каледин взбешенный выхватил шашку и размахнулся, чтобы ударить его по голове. Штабные успели ухватить его за руку»[2].
Резким движением генерал направил оружие в ножны. Ему было неловко за свою нелепую вспышку перед офицерами и хотелось сорвать на ком-нибудь копившуюся неделями злость. Тут он увидел бойца на двуколке.
– Эт-то что? Мертвая душа? Почему в обозе?
Солдат, рыжеватый веснушчатый парень, пытался встать, но мешала больная нога и сваленный в двуколке хлам. От страха он онемел и дико таращился на белую генеральскую ладонь, сжимающую рукоять шашки.
– Осмелюсь доложить, ваше превосходительство, раненый! – пророкотал многоопытный унтер.
– Почему не в лазарете? – крикнул генерал на излете гнева. Потом подбежавшему офицеру:
– Поручик! Убрать! К черту! Взыщу!
Развернул коня, стегнул нагайкой, рванул с места и ускакал в сопровождении свиты.
Характеристики, которые современники и потомки дают генералу Каледину (ударение в фамилии – на последнем слоге), весьма разноречивы, хотя в чем-то они сходятся. Вот некоторые из них.
Эрнест Георгиевич фон Валь, в начале Первой мировой войны подполковник, офицер для поручений, с декабря 1914 года полковник, начальник штаба 12-й кавалерийской дивизии:
«Солдаты инстинктивно чувствовали силу личности ген[ерала] Каледина, слепо доверяли ему и любили его, несмотря на суровый вид и строгость. В офицерской среде он пользовался еще и в мирное время исключительным уважением. Но командиры полков и высшее начальство недооценивали его.
<…>
Никто в русской армии не может сравниться с ним по глазомеру, по быстроте схватывания обстановки, оценке тактического ключа дела, быстроте решения, железной воле при приведении в исполнение намеченной цели, твердости и упорству в минуты великой опасности»[3].
Владимир Иванович Соколов, генерал-лейтенант, в 1916 году командир 14-й дивизии, входившей в состав 8-й армии Каледина:
«…Мрачная, угрюмая, молчаливая фигура Каледина внушала уныние, страх, а при дальнейшем знакомстве даже озлобление. Его, что называется, не любили в войсках… <…> Неблагоприятное впечатление самой личности Каледина явилось с первого же его появления перед войсками. Его обращение к офицерам, горевшим желанием идти в бой, звучало обидной угрозой, если в готовящемся прорыве не будет успеха. <…>
Насколько был щедр на боевые награды солдатам Брусилов, настолько скуп был Каледин. Как и многие другие начальники, он, очевидно, не понимал, что есть невозможное и для первейших храбрецов и что при общей неудаче дела могут быть выдающиеся подвиги отдельных лиц и целых частей, достойные поощрения наравне с самыми удачными делами. <…>
Проявив полную бездарность, Каледин все-таки продолжал оставаться на своем посту командующего армией. Думали, что он поддерживается тем же Брусиловым, благоволившим к Каледину, как кавалерийский начальник к кавалеристу, хотя Каледин был казак, т. е. не вполне кавалерист»[4].
Алексей Алексеевич Брусилов, генерал от кавалерии, в начале войны командующий 8-й армией, затем главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта:
«Я его близко знал еще в мирное время. Дважды он служил у меня под началом, и я изучил его вдоль и поперек. Непосредственно перед войной он командовал 12-й кавалерийской дивизией, входившей в состав моего 12-го армейского корпуса. Он был человеком очень скромным, чрезвычайно молчаливым и даже угрюмым, характера твердого и несколько упрямого, самостоятельного, но ума не обширного, скорее, узкого, что называется, ходил в шорах. Военное дело знал хорошо и любил его. Лично был он храбр и решителен. В начале кампании, в качестве начальника кавалерийской дивизии, он оказал большие услуги армии в двух первых больших сражениях, отлично действовал в Карпатах, командуя различными небольшими отрядами. <…> По моему настоянию он был назначен командиром 12-го армейского корпуса. <…> Кавалерийская дивизия – по своему составу небольшая, он ею долго командовал, его там все хорошо знали, любили, верили ему, и он со своим делом хорошо управлялся. Тут же, при значительном количестве подчиненных ему войск и начальствующих лиц, его недоверчивость, угрюмость и молчаливость сделали то, что войска его не любили, ему не верили; между ним и подчиненными создалось взаимное непонимание»[5].
Константин Михайлович Оберучев, бывший полковник, лишенный чинов за участие в деятельности партии социалистов-революционеров; в 1917 году возвращен Временным правительством на службу в чине генерал-майора и назначен комиссаром, а затем командующим войсками Киевского военного округа:
«Я знал Каледина в молодых годах. Я только что поступил в Артиллерийское училище и был в младшем классе его, а он был юнкером старшего класса. Вспоминаю его всегда сосредоточенным, без улыбки, несколько угрюмым человеком. После выхода его из училища я потерял его из виду. И вот, в Черновицах, мне пришлось с ним встретиться как с командующим армией. Встретился тот же угрюмый человек, которого я знал еще в ранней молодости. И я сразу узнал его»[6].
Александр Смирнов, наш современник, журналист, писатель, историк казачества:
«Он остался непонятым многими современниками и не оценен потомками. Он был настолько яркой личностью, что это зачастую мешало оценивать его дела и поступки объективно»[7].
Итак, суммируем – с учетом фотографий, сохранивших внешний облик Каледина.
Высокий, массивный, крупноголовый (с возрастом стал слегка сутулиться). Правильные, истинно казачьи черты лица, под конец жизни заметно одутловатого. Волосы темные, в последние годы на висках обозначилась седина. Высокий лоб с залысинами. Стрижка бобриком. Черные густые брови. Широкие, опущенные вниз усы. Карие небольшие глаза. Губы поджаты. Выражение лица как будто недовольное. Замкнут, молчалив, неулыбчив, производит впечатление хмурого до угрюмости человека. В характере наблюдается упрямство. К делу относится ответственно, не без педантизма. С подчиненными резок, но сдержан. Безусловно храбр; иногда бравирует этим. Исправный командир, но лидерских, а тем более харизматических качеств не проявлял.
Этому портрету соответствует послужной список, да и вообще биография Алексея Максимовича Каледина – по крайней мере, до августа 1914 года.
До августа четырнадцатого – почти 53 года из 56 лет земного пути Каледина – ничего примечательного. О его жизни до начала Первой мировой войны вообще мало что известно. Основной источник информации – послужной список.
Согласно этому документу, Алексей Каледин родился 12 октября 1861 года в семье казачьего офицера Максима Васильевича Каледина в станице Усть-Хоперская. Его семье вроде бы принадлежал близ станицы хутор, который так и называли – Каледин. Поэтому зачастую местом рождения будущего атамана называют хутор Каледин. Однако впоследствии никакого недвижимого имения за генералом Калединым, как и за его братом Василием, не числилось. Их отец Максим Васильевич дослужился до полковника; дед Василий Дмитриевич – до майора (войскового старшины): значит, выслужил потомственное дворянство. Являлись ли дворянами более далекие предки нашего героя – неизвестно.
С самого рождения Алексею была предопределена военная служба. О его раннем детстве нет никаких сведений, но, несомненно, со станичными мальчишками он играл в войну. После нескольких лет обучения в Усть-Медведицкой классической гимназии родители отправили Алексея в Воронеж, в Михайловскую военную гимназию. Военными гимназиями тогда назывались кадетские корпуса.
Любопытный факт: тот же Михайловский воронежский кадетский корпус в 1901 году, через двадцать два года после Каледина, окончит некто Владимир Овсеенко, сын капитана. Позднее он станет революционером, известным под псевдонимом Антонов. 8 декабря 1917 года Антонов-Овсеенко будет уполномочен руководить большевистскими войсками, действующими «против калединских войск и их пособников»[8]. Направляемые им красные части ворвутся в Новочеркасск, когда тело Каледина с пробитым сердцем уже будет сокрыто в безымянной могиле…
После Воронежа – Петербург. 1 сентября 1879 года Каледин зачислен юнкером во 2-е военное Константиновское училище. Два года учился там, потом прошел еще годичный курс в Михайловском артиллерийском училище. По окончании учебы 7 августа 1882 года определен сотником в конноартиллерийскую батарею Забайкальского казачьего войска (чин сотника в казачьих войсках соответствовал армейскому чину поручика). В Забайкалье прослужил несколько лет и был вновь направлен в Петербург на учебу. В подъесаулы (чин соответствует штабс-капитану) произведен в 1889 году, во время обучения в Николаевской академии Генерального штаба. В том же году, как окончивший Академию по первому разряду, причислен к Генштабу и отныне именуется армейским чином с прибавлением: Генерального штаба штабс-капитан (через два года уже капитан). Следующие шесть лет служил в Варшавском военном округе, по большей части в штабах. В 1895 году переведен на родину, на Дон: старшим адъютантом войскового штаба Войска Донского. Там же получил погоны подполковника, затем полковника. В 1900–1903 годах служил в управлении пехотной бригады. В 1903 году был назначен начальником Новочеркасского казачьего юнкерского училища – три года готовил офицеров для будущих войн, мировой и Гражданской… С 1906 по 1910 год снова на штабной работе: помощник начальника войскового штаба войска Донского – то есть ответственный за всю нудную канцелярскую рутину. Исполнительность и педантизм пригодились: в 1907 году произведен в генерал-майоры за отличие. В 1910 году, на пороге пятидесятилетия, – назначение в строй: получил бригаду. В декабре 1912 года назначен начальником 12-й кавалерийской дивизии. 14 апреля 1913 года произведен в генерал-лейтенанты.
Удачная карьера образцового службиста. Служба не боевая и в основном не строевая, а административно-штабная. В ней нет ничего интересного, ни одного яркого пятна. Молчаливый человек неспешно поднимается по ступеням чинов.
У него, правда, нет детей – для природного казака это, конечно, горе.
Личная и семейная жизнь Каледина – тайна за семью печатями. Известно только, что с будущей своей женой, Марией Гранжан (урожденной Ионер), гражданкой Швейцарии, он познакомился во время службы в Варшавском округе. Венчались они уже в Новочеркасске в 1895 году. На одной из немногих сохранившихся их совместных фотографий – пышнотелая дама скорее еврейского, нежели французского типа, в темном бархатном платье, в очках со шнурком; рядом с ней высокий молодцеватый темноусый офицер с погонами полковника. Стало быть, фотография сделана не ранее декабря 1899 года (время производства в этот чин). В источниках встречаются глухие и лишенные подробностей упоминания о том, что их единственный сын, одиннадцатилетний мальчик, утонул в речке Тузловке под Новочеркасском. Фотография, по-видимому, сделана раньше: на лицах супругов нет той затаенной скорби, которая навсегда поселяется в глазах, в морщинках, в осанке, в положении рук родителей, потерявших единственного ребенка.
На этом можно было бы ставить точку. Жизнь прожита – худо ли, хорошо ли. Скорее хорошо, чем худо. Ему шестой десяток, река его судьбы течет размеренно, спокойно. Ему обеспечены почетная старость и хорошая пенсия – лет этак через десять.
Кто же знал, что взлет и трагедия – впереди. И что предвестием этого самоубийственного взлета станет выстрел, прогремевший 28 июня 1914 года в Сараеве, в Боснии. Пуля, вылетевшая из браунинга, который сжимал в руках боснийский серб Гаврила Принцип, смертельно ранила наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда Габсбурга. Она же, подобно маленькому камушку, упавшему с вершины горы, породила титанический камнепад – гром миллиардов выстрелов Первой мировой войны. И бесконечным рикошетом, как эхом отражаясь от излучин времени, домчавшись до охваченного революционной смутой Дона, она же, эта пуля, или одна из бесчисленных ее сестер поразит через три с половиной года сердце генерала Каледина.
12-я кавалерийская дивизия, входившая в состав XII армейского корпуса[9] Киевского военного округа, дислоцировалась в Подолии, вблизи от австро-венгерской границы, за которой – Галиция. Штаб дивизии находился в городе Проскурове[10], на Южном Буге. Отсюда до Винницы, до штаба корпуса, чуть больше ста верст. Летя с непривычной даже для кавалериста скоростью – в автомобиле! – по хорошо укатанной дороге, Каледин не мог не наслаждаться видом пышно-густых садов, расписных хат, начинающих золотеть полей, за которыми темнели живописные рощицы. Утреннее солнце играло на водах Буга. Над высоким берегом слева показались и поплыли мимо романтические руины Меджибожского замка. Все это радовало и умиротворяло душу. Но все же что-то беспокоило генерала. Какая-то колючка засела внутри, поблизости от сердца, и ворочалась там, не давала покоя.
Зачем ни свет ни заря вызвал корпусной командир генерал от кавалерии Брусилов? Почему он вернулся из отпуска на две недели раньше срока? Казак Каледин недолюбливал выпускника Пажеского корпуса Брусилова и считал, что тот недооценивает его. Поговаривали, что корпусной скоро уйдет на повышение, – может быть, хочет попрощаться? Это бы ладно, а то – чего хорошего можно ждать от внезапных вызовов к начальству?
Позавчера в Проскурове был получен секретный пакет из штаба округа о приведении войсковых частей в предмобилизационное положение. Что это означает? Проверка готовности? Учебная тревога? Не воевать же, в самом деле, собрались там, наверху! С кем воевать? Решили погонять этих строевых хорошенько. Однако же предмобилизация – дело нешуточное. Вторые сутки в дивизии никому нет покоя. И мчится автомобиль, сжигая казенный бензин, из Проскурова в Винницу средь роскошных полей Украины, один вид которых, счастливый и безмятежный, исключает всякую мысль о какой-то там войне.
И тут случилось нечто странное. Беспокойная колючка разорвалась в сердце Каледина маленькой злой шрапнелью… и исчезла. В ту же минуту генерал понял: будет война. Вокруг все кипело и наслаждалось жизнью. Но он уже знал: что-то страшное, смертельное, отвратительное притаилось за горизонтом. Оно наползало. Оно подбиралось к нему.
Политика – не его, не офицерское дело. Но тут вспомнились недавние телеграммы о сараевском убийстве. Антисербская истерика немецких газет. Всеславянский пафос газет русских. Удивленная настороженность, внезапно появившаяся в движениях офицеров, – напряжение натянутой струны. И что-то странное в глазах солдат, какие-то блики и тени: то ли преданность, то ли ненависть. Все эти люди хотели жить. Но слишком многие из них хотели убивать. Были готовы убивать.
Адъютант провел Каледина в кабинет Брусилова. Первые же слова командующего, услышанные после уставного рапорта и приветствий, ударили в ту самую точку.
– Алексей Максимович, не знаю, успели ли вам передать: только что получен приказ о мобилизации.
Невольная пауза. Командующий продолжал:
– Я два дня как из Германии. В Берлине творится нечто неописуемое: наше посольство в осаде; тысячные толпы требуют крови. Не буду от вас скрывать: ситуация развивается так, что, по-моему, война неизбежна.
Брусилов помолчал, призадумался, тронул кавалерийские усы, подошел к штабной карте:
– Не знаю нынешних планов Генштаба, но полагаю, что нас ожидает выдвижение на запад, в общем направлении на Дружкополь, Каменку-Струмилову и Львов. В связи с этим я вызвал начдивов, а вам, дорогой мой, вам надлежит…
…Через несколько часов, выходя после совещания из здания штаба корпуса, Каледин остановился на ступеньках, осмотрелся и, прежде чем надеть фуражку, тряхнул головой. Как будто хотел вытряхнуть больные, мрачные мысли. Огляделся. Милейший городок раскрывал ему свои объятия. Тихий вечер плыл над Бугом. Светились маковки Спасо-Преображенского собора. Гуляла молодежь. Слышались обрывки напевно произносимых фраз:
– Я бачу, що вы якая-то до мене нерасположенная…
– От дурашку, я ж тебе кохаю…
Невозможно было представить, что через несколько дней, недель или месяцев будет война. Что она вообще будет. Что весь этот мир вскоре полетит в тартарары.
Из воспоминаний Брусилова:
«Винница – очень хорошенький, уютный городок, живописно расположенный на холмистых берегах красивой реки… – удивительное сочетание культуры и захолустья одновременно. Рядом с целыми старосветскими усадьбами в садах и огородах посреди города – театр, который смело можно перенести в любую столицу, шестиэтажная гостиница с лифтом, электричеством, трамваи, водопровод, прекрасные парные извозчики. И тут же боковые улички и переулки, заросшие травой, и мирно разгуливающие поросята, куры и цыплята. Окрестности очень красивые, много старинных польских и украинских поместий, монастырей и хуторов»[11].
Из мемуаров Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, летом 1914 года полковника, впоследствии – генерал-лейтенанта Советской армии:
«Лето было в разгаре. Кое-как сколоченные столы на городском базаре ломились под тяжестью розовых яблок, золотых груш, огненных помидоров, лилового сладкого лука, „шматков“ тающего во рту трехвершкового сала, истекавших жиром домашних колбас – словом, всего того, чем так богата цветущая Украина. Безоблачное, ослепительно-голубое небо стояло над сонным городом, и, казалось, ничто не может нарушить мирного течения тихой провинциальной жизни…
Полковые дамы наперебой варили варенье и бочками солили превосходные огурцы; господа офицеры после неторопливых строевых занятий шли в собрание, где их ждали уже на накрахмаленных скатертях запотевшие графинчики с водкой; полк стоял в лагере, но ослепительно-белые палатки, и разбитые солдатами цветники, и аккуратно посыпанные песочком дорожки только усиливали ощущение безмятежно мирной жизни, владевшее каждым из нас»[12].
Из воспоминаний Брусилова:
«Винница – это последний этап нашего мирного, тихого бытия в прошлом. Всего год мы там прожили до войны. Наш скромный уютный домик с садиком, любимые книги и журналы, милые люди, нас окружавшие, масса зелени, цветов, прогулки по полям и лесам, мир душевный… А затем – точка… Налетел ураган войны и революции, и личной жизни больше нет»[13].
23 июля (10 июля по принятому в России юлианскому календарю[14]) 1914 года правительство Австро-Венгерской империи предъявило ноту правительству королевства Сербия. Возлагая на сербскую сторону ответственность за убийство эрцгерцога Франца Фердинанда, венский кабинет в ультимативной форме выдвигал ряд требований, несовместимых с государственным суверенитетом Сербии. Говорили, что, утверждая текст ультиматума, император Франц-Иосиф произнес:
– Россия никогда не примет его. Будет большая война.
Германия поддержала требования Австро-Венгрии.
25 июля, после напряженных консультаций с Петербургом и Лондоном, правительство Сербии заявило о готовности принять все пункты ультиматума, кроме одного – об участии австрийских властей в расследовании сараевского убийства на территории Сербии. В тот же день Австро-Венгрия приступила к частичной мобилизации войск против Сербии.
26 июля (13 июля по юлианскому календарю) начальник российского Генерального штаба генерал-лейтенант Янушкевич известил командующих войсками в округах о начале подготовительного к войне периода. (Приказ о приведении войск в предмобилизационное состояние был получен в частях Киевского военного округа только к вечеру 16 июля.)
28 июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии и всеобщую мобилизацию.
30 (17) июля Николай II санкционировал приказ о всеобщей мобилизации в Российской империи.
31 (18) июля в России началась мобилизация. Император Германии Вильгельм II направил Николаю II требование немедленно прекратить мобилизацию. Требование было отклонено. В то же утро командир XII корпуса Брусилов прибыл из отпуска в штаб корпуса в Винницу.
1 августа (19 июля) Германия объявила войну России и одновременно приступила ко всеобщей мобилизации. Телеграмму об этом Брусилов получил в Виннице вечером того же числа. В тот же день всеобщая мобилизация началась во Франции.
2 августа (20 июля) Николай II назначил Верховным главнокомандующим русскими войсками великого князя Николая Николаевича; начальником штаба Главковерха – генерал-лейтенанта Янушкевича. Образованы фронты: Северо-Западный (главнокомандующий – генерал от инфантерии Яков Григорьевич Жилинский) и Юго-Западный (главнокомандующий – генерал от артиллерии Николай Иудович Иванов). В составе Юго-Западного фронта образована 8-я армия под командованием Брусилова. 12-я кавдивизия влита в ее состав.
3 августа Германия объявила войну Франции. В тот же день германские войска вторглись в Бельгию.
4 августа королевское правительство Британии объявило войну Германии.
6 августа (24 июля) Австро-Венгрия объявила войну России. В этот же день произошла первая перестрелка между австрийскими войсками и русской пограничной стражей у железнодорожного моста через реку Збруч у станции Волочиск.
27 июля по русскому календарю (9 августа – по европейскому) два эскадрона 12-го уланского полка 12-й кавалерийской дивизии генерал-лейтенанта Каледина атаковали восточнее Волочиска полуэскадрон 2-го австрийского полка.
2 (15) августа командование 8-й армии получило директиву главнокомандующего фронтом: «наступая на фронт Ходоров – Галич, атаковать противопоставленные ей войска противника, имея в виду воспрепятствовать отходу значительных сил их за Днестр. Начать наступление 5 августа и 7 августа главными силами достичь реки Збруч»[15].
5 (18) августа части 8-й армии переправились через реку Збруч, по которой проходила российско-австро-венгерская граница.
17 (30) августа на фронте 8-й армии развернулись первые большие бои, вошедшие в историю как сражение на реке Гнилая Липа. Брусилов впоследствии напишет: «Должен отметить серьезную услугу, которую в первый день сражения оказал армии генерал Каледин со своей 12-й кавалерийской дивизией. Она заняла разрыв фронта между 12-м и 7-м корпусами по собственной инициативе и боролась с подавляющею силою противника до подхода бригады 12-й пехотной дивизии…»[16]
Так начиналась Первая мировая война – для всего мира и лично для Каледина. Бои на Гнилой Липе стали в жизни пятидесятидвухлетнего генерала боевым крещением и одновременно полководческим экзаменом. Экзамен был сдан весьма неплохо.
«Кровь – это грязь, текущая внутри нас»
Не будем подробно рассказывать о боях, в которых участвовала дивизия Каледина. Развернувшаяся в августе – сентябре 1914 года Галицийская битва представляла собой хаотичное столкновение и взаимоистребление двухмиллионной массы людей на огромной территории между Вислой, Западным Бугом и Днестром. Никто из военачальников – ни русских, ни австрийских – не умел управлять таким огромным количеством войск на таких обширных пространствах. Имевшиеся средства связи не годились для своевременной передачи информации; разведданные устаревали, не успев достигнуть штабов. Штабы не поспевали за событиями; командующие принимали решения вслепую. Эффектно задуманные удары приходились по пустым местам, а в то же время целые полки на марше попадали под густую шрапнель, под сабли неведомо откуда взявшейся кавалерии, вырубались и расстреливались без остатка. Тыловые коммуникации не справлялись с переброской резервов и подкреплений; эшелоны и обозы с продовольствием и боеприпасами безнадежно отставали от наступающих войск, обрекая их на бессилие, голод, скорое и неминуемое отступление. Раненых не на чем было вывозить и негде размещать. В тылах царил хаос.
Из дневника Александра Ивановича Верховского, в начале войны капитана, впоследствии военного министра Временного правительства (запись относится к военным действиям на Северо-Западном фронте, но то же самое происходило и на Юго-Западном):
«Семь суток мы ходили без отдыха и перерыва вперед и назад, днем и ночью между Лыком и Маркграбовым, не зная зачем и почему. Три раза наша бригада попадала в одну и ту же деревню Калиновен и готовилась принять в ней бой. Могло создаться впечатление, что люди, руководившие нами, сошли с ума…Наше маневрирование, не руководимое из штаба армии, носило хаотический характер. Никакой связи между частями, никакой ориентировки начальников о том, что происходит, и о целях действий… Все, чему мы, молодежь, учились о современной войне, все было позабыто, все не исполнялось. Мы не знали, куда и зачем идем, откуда гремят выстрелы, кто и почему стреляет. Мы не знали, кто вправо и влево от нас, где нам получать наше продовольствие и снаряды»[17].
Никакие результаты, достигнутые в такой войне, не могли быть прочными.
Вначале австрийцы разбили 5-ю армию Плеве под Томашувом на Люблинско-Холмском направлении. Потом 3-я армия Рузского и 8-я Брусилова сокрушили австрийцев на Гнилой Липе и рванулись на Галич и Львов. Австрийцы из Львова бежали, но через несколько дней нанесли встречный удар в районе Городка и Самбора, едва не окружили русские корпуса, едва не отобрали Львов. Когда Брусилов и Рузский уже не чаяли отбиться, австрийский фронт вдруг затрещал и покатился назад, за реку Сан, за Вислу и Дунаец, за хребты Карпат. Но и русское наступление вскоре захлебнулось: тылы отстали, убыль в войсках была колоссальной, а северо-западнее Галиции в начале октября германо-австрийские войска мощным ударом пробили фронт в направлении Варшавы, угрожая выйти во фланг и тыл всей галицийской группировке русских. Пришлось откатываться назад. Потом и рывок немцев на Варшаву обернулся их отступлением. Снова русские армии в Галиции двинулись вперед и снова уперлись в Карпаты.
Австрийские офицеры прозвали эти бесконечные растягивания и сжатия линии фронта «гуммикриг» – резиновая война.
В конце августа дивизия Каледина двигалась на Самбор, южнее Львова. Потом была выброшена навстречу прорвавшимся австрийцам у Комарно на реке Верещице западнее Львова. Здесь, во встречном бою, впервые дивизия понесла серьезные потери. Потом, в сентябре, был бросок на Сан и трудное отступление вдоль горных кряжей под холодными осенними ливнями. Потом короткий отдых в тылу – и снова наступление, встречные бои, броски, отступление…
Лили дожди, потом падал снег. Деревья оголились. Земля кругом была опустошена, разорена, загажена, вытоптана, выворочена наизнанку. К исходу осени стало ясно: война будет долгой, очень долгой. И неизвестно, сколько еще людей, полных жизни и сил, будет убито, искалечено, изуродовано, сколько рук и ног оторвано, сколько черепов пробито, сколько животов распорото штыками, сколько человеческих и конских внутренностей выворочено осколками снарядов, сколько криков, стонов, хрипов, ругательств еще пронесется под этим хмурым, задымленным военным небом.
Война была грязна и топила человека в безысходной грязи.
Из рассказов подполковника (с декабря 1914 года полковника) Эрнеста фон Валя:
«Из Хырова оттянули 12-ю кав[алерийскую] дивизию за фронт пехоты в резерв в дер[евню] Максимовцы. Это мирное передвижение участникам его показалось более отвратительным, чем предшествовавший отход. Важная дорога в ближайшем тылу армии была приведена в такой вид, что конные люди рисковали жизнью, двигаясь по ней. Ямы на шоссе были залиты водой, а на дне их лежали трупы утонувших в них лошадей и развалившиеся повозки.
<…>
…Белая лошадь с громадной раной в голове от попавшего в нее осколка гранаты стояла, вытянув шею, обливаясь кровью и шатаясь на ногах. Рядом в крестьянском дворе за избами лежали раненые гусары; прислоненный к стене в судорогах корчился контуженый бар[он] Черкасов…
На мосту лежали трупы и раненые лошади, брыкающие ногами. Когда все перебежали, вдоль обстреливаемого шоссе подлетала батарея. Очередь шрапнелей: часть лошадей падает, другие бьются в постромках…
<…>
В том месте, где накануне переправилась вброд через Быстрицу [Кавказская] туземная дивизия, на следующий день и 12 кав[алерийская] дивизия перешла на тот берег. <…> На том берегу Каледин слез, чтобы выждать сбор всей дивизии. Зайдя в избу, он отшатнулся от луж крови на полу. Хозяин рассказал, что накануне здесь спрятались два австрийских офицера. Они на коленях умоляли туземцев (солдат Кавказской туземной дивизии. – А. И.-Г.) о пощаде – но их зарезали на полу кинжалами»[18].
Замечателен финал последнего процитированного эпизода воспоминаний фон Валя: «Каледин поморщился и вышел на свежий воздух».
Что еще может сделать генерал-лейтенант, командир дивизии его императорского величества, при виде крови зарезанных пленных? Поморщился и вышел на свежий воздух…
В этот день – 16 февраля 1915 года, на речке Быстрице, к юго-западу от Станиславова[19] – военная судьба, доселе к Каледину благосклонная, впервые грозно обернулась против него. Шел артиллерийский бой возле деревни Беднарово. Генерал отправился на батарейный наблюдательный пункт.
Рассказывает фон Валь (в это время исполняющий должность начальника штаба дивизии):
«Ехал он, как раньше часто случалось, впереди фронта позиции и свернул назад на батарею. Полковник Богалдин, который сделал все, чтобы его батарея стала на позицию незаметно для противника, увидев начальника дивизии с группой сопровождавших его чинов, слезших с коней и подходивших по снегу к батарее, выбежал вперед и сказал начальнику штаба (фон Валю. – А. И.-Г.): „Неужели вы не можете его удержать от этого? Теперь будет обнаружена и батарея и мой наблюдательный пункт…“ Противник немедленно открыл огонь и уничтожил наблюдательный пункт, ранив сперва солдата-артиллериста, а потом и остальных наблюдателей. Тогда Каледин отошел на несколько сот шагов назад, и стал открыто, несмотря на просьбу начальника штаба, прислоняться к дереву. <…> Но вот новый разрыв шрапнели – и Каледин падает на спину. Солдат ординарец и корнет Скачков его хватают под мышки и тащат в лощину, что была вправо и назад от рощи. Противник, замечая выход людей, открывает ураганный огонь по оставшимся, которые выбегают по очереди. Рощица превращается в ад… Но вот все собрались в лощине, покрытой высоким кустарником, около лежащего бледного с стиснутыми зубами Каледина… Шрапнельная пуля попала в толстую стопу туалетной бумаги в кармане Каледина, пробила ее и проникла в ляжку»[20].
Показная храбрость, ненужное упрямство, ввержение окружающих в опасность, бессмысленное ранение. Прав, видимо, был Брусилов, характеризуя Каледина как человека «характера твердого и несколько упрямого». Но, может быть, виновата тоскливая, засасывающая жуть бессмысленной и беспощадной бойни? Может быть, генерал восчувствовал всю безнадежность резиновой войны – и пошел под шрапнель, дабы избавиться от этого невыносимого чувства?
Ранение оказалось серьезным. Пуля ударила в бедренную кость и скользнула по ней вниз почти до коленного сустава. Врачи говорили, что пройди она еще три-четыре сантиметра – не избежать было бы ампутации. Но обошлось. Недели через три Каледин пошел на поправку. Однако в строй вернуться смог только в июле.
Его карьере эта история пошла на пользу. Он был представлен к награде: «За то, что, состоя начальником 12-й кавалерийской дивизии, в середине Февраля 1915 года, будучи направлен во фланг противнику, теснившему наши войска от гор. Станиславова к Галичу и угрожавшему последнему, лично командуя дивизией и находясь под действительным огнем противника, причем 16-го Февраля был ранен, энергичными действиями сломил упорное сопротивление бывшего против него противника в районе с[ела] Беднаров»[21]. И осенью того же года петлица его кителя украсилась крестом ордена Святого Георгия третьей степени. (За сражения на Гнилой Липе и подо Львовом он еще в октябре четырнадцатого получил георгиевское оружие и Георгия четвертой степени.)
Но главное: пока он лежал в госпиталях, пока отбывал положенный отпуск, ситуация на всем восточном театре мировой войны роковым образом изменилась.
В конце апреля 1915 года германо-австрийская группировка войск под командованием Макензена нанесла по центру Юго-Западного фронта мощнейший удар. Бои у Горлице привели к тяжелому поражению 3-й армии генерала Радко-Дмитриева, прорыву фронта и отступлению русских войск на огромном пространстве от Балтийского моря до Днестра. Галиция, на протяжении девяти месяцев ежедневно удобряемая трупами и поливаемая кровью – русской, австрийской, немецкой, чешской, польской, украинской, венгерской, – была полностью потеряна. Отбиваясь от фланговых ударов и испытывая острейшую недостачу во всем – в винтовках, в снарядах, в медикаментах, в обмундировании, в людях, – русская армия с боями оставила Польшу, Литву, Курляндию. Приняв на себя 23 августа Верховное главнокомандование, Николай II смог добиться лишь относительной стабилизации фронта. К началу второго года войны людские потери России исчислялись уже семизначными цифрами, и конца-краю этой бойне не было видно. В победу верить становилось все труднее. В умах и душах людей что-то сдвигалось и надламывалось.
Злоба. Вот какое растение все гуще, все заметнее пробивалось сквозь унавоженную войной почву. Кто виноват? Кто враг? Его надо найти, убить, растоптать, уничтожить. Нет, мало: разорвать его на куски, содрать с него шкуру, зарыть живьем в землю – и его самого, и его жену, и его детей… Так прорастала великая и неделимая российская ненависть – исходная причина революции, Гражданской войны, красного и белого террора, массовых бессмысленных репрессий…
А первым делом надо было найти тех, кто виновен в весенне-летнем поражении. Давление общего настроения стопятидесятимиллионного народа было таково, что даже государь император, лучше других понимавший, что виновных нет или, что то же самое, – виноваты все, все общество, отравленное неверием, наполненное враждой, разделенное своекорыстными интересами, не желавшее ничем жертвовать для общего дела, для подготовки к войне, – даже он, государь, вынужден был выдать первую жертву на расправу. В июне был уволен в отставку военный министр Сухомлинов, и в отношении его началось судебное расследование. Юридических результатов оно не принесло: ничего преступного в деятельности бывшего министра обнаружено не было. Вокруг Сухомлинова бытовали обыкновенные для военного ведомства воровство, подхалимаж и разгильдяйство – так ведь то же самое творилось и при его предшественниках. Но был явлен образ врага народа российского: вот он, в министерском кресле, в генеральском мундире. По всем углам огромной страны разлетелось слово «измена» – произносимое сначала шепотом, потом все громче и громче. Враг – там, наверху. А кто выше всех?
Не будем забегать вперед. Тогда, летом 1915 года, эти события только способствовали продвижению Каледина по службе. За время военных действий в Галиции он завоевал репутацию умелого, храброго, толкового военачальника. Многие генералы в хаосе этой войны оказывались не способны принимать своевременные решения, теряли управление войсками, а порой и самообладание. Он – нет. Он всегда оставался внешне спокоен, никогда не выпускал командирскую узду из рук. В июле 1915 года он был назначен командиром XII армейского корпуса – того самого, в котором раньше состоял под началом Брусилова (свою «родную» 12-ю кавдивизию Каледин, будущий глава Вольного Дона, сдал генерал-майору барону Карлу Маннергейму, будущему главе независимой Финляндии). Брусилов еще год назад поднялся на ступень командующего армией. Теперь он поднял – поближе к себе – давно и хорошо знакомого генерала. Конечно: Каледин надежен, Каледин упорен. А главное – он не амбициозен, не лидер, не вождь. Брусилову, который всегда метил высоко, нужны были именно такие подчиненные – чтобы не вырвались вперед и вверх из-под его (несуществующего, но снившегося ему, наверно, по ночам) фельдмаршальского жезла.
Что подарила жизни Каледина новая должность? Да ничего. Все та же упорная, въедливая военная работа; за ней – то успехи, то неудачи. Ничего великого корпус под командованием Каледина не совершил.
Из воспоминаний Брусилова:
«Командиром корпуса он был уже второстепенным, недостаточно решительным. Стремление его всегда все делать самому, совершенно не доверяя никому из своих помощников, приводило к тому, что он не успевал, конечно, находиться одновременно на всех местах своего большого фронта и потому многое упускал. <…> На практике на нем ясно обнаружилась давно известная истина, что каждому человеку дан известный предел его способностям, который зависит от многих слагаемых его личности, а не только от его ума и знаний, и тут для меня стало ясным, что, в сущности, пределом для него и для пользы службы была должность начальника дивизии; с корпусом же он уже справиться хорошо не мог»[22].
Впрочем, Брусилов едва ли объективен (почему – узнаем позже). К тому же 8-я армия, в состав которой входил корпус Каледина, со второй половины лета 1915 года находилась в стороне от главных военных событий: постепенно отступала, сначала за Западный Буг, потом за Стырь, отбиваясь от не слишком назойливых, тоже измотанных и обескровленных австро-венгерских войск. Некомплект в частях достигал пятидесяти процентов. Почти треть сил армии была переброшена в Белоруссию и Литву, где складывалась угрожающая ситуация. Полководческому гению в таких условиях не развернуться. И все же в чем-то Брусилов прав: после ранения в Каледине произошла неуловимая перемена. Какая-то в его облике проявилась безнадежная понурость, следствие душевной усталости, неверия в успех.
«…Из него как будто вынут был тот „аршин“, который полагается „проглотить“, чтобы получить настоящую военную выправку. Однако дело было уж не в этой внешней выправке, когда ему были вверены Брусиловым силы, действующие на ведущем участке фронта: важна была выправка внутренняя – армия в голове, и об этом был острый разговор по существу дела между двумя генералами от кавалерии, из которых один был старше другого на восемь лет, но смотрел на него с сожалением, недоумением и горечью, которую не только не мог – даже и не хотел скрывать.
Правда, и два предыдущих дня, и этот, в который приехал Брусилов, были днями ожесточеннейших контратак немцев по всему вообще фронту и главным образом на участке восьмой армии, однако такой прием немецких генералов не был новостью для Брусилова, и он не понимал, почему им так явно даже для невнимательного глаза удручен боевой командир Каледин.
<…>
– Мы чтобы шли в наступление? – изумился Каледин.
– Непременно, – тоном приказа ответил Брусилов.
Но Каледин, вдруг насупясь, глядя не на него, а куда-то вбок, буркнул:
– Наступать мы не можем»[23].
Этот отрывок из «Горячего лета» Сергеева-Ценского относится уже к событиям следующего, 1916 года – к событиям, с которых начинается последний взлет в жизни Каледина: начало славы и исходная причина гибели.
Брусиловский прорыв – одна из самых знаменитых операций Первой мировой войны. А мог бы называться Калединским прорывом. Впрочем, ни то ни другое название не имеют отношения к действительности. Потому что прорыва – вперед, на оперативный простор, к победам, к звездам – не было. Была очередная кровавая военная работа, только еще более смертоносная и безжалостная, чем в первые годы войны.
Об операции в целом – позже. Сейчас – о Каледине. В марте 1916 года он становится командующим 8-й армией. Вполне понятно: 17 марта государь подписал приказ о назначении Брусилова главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Алексей Алексеевич шагает еще на ступень выше. И тут же подтягивает за собой Алексея Максимовича: передает ему прежнюю свою армию; это назначение состоялось уже через три дня, 20 марта. Стало быть, доверяет ему больше, чем кому-либо из подручных военачальников. Откуда же нарочито-пренебрежительный тон той характеристики, которую дает Брусилов Каледину в мемуарах? Дело в том, что три четверти успеха единственного крупного наступления, осуществленного войсками фронта под командованием Брусилова, пришлись на долю 8-й армии Каледина. Калединский прорыв. И в чинах они сравнялись: Каледин произведен в генералы от кавалерии. А вдруг вся слава победы достанется ему? Генералы ревнивы к славе.
22 мая артиллерия 8-й армии (716 орудий) ударила по позициям противника и 29 часов перемалывала несчастную землю между речкой Путиловкой и Стырью. 23 мая корпуса перешли в наступление. 25 мая был взят город Луцк. (В овладении Луцком, кстати говоря, участвовала 4-я стрелковая Железная дивизия генерала Деникина.) К 1 июня взяты Рожище, Сокаль, Шепель. Австрийские войска в беспорядке отступали на Владимир-Волынский и Ковель. Бодрящие телеграммы полетели в императорскую Ставку в Могилев, в Петербург, в Москву; в газетах замелькало: Луцк, Брусилов, Каледин, наступление, прорыв, победа. Фронт противника в самом деле был прорван. И…
И все. Успех был достигнут – но развить его не удалось. Не помогли соседи. Не хватило резервов. Не подвезли вовремя снаряды и патроны. Противник перебросил подкрепления. Словом, много было причин того, что армия Каледина, пробив толщу вражеской обороны, застряла в двух десятках верст к западу от Луцка. В июне развернулись бесконечные бои на реке Стоход, на Ковельском и Владимир-Волынском направлениях – и продолжались пять месяцев. Сколько тут было угроблено народу – трудно даже представить. Потери 8-й армии были самыми высокими среди армий фронта. Уже в первые три дня наступления, 23–25 мая, убитыми было потеряно до 6 тысяч человек, ранеными 26 тысяч человек, пропавшими без вести – около тысячи человек (15 процентов состава армии)[24]. И дальше было не лучше. Только в одном бою 14 сентября у Корытницы 10-я Сибирская дивизия потеряла убитыми, ранеными, пленными 4899 солдат и офицеров[25]. Тут со всей ужасающей ясностью обозначилась ранее несвойственная Каледину черта: он перестал жалеть людей. Впрочем, не только он. Одно и то же творилось по всему фронту. Главнокомандующий требовал наступать, командующие армиями бросали дивизии на укрепленные позиции противника, батальоны один за другим уходили в огненное небытие.
Вот горячая, сбивчивая, полная желчи запись о Каледине в воспоминаниях генерала В. И. Соколова (в ходе боев на Луцко-Ковельском направлении командовал 14-й дивизией в составе VIII корпуса):
«…Кровавую он оставил о себе память в VIII армии; с ним обычно связываются воспоминания не о светлых днях Луцкого прорыва, когда по странной случайности он только что принял армию, уже подготовленную к Луцкой операции, и ему оставалось только спустить тетиву уже натянутого лука, а, по несчастью, принадлежавшим к его творческим потугам прорвать фронт сконцентрированных сил немцев и австрийцев на лобном месте небольшого фронта между Корытницею и Шeльвовым, где в одну и ту же точку в июле, августе, сентябре и октябре месяцах Каледин бросал корпус за корпусом, укладывая их под подавляющим огнем многочисленной артиллерии неприятеля; постепенно гибли VIII, IX Сибирский, XL, оба гвардейских корпуса, гибли лучшие дивизии по непонятному упрямству Каледина, повторявшего ошибку немцев под Верденом, но Верден сам по себе представлял пункт особой стратегической важности, признаков которой никак нельзя было найти в безвестных деревнях Корытница, Свинюха и Шельвов. Никто не понимал, зачем нужно толочь людей в этой огненной ступе, но Каледин толк их упрямо и уже заслужил себе прозвище мясника, графа Кладбищенского-Корытницкого и тому подобное. Особенно приходила от него в ярость гвардия, на традиции которой пытался наложить Каледин свою руку. Мне приходилось слышать, что в данном случае Каледин являлся только исполнителем требований Брусилова и что будто бы он чуть не плакал, получая требования Брусилова о повторении этих бессмысленных атак, но если это так, то это все же не может оправдать Каледина, который имел возможность со своего наблюдательного пункта лично видеть обстановку, обязан был открыть глаза Брусилову на несоответствие его требований, да они и не могли простираться до указания точки удара, а ее всегда мог изменить Каледин, отнеся ее только к югу от Корытниц, но мы продолжали долбить четыре месяца в одну и ту же точку»[26].
К исходу ноября все стихло. Фронты застыли в бессильном изнеможении. Победы не было. Впереди – новые бои, новые жертвы. Когда возобновится бойня? Через неделю? Через месяц?
Командование 8-й армии располагалось в Луцке. Заканчивалась третья осень войны. После очередного объезда позиций Каледин вернулся в штаб армии. Провел совещание. Отпустил генералов и офицеров. Остался в кабинете один. Он устал, устал беспредельно. Попытался еще раз просмотреть сводки и донесения, накопившиеся за последние сутки. Понял, что уже не может бороться с усталостью и сном. Глаза слипались, голова не держалась на плечах. Ушел в соседнюю комнату, лег, не снимая мундира, на походную кровать. Расстегнув ворот, ощутил под ладонью эмаль и металл Георгиевского креста. Другой Георгий легкой тяжестью лежал на нагрудном кармане, над самым сердцем. Сердце замерло в преддверии покоя.
Перед глазами генерала уже темнели карпатские предгорья, неслась вздувшаяся от дождей река, вдоль нее по размокшей дороге двигалась колонна войск. Он скакал верхом вдоль колонны в сопровождении офицеров штаба. Вдруг за поворотом наперерез ему на середину дороги выползла телега; возница сидел к генералу спиной, закутавшись в какое-то тряпье, и, видимо, спал. Генерал окрикнул, но возница как будто не слышал его. Подскакав к телеге вплотную и чувствуя прилив неудержимого гнева, генерал заорал изо всех сил на незадачливого солдата. Тот наконец медленно обернулся, разматывая башлык. Его лицо было землисто-бледным, точь-в-точь как у пленного австрийского офицера, зарезанного в Бендарове. Глядя на генерала остекленевшими пустыми глазами, солдат стал неестественно медленно вытаскивать из-под полы шинели какой-то нелепый нож – именно не саблю, не шашку, а нож, темный, покрытый пятнами то ли ржавчины, то ли крови. Страх охватил генерала: он понял, что сумасшедший солдат сейчас бросится на него с этим ножом. Генерал выхватил шашку, замахнулся ею – но тут на него накинулись десятки людей: офицеры, унтеры, казаки; они схватили его за руки, за сапоги, за одежду, стащили с седла, бросили наземь. Один щуплый солдат, легкораненый, с веснушчатым детским лицом, скинул с плеча винтовку, размахнулся и что было силы ударил штыком прямо по Георгию 4-й степени, белевшему на генеральском мундире…
Каледин проснулся от внезапной боли – как удар в сердце. И тут же прошло. Встал, тряхнул головой, одернул китель, застегнул воротник, пошел руководить армией – готовить ее к новому наступлению.
Новому наступлению не суждено было состояться.
Из воспоминаний генерал-майора Бориса Владимировича Геруа, в начале 1917 года генерал-квартирмейстера Особой армии, располагавшейся под Луцком справа от армии Каледина:
«…Никому не приходило в голову, что мы накануне революции. Поэтому первые известия о ней 27 февраля явились громом с неба, которое казалось нам чистым и голубым, или почти таким. Четыре дня до отречения Государя прошли в почти непрерывных разговорах по прямому проводу со штабом фронта. На моей обязанности было принимать лично днем и ночью эти длиннейшие ленты с выстукиваемыми на них „последними новостями“. Ползли из машины неожиданные слова, медленно складывавшиеся в совершенно невероятные фразы»[27].
В ночь с 3 на 4 марта телеграф принес ошеломляющие новости.
Государь император отрекся от престола.
В Петрограде[28] – правительство из депутатов Прогрессивного блока.
Верховный главнокомандующий – Николай Николаевич.
В России произошла революция.
Нет! Если бы произошла! Она только начиналась.
Из воспоминаний Эраста Николаевича Гиацинтова, штабс-капитана артиллерии, в начале 1917 года находившегося в войсках Юго-Западного фронта:
«Первого марта вечером дошли до нас первые вести о событиях в Петрограде. Впечатление было ошеломляющее…В первый момент на всех нас нашло самое мрачное отчаяние, так как никто не думал, что правительство без всякого сопротивления отдаст власть. Ясно было, что внутренние беспорядки отзовутся гибельно на состоянии фронта, значит, сорвется наступление и еще затянется война…
Через два дня пришел Манифест Государя Императора об отречении от престола и манифест великого князя Михаила Александровича. Командир батареи, не будучи в силах читать эти манифесты солдатам сам, поручил это сделать мне. Солдаты молча выслушали оба манифеста. Никто из них никаких восторгов не выражал»[29].
Из записок Маркела Михайловича Максимова, в 1917 году рядового солдата:
«Не доходя до г[орода] Черновицы, послали вперед квартирьеров, и, когда стали подходить к городу, нас встретили посланные вперед люди для подыскания квартир. Один из них был унтер-офицер, подходит к офицерам, шедшим впереди. Мы тоже шли впереди, слышим, докладывает командирам о квартирах, а потом говорит: „Ваше благородие, что мы там слышали! Как будто говорят – царь отрекся от престола“. Тут все офицеры ахнули от ужаса, как то, что мы будем делать?»[30]
Из воспоминаний К. Попова, штабс-капитана Сводного полка Кавказской гренадерской дивизии:
«Все перевернулось сразу вверх дном. Грозное начальство обратилось в робкое, растерянное, вчерашние монархисты – в правоверных социалистов, люди, боявшиеся сказать лишнее слово из боязни плохо связать его с предыдущими, почувствовали в себе дар красноречия и началось углубление и расширение революции по всем направлениям»[31].
Мы еще не раз будем возвращаться к событиям февраля – марта семнадцатого. Сейчас скажем только, что за два месяца русская армия стремительно прошла путь от боеспособной до разлагающейся. Действительно, все перевернулось сразу вверх дном. Хаос вылезал отовсюду. Снизу – в образе распоясанной черни, озлобленной солдатчины, анархической матросни. Сверху – в виде лавины декретов, постановлений, распоряжений и приказов Временного правительства, полных безудержной демагогии и горячечных нелепостей. Три мотива звучали в этих актах государственного безвластия: тотальная некомпетентность, безудержные амбиции, страх перед массами. Следствием этого страха стала так называемая демократизация армии, приведшая к созданию в войсках всевозможных выборных комитетов, проведению бесконечных митингов, на которых ничего не решалось, но зато с озлобленной легкостью отменялись любые приказы командования. Офицеров никто не слушал. Генералы ничем не управляли. За их прямыми, по военному расправленными спинами уже не было силы, не чувствовалась державная мощь. Гучков, военный министр Временного правительства, тщеславный дилетант, не доверял старым генералам, подозревал их всех в симпатиях к свергнутому царю и, во избежание заговора, выдавливал одного за другим с командных должностей. Понеслась беспорядочная кадровая чехарда. Николай Николаевич так и не смог вступить в должность Верховного главнокомандующего; назначенный Временным правительством вместо него бывший начальник штаба Верховного главнокомандующего (на тогдашнем военном жаргоне – наштаверх) Алексеев продержался семьдесят один день. Вслед за ним до конца года успели сменить друг друга пять Верховных…
К маю месяцу развал армии стал очевидным.
Брусилов:
«Офицер сразу сделался врагом в умах солдатских, ибо он требовал продолжения войны и представлял собой в глазах солдата тип барина в военной форме. <…> Офицер в это время представлял собой весьма жалкое зрелище, ибо он в этом водовороте всяких страстей очень плохо разбирался и не мог понять, что ему делать. Его на митингах забивал любой оратор, умевший языком болтать и прочитавший несколько брошюр социалистического содержания»[32].
Гиацинтов:
«Чем дальше я отъезжал от позиции, тем более и более поражался распущенности тыла. Встречающиеся солдаты все реже и реже отдавали честь. Подъезжая к Луцку, я встретил какую-то орду, не имеющую, кроме одежды, ничего общего с воинской частью. <…> По улицам Луцка бродило множество солдат самого гнусного вида. Почти никто из них не отдавал честь. <…> На вокзале вместо расторопного, чистого и хорошо одетого жандарма, всегда идеально знающего расписание поездов не только своей ветки, но и соседних с ней, увидел какое-то недоразумение в обмотках, именующееся милиционером, которое ни на один из вопросов не ответил. <…> Заплеванный семечками и загаженный Петроград, переполненный праздношатающимися солдатами и декольтированными матросами, превзошел самые мрачные ожидания»[33].
Попов:
«Волна людского лицемерия, злобы, низкой подлости, разнузданного хамства и прочих земных пороков захлестнула всю Россию. Грусть и отчаяние охватили меня. В эти дни я думал: „Наверное, найдется вождь, который кликнет клич и соберет вокруг себя все честное, сильное духом и мужественное и продиктует свое властное решение“. Я мысленно перебирал в уме имена всех наших генералов с большими именами – их было много, но все молчали, как заколдованные»[34].
Каледин тоже молчал. В вожди он не метил. Первое время как-то пытался примириться с творящимся вокруг него. Со всеми этими советами и комитетами, декретами и лозунгами, которых понять не мог, которые претили его душе – душе потомственного офицера. Он привык всю жизнь делать одно дело – военное. А они не давали ему делать это дело, разваливали порядок, без которого он не мыслил бытия. Компромисс не мог быть долгим.
Константин Оберучев, комиссар, направленный Временным правительством осуществлять «демократизацию» Киевского военного округа:
«Мы разговорились с ним (Калединым. – А. И.-Г.) о текущем моменте, и он не относился отрицательно к перевороту (Февральской революции. – А. И.-Г.). Но он не был доволен введением войсковых и иных комитетов и терпел их, как введенные правительственною властью организации. <…> Но уже то, что он не шел к ним навстречу, создало ему массу врагов среди чинов черновицкого гарнизона, и члены Исполнительного комитета черновицкого гарнизона в первое же свидание посвятили меня в свое недовольство генералом Калединым»[35].
Это могло закончиться только одним – уходом из армии. 29 апреля 1917 года, на тридцать восьмом году службы, генерал от кавалерии Каледин был отстранен от должности командующего 8-й армией и нового назначения не получил. Армию сдал присланному Временным правительством генералу Корнилову и, оказавшись не у дел, отправился на родину, на Дон. В Новочеркасске в это время шумел и митинговал Донской войсковой круг – детище демократизации. Там Каледин был принят с почетом, даже с восторгом. Тут и возникла, сразу во многих умах, мысль – избрать его войсковым атаманом. Кого, как не его – природного казака, прославленного Луцким прорывом, носящего высший воинский чин русской армии? Из всех казачьих генералов он был в тот момент самой значительной фигурой. К тому же его хорошо помнили в Новочеркасске. Его добросовестность, любовь к порядку, а главное, отсутствие политических амбиций – давали основание полагать, что он обеспечит области Войска Донского устойчивое положение посреди шатающейся России.
19 июня 1917 года впервые со времен Петра Великого Войсковой круг избрал главу Вольного Дона. Войсковым атаманом стал Алексей Максимович Каледин.
Последнее служение Каледина длилось 224 дня. Каждый из этих дней – шаг в пропасть.
Должность войскового атамана была скорее общественной, чем властной. Да, собственно, власти уже не было во всей стране. Повсюду росли всевозможные комитеты, кипели митинги; власть заместилась уговариванием. А за завесой бесконечной политической болтовни зрела гражданская война. Разрастались страшные трещины в основании общества; сквозь них то там, то сям прорывалась лава социальной ненависти. Армия уже не деградировала – она разваливалась; неповиновение солдат командирам стало повседневным явлением, расправы над офицерами совершались все чаще, и десятки тысяч дезертиров несли с фронта в тыл безжалостный дух и опыт безнаказанного убийства.
Войсковой атаман ясно понимал, что ничего не может сделать. Как тогда, в оскверненной убийством пленных галицийской хате. Только выйти уже некуда.
Ободряло только одно: всеобщий развал как будто не затронул донское казачество. Пока Дон оставался тихим, можно было на что-то надеяться.
В середине августа в Москве проходило Государственное совещание, созванное Временным правительством ради благой цели – объединения всех и всяческих общественных сил. В зале Большого театра собрались 2600 участников. От имени представителей всех двенадцати казачьих войск поручено выступать Каледину.
Из речи Каледина 14 августа 1917 года:
«Выслушав сообщение Временного правительства о тяжелом положении Русского государства, казачество… приветствует решимость Временного правительства освободиться, наконец, в деле государственного управления и строительства от давления партийных и классовых организаций, вместе с другими причинами приведшего страну на край гибели. <…>
Служа верой и правдой новому строю, кровью своей запечатлев преданность порядку, спасению родины и армии, с полным презрением отбрасывая провокационные наветы, обвинения в реакции и контр-революции, казачество заявляет, что в минуты смертельной опасности для родины, когда многие войсковые части, покрыв себя позором, забыли о России, оно не сойдет со своего исторического пути служения родине в с оружием в руках на полях битвы и внутри в борьбе с изменой и предательством. <…>
В глубоком убеждении, что в дни смертельной опасности для существования родины все должно быть принесено в жертву, казачество полагает, что сохранение родины, прежде всего, требует доведения войны до победного конца в полном единении с нашими союзниками. <…>
Армия должна быть вне политики. Полное запрещение митингов и собраний с их партийными борьбой и распрями.
Все советы и комитеты должны быть упразднены, как в армии, так и в тылу, кроме полковых, ротных, сотенных и батарейных, при строгом ограничении их прав и обязанностей областью хозяйственных распорядков. <…>
Дисциплина в армии должна быть поднята и укреплена самыми решительными мерами. <…>
Россия должна быть единой. Всяким сепаратным стремлениям должен быть поставлен предел в самом зародыше. <…>
Время слов прошло. Терпение народа истощается – нужно делать великое дело спасения родины»[36].
Речь не особенно впечатляющая. Дежурные заверения в почтении к Временному правительству, клятвы верности родине и революции (как будто полгода назад не клялись точно так же в верности государю). Опасливые оговорки в самых важных местах: «все советы должны быть упразднены… кроме полковых, таких, сяких и прочих…» Прочитанная по бумажке ровным, глуховато-монотонным голосом, заурядная по форме и компромиссная по содержанию, эта речь не должна была бы произвести впечатления… Однако произвела. Бурные аплодисменты справа, яростное негодование слева. Реакция зала говорит о том, что люди, даже эти, избранные, не были в состоянии воспринимать слова, а ждали только лозунгов, под которыми, как под яркими знаменами, можно было бы броситься друг на друга.
Гражданская война уже началась – в душах людей. Возможно, об этом думал атаман Каледин, возвращаясь из Москвы в Новочеркасск. Государственное совещание завершилось явным провалом. Единства не было. Ничего не было. Из кратких разговоров в Москве с главковерхом Корниловым, с другими генералами Каледин вынес уверенность в том, что готовится новая неприятность, новый удар по рушащемуся порядку. Какая-то масштабная политическая интрига, в которую его не посвящали, на которую, однако, многозначительно намекали.
Через десять дней произошли события, официально объявленные Корниловским мятежом. События странные, парадоксальные, путаные и трагические (речь о них впереди). Из Новочеркасска происходящее было видно плохо. Генералы, арестованные 1 сентября по приказу Керенского, как и осуществлявший арест генерал Алексеев, были хорошо знакомы Каледину. Имя Каледина было упомянуто Корниловым в показаниях, данных им Чрезвычайной следственной комиссии, как имя возможного военного диктатора. Это означало: конфликт с Временным правительством неминуем. Назначение Керенского главковерхом могло вызвать у Каледина только чувство брезгливого отвращения к штатскому болтуну, напялившему на себя какой-то полунаполеоновский френч. Но когда 25 октября из Петрограда пришла отчаянная телеграмма от министра юстиции Малянтовича о вооруженном захвате Советами власти в столице, атаман и его окружение незамедлительно выступили в поддержку Временного правительства. Уже на следующий день Каледин объявил, что вся полнота власти в области Войска Донского переходит к нему и возглавляемому им Войсковому правительству. Переворот в Петрограде он назвал преступным и недопустимым. Ввел на Дону военное положение. Запретил деятельность Советов.
Теперь уже каждый день телеграф приносил Каледину новые мучительные известия. Керенский разбит и бежал. Казачий генерал Краснов под Петроградом арестован казаками, правда тут же и отпущен. В Могилеве мятеж; убит исполняющий обязанности главковерха генерал Духонин. Большевики заключили с немцами перемирие. Корнилов и арестованные вместе с ним генералы бежали из Быхова и из Бердичева из-под стражи. Вскоре они один за другим стали появляться в Новочеркасске. Сюда же массами устремились офицеры, спасающиеся от репрессий красных и ненависти солдат. Каледина это не радовало, скорее пугало. События неслись уже с такой скоростью и по такому руслу, что шансов уцелеть в их потоке становилось все меньше. Бывший главковерх Алексеев и быховско-бердичевские беглецы – Корнилов, Деникин, Романовский – занялись формированием своих войск. Это был удар по нему, Каледину. Многие офицеры, казаки, добровольцы, на которых он мог рассчитывать, записывались в армию Алексеева и Корнилова. Впрочем, и в этом деле царил такой же ужасающий хаос, как и во всем остальном. В Донскую армию, как и в Алексеевскую, записывались тысячи, а когда надо было выступать – собирались едва лишь десятки. Рабочие в городах были откровенно за большевиков; крестьяне по большей части тоже; огромная масса казаков держалась выжидательно, но защищать Войсковое правительство с оружием в руках не собиралась.
И всюду, всюду, всюду – злоба и кровь. Миллионноголовое бесформенное чудище уже хозяйничало везде, наползало со всех сторон.
Запретить Советы оказалось легче, чем уничтожить. В конце ноября в Ростове-на-Дону большевики и анархисты восстановили Совет и захватили власть при поддержке солдат и при заинтересованном нейтралитете казаков. Верные части, отправленные Калединым, Корниловым и Алексеевым в Ростов, выбили оттуда большевиков и анархистов. Но великое бедствие стало свершившимся фактом: Гражданская война на Дону началась.
Как и опасался Каледин, формирование Алексеевской (или, как ее стали называть, Добровольческой) армии дало петроградскому правительству большевиков и левых эсеров повод для военного вторжения на Дон. 6 декабря было опубликовано обращение Совета народных комиссаров: «В то время, как представители рабочих, солдатских и крестьянских депутатов ведут переговоры, чтобы обеспечить стране мир, враги народа – помещики и банкиры с их союзниками генералами – предприняли последнюю попытку сорвать дело мира и вырвать власть из рук Советов и землю из рук крестьян и заставить солдат, матросов и казаков истекать кровью за барыши русских и союзных империалистов. Каледин на Дону и Дутов на Урале подняли знамя восстания… Совет народных комиссаров распорядился двинуть необходимые войска против врагов народа. Контрреволюционное восстание будет подавлено. Виновники понесут кару, отвечающую тяжести их преступления»[37].
Вооруженные формирования, именуемые красными, более похожие на банды, чем на войсковые части, предводительствуемые какими-то неведомыми личностями – на взгляд Каледина, крикунами и убийцами, – двинулись со стороны Воронежа и Харькова на Ростов и Новочеркасск. Командовать этим полуанархическим «фронтом» был прислан из Петрограда большевик Антонов, по документам Владимир Овсеенко (тот самый, выпускник родного Воронежского кадетского корпуса). В ответ на это в Новочеркасске 10 декабря был образован Донской гражданский совет во главе с тремя генералами: Алексеевым, Корниловым, Калединым. Но войск у триумвирата было ничтожно мало. Против красных действовали отряды добровольцев-партизан, которыми управлял не Каледин, не Войсковое правительство и не Гражданский совет, а самочинные предводители, удальцы-головорезы вроде есаула Чернецова. Про этого Чернецова, совершившего несколько удачных рейдов по тылам красных, тут же пошло гулять что-то такое в стихах: «Но проснулся донской Степан Разин, сын степей есаул Чернецов». Не Каледин, законно избранный войсковой атаман, был хозяином Новочеркасска, а донской Степан Разин – пусть и с погонами на плечах.
И тут же, под боком, в казачьем миру, вдруг появились свои большевики, стали расти свои Советы. 10 января в станице Каменской на Съезде фронтового казачества был образован Донревком – красное правительство Дона. Удальцу Чернецову удалось выбить советских из Каменской и разбить один за другим несколько красных отрядов. Но 21 января в бою у станицы Глубокой Чернецов попал в плен и был зарублен председателем Донревкома Федором Подтелковым.
Красные продвигались к Новочеркасску. Части Добровольческой армии по приказу Корнилова были стянуты к Ростову. Новочеркасск оборонять было некому. Войск у правителя Дона не оставалось.
28 января в Новочеркасске было расклеено воззвание войскового атамана: «Время не ждет, опасность близка, и если вам, казаки, дорога самостоятельность нашего управления и устройства, если вы не желаете видеть Новочеркасск в руках пришлых банд большевиков и их казачьих приспешников-изменников, то спешите на поддержку Войсковому правительству посылкой казаков-добровольцев в отряды»[38]. Ощутимого результата не последовало.
29 января Каледин собрал в Атаманском дворце последнее заседание Войскового правительства.
Он выглядел неплохо: не подавленным, скорее бодрым. Обычным своим невыразительным, глуховатым голосом начал говорить. Ровно, с расстановкой, но без пауз.
– Господа, положение донских властей безнадежно. Почти все окружные станицы уже в руках противника. Отношение населения к нам не сочувственно, скорее враждебно. Боевых частей у нас нет. Для защиты Донской области на фронте имеется лишь сто сорок семь штыков. От генерала Корнилова поздно ночью я получил телеграмму. Добровольческая армия, ввиду безнадежности положения на Дону, покидает Ростов и уходит на Кубань.
Тут он сделал наконец паузу. Чуть подождав, так же бесстрастно завершил:
– Таким образом, господа, у нас больше нет сил и сопротивление бесполезно. Я не хочу лишних жертв, лишнего кровопролития, предлагаю сложить свои полномочия и передать власть городскому самоуправлению. Пусть оно само выйдет на переговоры с большевиками и предотвратит кровопролитие.
На том и порешили: собраться через два часа в здании городской управы и официально передать ей несуществующую власть. Разошлись. Каледин вызвал начальника походного штаба, продиктовал ему приказ: «Объявляю, что каждый партизан, каждый отдельный партизанский отряд может считать себя свободным и может поступать с собой по своему усмотрению… Я открываю фронт с единственной целью – не подвергать город всем ужасам гражданской войны». На часах было что-то около двух.
Каледин неспешно вышел из кабинета. Как будто без цели прошелся по комнатам второго этажа дворца. У двери комнаты, отведенной его брату, генерал-майору Василию Каледину, немного помедлил. Там никого не было, это он знал. Открыл дверь и тихо затворил ее за собой.
Через несколько минут из-за этой двери раздался выстрел.
Факт самоубийства генерала Каледина ни тогда, ни много десятилетий спустя не вызывал сомнений. Сразу после выстрела в комнату вбежали несколько человек: денщик, жена Мария Петровна Каледина, заместитель атамана Митрофан Богаевский, затем и другие. Обстановка вокруг умирающего атамана и положение его тела были подробно описаны; пуля найдена и сохранена Богаевским. Была обнаружена и предсмертная записка Каледина, адресованная генералу Алексееву. Казалось бы, сомнений в обстоятельствах гибели Каледина быть не может.
В наше время историк Вячеслав Родионов выдвинул альтернативную версию: Каледин был убит. Эта версия подробно им обосновывается в книге «Тихий Дон атамана Каледина». Действительно, в источниках, на которые опирается традиционная версия гибели войскового атамана, содержатся противоречия, неувязки, странности. Некоторые аргументы, приводимые Родионовым, заставляют задуматься. Впрочем, теперь, по прошествии почти столетия, установить истину с абсолютной достоверностью невозможно.
Во всяком случае, мотивы для самоубийства у Каледина были. Он оказался в трагическом тупике. По складу личности он не мог признать власть большевиков, и уж тем более – перейти в их лагерь. Нарождающаяся атаманщина явленная в образе Чернецова, ему претила. Для продолжения борьбы в рядах белых у него не было ни сил, ни желания. Он видел, что борьба эта бесперспективна, потому что люди, массы не сочувствуют ей. Многое говорит и о том, что еще в первый год мировой войны Каледин испытал глубокий душевный надлом, да и ранение не прошло без последствий для его здоровья.
Деваться ему было некуда. Спрятаться от пули негде.
И пуля нашла его.
В то самое время, когда Каледин в Атаманском дворце в Новочеркасске навсегда затворял за собой двери в братнину комнату, далеко на севере, в Москве, в тихом и чистом покое лечебницы Руднева в Серебряном переулке, Брусилова терзали неутолимые боли, телесные и душевные. Три месяца назад, во время октябрьских московских боев, когда большевизированные солдаты вели артиллерийский огонь с Воробьевых гор по зданию штаба Московского военного округа, снаряд ударил в дом № 4 по Мансуровскому переулку, где жил Брусилов. Осколками его ранило в ногу. Ранение оказалось нелегким, мучительным. И еще больнее сознание того, что все это нелепо, что удар получил от своих же солдатушек и что теперь он не победоносный вождь боевых дружин на поле брани, а отставной генерал, раненный революцией.
А ведь, пожалуй, Брусилов должен был благодарить этот шальной осколок: вполне возможно, что он продлил генеральскую жизнь лет на девять. Из-за ранения Брусилов полгода пролежал в постели – и потому не был унесен первыми, самыми враждебными вихрями Гражданской войны. Не был брошен на солдатские штыки, как Духонин; не погиб от случайного снаряда, как Корнилов; не был зарублен красноармейскими шашками, как Рузский; не вогнал себе пулю в сердце, как Каледин. А умер в преклонные семьдесят три года; до самой смерти состоял на военной службе – в Рабоче-крестьянской Красной армии – и был похоронен со всеми подобающими воинскими почестями.
Брусилов всегда стоял на служебной лестнице ступенью или двумя выше Каледина. Так пошло от самого рождения. Каледин – сын полковника; Брусилов – сын генерал-лейтенанта. Каледин – из казаков, лишь недавно выслуживших дворянство; Брусилов – из старинной дворянской семьи. Каледин учился в хорошей воронежской военной гимназии и в превосходных юнкерских училищах Петербурга. Брусилов окончил сверхпривилегированный Пажеский корпус. Статус пажа (как называли себя выпускники этого военно-придворного учебного заведения независимо от возраста и чина) означал прикосновенность к придворному обществу и широкий круг знакомств среди высшей военной элиты.
О семье, в которой родился и рос Каледин, мы ровным счетом ничего не знаем. Вокруг семейства Брусиловых заметен ореол романтических преданий. Красавица-полька Мария-Луиза Нестоемска страстно полюбила старого воина, ветерана Бородинского сражения Алексея Брусилова, который был старше ее почти на сорок лет, и вышла за него замуж вопреки воле родителей. От этого брака 19 августа 1853 года в Тифлисе родился сын, нареченный по отцу – Алексеем. Старый генерал умер, когда первенцу было шесть лет. Мать не перенесла смерти мужа, захворала от горя и вскоре тоже умерла. Троих сыновей взяли на воспитание родственники по материнской линии, Карл и Генриетта Гагемейстер – семейство родовитое, имевшее связи при дворе. Отсюда – путь в Пажеский корпус. В 1867 году юный Алексей Брусилов был принят в этот питомник военно-служилой аристократии, пять лет провел в бывшем Воронцовском дворце на Садовой улице в Петербурге, и в 1872 году был выпущен прапорщиком в 15-й Тверской драгунский полк.
Будучи старше Каледина на восемь лет, Брусилов успел в молодые годы понюхать настоящего боевого пороху. В 1877-м – начале 1878 года он вместе с полком участвовал в Русско-турецкой войне, в военных действиях на Закавказском театре, вокруг ключевой крепости Карс. Войну закончил в чине штабс-капитана. Скучная в мирное время служба на Кавказе его не манила. Через три года капитан Брусилов был направлен в Офицерскую кавалерийскую школу в Петербург, да там, на берегах Невы, и остался. Этот поворот в его биографии совершился в 1882 году – в то же самое время, когда сотник Каледин из имперской столицы отправился на службу в далекое Забайкалье. Еще через год Брусилов был зачислен ротмистром в гвардейский конно-гренадерский полк с оставлением его в составе Офицерской кавалерийской школы. Здесь прослужил 23 года, поднявшись от адъютанта до начальника школы, выслужил погоны полковника, генерал-майора.
В мирное время продвижение по службе – дело рутинное. Мерный подъем по ступеням. Когда в 1907 году Каледин получил долгожданные две генерал-майорские звездочки, Брусилов уже несколько месяцев носил свеженькие три звездочки генерал-лейтенанта. Когда в 1910 году Алексей Максимович принял бригаду, Алексей Алексеевич, прокомандовав три года блестящей 2-й гвардейской кавалерийской дивизией, уже поднялся до командира корпуса. Когда Алексей Максимович дослужился до генерал-лейтенанта, Алексей Алексеевич год как пребывал в чине генерала от кавалерии. В одном паж уступал казаку – в военном образовании. В Академии он, в отличие от Каледина, не обучался и к Генеральному штабу причислен не был.
Всякая государственная служебная система полна внутренних антагонизмов. Армейские не любят гвардейских, милиционеры – прокуроров, полицейские – жандармов, строевые – штабных. В дореволюционной русской армии существовал известный антагонизм между офицерами Генерального штаба и прочими армейскими строевыми. Поясним: быть офицером Генерального штаба вовсе не значило служить именно в нем. Это звание присваивалось тем офицерам, которые окончили Николаевскую академию Генерального штаба по первому и второму разрядам. Офицеры Генштаба склонны были свысока посматривать на обыкновенных строевых сослуживцев, считая их неучами. Строевые недолюбливали генштабовских как карьеристов и всезнаек.
Сам Брусилов впоследствии писал об офицерах Генерального штаба: «…В их среде находился некоторый, к счастью небольшой, процент людей ограниченных, даже тупых, но с большим самомнением. Впрочем, самомнением страдала значительная часть чинов этого корпуса, в особенности молодежь, которая льстила себя убеждением, что достаточно окончить 2,5-гoдичнoe обучение в академии, чтобы сделаться светилом военного дела, и считала, что только из их среды могут выходить хорошие полководцы. <…> Они не задерживались ни на каком месте – ни на штабном, ни на строевом, а потому трудно было им входить основательно в круг своих обязанностей и приносить ту пользу, которую они могли и должны были принести. Такое перелетание с места на место также озлобляло армию, которая называла их белою костью, а себя – черною»[39].
Можно себе представить, что подумали друг о друге генералы Брусилов и Каледин, когда встретились в Виннице, в штабе XII корпуса, в августе 1913 года, почти ровно за год до начала войны. В глазах Каледина Брусилов был баловень счастья, гвардейский франт со связями, да притом крикун-кавалерист, берейтор, без систематического военного образования. Брусилов видел в Каледине ученого штабного делопроизводителя с карьерными замашками генштабиста.
Надо сказать, что по свойствам характеров и чертам внешности они являли собой полярные противоположности. Рядом с массивной, плотной фигурой Каледина особенно бросалась в глаза молодцеватая подтянутость, худощавая легкость, подвижность Брусилова. На фоне хмурой задумчивости Каледина ярко блистала светская живость, стремительность мысли Брусилова. И поток его остроумных речей особенно выразительно звучал в обществе калединской молчаливости. Не потому ли они прошли Первую мировую войну в неразрывной сцепке, что являли собой взаимодополняющее противоречие?
Вот характеристики, которые дают Брусилову генералы и офицеры Первой мировой, воевавшие (все, кроме одного – Оберучева) под его командованием. Учтем, правда, что военные относятся друг к другу с искренней симпатией тем реже, чем выше они в чинах.
Андрей Евгеньевич Снесарев, в 1916 году генерал-майор, начальник штаба 12-й пехотной дивизии (запись во фронтовом дневнике):
«Брусилов – человек настроения. Во время отступления бежал и нельзя было остановить, впал в панику (Трусилов), только и было по телеграфу делов, что с ним. Хотели офицеры Генерального штаба его арестовать и приволочить во фронт. Пролом весною 1916 г[ода] не его мысль, это сделали 7-я и особенно 9-я армии, предоставленные совершенно своим силам. Брусилов ломил на Ковель, уложил гвардию, видя успех на юге, не поддержал его, продолжая долбить все туда же, пока не стали у него отбирать корпуса. „Даже ребенку было ясно, где главный удар… дай он туда два корпуса, и теперь мы были бы на Сане; обход слева заставил бы немцев бросить и Львов, и Ковель, и прочее“. Человек настроения… один день вопит, что не может держаться, а на другой день: „Всеми силами перехожу в наступление; предо мною что? Ведь сволочь!“»[40]
Генерал-лейтенант В. И. Соколов, комдив-14:
«…Смелого полета стратегической мысли, дара быстро схватывать стратегическую обстановку, сделать дальнейшую оценку и на основании этого создавать смелые и целесообразные решения – у Брусилова не было, но тогда что же сделало его в минувшую войну почти народным героем? По моему скромному разумению, прежде всего военное счастье, которое в высокой мере сопровождало Брусилова. <…> Счастье, несомненное счастье сопровождало Брусилова. Счастье в том, что он начал войну с исключительно доблестным VIII корпусом[41], продолжал с такой же доблестной 8-й армией; счастье в том, что ему пришлось выполнить грандиозную демонстрацию у Луцка, где в неодолимых, по-видимому, укрепленных линиях стояли против него австрийцы, а не германцы; Луцкий успех настолько превзошел все ожидания, что, к несчастью нашему, вылился в так называемое Брусиловское наступление… <…>
Уменья, по крайней мере личного, у Брусилова не было. Вместо него было упрямство… <…>
Обладая в то же время природным умом и выработанными продолжительной службой в гвардейской кавалерии тактом, Брусилов знал, что обаяние начальника в гораздо большей степени поддерживается начальнической щедростью, т. е. поощрением достойных, нежели строгостью, одинаково страшной для достойных и недостойных. Поэтому Брусилов щедрою рукой осыпал наградами отличившиеся части, особенно во время личных посещений… В войсках знали, что приезд Брусилова сопряжен с широкой раздачей наград и поэтому ждали его с радостью и без страха; создавалась таким путем популярность в войсках»[42].
Евгений Эдуардович Месснер, к концу Первой мировой войны штабс-капитан, участник Брусиловского прорыва:
«В 8-й армии не любили Брусилова. В 1914 г. он гнал свои корпуса, дивизии вперед, не жалея сил людей, не разрешая дневок для отдыха, не считаясь с тем, что обозы отстали и солдаты остаются без хлеба и мяса. А в 1915 г., когда войска его армии были уже у предела сил человеческих и на грани полного их уничтожения мощной артиллерией Макензена, он отдает приказ: „Пора остановить и посчитаться с врагом как следует и совершенно забыть жалкие слова о превосходстве врага и об отсутствии у нас снарядов“. Мы вознегодовали: „посчитаться как следует“ было равносильно требованию самоубийства армии – настолько силы врага превосходили наши; а отсутствие артиллерийских снарядов – это не „жалкие слова“, а трагично-жалкий факт, и отрицать его значило издеваться над войсками, принужденными без выстрела – нечем было стрелять пехоте и артиллерии – ждать под барабанным вражеским огнем момента, когда можно будет этому врагу показать, что значит „русский штык удалый“.
Такие приказы не способствовали популярности Брусилова в войсках, но они были полезны для самого Брусилова: в высших сферах восхищались полководческой волей этого генерала и выдвинули его в главнокомандующие и (при Временном правительстве) в Верховного. <…>
Будучи офицером волевым и энергичным, Брусилов умел заражать своей энергией подчиненных – свойство очень ценное в полководце… В оперативной логике он не был силен, потому что, ставши генералом от кавалерии, остался корнетом, которому дорог лозунг конницы: „Скачи, лети стрелой“. <…>
Заканчивая на этом словесный портрет Брусилова, видим, что он как человек – неуживчив, обидчив, мнителен к интригам, не объективен. Как офицер был карьеристом, позером, плохим товарищем (заслуги – себе, промахи – другим), обладал твердой волей для отстаивания своего мнения и для жертвования в бою солдатами… Но он был любимцем военного счастья, а потому был победителем»[43].
Константин Оберучев:
«Бодрый, седой, суховатый на вид старик, небольшого роста и с полным энергии лицом, генерал Брусилов производил двойственное впечатление. Деланая суровость во взгляде и неподдельная доброта, сквозившая в то же время в его глазах, ясно показывали, что напрасно он старается напустить на себя суровость. Он не может скрыть доброты, таящейся в тайниках его души»[44].
От себя добавим: возможно, Брусилов и был любимцем счастья, но оно, счастье, обошло его в одном отношении. Первая жена Брусилова рано умерла, оставив ему единственного сына, тоже названного Алексеем. И этот единственный сын погиб при не вполне ясных обстоятельствах во время Гражданской войны. Тут судьбы Брусилова и Каледина сходятся.
Нет, конечно, «Трусиловым» он не был. Но полководческой славы хотел. Отчасти этим объясняется быстрота отступления, о которой говорит Снесарев[45]: во что бы то ни стало увести свои войска от разгрома, даже если это идет во вред фронту в целом. Ведь о командире, который потеряет войска, прикрывая отход соседей стойкой обороной, будут говорить: «Он был разбит». А о том, который вовремя удерет, скажут: «Он отступил, но сохранил свои силы». Эта же усердная забота о своей полководческой репутации была, очевидно, одной из главных причин упрямого долбления в одну точку, невзирая на колоссальные потери, на что намекает Соколов, когда говорит о «несчастном» брусиловском наступлении. Тут было стремление любой ценой добиться впечатляющей победы, а знания, как это сделать, – не было.
К началу Первой мировой войны все действующие генералы русской армии разделялись на две группы. Первая – те, которые имели опыт командования крупными войсковыми соединениями в Русско-японской войне; то есть имели только опыт поражений. Вторая – те, кто вовсе не имел полководческого опыта; многие из них, как Брусилов, давным-давно, будучи младшими офицерами, участвовали в Русско-турецкой войне, а иные, как Каледин, вообще не бывали никогда в настоящем бою. Первые, битые, склонны были проявлять чрезмерную осторожность, действовали пассивно, зачастую боялись развивать даже явно наметившийся успех. Представители второй группы были амбициозны, жаждали славы, но совершенно не представляли себе условий той войны, в которую вступила Россия в августе 1914 года. Более того, не имея сплошь и рядом достаточной военно-теоретической подготовки, не смогли научиться искусству ведения современной войны и на собственном двухлетнем опыте. На поле боя они вынуждены были добиваться своих целей не умением, а числом. Огромные потери при этом неизбежны.
Брусилов был ярким представителем второй группы.
Славы он хотел. И ведь в начале войны ему улыбнулось военное счастье. После блестяще выигранного сражения на Гнилой Липе его 8-я армия устремилась на Львов. Правда, впечатляющий успех, высоко вознесенный газетчиками, был достигнут благодаря двукратному превосходству в силах. Австро-Венгерское командование допустило ошибку: не разглядело сосредоточение крупной группировки русских войск в районе Проскурова. Свои главные силы австрийцы бросили на Томашов[46], против 5-й армии генерала Плеве, с целью прорыва на Люблин и Холм. На Гнилой Липе удару двух наиболее мощных армий Юго-Западного фронта – 3-й и 8-й – противостоял сравнительно малосильный заслон австро-венгерских войск.
Со взятием Львова вообще приключилась история забавная и поучительная.
Командование Юго-Западного фронта и командующие армиями были уверены, что брать Львов придется с тяжелого боя, что на подступах к нему противник будет драться отчаянно на хорошо подготовленных позициях. Эта уверенность основывалась на преувеличенном представлении о численности и силе австро-венгерских войск в районе Львова. Между тем австро-венгерское командование, убедившись в том, что со стороны Проскурова в наступление перешли главные силы Юго-Западного фронта, испугалось за судьбу своей ударной группировки на Люблинско-Холмском направлении, оказавшейся под угрозой флангового обхода. И приняло решение: отойти правым флангом за Днестр и Верещицу, Львов же оставить без боя.
Об этом, естественно, не знали командующие армиями, наступавшими на Львов, – Брусилов и Рузский. И тому и другому ужасно хотелось овладеть городом. Вот это была бы победа! Не какая-то там Гнилая Липа – древний Львов, столица Галиции! Обстановка подстегивала: на фоне далеко не блестящего начала войны, тяжелого положения Плеве под Томашовом и уже явно совершившегося разгрома 2-й армии Самсонова в Восточной Пруссии взятие Львова выглядело бы особенно эффектно. Награда за такую победу обещала быть великой. И оба командарма, буквально отталкивая друг друга локтями, устремились на Львов. Тщетно командующий Юго-Западным фронтом (на тогдашнем военном жаргоне – главкоюз) Иванов посылал Рузскому директивы, перенаправлявшие 3-ю армию к северу, на поддержку Плеве. Дипломат и хитрец Рузский под разными предлогами не выполнил установки главкоюза. Его войска подошли к Львову с востока в то же самое время, когда правофланговые части 8-й армии приближались к городу с юга.
Между тем 20 августа два полковника штаба 8-й армии, Гейден и Яхонтов, проезжая в автомобиле по дороге в направлении расположения 3-й армии, встретили толпу мирных жителей, беженцев, бредущих со своим скарбом со стороны Львова, подальше от боевых действий. Полковники поинтересовались, как обстановка в городе и много ли там австрийских войск. И получили в ответ:
– Нема никого, вси утиклы.
Эти «разведданные» к вечеру подтвердила авиаразведка: массы австрийских войск двигаются к востоку от Львова. Город пуст. 22 августа он был занят частями 3-й армии. Рузский опередил-таки Брусилова.
В приказе Верховного главнокомандующего честь взятия Львова была полностью приписана 3-й армии. Армии Брусилова в утешение была объявлена благодарность за взятие маленького Галича. Рузский, имевший уже боевые награды за Русско-японскую войну, получил Георгия сразу 4-й и 3-й степени и тут же прошел на повышение: был назначен главнокомандующим Северо-Западным фронтом вместо Жилинского, уволенного за восточно-прусский разгром. Брусилов, боевых наград не имевший, должен был довольствоваться Георгием 4-й степени.
Эту несправедливость он не забудет до самой смерти. В воспоминаниях, написанных в 1924 году, он признается, что не может вспомнить о ней без душевной боли. Там же он будет утверждать, что первыми во Львов ворвались доблестные кавалеристы 12-й кавдивизии Каледина – то есть все-таки бойцы 8-й армии. Даже если это и так (доказательств, впрочем, нет), никакого военного значения этот факт не имеет. Удар двух армий пришелся по пустому месту.
История эта раскрывает три тайных порока русской армии в Первой мировой войне. Указывает на чрезвычайную слабость разведывательной работы: перемещения огромных масс войск противника разведка замечает тогда, когда о них уже знают мирные жители по эту сторону линии фронта. И ярко рисует обстановку ревнивого генеральского соперничества: ради почестей и славы приносится в жертву военная целесообразность. И являет пример отсутствия единого и твердого руководства со стороны высшего командования – фронта и Ставки, указания которых можно попросту игнорировать. На протяжении всей войны эти болезни русской армии так и не были излечены.
После неудачной попытки контрудара на Львов и шестидневного сражения у Городка на реке Верещице надломленные австро-венгерские войска начали откатываться на запад, к Висле и карпатским перевалам. В тылу русских армий, в кольце окружения осталась первоклассная австро-венгерская крепость Перемышль[47] – то ли досадная заноза, то ли вожделенный приз наиболее удачливому из военачальников. В том, что Перемышль будет скоро взят, никто не сомневался. Но первая попытка овладения им потерпела неудачу. Потом блокаду крепости пришлось временно снять из-за варшавско-ивангородского наступления австрийских и германских войск. Наступление завершилось откатом на исходные позиции, и в октябре русские снова приступили к осаде Перемышля. И вот военная фортуна еще раз поворачивается лицом к Брусилову: он назначен командующим группой из трех армий в составе Юго-Западного фронта с оставлением в должности командарма-8. Задача группировки: силами одной армии осуществлять блокаду и взятие Перемышля, в то время как две другие будут обеспечивать эту операцию со стороны австро-венгерского фронта. Казалось, лавры победителя Брусилову обеспечены. И Перемышль – крепость ключевая, название громкозвучное – достойная компенсации за Львов.
Капризно военное счастье! Взять Перемышль не удалось ни в октябре, ни в ноябре. В декабре с немалым трудом пришлось отражать новый австро-германский натиск. Резиновая война затягивалась. Слава не давалась в руки. Потери росли.
Вот это было самое страшное – потери. И даже не количество убитых, раненых, пропавших без вести тревожило командующего 8-й армией. На его глазах армия перерождалась качественно. В осенних и зимних боях был выбит офицерский состав. Новые поручики и прапорщики, приходившие на место прежних, в глазах гвардейца-конногренадера и офицерами-то не были. Вчерашние унтера или, того хуже, штатские, наскоро пропущенные через ускоренные офицерские курсы, – что они знали, что умели, на кого были похожи? Ничего общего со старым, довоенным офицерством. Собственно, они ничем не отличались от солдат, разве что большей исполнительностью, ретивостью, что, конечно, можно им поставить в заслугу. Но зато и солдатики из прибывающих команд представляли собой уже совсем не тот материал, что в начале войны. Среди них все больше было слабосильных, нездоровых, таких, каких еще год назад никто бы и близко не подпустил к военной службе. Обучены они были из рук вон плохо, порой вовсе необучены. Чем только занимаются там, в учебных командах в тылу? Бывает, что половина солдат в прибывшей команде не умеет заряжать винтовку. Что еще хуже, эти новобранцы совсем не хотят воевать, и многие из них на все готовы, только бы уклониться от боя.
Тревожно, тревожно все это.
Тревожился не один Брусилов. К весне 1915 года беспокойная неуверенность в будущем охватывала души все большего количества генералов. А они еще не знали главного. И хорошо, что не знали. А то многим бы не осталось другого выхода, как пустить себе пулю в сердце или в висок.
Военные запасы России близки к исчерпанию.
На тыловых складах нет снарядов, винтовок, патронов, шинелей, сапог. Неизвестно, когда будет налажено производство всей этой продукции. На действующую армию скоро будет накинута страшная удавка – кризис снабжения. Катастрофа неизбежна.
Перемышль все-таки сдался – 9 марта. Брусилов провел государя императора Николая Александровича по фортам захваченной крепости. И вскоре был пожалован генерал-адъютантским чином (чин высший, но двусмысленный: то ли генерал, то ли адъютант…). Но этот успех уже не грел сердце. Чувствовалось, что впереди большие испытания.
Удар был нанесен противником в двадцатых числах апреля. Брусилову повезло: его армия оказалась в стороне от главных и грозных событий. Под германский каток попала 3-я армия, та самая, которая отобрала у Брусилова славу львовского взятия; ею после Рузского командовал болгарин Радко-Дмитриев. Но прорыв немцев и австрийцев в районе Горлице поставил под угрозу окружения части 8-й армии, сильно растянутые вдоль Карпат. Пришлось отступать. К началу мая отошли за реку Сан; в мае был сдан Перемышль, в июне – Львов. Потом, из-за поражений на Северо-Западном фронте, пришлось отступать еще дальше на восток, за Буг, за Стырь. К осени положение на всем Юго-Западном фронте стабилизировалось.
Отступление было бедственным. Армии оказались безоружны. У артиллерии не было снарядов. Потери росли изо дня в день с пугающей быстротой. Впрочем, все это многократно описано в книгах и показано в фильмах. Но у эпопеи «великого отступления» была еще одна сюжетная линия – кадровая. Тяжелые поражения привели к перестановкам в высшем командовании. Великий князь Николай Николаевич был отправлен наместником на Кавказ, смещен его начальник штаба (наштаверх) Янушкевич – и тоже услан на Кавказ, подальше от реальных дел. Отстранение главкоюза Иванова было только вопросом времени – особенно после провальной неудачи наступления Юго-Западного фронта в конце 1915 года. Образован был новый, Северный фронт, – стало быть, появились новые высокие посты. На лестнице чинов и должностей пошло активное движение.
17 марта 1916 года Верховный главнокомандующий государь император Николай Александрович подписал приказ о назначении генерал-адъютанта Брусилова главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта.
Все-таки отчасти правы те, кто называет Брусилова любимцем счастья. Он стал во главе фронта не потому, что одержал выдающиеся победы, а лишь потому, что избежал крупных поражений. Избежал же он их не благодаря талантливым стратегическим решениям, а в силу того, что его армия оказалась в стороне от направления главного удара неприятеля. Конечно, как командующий армией он оказался на высоте; неплохо себя проявил в трудных условиях военных действий в Карпатах и во время боевого отступления под натиском прекрасно вооруженного и оснащенного противника. Но все же главный мотив его назначения сводился к тому, что его имя не связывалось в сознании офицеров и солдат с провалами и потерями, не наводило уныния, не создавало ощущения безнадежности. И внешний облик, и манера поведения выгодно отличали его от других больших военных начальников русской армии. В особенности же от предместника, Николая Иудовича Иванова, топорного, медлительного, обросшего дремучей бородой, – генерала с внешностью отставного унтера. Брусилов, легкий, подвижный, быстрый, щеголяющий прекрасной гвардейско-кавалерийской выправкой, пробуждал бодрость в людях. Такой главнокомандующий был нужен изверившимся в успехе войскам.
Счастье Брусилова проявилось и в том, что командование фронтом он принял после длительного, почти трехмесячного перерыва в боевых действиях. Состояние войск в марте 1916 года было несравненно лучше, чем в декабре 1915-го. Они отдохнули, они получили обученное пополнение. Они наконец-то были вооружены: винтовки, пулеметы, снаряды подвозились вовремя и лежали в запасе на складах. Ощущался недостаток в артиллерии, особенно тяжелой, но все же не в такой катастрофической степени, как полгода назад. Наладилась и работа тыла. К войне стали привыкать, на войну научились работать. В общем, Брусилов принял фронт, состоящий из боеспособных частей и соединений, во главе которых стояли офицеры и генералы, поднабравшиеся боевого опыта. Конечно, это была не прежняя, довоенная, вышколенная армия. Старые кадровики глядели на нее с опасливым недовольством: ополчение, вооруженный народ, милиционная армия. Но зато она была куда лучше приспособлена к современной войне. Многому научилась эта армия, многое знала такого, о чем и не слыхивали два года назад. Как зарываться в землю, как проделывать проходы в колючей проволоке, как надевать противогазную маску, как вести огонь по вражеским аэропланам…
1 апреля в Ставке Верховного главнокомандующего в Могилеве состоялось совещание. Кроме самого Верховного, на нем присутствовали: генерал-инспектор артиллерии великий князь Сергей Михайлович, наштаверх Алексеев, генерал-квартирмейстер штаба Ставки Пустовойтенко, военный министр Шуваев, генерал-адъютант Иванов, главкосев Куропаткин, главкозап Эверт, главкоюз Брусилов, начальники штабов фронтов Сиверс, Квецинский, Клембовский. На совещании обсуждался общий план военных действий на германском и австро-венгерском фронте летом 1916 года.
Странное это было совещание.
Главная установка не подлежала сомнению: необходимо наступление, и наступление могучее. Все присутствующие знали, кожей чувствовали: войну надо заканчивать как можно скорее. Страна не может нести далее великие жертвы. Страна не понимает, зачем эти жертвы нужны. Народ страны прошел военную школу и держит в руках семь миллионов винтовок. Эти винтовки могут повернуться против них, командующих, если они не завершат войну победой. Лучше всех это знал Верховный главнокомандующий. Поэтому сомнений быть не могло: летнее наступление должно обеспечить коренной перелом в ходе всей войны.
Докладывал Алексеев.
– Итак, учитывая степень готовности наших союзников и имея в виду упредить противника, надо готовиться к наступлению в конце мая, – журчала негромкая, бесстрастно-убедительная речь начальника штаба Верховного главнокомандующего. – Наиболее целесообразным, учитывая пожелания союзников, следует признать нанесение главного удара силами Западного фронта одновременно со стороны Молодечно и Двинска на Ошмяны и Вильну… Северный фронт должен содействовать наступлению Западного фронта, нанося удар четырьмя корпусами из района Риги на Митаву… Юго-Западный фронт готовится к производству атаки из района Ровно ко времени развития наступления севернее Полесья…
Все знали, что содержание доклада еще накануне согласовано с государем и, стало быть, решение предопределено. После Алексеева должны были высказаться главкомы по старшинству чинопроизводства. Первым поднялся с места генерал-адъютант Куропаткин.
– Ваше императорское величество! Господа! – произнес он хорошо поставленным, приятно-вкрадчивым голосом. – По моему мнению, сил Северного фронта к исходу мая будет недостаточно для осуществления той задачи, которую предлагает нам господин начальник штаба вашего императорского величества. Имеющимися в моем распоряжении силами и средствами прорвать фронт немецких войск совершенно невероятно, ибо их укрепленные полосы настолько развиты и сильно укреплены, что трудно предположить удачу…
Проговорив еще несколько минут о причинах провала декабрьского наступления на Нарочи, Куропаткин умолк и с верноподданным вниманием направил взор на погоны Верховного.
– Благодарю вас, Алексей Николаевич, – произнес государь. По его лицу невозможно было понять, удивлен ли он речью Куропаткина, доволен ли, сердится ли. Кивком он разрешил генерал-адъютанту сесть. – Что скажет нам главнокомандующий Западным фронтом?
Встал мрачный темнобородый Эверт:
– Ваше императорское величество! Господа…
Речь главкозапа сводилась к тому, что выполнить любой приказ он готов, но фронт наступать не может. Упомянул он о самом больном:
– Неудача произведет тяжелое впечатление не только на войска, но и на всю Россию… При недостаточном материальном обеспечении войск задача, на них возложенная, не может быть выполнена…
Император вновь кивнул. Эверт поклонился и сел, угрюмо насупившись. Очередь дошла до Брусилова.
– Ваше императорское величество! – В волнении он как бы забыл обратиться к другим присутствующим. – По моему мнению, наступление не только необходимо, но имеет все шансы на успех. Войска вверенного вашим императорским величеством мне фронта к наступлению готовы.
Из воспоминаний Брусилова:
«Я заявил, что, несомненно, желательно иметь большее количество тяжелой артиллерии и тяжелых снарядов, необходимо также увеличить количество воздушных аппаратов, выключив устаревшие, износившиеся. Но и при настоящем положении дел в нашей армии я твердо убежден, мы можем наступать. Не берусь говорить о других фронтах, ибо их не знаю, но Юго-Западный фронт, по моему убеждению, не только может, но и должен наступать, и полагаю, что у нас есть все шансы для успеха, в котором я лично убежден. На этом основании я не вижу причин стоять мне на месте и смотреть, как мои товарищи будут драться. Я считаю, что недостаток, которым мы страдали до сих пор, заключается в том, что мы не наваливаемся на врага сразу всеми фронтами, дабы лишить противника возможности пользоваться выгодами действий по внутренним операционным линиям, и потому, будучи значительно слабее нас количеством войск, он, пользуясь своей развитой сетью железных дорог, перебрасывает свои войска в то или иное место по желанию. В результате всегда оказывается, что на участке, который атакуется, он в назначенное время всегда сильнее нас и в техническом, и в количественном отношении. Поэтому я настоятельно прошу разрешения и моим фронтом наступательно действовать одновременно с моими соседями; если бы, паче чаяния, я даже и не имел никакого успеха, то, по меньшей мере, не только задержал бы войска противника, но и привлек бы часть его резервов на себя и этим существенным образом облегчил бы задачу Эверта и Куропаткина»[48].
Выступление только что назначенного главкоюза произвело впечатление. Алексеев улыбался в усы; Куропаткин закивал головой; даже на мрачном лице Эверта появились пятна света. Только государь знал, что смелая атака Брусилова опиралась на заранее подготовленные позиции. Несколько дней назад, в Каменец-Подольске, при высочайшем посещении войск Юзфронта, Брусилов уже докладывал ему об этом же и этими же словами.
Государь прекрасно понимал их всех, понимал и Брусилова. Куропаткин не хочет рисковать: после несчастной Японской войны, после нелепого мукденского разгрома, он впервые получил высокую командную должность; удержаться на своем месте любой ценой – вот его главная задача. Эверт всегда шел вослед Куропаткину или кому-нибудь еще, когда Куропаткина не было поблизости; сам никогда ничем не командовал, ничего не решал и ответственности нести не хотел. А вот Брусилов – честолюбив. Ему нужна слава, а следовательно, победа в наступлении. Боевитый Брусилов – хороший противовес опытному интригану Куропаткину. Да, надо его поддержать.
Государь не кивнул, а слегка наклонил голову в сторону Брусилова и милостиво улыбнулся:
– Что ж, Алексей Алексеевич, я весьма рад слышать от вас слова о готовности фронта к наступлению, сказанные с такой уверенностью и с таким знанием дела. Господа! – добавил он, вставая. – Перерыв. Прошу к завтраку.
Решение было принято. Главный удар по-прежнему предполагался на Западном фронте, на Виленском направлении. Но начинать общее наступление должен был фронт Брусилова в первых числах июня. Удар этот планировался как отвлекающий. Однако все понимали: сила австро-венгерских войск, противостоящих Юзфронту, совсем не та, что у германцев. Шансов на успех у Брусилова куда больше, чем у Эверта.
Собственно говоря, у Эверта и у Куропаткина шансов на успех не было никаких по одной простой причине: ни тот ни другой не хотели наступать. Оба боялись поражения и не знали, что делать в случае успеха. Видя это, Верховный должен был бы немедленно отстранить их от командования, заменить другими, подобными Брусилову… Но он, самодержец и хозяин земли Русской, не мог этого сделать, потому что зависел от многих людей, сообществ, традиций и взаимоотношений, был опутан множеством нитей, натянутых вокруг него как тонкая, почти невидимая, но прочнейшая паутина. Он зависел от союзных правительств, зарубежных финансовых кругов, от собственной родни, от министров, от этих вот генерал-адъютантов, которые так преданно, так умильно смотрят ему в лицо и которые за его спиной ведут свои хитроумные игры.
Высший генералитет русской армии представлял собой тесный и единый круг. Как бы ни ненавидели порой эти люди друг друга и как бы ни интриговали между собой, решительное вмешательство императора в их карьерные расчеты грозило сплочением их всех против него одного. А за этим в условиях войны следовала неминуемая гибель монархии. Николай II не был нерешительным человеком – он принужден был быть нерешительным. Он должен был выжидать, лавировать, терпеть, выказывать милость…
Характерен пример с увольнением генерала Иванова с поста главнокомандующего Юго-Западным фронтом. Наштаверх Алексеев в письме представителю русского командования во Франции Жилинскому так характеризовал деятельность главкоюза в декабре 1915 года: «Отсутствие, по-видимому, веры в операцию у ген. Иванова и его индифферентное отношение к разработке; много в сношениях хитрил, а в самый важный период подготовки менял начальника штаба; оттянул без нужды начало операции на четыре дня, утратив всякое подобие внезапности; не давал руководящих указаний для объединения работы армий, ограничиваясь писанием после совершившихся фактов критического обзора»[49]. Даже одного из этих пяти пунктов достаточно для того, чтобы отрешить военачальника от командования, а то, по условиям военного времени, и под суд отдать. Перед нами факт явного саботажа. Между тем Иванов оставался в должности главкоюза еще три месяца, а после отстранения, в виде особой милости, был назначен состоять при особе государя императора.
Но и эта почетная отставка насторожила высший генералитет и околоправительственные круги. Странные слухи стали распространяться по армии, по России. Сплетни о Распутине, слухи об изменниках в окружении царя, о придворных шпионах… Они не имеют под собой ни малейшего реального основания, но отравляют сознание миллионов людей в столице, в стране, а теперь уже и на фронте. Где источник этих слухов? Думские болтуны из Прогрессивного блока? Политический интриган Гучков, тесно связанный со многими чинами военного ведомства? Отставленные министры? Обиженные генералы из окружения великого князя Николая Николаевича? Или сам «дядя Николаша», уязвленный отправкой на Кавказ?
К лету 1916 года Николай II чувствовал, что окружен врагами со всех сторон. Он не был и не мог быть настоящим Верховным главнокомандующим, потому что не пользовался поддержкой генералов. Он проводил совещания в Ставке, он выслушивал мнения, противоречившие друг другу, зачастую продиктованные корыстью и амбициями, он скреплял своим словом компромиссные решения, которые потом не выполнялись, он нес всю ответственность за последствия этих решений… И ничего не мог изменить.
Войска Юго-Западного фронта начали усиленно готовиться к предстоящему наступлению. Личный состав неустанно копал траншеи, щели, ходы сообщения, готовил мостки и мешки с землей, учился преодолевать проволочные заграждения. Артиллеристы оборудовали позиции и наблюдательные пункты, пристреливались. Все виды разведки действовали и доставляли сведения в штабы. В штабах кипела работа днем и ночью…
Наступление Юзфронта было намечено на 10 мая; потом его отложили на начало июня; потом пришли известия о разгроме итальянцев австрийцами в Трентино; ради помощи Италии передвинули срок наступления на более раннее время, на две недели. Окончательное решение в виде директивы Ставки было дано 18 мая.
22 мая – началось.
Евгений Эдуардович Месснер:
«Артиллерийская подготовка атаки – 28 часов методической, прицельной стрельбы – была отлична: проволочные заграждения были сметены (не были в них, как приказано, сделаны проходы, просто они были уничтожены); все важные точки неприятельской позиции разрушены; окопы, убежища обвалены, батареи приведены к молчанию… Пошла работать пехота: первые ее волны накатились на передовой неприятельский окоп и заполнили его, выбивая, добивая уцелевших от канонады врагов; последующие волны, обогнав первые, кинулись вглубь атакуемой позиции…»[50]
Леонид Николаевич Белькович, в 1916 году генерал-лейтенант, командир XLI армейского корпуса:
«Переживания, которые испытывает человек во время боя, есть высшая степень душевных страданий человеческих. Все, что пришлось переживать раньше, – все беды, несчастья, печаль и слезы, пролитые человеком среди юдоли этого мира, покажутся ему такими ничтожными, мелочными в сравнении с тем, что ему приходится переживать вот здесь, в этом окопе, или в узкой щели, вырытой им параллели плацдарма, которая вот-вот может обвалиться от громоподобного взрыва тяжелого снаряда и похоронить его заживо под своей тяжестью… Все эти люди, набитые в окопах и параллелях, знают, что через час-другой, но им неизбежно придется выйти из этих закрытий и стать во весь рост перед противником, который устремит против них всю силу своего огня, и что под этим металлическим дождем придется преодолеть известное расстояние, и ожидание этого момента значительно более ведет к смятению душевному, нежели его переживание…»[51]
Месснер:
«Странное было это сражение и страшное. Только мгновеньями были видны с артиллерийских наблюдательных пунктов и с командных пунктов передвижения по земле наших атакующих частей. И это не потому, что их скрывали дым и пыль от тысяч артиллерийских разрывов, а потому, что значительная часть боя взводов, рот, батальонов, полков велась в земле, в траншеях, где смельчаки, пользуясь ручными гранатами, штыками, прикладами (при поддержке бомбометов и минометов), теснили врага шаг за шагом, зигзаг за зигзагом ходов сообщений»[52].
Главная особенность операции Юго-Западного фронта заключалась в том, что удары одновременно наносились не на одном или двух направлениях, а сразу на четырех. Самая мощная 8-я армия Каледина наступала на Луцк – Ковель; 11-я армия Сахарова на Зборов – Злочев; 9-я армия Лечицкого севернее Черновиц; 7-я армия Щербачева должна была ограничиться тактическим прорывом обороны противника в районе Язловец. С одной стороны, такой разброс сил сбивал противника с толку в определении направления главного удара и ограничивал его возможности маневрировать резервами. Но, с другой стороны, в этих условиях невозможно было создать мощные группировки, обеспечивающие не только прорыв обороны противника, но и быстрое продвижение вглубь его территории. Это было наступление, заранее обреченное на ограниченный успех.
На всем планировании летнего наступления русских войск лежала печать половинчатости, нерешительности и компромисса. Переносились сроки, менялись направления главных ударов, пересматривались стратегические цели. Вначале главный удар Западного фронта планировался в направлении Вильны, потом был перенесен на Барановичи. Время начала этого наступления (по замыслу Ставки – главного) откладывалось трижды. Впоследствии именно задержке с наступлением войск Эверта Брусилов будет приписывать неудачу второго этапа своего наступления на Ковель. Но и сам Брусилов, запланировав в мае двойной удар по Ковелю – со стороны Ровно через Луцк и со стороны Рафаловки вдоль железной дороги Сарны – Ковель, в дальнейшем не настоял на осуществлении этого многообещающего плана.
Кстати, интересно почему?
Смысл двойного удара по Ковелю заключался в следующем. Главные силы противника и наиболее развитые рубежи его обороны располагались вокруг Луцка. Со стороны Рафаловки Ковель был прикрыт лесами и болотами, и здесь сплошной обороны у противника не было. Расстояние от Рафаловки до Ковеля примерно в полтора раза меньше, чем при наступлении через Луцк. Если бы частям IV кавалерийского и XLVI армейского корпусов (группа генерала Гилленшмидта) удалось, обходя очаги обороны австро-венгерских войск, через леса и болота выйти к Ковелю, как это было намечено в плане Брусилова, то вся луцкая группировка оказалась бы под угрозой окружения. Именно такого рода маневры будут через двадцать восемь лет осуществлены советскими войсками в ходе операции «Багратион» и приведут к полному разгрому мощнейшей германской группы армий «Центр». (Заметим в скобках, что танкам Второй мировой войны было отнюдь не легче маневрировать в лесисто-болотистой местности, нежели кавалерии Первой мировой.)
Однако ни 23 мая, как было намечено, ни на следующий день группа Гилленшмидта к осуществлению плана не приступила.
24 мая Брусилов телеграфирует Каледину: «Приказываю во что бы ни стало спешить действиями XLVI армейского и IV кавалерийского корпусов». 25 мая – новая телеграмма с повторением «непреклонного требования» о производстве набега и с предложением «сменить Гилленшмидта, если он не может выполнить этого». В тот же день – телеграмма от наштаверха Алексеева: «Весьма важно, чтобы ген. Гилленшмидт проникся мыслью необходимости во что бы то ни стало использовать свою сильную конницу, не долбя своею пехотою сильно укрепленные участки без артиллерийской подготовки, оставаясь во время этого боя безучастным зрителем». На следующий день Брусилов опять телеграфирует Каледину: «Прошу передать ген. Гилленшмидту мое полное неудовольствие его слабыми действиями и плохою распорядительностью». В ответ – телеграмма Гилленшмидта Каледину от 28 мая: «В виду силы противника и наличия у него тяжелой артиллерии, успех набега нельзя считать обеспеченным».
Свидетельствует начальник штаба Юго-Западного фронта генерал от инфантерии Владимир Наполеонович Клембовский:
«Передавая эту телеграмму главнокомандующему, ген. Каледин прибавил с своей стороны, что вследствие малых шансов на успех он полагал бы с набегом „повременить“. Идея набега была совершенно оставлена; неосуществление или неуспех ее можно было заранее предсказать, в виду несочувствия исполнителей, т. е. командарма и в особенности самого ген. Гилленшмидта»[53].
Итак, пажу и гвардейцу Гилленшмидту не хотелось лезть в болото; Каледин не верил в успех, Брусилов не настоял… В результате две кавалерийские дивизии и одна пехотная простояли без всякого толка неделю, не сходя с места, пока остальные корпуса армии с большими потерями прорывали оборону Луцка с фронта. За это время противник успел перебросить в Ковель несколько германских дивизий и подготовить оборону этого важнейшего коммуникационного узла.
Самое удивительное – это объяснение невыполнения приказа главнокомандующего, которое дает Гилленшмидт: «Успех набега нельзя считать обеспеченным». А когда на войне успех можно считать обеспеченным? Когда враг заранее схвачен, связан и положен на землю? Вновь – прямой саботаж. Никакого наказания за свое бездействие командир IV кавкорпуса не понес: не мог же паж Брусилов обидеть Гилленшмидта – пажа, да еще к тому же генерала свиты его императорского величества…
Успех у Луцка был все же достигнут – и, главное, широко разрекламирован прессой (с которой Брусилов умел дружить – не без помощи своей второй жены, Надежды Владимировны, урожденной Желиховской, причастной к газетно-журнальному делу). Взят сам город Луцк, взяты трофеи и пленные. Но уже к исходу мая стало ясно, что 8-я армия увязла на Ковельском направлении. Крупных резервов, которые можно было бы использовать для развития первоначального успеха Луцкого прорыва, у Брусилова не было. Полнейшая пассивность армий Западного фронта в течение всего мая и половины июня позволила противнику перебрасывать на угрожаемое направление новые и новые дивизии, прежде всего германские, значительно более боеспособные, чем австрийские. Бои на Ковельском направлении приняли затяжной характер.
В начале июня неожиданно определился крупный успех на левом фланге Юзфронта. 9-я армия овладела Черновицами и быстро стала продвигаться к Карпатам, южнее Станиславова. Но и этот успех развить было нечем. В двадцатых числах июня противник и здесь смог организовать ряд контрударов. Продвижение 9-й армии замедлилось и вскоре остановилось.
Наступил «второй этап наступления Юго-Западного фронта». Начала работать страшная мельница, в которой без всякого видимого результата и смысла ежедневно перемалывались тысячи человеческих жизней.
Генерал Соколов:
«…Опьяненный первыми успехами и, главное, огромным количеством пленных, что всегда нам мешало должным образом учитывать степень успеха, Брусилов гнал нас вперед всем фронтом без резервов, без пополнений, результат такого общего фронтального наступления сказался быстро: распыляясь и неся потери с каждым переходом, мы быстро обессилили, и резервам неприятеля легко было обратить наш успех в катастрофу. Если этого не случилось, то только благодаря необычайному подъему духа в войсках, явившегося еще до начала наступления; об этот дух разбились даже подведенные на помощь австрийцам отборные германские войска, но зато успех Брусиловского наступления выразился лишь в незначительном территориальном приобретении, вернее, возвращении полоненных наших земель и занятии Восточной Галиции»[54].
Конечно, не один Брусилов ответствен за огромные и бесплодные потери, понесенные на втором и последующих этапах летнего наступления. И еще того менее виновен в них Каледин, которого страстно обвиняет тот же генерал Соколов. Кто же виновен? Ставка? Эверт? Союзники? Безынициативные корпусные командиры? Неумелые командиры дивизий? Штабные генералы, выслуживающие звездочки ценой человеческих жизней? Выбирайте ответ по вкусу.
Составить представление о ходе второго этапа Брусиловского прорыва можно на примере одного боя, произошедшего 22 июня – какая примечательная дата! – возле неведомой деревни Живачов на реке Черешне, к югу от Станиславова. Обстоятельства этого боя подробно и по горячим следам зафиксировал в своем дневнике начальник штаба 12-й пехотной дивизии генерал-майор Снесарев.
«23.6.[19]16 г.
Вчера с 4.30 ч. было дело у д. Завачув[55], кончившееся изничтожением 45-го полка. (Вся дивизия понесла [тяжкие потери]: в 45-м офицеров убито 3, ранено 15, контужено 4 (из 31 в ротах осталось 9); нижних чинов: убито 367, ранено 1458, контужено 46, остал[ось] на поле сражения [не подобранные] 186, [итого] 2057; осталось людей (штыков) 983; <…> Общие потери дивизии за 22.6: офицеров убито 11, ранено 38, нижних чинов (убито, ранено и не подобрано) 4698. Осталось в дивизии 5900 шт[ыков].)
Приказ был хорош, но не выполнен: на [взятие] 304-й [высоты] началось накопление, протолкнуты взводы, но в 9.15 [второй] приказ: атаковать с 10 часов высоту 353. А в [первом] приказе было: останавливаться на рубежах и закрепляться. Результаты: пошли на 304-ю и Безымянную к северу, но пока шли, были искрошены и разбиты ураганным огнем противника (пошли волнами, как учили, а ходить ими можно и должно сейчас же после артиллерийской подготовки с переносом огня дальше). На рубеж вышли изнемогшие, подпер[ли] 3 бат[альона] украинцев: первый – направо, второй – влево, третий – за прав[ым] флангом. Они шли легче, но тоже под огнем. Конечно, люди залегли вокруг Завачува. В 3.30 часа категорический приказ кор[пусного] командира и нач[альника] дивизии (какое-то „двойное“ [отношение к нам]: „Мне дела нет, если не найдут 4-й бат[альон] 47-го полка… Пусть становятся командиры полков впереди“). Мысль правильная, но выражена: 1) хамски, 2) трусом). Пробовали идти в атаку, но и силы, и порыв, и сердце были прикончены. Бросались, кричали „ура“, резали проволоку. Бронированный автомобиль был мною выпущен в момент „ура“, но шофер ранен, 1 пулемет уничтожен, другой поврежден, радиатор испорчен, лица других обожжены. Я с 4.30 часов до часу на 317-й [высоте] под артиллерийским огнем, а затем на выс[оте] 290 под непр[ерывным] ружейным и артиллерийским до 21 часу. <…>
24.6.[19]16 г.
Вспоминаем позавчерашнее дело (22.6 у Завачува). Характерна потеря пульса боя около 13 часов. Я чуял, что что-то не так, начинаются сетования, пересуды и страшное вранье. Предлагаю отправиться на [высоту] 290 (наблюдательный пункт командира 45-го, бывший под страшным огнем). Отправляюсь на 290-ю, а буде нужно, пойду дальше (т. е. в цепи). Я чувствовал, что нужно изменить точку наблюдения.
Отпущен. На лошади еду, сколько можно, а затем иду окопами, дохожу до 290-й и застаю всех прижавшимися к ямкам в передней крутости окопа. [Докладывают: ] „Убиты в 2 шагах такие-то, перебиты 8 телефонистов, связь потеряна, высунешь голову – стреляют“. Командир 45-го [полка] в удрученном состоянии: полк разбит (осталась треть), офицеры перебиты (выбыли все батал[ьонные] командиры, один до ранения 3 раза падал в обморок от жары), а приказывают наступать; кругом огонь, впереди форт, сердце людей ослабло. И когда мне было ясно, что дальше двигаться нельзя, что „сердца нет, значит и успеха нет“, в это самое время „крикуны в безопасном наблюдательном пункте“ развоевались. Ком[андир] корпуса и начальник дивизии приказывают в 5 часов атаковать и непременно взять Завачув и [высоту] 353. Что же? Взять – так взять. Поднялись и вновь умерли.
Дивизия в ночь с 21 на 22 [июня] заступила на позицию, и ей было приказано атаковать. Для изучения [обстановки] нужно было бы как минимум 2 дня, а могли наскоро осмотреться лишь от 16 час[ов] до 20 часов накануне. Что же дал [командир] 33-го корпуса, приказавший атаковать? Ничего! Ни [сведений о том], сколько артиллерии у врага, ни его пристрелочные данные, ни что такое Завачув, ни что на 353-й, ни про основную позицию, на которую [сам] готов был отступить и действительно отступил на нашем правом фланге („победой“ здесь страшно играли). Что же должен был делать начальник дивизии? Или просить 2 дня для осмотра, или требовать обстановки.
Ни то ни другое сделано не было, и дивизия легла.
26.6.[19]16 г.
Все еще переживаем думы за 22.6. Обнаруживаются такие факты. Доносилось, что в батальонах 45-го оставалось по одному офицеру; к вечеру явилось 9 целых. „Доносите одно, а выходит другое“, – говорит штаб. Не понимает. При том ужасе, который был, оказались отсталыми и спрятавшимися не одни нижние чины (этих было 355), но и офицеры, а к вечеру (затишье боя) подошли и подползли все. В разгаре-то были, конечно, не все. Кап[итан] Лобза (Петр Степанович) вел на позицию последний украинский батальон, после уже 2 часов, когда было сравнительно тихо, и до того был удручен и подавлен огнем, что „заболел“, отправился в обоз и выразился так: „Не могу больше, готов быть кашеваром, но дальше от этих ужасов“. Конечно, не всем дано. Дерганье исходило от корпусного [командира], который трепещет пред армией, а начальник дивизии не имел мужества, потеряв пульс боя, да никогда его и не имев, представить свое дельное возражение. Корпус[ной командир], передав директиву армии, построил коридор для дивизии и в нем указал рубежи. Считал, что этим дело его сделано, а затем начал толкать ругательствами и угрозами – картина довольно обычная»[56].
Главное – подчеркнуть:
«Что же? Взять – так взять. Поднялись и вновь умерли».
«Не могу больше, готов быть кашеваром, но дальше от этих ужасов».
Общие потери Юго-Западного фронта с начала наступления до завершения активных боевых действий в ноябре 1916 года составили, по данным штаба фронта: убитыми – 2930 офицеров и 199 836 солдат; ранеными – 14 932 офицера и 1 075 959 солдат; пропавшими без вести – 928 офицеров и 151 749 солдат; всего 18 006 офицеров и 1 436 134 солдата. Из числа раненых в строй вернулись 204 000 человек. Потери противника по приблизительным оценкам оказались в полтора-два раза меньше[57]. Оговоримся: данные эти неточны, и вообще точных данных об убитых, изувеченных, умерших от ран, пропавших без вести на русско-германском и русско-австрийском фронтах – нет.
Наступление Юго-Западного фронта летом 1916 года принесло Брусилову желанную славу. Это была, конечно, победа – последняя победа русской императорской армии.
Приведенные цифры и факты с полной ясностью показывают, что к началу 1917 года революция в России стала неизбежной.
Сильные мира сего пребывают в убеждении, что народы суть управляемые массы, стада, которые они, умелые пастухи, могут гнать куда угодно. Это верно – но только до некоего момента. Массы, какими бы управляемыми они ни казались, состоят из отдельных людей, и каждый отдельный человек думает свои мысли, чувствует свои чувства и страдает своими страданиями. В тот момент, когда мысли и чувства миллионов вдруг направляются в одну сторону (а это чаще всего случается на почве общей ненависти к источнику страданий), массы перестают быть управляемыми, власть мгновенно рушится, а сильные мира сего превращаются в бессильных, беспомощных одиночек, и если не успевают убежать, то бывают растоптаны толпой.
Русская революция не представляет собою никакой загадки. Она есть неизбежное следствие суммирования мыслей, чувств и страданий десятков миллионов человек, измученных многовековой великодержавной гонкой и под конец брошенных в печь мировой войны. Что революция принесет им еще большие страдания – этого они, конечно, не могли знать.
К исходу зимы 1917 года над всей Россией, над ее столицей, над ее армией нависла странная тишина.
Войска готовились к новым боевым действиям. Глубокий тыл жил своей тыловой, почти мирной жизнью. В Петрограде, как всегда, кипели карьерно-политические страсти.
Из воспоминаний жандармского генерала, долгое время служившего в дворцовой охране, Александра Ивановича Спиридовича:
«Все ждут какого-то переворота. Кто его сделает, где, как, когда – никто ничего не знает. А все говорят и все ждут»[58].
Случайно начались в столице уличные беспорядки; они выросли из ругани домохозяек, томившихся в хлебных очередях, – и внезапно породили тот самый момент суммирования мыслей, чувств и страданий миллионов. Все сошлось в двух словах: долой царя! В этом порыве (осознанном или в большинстве случаев неосознанном) объединились богатые и бедные, революционеры и монархисты, солдаты и генералы. Именно генералы завершили то, что начали домохозяйки. 2 марта начальник штаба Ставки, главнокомандующие всеми четырьмя фронтами и один из двух командующих флотом – Алексеев, Николай Николаевич, Рузский, Эверт, Брусилов, Сахаров, Непенин, итого семь высших военачальников – единодушно, почтительно и твердо потребовали у «хозяина Земли Русской» и «Верховного вождя русской армии» отречения от престола.
Какую роль играл в этом Брусилов?
Как главнокомандующий фронтом, не мог остаться в стороне от политики. Информированный Спиридович в мемуарах заявляет, что «о необходимости пойти на уступки не раз говорил Государю в тот месяц (январь 1917-го. – А. И.-Г.) и брат, Михаил Александрович. Его инспирировали Родзянко и генерал Брусилов, и, по их просьбе, он передал Государю об общей тревоге, о непопулярности правительства и особенно Протопопова, о желании широких кругов получить ответственное министерство»[59]. Но Спиридович не был очевидцем этих переговоров: в августе его отправили подальше от двора и Ставки на должность градоначальника в Ялту. В Петрограде он появился только 20 февраля, за несколько дней до начала революционных событий. Так что передает он в данном случае лишь слухи, которые свидетельствуют о том, что Брусилов слыл умеренным либералом конституционно-монархического толка. То же самое можно сказать о большинстве министров, генералов, придворных и даже родственников Николая II.
Существует мнение (весьма популярное среди сторонников модной «теории элит»), что государь и империя пали жертвой заговора. Говорят даже именно о «заговоре генерал-адъютантов», имея в виду тех самых высших военачальников русской армии. Есть разрозненные и туманные указания на существование такого заговора, но нет надежных доказательств. Вероятнее всего, заговора (как сознательной конспирации) не было, а была единодушная готовность правящих кругов и высшего генералитета избавиться от Николая II, заменив его кем-нибудь или чем-нибудь более удобным. Может быть, какой-нибудь марионеткой: несовершеннолетним больным цесаревичем Алексеем или великим князем Михаилом Александровичем, не имевшим ни авторитета, ни влияния, ни желания властвовать. Или «своим человеком» – великим князем Николаем Николаевичем, покровителем военных карьеристов. Или временным регентским советом (нет ничего более постоянного, чем временное). В любом случае при новом монархе или без него вся власть сосредоточилась бы в руках правительства, совета или комитета, составленного из них – высших вельмож и генералов. Так они думали, к этому готовились еще с 1905 года.
Поэтому 2 марта позиция высших военачальников оказалась столь солидарной, а действия столь согласованными.
Из телеграммы наштаверха Алексеева за № 1872 главнокомандующим фронтами. Отправлена из Ставки около 10 часов 15 минут 2 марта 1917 года:
«…Войну можно продолжать до победоносного конца лишь при исполнении предъявляемых требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. <…> Если вы разделяете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать спешно свою верноподданническую просьбу Его Величеству через Главкосева, известив Наштаверха».
Из переговоров по телеграфу между Алексеевым и Брусиловым 2 марта около 10 часов 30 минут:
«Брусилов: Колебаться нельзя. Время не терпит. Совершенно с вами согласен. Немедленно телеграфирую через Главкосева телеграмму с всеподданнейшею просьбою Государю Императору. Совершенно разделяю все ваши воззрения. Тут двух мнений быть не может.
Алексеев: Будем действовать согласно. Только в этом возможность пережить с армией ту болезнь, которой страдает Россия и не дать заразе прикоснуться к армии. До свидания. Всего хорошего.
Брусилов: Очевидно, должна быть между нами полная солидарность. Я считаю вас по закону Верховным главнокомандующим, пока не будет другого распоряжения. Да поможет вам Господь».
Телеграмма Брусилова Алексееву, отправленная этим последним Николаю II в Псков вместе с телеграммами аналогичного содержания от других главкомов:
«Прошу вас доложить Государю Императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей любви и преданности к Родине и царскому престолу, что в данную минуту ЕДИНСТВЕННЫЙ ИСХОД, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет – ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПРЕСТОЛА в пользу Государя Наследника Цесаревича при регентстве Великого Князя Михаила Александровича. Другого исхода нет, но необходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие размеры народный пожар был скорее потушен, иначе он повлечет за собою неисчислимые катастрофические последствия. Этим актом будет спасена и сама династия, в лице законного наследника. Генерал-адъютант БРУСИЛОВ»[60].
Отречение Николая II, плененного главкосевом Рузским в Пскове и окруженного изменой со всех сторон, было неизбежным. Воля генералов слилась в едином порыве с волей масс. Но это слияние не могло продолжаться долее того времени, которое необходимо для осознания массами факта свержения власти.
В то самое время, когда генералы вели переговоры об отречении императора, телеграф уже разносил по стране приказ № 1 неведомого Петросовета, которым в армии упразднялась дисциплина, то есть власть генералов. Через два дня, 4 марта, в Гельсингфорсе матросами был убит вице-адмирал Непенин. 11 марта Временное правительство под давлением общественных настроений отрешило от командования Николая Николаевича, вожделенного кандидата в диктаторы от генеральской верхушки. 22 марта был снят с должности Эверт, 2 апреля – Сахаров; 24 апреля под предлогом болезни ушел в отставку Рузский. Наконец, 22 мая за неосторожное высказывание против «мира без аннексий и контрибуций» был смещен Алексеев, фактически исполнявший все это время обязанности Верховного. Не прошло и трех месяцев после осуществления «заговора генерал-адъютантов», а из всех его участников на своем посту в армии остался только один Брусилов.
Почему он один? Потому что с его именем связана была последняя победа русской армии. И еще потому, что он более других готов был терпеть безумие революции.
Из телеграмм Брусилова.
Главковерху Алексееву, 18 марта: «Армии желают и могут наступать». «Наступление вполне возможно. Это наша обязанность перед союзниками, перед Россией и перед всем миром».
Ему же, 20 марта: «Мы должны атаковать противника, так как это единственный выход при создавшейся обстановке».
Военному министру Гучкову, 24 апреля: «Солдаты отрицают войну, не хотят и думать о наступлении и к офицерам относятся с явным недоверием, считая их представителями буржуазного начала. Такое состояние частей действует на соседей, как зараза. Является настоятельная необходимость скорейшего прибытия в части 7-й и 11-й армий, готовящихся к решительному удару, вдохновленных, горячо любящих родину членов Государственной думы и рабочих депутатов для самой искренней и горячей проповеди необходимости вести победоносную войну»[61].
Итак, Брусилов, сохраняя бодрую верность идее наступления, пытается включиться в революционную реальность, принять стратегию митингов и «главноуговаривания».
Расходились пути сослуживцев. Закадычные друзья становились врагами, заклятые враги оказывались в одной упряжке, подчиненные превращались в начальников, начальники один за другим уходили в небытие. Тут вот и разошлись окончательно пути Брусилова и Каледина. Упрямый, верный, добросовестный Каледин не имел сил бодриться и не умел митинговать. Он был помимо воли выброшен революцией во вражеский стан – и с ним вместе многие другие верные, упрямые, добросовестные. Брусилов обладал той степенью честолюбия и той долей авантюризма, которые дали ему возможность какое-то время удерживаться на волнах революционной бури. 22 мая декретом Временного правительства он был назначен на должность Верховного главнокомандующего.
Каждый юнкер, наверно, мечтает стать генералом. И каждый генерал спит и видит себя Верховным главнокомандующим. Военная фортуна в последний раз жестоко подшутила над шестидесятитрехлетним Брусиловым. Предела карьеры и предмета вожделений любого профессионального военного он достиг как будто специально для того, чтобы лишиться завоеванной с таким трудом полководческой славы. Он был назначен командовать разваливающейся армией, от которой требовали идти в наступление. И кто? Правительство, едва держащееся, неспособное решить ни одного принципиально важного вопроса. А в это же время на фронте и в тылу открыто агитируют большевики: «Мир любой ценой!»; «Землю – крестьянам!» Он, главнокомандующий, должен приказывать солдату идти под пули и шрапнель, когда этот солдат в мыслях своих уже дома, вместе с односельчанами делит помещичью землю.
Из воспоминаний Брусилова:
«Позицию большевиков я понимал, ибо они проповедовали „долой войну и немедленно мир во что бы то ни стало“, но я никак не мог понять тактики эсеров и меньшевиков, которые первыми разваливали армию якобы во избежание контрреволюции, что не рекомендовало их знания состояния умов солдатской массы (так в тексте. – А. И.-Г.), и вместе с тем желали продолжения войны до победного конца»[62].
Генерал от инфантерии Андрей Медардович Зайончковский:
«В армию вводился новый элемент духовной подготовки в виде революционного экстаза Керенского. Фронт намеченных ударов обратился в фронт сплошных митингов в присутствии военного министра Керенского.
<…>
Летнее наступление 1917 г. прошло, в общем, под знаком митингов, уговоров»[63].
Две недели Ставка под началом нового Верховного и штабы фронтов готовили план наступления. Но когда все уже было готово, оказалось, что наступать без санкции Всероссийского съезда Советов нельзя. Несколько дней Керенский в Петрограде уговаривал делегатов съезда; несколько дней секретные планы Ставки служили предметом громогласного публичного обсуждения. Наконец согласие было получено.
16 июня началось наступление армий Юго-Западного фронта.
Началось вдохновенным порывом – и закончилось полным провалом.
Войска Юго-Западного фронта, добившись поначалу заметных успехов, при первых неудачах стали целыми дивизиями сыпаться в тыл. На других фронтах дело обстояло еще хуже. Полки, дивизии и корпуса митинговали и отказывались наступать. Не помогло даже и то, что 12 июля декретом Временного правительства была восстановлена смертная казнь за воинские преступления на фронте. Впрочем, восстановлена она была на бумаге: любой военно-полевой суд, осмелившийся покарать паникера или дезертира, сам стал бы жертвой ярости солдат.
Зайончковский:
«Составителю стратегического очерка здесь следовало бы положить перо. То, что происходило далее, не имело уже никакого подобия войны…»[64]
19 июля утром главковерх Брусилов в Ставке получил следующую телеграмму: «Временное правительство постановило назначить Вас в свое распоряжение. Верховным главнокомандующим назначен генерал Корнилов. Вам надлежит, не ожидая прибытия его, сдать временное командование начальнику штаба Верховного главнокомандующего и прибыть в Петроград. Министр-председатель, военный и морской министр Керенский»[65].
19 июля он уехал из Могилева – но не в Петроград, а в Москву.
В это время среди командиров разваливающихся войск и в окружении министра-председателя Керенского уже витала, уже оформлялась идея генеральско-комиссарской диктатуры. Претендовал ли Брусилов на роль диктатора? В своих воспоминаниях он утверждает, что если бы ему сие предложили, он бы, не раздумывая, отказался. Но ему не предложили. А то, может быть, и не отказался бы…
Его даже не пригласили на Государственное совещание, проходившее в августе в Москве. Участвовал он, правда, в каком-то бессмысленном и бессильном Совещании общественных деятелей, собиравшемся дважды, в августе и в октябре. Это была странная компания: вчерашние политические тузы, выброшенные из колоды; пассажиры, отставшие от поезда событий, – Родзянко, Милюков, Рябушинский…
Корниловское выступление прошло мимо него, и провал корниловщины его не затронул. Существует легенда, опирающаяся на поздние воспоминания сомнительных мемуаристов, что он якобы сам готовил офицерское восстание и захват власти в Москве. Доказательств тому нет, да и любая такого рода попытка после корниловского краха была бы безумием. С высшего командного поста Брусилов был выброшен в бездеятельную изоляцию – отставной генерал, обитатель Остоженки. Казалось, история забыла о нем.
…И вот этот мортирный снаряд, залетевший 2 ноября, на исходе кровавых революционных московских боев, в обычно тихий Мансуровский переулок. Нет, история еще не выпустила отставного главковерха из своих смертельно опасных объятий. Осколки снаряда перебили кости правой голени в нескольких местах. Первое и последнее в его жизни ранение. Угроза ампутации. Восемь месяцев в лечебнице доктора Руднева.
Ранение и вынужденная восьмимесячная жизненная пауза предопределили последний поворот в его судьбе, последний выбор в его жизни.
В мае 1918 года, когда огненный конь Гражданской войны уже несся по всей России, в большевистскую Москву полулегально прибыла Мария Антоновна Нестерович-Берг, знакомая жены Брусилова, сестра милосердия, общественная деятельница предреволюционных лет, а теперь – агент белогвардейского движения. Цель ее прибытия – привлечение нужных людей на сторону белых. Брусилов в перечне таковых был одним из первых. Она посетила его в лечебнице. Спустя годы, в эмиграции, Мария Антоновна будет вспоминать: «Он лежал, но чувствовал себя бодро. Сказал, что рана не так серьезна, но он ей нарочно не дает зажить, чтобы оставили в покое и большевики и небольшевики».
Героическая женщина не поняла намека.
«Я передала ему письмо, привезенное из Новороссийска, в котором генералу предлагалось бежать на Дон с помощью нашего комитета.
Брусилов прочел письмо, положил под подушку и сказал, отчеканивая слова:
– Никуда не поеду. Пора нам всем забыть о трехцветном знамени и соединиться под красным»[66].
Состоялся ли такой разговор в действительности, или он является плодом мемуарного вымысла, но образ мыслей Брусилова эти слова отражают.
Брусилов не хотел вступать в русскую смуту на ее первом, разрушительном этапе. И видел, что большевики, пришедшие к власти под знаменем разрушения, уже сейчас вынуждены начинать созидание новой российской государственности.
Он, маневрируя, уклонялся от Гражданской войны, но Гражданская война подступала с разных сторон. 30 августа 1918 года прогремели выстрелы, поразившие сразу многих. В Москве стреляли в Ленина, в Петрограде был убит Урицкий. В ответ на это 5 сентября Совнарком издал декрет о красном терроре: «Необходимо обеспечить Советскую республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях», «подлежат расстрелу все лица, прикосновенные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»[67]. Вместе со многими другими «бывшими» – капиталистами, чиновниками, военными и общественными деятелями – Брусилов был арестован ВЧК и почти два месяца содержался под арестом в Кремле. Потом его выпустили по случаю празднования годовщины пролетарской революции и точно к годовщине его ранения.
Но это еще было не горе – горе впереди. Единственный сын генерала, Алексей, в прошлом офицер конногренадерского полка, в начале 1919 года уехал из Москвы – и пропал без вести. История его бегства и гибели так и осталась не разъясненной до конца. Из столицы он бежал, по-видимому, спасаясь от голода, семейных неурядиц, а может быть, и от угрозы ареста, от всесильной «чеки». Есть сведения, что он вступил в Красную армию, командовал кавалерийской частью, попал в плен к белым и был расстрелян. Существует и иная версия: из Красной армии перебежал к белым, но вскоре заболел и умер от тифа. Обе версии документально не подтверждаются – впрочем, как и обстоятельства гибели многих десятков тысяч людей в мешанине Гражданской войны.
1 мая 1920 года, в день новоблагословенного советского праздника, начальник Всероглавштаба товарищ Раттэль, разбирая утреннюю корреспонденцию, увидел конверт, надписанный хорошо знакомым ему почерком. Немедленно вскрыв его, вгляделся в аккуратные строчки:
«Милостивый государь Николай Иосифович!
За последние дни пришлось мне читать ежедневно в газетах про быстрое и широкое наступление поляков, которые, по-видимому, желают захватить все земли, входившие в состав Королевства Польского до 1772 г., а может быть, и этим не ограничатся.
<…> При такой обстановке было бы желательно собрать совещание из людей боевого и жизненного опыта для подробного обсуждения настоящего положения России и наиболее целесообразных мер для избавления от иностранного нашествия. Мне казалось бы, что первою мерою должно быть возбуждение народного патриотизма, без которого крепкой, боеспособной армии не будет. <…> Польское нашествие на земли, искони принадлежащие русскому православному народу, необходимо отразить силою. Как мне кажется, это совещание должно состоять при главнокомандующем, чтобы обсуждать дело снабжения войск провиантом, огнестрельными припасами и обмундированием…»[68]
Подпись: «Брусилов».
Брусилов! Вот уж поистине, сколько лет, сколько зим! Когда-то (как это было давно! три года назад, в иной жизни!) Генерального штаба генерал-майор Раттэль служил при Брусилове – помощником генерал-квартирмейстера штаба Юго-Западного фронта, в переводе на советскую терминологию: замначоперодом – заместителем начальника оперативного отдела. Служил во время Брусиловского прорыва! И теперь вот старик обращается к нему с этим странным письмом, в котором революционная фразеология переплетена с формулами православия и народности.
О письме Брусилова Раттэль немедленно доложил в Реввоенсовет республики. Уже 5 мая в «Правде» был опубликован приказ об образовании при главнокомандующем Вооруженными силами республики Особого совещания по вопросам увеличения сил и средств для борьбы с наступлением польской контрреволюции. В составе совещания целый сонм бывших генералов: Балуев, Гутор, Клембовский, Зайончковский, Цуриков, Парский. Председатель – Брусилов.
Обстановка была в это время тревожная. В апреле войска новообразованного Польского государства развернули наступление на Украине. Дела у красных на новом фронте шли из рук вон плохо. Плоды только что достигнутых побед в Гражданской войне могли быть утрачены. Поэтому руководство Советской России и Реввоенсовет сочли очень своевременной инициативу Брусилова.
Брусилов и другие «бывшие господа генералы», по-видимому, надеялись вернуться на службу в войска. Но советскую власть больше интересовала пропагандистская сторона дела. 23 мая в той же «Правде» было опубликовано обращение «Ко всем бывшим офицерам, где бы они ни находились». В нем – призыв ко всем офицерам русской армии вступать добровольно в армию Красную. Внизу – подписи членов Особого совещания с Брусиловым во главе. За обращением последовал декрет Совнаркома о полной амнистии всем бывшим офицерам, даже служившим в белых армиях, если они перейдут под красные знамена.
Откликнулись тысячи. Многие из них потом будут репрессированы… Но это уже другая история.
Брусилов вновь был принят на военную службу. С лета 1920 года он – инспектор Центрального управления коннозаводства. В 1923–1924 годах – инспектор кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии. С 1924-го состоял для особо важных поручений при Реввоенсовете республики. Умер от воспаления легких 17 марта 1926 года. (Это можно было бы считать мистическим совпадением – в день десятилетия своего назначения главнокомандующим Юго-Западным фронтом! Но, увы, 17 марта по новому стилю – это 4 марта по старому.)
19 марта 1926 года в полдень у дома № 4 по Мансуровскому переулку выстроились войска: рота пехоты, эскадрон кавалерии. Отворились двери парадного подъезда. Командиры со знаками различия в петлицах и на рукавах вынесли гроб, поставили на орудийный лафет. Грянул военный оркестр. Эскорт двинулся к Новодевичьему кладбищу.
Генерал-адъютант государя императора, состоявший при Революционном военном совете республики Брусилов был похоронен с воинскими почестями.
Если кто из генералов русской армии времен Первой мировой войны и революционной смуты мог бы именоваться генералом солдатским, народным, так это Антон Иванович Деникин, сын офицера, выслужившегося из солдат, внук крепостного крестьянина. Именно ему по прихотливой воле истории привелось возглавить поход против власти, именовавшей себя властью Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Сторонники и соратники хотели видеть в нем народного вождя, нового Дмитрия Пожарского. Но нет, вождем он не стал. Провал Белого дела превратил его в исторического неудачника, обрек на долгие годы вынужденного бездействия в эмиграции, затмил ту полководческую известность, даже славу, которую принесла ему мировая война на австро-венгерском фронте.
Впрочем, полководческая слава всегда двусмысленна и ценность ее сомнительна. А в Деникине ни двусмысленности, ни сомнительности нет. Человек единого пути. Никуда не сворачивал и нигде не отсиживался. Шел туда, куда предписано по диспозиции. Вся жизнь – поход. А что в конце? И будет ли конец этому походу? Ведь и после смерти продолжается путь: похоронен в Детройте, перезахоронен в Кесвилле (Джексон, Нью-Джерси), вновь перенесены его останки в Москву, в Свято-Данилов монастырь…
Когда у отставного майора Ивана Деникина родился сын, майору было шестьдесят пять лет. Майор был из крепостных. Отдали его в солдаты, по семейному преданию, в двадцать семь лет. О его житье-бытье до солдатчины, о его крестьянской родне ничего не известно, как и о его первом, бездетном браке. Служил долго и добросовестно: двадцать лет и два года, рядовым, потом унтером; и был наконец допущен к экзамену на офицерский чин. В 1856 году, на пятидесятом году жизни, дождался производства в прапорщики. Направлен в пограничную стражу, в Польшу, на российско-прусскую границу. И снова служил государю, тянул лямку еще тринадцать лет. В 1869 году, при отставке, получил чин майора и пенсион: тридцать шесть рублей в месяц. Жить остался в Польше. Тут нашел себе невесту: бедную, но из благородных. Была она, Эльжбета Вржесинска, на тридцать шесть лет моложе мужа. Стала Елизаветой Федоровной Деникиной, женой отставного штаб-офицера. Он православный, она католичка. Он говорит только по-русски, она только по-польски. Но друг друга научились понимать неплохо. По истечении положенного после свадьбы срока, 4 декабря 1872 года, родился у них сын. Назвали Антоном.
Отвлекусь.
В памяти моей семьи сохранилась история, во многом похожая. Моя родня по одной из линий была родом из Пинска Минской губернии. Тогда это был городок с населением на две трети еврейским, на четверть польским. Русских было мало, в основном присланные служащие – чиновники, офицеры. Обитало там польское семейство Макарских – тоже «благородные, но бедные». Своим шляхетским происхождением гордились, а есть в доме нечего. Положение случалось до того отчаянное, до того в тягость был каждый лишний рот, что когда прапрапрабабушка моя заболела чем-то заразным (чуть ли не холерой), то ее дочку, малышку, родственники подложили к ней специально – чтоб заразилась и умерла. Но малышка выжила. Звали ее Мария. Выросла – и стала красавицей-бесприданницей. Положение бесприданницы безвыходное: сиди зарабатывай шитьем на кусок хлеба и жди, когда кто-нибудь посватается. Посватался мой прапрадед, отставной унтер-офицер из кантонистов – солдатских или унтер-офицерских детей. Жених был много старше невесты, лет на тридцать. Но куда денешься? И Марыся Макарская стала Марией Игнатьевной Кондратьевой.
Достойно удивления то, что этот брак, как и брак Деникиных, оказался удачным, прочным. И когда прапрадед мой, Иван Александрович Кондратьев, человек беспокойный и бродячий, уехал куда-то по делам и пропал на долгие годы, – Мария Игнатьевна, уже мать двоих детей, оставалась ему верна и не вышла замуж, хотя долгий срок безвестного отсутствия мужа позволял ей это сделать, да и женихи присватывались. Дождалась: нежданно-негаданно суженый вернулся. Следствием его возвращения стала дочка Эмилия, 1887 года рождения. Эмилия Ивановна, тетя Миля, запечатлелась в моей детской памяти: маленькая, дивная старушка, с белыми-белыми волосами и нежно-обходительными манерами. Ее старший брат, мой прадед Александр Иванович Кондратьев, был почти ровесником Антона Ивановича Деникина. Он пропал без вести во время Гражданской войны – кажется, где-то там, на деникинском фронте…
Вернемся к делу.
Антон похож на отца. Это неистребимое сходство сохранилось в нем до конца дней; оно проступает на всех его фотографиях. Кто он? Военный, военный насквозь, до последнего волоска бороды и усов. Генерал. Даже в штатском платье, даже на поздних стариковских фотографиях – генерал. Но не генерал-аристократ, как Брусилов, не генерал-интеллигент, как Май-Маевский, не генерал-чиновник, как Алексеев, не генерал-вождь, как Корнилов. А генерал-солдат или, точнее, генерал-унтер: проникнутый духом службы, правдой службы, верою в службу. Взгляд его прям, светел и по-своему добр. Так старый заслуженный фельдфебель смотрит на испуганного новобранца. «Ну-с, парнишка, слабоват ты у нас – да ничего, подтянем! Не боись! Держи хвост пистолетом! Смирно! Кругом! Шагом… арш!»
Как и полагается солдату, Деникин всю жизнь прожил в походной скудости. Детство и юность – так и просто в бедности. 36 рублей отцовской пенсии означали по тем временам минимум во всем. На такие деньги невозможно было прожить в Варшаве, поэтому Деникины поначалу обосновались в деревеньке Шпеталь Дольни, и лишь когда надо было отправлять Антона в школу, перебрались в ближний городок Влоцлавск[69] Варшавской губернии, на Висле. Там жили в доме на Пекарской улице, в двухкомнатной квартире впятером: отец, мать, Антон, дед – отец матери – и прислуга, она же нянька Аполония.
Отец умер, когда Антону, ученику реального училища (реалисту) было тринадцать лет. Пенсия вдове полагалась совсем скудная – двадцать рублей. Реалисту пришлось подрабатывать – частные уроки давать. Впрочем, репетиторство в те времена было обычным заработком малоимущих реалистов и гимназистов старших классов. В часы нудных уроков, в училище и дома, в мальчишеских играх на берегу Вислы созревала в сердце Антона мечта: стать как отец, стать офицером. Но он не мог и думать о поступлении в привилегированную военную школу, подобно Каледину или Брусилову. Окончил реальное училище (в городе Ловиче, ибо во Влоцлавске не имелось последнего, седьмого класса), записался вольноопределяющимся в 1-й стрелковый полк и через положенные три месяца был зачислен на военно-училищный курс при Киевском юнкерском училище.
Из воспоминаний Деникина:
«…Условия жизни в училище отличались суровой простотой и скромностью, являясь хорошей школой для вступления в обер-офицерскую жизнь. Надо заметить, что в начале 90-х годов младший офицер получал в месяц около 50 рублей содержания. И хотя до революции дважды увеличивалось содержание, но стандарт офицерской жизни стоял всегда на низком уровне. И потому, когда во время революции митинговые ораторы большевистского лагеря причисляли к буржуазии, ими ненавидимой и истребляемой, офицерство, это была неправда: русский офицерский корпус в главной массе своей принадлежал к категории трудового интеллигентного пролетариата»[70].
4 августа 1892 года пришел приказ о производстве в офицеры окончивших военно-училищный курс. В этот день Антон Деникин напился пьян – как он сам утверждает, единственный раз в жизни. В сентябре того же года, после положенного двадцативосьмидневного отпуска, подпоручик Деникин явился к месту службы, во 2-ю артиллерийскую бригаду в захолустное местечко Бела[71] Седлецкой губернии, на 50 рублей жалованья. Как еще Пушкин писал: «Жизнь армейского офицера известна…»
Из воспоминаний Деникина:
«Из года в год все то же, все то же. Одни и те же разговоры и шутки. Лишь два-три дома, где можно было не только повеселиться, но и поговорить на серьезные темы. Ни один лектор, ни одна порядочная труппа не забредала в нашу глушь. Словом, серенькая жизнь, маленькие интересы – „чеховские будни“»[72].
От скуки чем не займешься? Деникин стал пописывать: забавные рассказики из местечковой жизни, фельетоны, а потом и статьи посерьезнее, на темы военной жизни. Печатались они, начиная с 1898 года, под псевдонимом Иван Ночин в русских изданиях Варшавы (журнал «Офицерская жизнь», газета «Варшавский дневник») и в Петербурге, в военном журнале «Разведчик». Конечно, это не великие литературные произведения. Но они многое говорят об авторе. Он образован и весьма начитан, кругозор его широк – не подумаешь, что пишет армейский офицер из захолустного гарнизона. Он наблюдателен, владеет даром слова. Он обладает вполне сложившимся мировоззрением, которое можно охарактеризовать так: либеральный гуманизм на основании здравого смысла (несколько прямолинейного, по-военному). И еще один мотив здесь постоянно звучит; назовем его так: тревожный патриотизм. Как в словах лесковского Левши: «В Англии ружья кирпичом не чистят… Передайте государю, а то вдруг война, так они стрелять не годятся».
В статьях Ночина:
«Армейский поезд идет с громадным опозданием вследствие загромождения пути».
«Все сверху донизу требует фундаментального ремонта».
«Более чем когда-либо нам нужен мир. Новая война была бы для нас несчастьем»[73].
Подпоручик, поручик, штабс-капитан Деникин еще не знает, с чем столкнется, когда будет генералом…
Три года Деникин служил в бригаде. И вместе с тремя другими офицерами бригады принял решение пойти на приступ далекой манящей крепости – Николаевской академии Генерального штаба в Петербурге.
Удивительно: в характеристиках Деникина все (или почти все) мемуаристы сходятся на положительном знаке. Даже у недоброжелателей его образ вызывает плохо или хорошо скрываемое сочувствие; у доброжелателей эмоции доходят до восторга. Право же, скучновато становится: эдакая фельдфебельская добропорядочность, гугенотская праведность…
Константин Николаевич Соколов, юрист, публицист, член Особого совещания при главнокомандующем Вооруженными силами Юга России в 1918–1919 годах:
«Впечатление, которое я получил от первого свидания с генералом Деникиным и которое неоднократно имел случай проверить при многочисленных последующих встречах с ним, было впечатление неотразимого обаяния. Наружность… самая заурядная. Ничего величественного. Ничего демонического. Просто русский армейский генерал, с наклонностью к полноте, с большой голой головой, окаймленной бритыми седеющими волосами, с бородкой клинышком и закрученными усами. Но прямо пленительна застенчивая суровость его неловких, как будто связанных, манер, и прямой, упрямый взгляд, разрешающийся добродушной улыбкой и заразительным смешком… В генерале Деникине я увидел не Наполеона, не героя, не вождя, но просто честного, стойкого и доблестного человека, одного из тех „добрых“ русских людей, которые, если верить Ключевскому, вывели Россию из Смутного времени»[74].
Другой Соколов, Владимир Иванович (известен нам по тем нелицеприятным характеристикам, которые он дает в своих воспоминаниях Каледину и Брусилову), генерал, в 1914–1916 годах воевал бок о бок с Деникиным. Мемуарист желчный, всеми недовольный, добавляет красок к портрету Деникина:
«Это человек необъятного честолюбия, к удовлетворению он шел всеми способами, до самой дешевой рекламы включительно, но при этом он был человек безусловно храбрый, не только с военным, но и с гражданским мужеством. Мы знали, что своего Деникин не упустит, а при случае захватит и чужое, разумеется, не в материальном, а в моральном смысле; хорошее дело раздувалось в выходящее за обычные рамки. Для рекламных целей Деникин держал при себе специального адъютанта (забыл фамилию), который посылал корреспонденции во все мелкие бульварные южные газетки, откуда в перепечатке реклама попадала и в большую прессу. <…>
Деникин не выделялся острым, живым умом и способностью быстро схватывать и правильно оценивать обстановку, т. е. качествами крупного начальника, не любил штабную службу и вообще представлял собою чисто строевого начальника, мужественного и отважного, способного на личный пример и самопожертвование. Поэтому в роли корпусного командира он чувствовал себя не в своей тарелке, ему необходима была близость боевых частей, но опять-таки не крупного масштаба, с которым он разбирался плохо»[75].
Барон Петр Николаевич Врангель, генерал, преемник Деникина на посту главнокомандующего Вооруженными силами Юга России; как аристократ и как бывший подчиненный, ставший преемником, относится к Деникину положительно, но немного свысока:
«Среднего роста, плотный, несколько расположенный к полноте, с небольшой бородкой и длинными черными с значительной проседью усами, грубоватым низким голосом, генерал Деникин производил впечатление вдумчивого, твердого, кряжистого, чисто русского человека. Он имел репутацию честного солдата, храброго, способного и обладавшего большой военной эрудицией начальника. <…>
Один из наиболее выдающихся наших генералов, недюжинных способностей, обладавший обширными военными знаниями и большим боевым опытом, он в течение Великой войны заслуженно выдвинулся среди военачальников. Во главе своей „железной дивизии“ он имел ряд блестящих дел. <…> Он отлично владел словом, речь его была сильна и образна. В то же время, говоря с войсками, он не умел овладевать сердцами людей. Самим внешним обликом своим, мало красочным, обыденным, он напоминал среднего обывателя. У него не было всего того, что действует на толпу, зажигает сердца и овладевает душами. Пройдя суровую жизненную школу, пробившись сквозь армейскую толщу исключительно благодаря знаниям и труду, он выработал свой собственный и определенный взгляд на условия и явления жизни, твердо и определенно этого взгляда держался, исключая все то, что, казалось ему, находится вне этих непререкаемых для него истин. Сын армейского офицера, сам большую часть своей службы проведший в армии, он, оказавшись на ее верхах, сохранил многие характерные черты своей среды – провинциальной, мелкобуржуазной, с либеральным оттенком»[76].
Священник Георгий Шавельский, в 1914–1917 годах протопресвитер (руководитель духовенства) русской армии и флота, в 1919–1920 годах протопресвитер Вооруженных сил Юга России, добавляет тонкой нравственной позолоты:
«К сожалению, надо сказать, что ни в гражданских, ни в военных кругах ген. Деникин особой любовью не пользовался. Кроме его замкнутости, этому в сильной степени способствовало следующее обстоятельство. И офицерство, и все чины Добровольческой армии, и сам ген. Деникин влачили нищенское существование. <…>
Сам генерал Деникин летом 1919 г. ходил в теплой черкеске. Когда его спросили, почему он это делает, он ответил:
– Штаны последние изорвались, а летняя рубаха не может прикрыть их.
Все обвиняли ген. Деникина в скупости. Между тем скупость Деникина вызывалась его поразительной честностью и опасением, как бы потом не обвинили его в расточительности. Но толпа видела крохотные оклады, особенно заметные при сравнении их с донскими и кубанскими окладами, испытывала нужду и не замечала чудной души, прекрасных порывов, кристальной честности Деникина»[77].
Относительно замкнутости отец Георгий, думаю, ошибается: Деникин был вполне общительным человеком – правда, в своем кругу. Среди пестрой публики, составлявшей окружение главнокомандующего Вооруженными силами Юга России в 1919 году, он чувствовал себя непривычно, неловко, оттого и казался замкнутым.
На фоне осторожно-сочувственных или прямо хвалебных отзывов о Деникине диссонансом звучит краткий фрагмент в мемуарах Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича:
«Антона Ивановича я знал еще по Академии Генерального штаба, слушателями которой мы были в одно и то же время. Приходилось мне встречаться с Деникиным и в годы службы в Киевском военном округе.
Репутация у него была незавидная. Говорили, что он картежник, не очень чисто играющий. Поговаривали и о долгах, которые Деникин любил делать, но никогда не спешил отдавать. Но фронт заставляет радоваться встрече с любым старым знакомым, и я не без удовольствия встретился с Антоном Ивановичем…
Деникин был все тот же – со склонностью к полноте, с такой же, но уже тронутой сединой шаблонной бородкой на невыразительном лице и излюбленными сапогами „бутылками“ на толстых ногах.
Я пригласил генерала к себе. Расторопный Смыков, мой верный слуга и друг, мгновенно раздул самовар, среди тайных его запасов оказались водка и необходимая закуска, и мы с Антоном Ивановичем не без приятности провели вечер.
– А знаете, Михаил Дмитрич, я ведь того… собрался уходить от Брусилова, – неожиданно признался Деникин…
– С чего бы это, Антон Иванович? – удивился я. – Ведь оперативная работа в штабе армии куда как интересна.
– Нет, нет, уйду в строй, – сказал Деникин. – Там, смотришь, боишко, чинишко, орденишко! А в штабе гни только спину над бумагами. Не по моему характеру это дело…»[78]
О генерале Бонч-Бруевиче у нас речь впереди. Многое из того, что он пишет, надо читать как шифровку, в которой слова иногда меняют значения на противоположные. В своих мемуарах, написанных в советские времена, бывший царский генерал, исполнитель тайных поручений великого князя Николая Николаевича, многие годы ходивший под ножом сталинских чисток, естественно, не мог положительно отозваться о враге советской власти номер один, каковым считался Деникин. Отсюда эти навязчивые негативные эпитеты: если бородка, то шаблонная; если лицо, то невыразительное; если ноги, то толстые. Отсюда же бездоказательные, на уровне клеветы, обвинения в нечистой картежной игре. Все остальное построено по принципу: знающий – поймет. «Знающий» читатель понимал, конечно, что долги, которые якобы «любил делать» Деникин, обусловлены были скудостью жалованья армейского офицера. Многие офицеры жили в долг, и особенно – слушатели Академии Генерального штаба, из непритязательной провинции попавшие в столицу с ее блеском и дороговизной.
Главное, Бонч-Бруевич признает, что рад был встрече с Деникиным. В Советской стране такое признание уже стоило дорого и могло обернуться для пишущего крупными неприятностями. Суть их разговора в том, что Деникин высказывает намерение с теплого, карьерно выгодного штабного места уйти в строй, то есть, в условиях того момента, – прямо на передовую. Начальник бригады, каковым был назначен Деникин в сентябре 1914 года, – это командир, непосредственно руководящий боем, не засиживающийся на командном пункте, в штабе или в укрытии. Из всех генеральских должностей эта была связана с наибольшим риском для жизни, ведь «боишки» на фронте шли жестокие, кровавые. А вот в отношении «чинишек» она особых перспектив не сулила: служба начальника бригады проходила где-то там, в строю, а генерал-квартирмейстера – на глазах высокого начальства.
Кстати, и заключительная фраза, насчет характера, – тоже для посвященных.
Бонч-Бруевич окончил Академию Генштаба на год раньше Деникина, но был, конечно же, наслышан о скандальной истории следующего выпуска, 1899 года. Историю эту Деникин потом подробно опишет в книге воспоминаний «Путь русского офицера».
А дело вот в чем.
Для простого армейского офицера без связей едва ли не единственный путь к чинам в мирное время открывался через Академию Генштаба. Окончившие ее по первому разряду причислялись к Генеральному штабу, что впоследствии давало преимущество при замещении различных командных и штабных должностей. Однако достичь вожделенного первого разряда было трудно. Из примерно полутора тысяч офицеров, ежегодно устремлявшихся на штурм академических высот, более тысячи отсеивались на экзаменах в штабах округов. Из оставшихся только полтораста человек, после сдачи экзаменов в самой Академии, зачислялись на первый курс; многие потом отсеивались; третий (последний) курс оканчивало около сотни, из них лишь первые пятьдесят – по первому разряду. Как раз перед деникинским выпуском в Академии сменилось начальство. Новая метла – генерал Сухотин, креатура военного министра Куропаткина, – выметая старинный сор, задела и слушателей третьего курса. В последний момент перед выпуском была изменена система начисления баллов (по утверждению Деникина, изменена произвольно, сумбурно и незаконно). В результате несколько выпускников, уже состоявших в списках перворазрядников, были из него вычеркнуты. Один из них – штабс-капитан Деникин. Крах карьеры.
И вот Деникин сделал то, на что никогда не решились бы 999 из тысячи самых храбрых офицеров русской армии. Он подал жалобу непосредственно государю императору. Можно представить себе, какой переполох поднялся в Академии, в Генштабе, в министерстве! О поступке Деникина только и говорили выпускники и слушатели Академии. Дело пытались замять всеми способами. Предлагали подать «прошение о милости», обещая благоприятный ответ. Деникин отрезал: «Милости не прошу, а добиваюсь того, что мне полагается по праву».
Жалоба штабс-капитана завертелась в водовороте придворно-правительственных интриг. Обвинение начальника Академии в беззаконии било по Куропаткину. Враги военного министра, имевшие поддержку в лагере министра финансов Витте, рьяно взялись помогать «бедному офицеру», постарались довести историю до императора в выгодном им свете – и, видимо, перестарались. Разумеется, Деникин не имел понятия об этих тайных пружинах своего дела. Он ждал правды от государя.
Настал день, когда выпускники Академии должны были представиться Николаю II. Во дворце они были выстроены в порядке полученных баллов. Деникин оказался за роковой чертой, во втором разряде. Наконец вошел государь император.
Из воспоминаний Деникина:
«По природе своей человек застенчивый, он, по-видимому, испытывал немалое смущение во время такого большого приема – нескольких сот офицеров, каждому из которых предстояло задать несколько вопросов, сказать что-либо приветливое. Это чувствовалось по его добрым, словно тоскующим глазам, по томительным паузам в разговоре и по нервному подергиванию аксельбантом.
Подошел, наконец, ко мне. Я почувствовал на себе со стороны чьи-то тяжелые, давящие взоры… Я назвал свой чин и фамилию. Раздался голос государя:
– Ну, а вы как думаете устроиться?
– Не знаю. Жду решения Вашего Императорского Величества.
Государь повернулся вполоборота и вопросительно взглянул на военного министра. Генерал Куропаткин низко наклонился и доложил:
– Этот офицер, Ваше Величество, не причислен к Генеральному штабу за характер.
Государь повернулся опять ко мне, нервно обдернул аксельбант и задал еще два незначительных вопроса: долго ли я на службе и где расположена моя бригада? Приветливо кивнул и пошел дальше.
Я видел, как просветлели лица моего начальства. Это было так заметно, что вызвало улыбки у некоторых близ стоявших чинов свиты… У меня же от разговора, столь мучительно жданного, остался тяжелый осадок на душе и разочарование… в „правде воли монаршей“…»[79]
Так что слова о характере, произнесенные Деникиным в разговоре с Бонч-Бруевичем (или приписанные ему Бонч-Бруевичем) имели определенный и весьма лестный для репутации Деникина подтекст. Не причислен за характер.
Правда, в капитаны он был-таки при выпуске произведен. Вернулся в бригаду. Но не успокоился. Через два года написал письмо Куропаткину. И получил неожиданный ответ в виде телеграммы: высочайшим повелением он включен в списки офицеров Генерального штаба. Видимо, в Петербурге, в министерстве или в Зимнем дворце, изменилась погода.
В мемуарах Деникин приписал это чудо раскаянию Куропаткина. Но, надо полагать, и в первом и во втором случае решение определялось все-таки именно «волей монаршей». Тогда, на церемонии представления, самодержец не мог оказать высочайшую милость офицеру, потому что это было бы расценено всеми как выражение немилости министру. В чуткой к интригам придворной среде такой афронт имел бы непременным следствием бегство сторонников Куропаткина от него на противоположную сторону. Шаткое равновесие группировок было бы нарушено, «система сдержек и противовесов» пришла бы в опасное движение… Нельзя!
Нельзя сейчас. Надо выждать. Придет благоприятный момент.
Эти слова часто, слишком часто вынужден был говорить себе последний российский самодержец. В случае с капитаном Деникиным благоприятный момент пришел. Но в других случаях его так и не удалось дождаться: в очень важных случаях, на судьбоносных переломах. И вот в итоге император с «добрыми, словно тоскующими глазами» оказался жертвой собственного бессилия. И с ним – тысячи, десятки тысяч, миллионы…
Впрочем, это все станет явью через пятнадцать лет после благополучного завершения истории о деникинском характере.
Анализируя причины поражений русских войск в Русско-японской войне, один из главных виновников этих самых поражений, генерал-адъютант и военный министр Куропаткин, писал, что в предвоенные годы в нашей армии «люди с сильным характером, люди самостоятельные, к сожалению, не выдвигались вперед, а преследовались; в мирное время они для многих начальников казались беспокойными. В результате такие люди часто оставляли службу. Наоборот, люди бесхарактерные, без убеждений, но покладистые, всегда готовые во всем соглашаться с мнением своих начальников, выдвигались вперед»[80]. Истинная правда. Это мы видели на вышеуказанном примере. То же самое, надо сказать, имело место и после Русско-японской войны.
Деникину, человеку самостоятельному и с сильным характером, для того чтобы выдвинуться, нужны были особые условия. Как только началась война в Маньчжурии, старший адъютант штаба II кавалерийского корпуса Генерального штаба капитан Деникин подал рапорт о командировании его в действующую армию (вот оно: «боишко, чинишко, орденишко»). В марте 1904 года, не залечив травму, полученную при падении вместе с лошадью на зимних маневрах, Деникин отправился на Дальний Восток – в штаб 3-й бригады Заамурского округа отдельного корпуса пограничной стражи.
Подробности маньчжурской эпопеи Деникина и всей русской армии мы рассказывать не будем. Сам Деникин правдиво и развернуто описал свою фронтовую жизнь на пространствах между Ляояном и Харбином в книге «Путь русского офицера». Бульшую часть военного времени он прослужил в кавалерии под командованием генералов Ренненкампфа и Мищенко. Отметим тот факт, что в боевых условиях он нашел себя, а чины и награды нашли его. Должности, которые он занимал, – начальник штаба бригады, потом дивизии – полковничьи, а то и генеральские. Уже в конце 1904 года красный крестик ордена Святой Анны с мечами и бантом (третья степень, «за военные, против неприятеля, подвиги») заблестел на его мундире, а на плечах уже красовались свеженькие погоны с двумя штаб-офицерскими просветами и звездочками подполковника. К этому добавился вскоре Станислав второй степени с мечами. Перед самым заключением мира пришло производство в полковники – «за боевые отличия». И наконец, уже после завершения войны аннинский крестик переместился на шейную ленточку (степень вторая).
С войны вернулся новый Деникин – тридцатитрехлетний боевой полковник и российских императорских орденов кавалер.
Да, все-таки мирное время – не для таких людей. Следующие девять лет его жизни прошли, может быть, и плодотворно для внутреннего развития, но как-то непримечательно. Вновь офицер для особых поручений при штабе корпуса в Варшаве (год). Потом штаб-офицер при управлении бригады в Саратове (три с половиной года). Потом командир 17-го пехотного Архангелогородского полка в Житомире (почти четыре года). Полковничьи погоны уже, кажется, приросли к плечам. Что ж, так и суждено умереть полковником?
Наконец в марте 1914 года решающий ход судьбы: назначение на должность генерала для поручений при командующем войсками Киевского военного округа, генерал-адъютанте, генерале от артиллерии Николае Иудовиче Иванове. Через три месяца, 21 июня (4 июля), – производство в генерал-майоры «за отличия по службе».
В это время уже полным ходом раскручивалась пружина общеевропейского кризиса.
Мятник войны и мира качался туда и сюда. В войну верить не хотелось, и ничего к ней не было готово.
Мобилизация обрушилась на штабы как снег на голову. Штаб Киевского округа был, как и все, захвачен врасплох потоком событий.
Из воспоминаний Деникина:
«…Колебания, отмены, проволочки, „ордры и контрордры“ Петербурга, продиктованные иллюзорной надеждой до последнего момента избежать войны, вызывали в стране чувство недоумения, беспокойства и большую сумятицу. <…>
…Плана формирования штаба и управления новой 8-й армии не существовало вовсе. Высший состав армии был назначен телеграммой из Петербурга 31 июля, т. е. в первый день мобилизации. Прочий личный состав мне пришлось набирать экспромтом с большими трудностями, в хаосе первых дней мобилизации. А тыловые учреждения были составлены для 8-й армии только на 15-й день мобилизации…
…Мы не имели новых данных о правах и обязанностях, о штатах и окладах должностных чинов войск, штабов и учреждений. <…>
Вообще об этой первой неделе мобилизации у меня и у моих сотрудников осталось впечатление какого-то сплошного кошмара»[81].
18 (31) июля (в то самое время, когда в Виннице Брусилов с Калединым и другими генералами корпуса решали головоломные вопросы развертывания) в Киев, в штаб округа, пришла телеграмма об образовании командования 8-й армии. Командующий – Брусилов; начальник штаба – Ломновский; генерал-квартирмейстер штаба – Деникин.
Должность генерал-квартирмейстера в дореволюционной армии примерно соответствует должности начальника оперативного отдела штаба в войсках советского времени. Разработка операций, планы перемещений, боевая подготовка и обучение личного состава, разведка и контрразведка – все это входило в его компетенцию. Работа кабинетная, тонкая, кропотливая, элитарная. Что и говорить, не по деникинскому характеру. Сам он впоследствии признавался: «Штабная работа меня не удовлетворяла. Составлению директив, диспозиций и нудной, хотя и важной штабной технике я предпочитал прямое участие в боевой работе, с ее глубокими переживаниями и захватывающими опасностями»[82]. Уже на исходе первого месяца войны, в разгар Галицийской битвы, Деникин стал проситься в строевые части. Тогда и состоялся известный нам разговор между ним и недавно назначенным генерал-квартирмейстером 3-й армии Бонч-Бруевичем. 24 августа приказом командующего 8-й армией Брусилова генерал-майор Деникин был назначен начальником 4-й стрелковой бригады.
Эта бригада, позднее развернутая в дивизию, имела долгую боевую историю, восходящую к Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и с тех еще пор носила наименование «Железная». В ходе боев первого года мировой войны к ней приросло не такое красивое, но, если вдуматься, еще более почетное прозвание: «пожарная команда 8-й армии». Деникин наконец-то нашел свое место: во главе такого соединения он мог и должен был войти в историю.
Как раз в день его назначения на новую должность австро-венгерские войска перешли в наступление западнее Львова. Началось Городокское (или Гродекское) сражение, решившее исход первой битвы за Галицию. По левому флангу армии Брусилова был нанесен мощный удар, грозивший обходом Львова с юга. На острие этого удара оказались 4-я бригада Деникина и 48-я дивизия Корнилова. Под сильным натиском противника, неся большие потери, 48-я дивизия стала подаваться назад, обнажая фланг деникинской бригады. Обходной удар 12-й кавалерийской дивизии Каледина отчасти выправил положение. Левый фланг 8-й армии устоял. 28 августа в ходе сражения наступил перелом; австрийцы начали откатываться на запад.
Так в Городокском сражении соединились биографии четырех наших героев: Брусилова, Каледина, Деникина, Корнилова.
Георгиевское оружие с бриллиантами
Деникин действительно оказался прекрасным боевым командиром. Он, что называется, хорошо чувствовал пульс боя, умел поддержать и стойкость войск в обороне, и порыв в атаке.
В середине октября 1914 года на фронте 8-й армии шли затяжные позиционные бои. Ежедневные безрезультатные атаки и контратаки, перестрелки; постоянное напряжение, телесное и душевное; потери, смысл которых непонятен… Такая обстановка надоедает всем – и солдатам, и офицерам, порождает безотчетное желание рвануть по-настоящему. Уж лучше в наступление, чем так… Обходя расположение бригады, осматривая позиции противника, Деникин своим врожденным солдатским чутьем почувствовал нечто напряженно-вопросительное в лицах, в движениях, в уставных и неуставных разговорах бойцов. И понял: надо! Внезапно, без подготовки и санкции свыше, приказал полкам атаковать близко расположенный участок боевой линии австрийцев. Неожиданный порыв – и блестящий успех: прорыв тактической обороны и захват села Горный Лужек[83], в котором, как оказалось, располагался штаб командующего VII австрийским корпусом эрцгерцога Иосифа Августа. Все это произошло настолько внезапно, что сам эрцгерцог со своими штабными едва успел бежать, когда деникинские стрелки уже ворвались на окраину деревни. Командир Железной бригады мог похвастаться тем, что в Горном Лужке ему довелось отведать еще неостывшего кофе, сваренного для родственника австрийского императора.
Конечно, большого стратегического значения этот эпизод не имел, но Деникину принес известность и орден Святого Георгия четвертой степени.
Подобные боевые происшествия случались и позже.
В ноябре смелым налетом был захвачен городок и станция Мезиляборч[84]. Его, правда, тут же пришлось оставить, но трофеи, пленные и слава достались Деникину и его бригаде.
В феврале 1915 года – еще одно успешное, хотя и нелегкое дело: бросок на помощь дивизии Каледина (как раз перед самым ранением будущего донского атамана), бои в заснеженных предгорьях Карпат, захват деревни Лутовиско[85] и высот близ нее.
Е. Э. Месснер о февральских боях:
«В Карпатах австро-венгры предприняли отчаянное наступление, чтобы прорваться к Перемышлю и деблокировать его. На горе Козювка 4-я стрелковая дивизия генерала Деникина, не ощущая страшного горного холода, в жарком бою отбила в сутки 24 атаки»[86].
Эта победа, давшаяся большой кровью, украсила шею генерала Деникина Георгиевским крестом третьей степени и оставила тяжкий след в его памяти: «Не забыть никогда этого жуткого поля сражения… Весь путь, пройденный моими стрелками, обозначался торчащими из снега неподвижными человеческими фигурами с зажатыми в руках ружьями. Они – мертвые – застыли в тех позах, в каких их застала вражеская пуля во время перебежки. А между ними, утопая в снегу, смешиваясь с мертвыми, прикрываясь их телами, пробирались живые навстречу смерти»[87].
В мае весь русский фронт покатился назад, на восток, унося и «железных стрелков» Деникина. Гибельное отступление прекратилось только осенью. Но жестокие бои не утихали.
В сентябре 1915 года австрийцы предприняли попытку прорвать еще не устоявшийся русский фронт в направлении на Ровно. Дивизия Деникина (к этому времени развернутая из бригады) оказалась под сильным напором противника. Спасая положение, русское командование осуществило контрудар на Луцк, увенчавшийся неожиданным (хотя и временным) успехом. Честь осуществления этого первого за полгода на всем русском фронте удачного наступления не могли потом поделить генералы Брусилов, Зайончковский и Деникин.
Брусилов излагает события так:
«При подходе к Луцку Стельницкий (командир XXXIX корпуса, в который включена была Железная дивизия. – А. И.-Г.) доносил, что начальник 4-й стрелковой дивизии Деникин затрудняется штурмовать этот город, сильно укрепленный и защищаемый большим количеством войск. Я послал тогда телеграмму Зайончковскому (командиру XXX корпуса. – А. И.-Г.) с приказанием атаковать Луцк с севера, чтобы помочь Деникину. Зайончковский тотчас же сделал соответствующие распоряжения, но вместе с тем в приказе по корпусу объявил, что 4-я стрелковая дивизия взять Луцк не может и что эта почетная задача возложена на его доблестные войска. Этот приказ, в свою очередь, уколол Деникина, и он, уже не отговариваясь никакими трудностями, бросился на Луцк, одним махом взял его, во время боя въехал на автомобиле в город и оттуда прислал мне телеграмму, что 4-я стрелковая дивизия взяла Луцк… Впоследствии оба эти генерала смотрели друг на друга очень враждебно и примириться так и не могли»[88].
Деникин описывает ситуацию динамичнее и короче:
«Я вызвал к телефону своих трех командиров полков и, очертив им обстановку, сказал:
– Наше положение пиковое. Ничего нам не остается, как атаковать.
Все три командира согласились со мной.
Я тут же отдал приказ дивизии: атаковать Луцк с рассветом. <…>
Вслед за сим Зайончковский донес о взятии им Луцка. Но на его телеграмме Брусилов сделал шутливую пометку: „…и взял там в плен генерала Деникина“»[89].
Свою долю желчи и скепсиса в луцкую историю вносит генерал В. И. Соколов:
«За взятие Луцка, в котором главная тяжесть и честь боя принадлежала VIII корпусу, Деникин получил одну из редких боевых наград – бриллианты на Георгиевское оружие, ибо въехал в Луцк в автомобиле и там с драгунами кого-то побеждал, как значилось в газетах; как это возможно сделать при наличии перед Луцком заблаговременно укрепленных позиций с 9 рядами проволоки, если предварительно не взять эту позицию, газетным писакам, да, по-видимому, и высокому начальству не приходило в голову, но факт взятия Луцка Деникиным на автомобиле закрепили осыпанным бриллиантами Георгиевским оружием. Возбужденному по этому поводу протесту VIII корпуса, конечно, не только не был дан ход, но он даже не дошел до адресата, бывшего начальника штаба фронта Клембовского»[90].
Здесь Соколов смешивает два эпизода: взятие Луцка в сентябре 1915 года, породившее полулегендарную историю о въезде комдива в пылающий город на автомобиле, и штурм того же города в мае 1916 года. За первую удачу Деникин был произведен в генерал-лейтенанты, за вторую получил то самое георгиевское оружие с бриллиантами. Заметим, что такую награду за всю Первую мировую войну получили всего восемь человек, причем за наступление Юго-Западного фронта в 1916 году – двое: Брусилов и Деникин.
Во втором взятии Луцка в ходе Брусиловского прорыва дивизия Деникина участвовала, наступая на самом что ни на есть Центральном направлении – штурмуя в лоб оборонительные рубежи противника, пробивая кровавый путь на запад. 22 мая пошли в атаку; к утру 23 мая прорвали первую полосу у деревни Жарнище. За первой полосой обороны была вторая, пробитая на следующий день; за второй третья – опирающаяся на извилистую речку Стырь.
Участник прорыва Е. Э. Месснер:
«Третья вражеская фортификационная полоса в оперативном коридоре, которым шла Ровненская группа, лежала на восточном берегу реки Стырь, прикрывая Луцк и переправу в нем, а также мостовые переправы выше и ниже по течению реки. Укрепления были очень солидны, в особенности по сторонам от Ровно-Луцкого шоссе, где предстояло атаковать 4-й стрелковой и 15-й пехотной дивизиям… Нам надо было атаковать поспешно, пока противник подкреплен лишь местными резервами, пока не подошли свежие силы из тыла. Начальники двух дивизий – генералы Деникин и Ломновский, не сговариваясь, решают атаковать, что называется, с ходу: развернули свои походные колонны в боевой порядок и дали приказ: пехоте атаковать, а артиллерии поддержать атаку. Бой начался часов в 9 утра 25 мая. <…>
Под вечер 25 мая 4-й стрелковой дивизии удалось ворваться и прорваться через укрепленную полосу врага. Прорвалась затем и 15-я пехотная дивизия. Обе устремились вперед: 15-я – на Луцк, как ей было заранее указано, а 4-я – к реке Стырь; но и ее, словно магнит, притягивал Луцк, и поэтому ее левый фланг захватил одно из предместий города, когда полки генерала Ломновского брали город и мостовую переправу в центре его. Ночью обе победоносные дивизии переправились через Стырь. Враг бежал. 25 мая число пленных возросло до 1240 офицеров и 71 000 солдат, а количество трофеев увеличилось до 94 орудий, 232 пулеметов и бомбометов»[91].
Луцк был взят, но дальнейшее наступление замедлилось. Продвигаясь вперед, на Ковель, дивизия лоб в лоб столкнулась с переброшенными с севера немецкими частями. С середины июня развернулись кровавые и малорезультативные встречные бои на Ковельском направлении. Сюда подходили все новые резервы, здесь они таяли, перемалывались, истекали кровью. Таяла и дивизия Деникина. Бои шли за крохотные деревушки, малоприметные высоты, ложбинки, рощицы. Стратегические задачи наступления растворялись, тонули в море дробных и невыполнимых тактических задач. По мере того как утрачивался смысл сражения, командиры переставали понимать суть происходящего, теряли видение боя.
Из воспоминаний барона Карла Маннергейма, в 1916 году генерал-майора, начальника 12-й кавалерийской дивизии (той самой, которой в начале войны командовал Каледин):
«Дивизия была уже на полпути к Ковелю. Неподалеку от моей колонны возвышались несколько холмов. Судя по всему, генерал Деникин, дивизию которого мы оставили позади, не видел в них никакого практического смысла. Поскольку генерал не позаботился о захвате высот, я решил сделать это по собственной инициативе. Но стоило моим частям пойти в атаку, как сражение за эти высоты началось буквально со всех сторон. По сведениям, полученным от пленных, мы узнали, что силы, атакованные нами, были передовыми частями немецких войск, переброшенных из Ковеля. Как видно, начали прибывать резервы из Германии. Я позвонил Деникину и предложил ему в течение дня сменить мои части на этих высотах, если он не хочет, чтобы холмы оказались в руках неприятеля. Генерал отказался – он уже начал передислокацию, но в дальнейшем, если высоты ему понадобятся, он всегда сможет захватить их. На что я ответил, что через какое-то время будет очень сложно отбросить немцев назад.
– Где вы видите немцев? – закричал Деникин. – Здесь нет никаких немцев!
Я сухо заметил, что мне легче их видеть, так как я стою прямо перед ними… Когда мою дивизию с приходом ночи отвели в резерв армейского корпуса, холмы снова оказались в руках немцев. Значение этого факта генерал Деникин осознал уже на следующий день»[92].
Это значит: снова приказ атаковать высоты, снова, после кратенькой артподготовки, а то и вовсе без нее, бегут солдаты вперед, кричат «ура», падают, уцелевшие отбегают и отползают назад, таща за собой раненых… И снова «ура», в атаку…
О результатах этих безрезультатных боев мы уже рассказывали.
В конце августа 1916 года генерал-лейтенант Деникин был назначен командиром VIII корпуса. Когда луцко-ковельско-владимир-волынская бойня стала выдыхаться, корпус был переброшен на новообразованный Румынский фронт. Там и находился к исходу зимы 1917 года.
В своем первом стихийном порыве – «Долой царя!» – революция соединила огромные массы, десятки миллионов россиян. Но как только ближайшая общая цель была достигнута, революция приступила к делу разделения. И первая линия разлома прошла между теми, кто всей душой, всей силой деятельно включился в творение событий, и теми, кто поплыл по течению, попадая в водовороты и ударяясь о берега, восторгаясь или возмущаясь происходящим и в глубине души надеясь поскорее успокоиться в тихой заводи.
Активных участников русской смуты было ничтожно мало: единицы на тысячи. Пассивные составляли огромное, подавляющее большинство. Но, увлеченные инерцией движения, они создавали ту гигантскую массу, которая сметала все на своем пути и либо подхватывала отдельного человека своим потоком, либо убивала.
И сам поток в первые же недели стал разделяться на русла: сначала почти параллельные, потом все более расходящиеся… Потом отдельные потоки, закружившись, столкнулись между собой. Активные творцы событий прокладывали первоначальные направления потоков, но очень скоро сами оказывались во власти той инерции, которой положили начало, и тех масс, которые привлекли на свою сторону.
Из всех направлений, по которым устремились люди и события в самом начале революции, важнейшими были два: анархия и порядок, разгул и должность, безудерж и принцип, воля и строй. Впоследствии во главе так называемой контрреволюции (на самом деле – одного из мощнейших потоков революционного происхождения) оказались преимущественно военные, офицеры и генералы. И это не случайно. Те, для кого невыносимы хаос и анархия, стражи порядка, честные прапорщики, добросовестные фельдфебели, заслуженные генералы.
Конечно, Белое движение (название тоже условно) в последующие год-два вобрало в себя множество самых разнородных личностей, среди которых были недавние разрушители устоев, революционеры, обличители, бомбисты. Но все же силу, костяк этого лагеря составили не они. И первыми были не они, а оскорбленные и униженные, но смелые и готовые к борьбе люди порядка. Такие, как Деникин, Крымов, Алексеев, Май-Маевский, Дроздовский, Врангель и те неизвестные пофамильно солдаты, офицеры, унтера, которые предпочитали смерть в бою жизни в перевернутом вверх тормашками мире.
Интересно, что именно революция на первых порах выдвинула Деникина в первые ряды российского генералитета. В конце марта 1917 года он, как один из самых популярных в армии генералов, к тому же по мировоззрению своему вполне либерал, по происхождению вполне демократ, был переведен в штаб Верховного главнокомандующего и вскоре назначен наштаверхом при главковерхе Алексееве. Но революция слишком быстро разрушала армию и все основы жизненного порядка, и Временное правительство не имело ни сил, ни желания бороться с этим. Деникин не мог ужиться с таким правительством. Уже в мае начались конфликты Деникина с комиссарами, с новым военным и морским министром Керенским, с Советами.
Когда Алексеев был смещен и в Ставке ненадолго воцарился гибкий Брусилов, строптивого Деникина отправили главкомом на Западный фронт.
Вот зарисовка: одно из бесчисленных заседаний лета 1917 года. Действующие лица: Верховный главнокомандующий Брусилов, главнокомандующий армиями Западного фронта Деникин и представители Исполнительного комитета Солдатского совета Западного фронта. Рассказчик – член Исполкома Запфронта большевик И. Е. Любимов.
«Маленький, тщедушный Брусилов – „типичный рубака“. Говорил он непривычные слова о революции, о свободе, и вылетали они неуклюже, отрывочно, как дурное и непривычное командование эскадрону.
– Как смотрит комитет на положение, о чем считает нужным заявить? – спрашивает он.
– Вот командование не дает нам автомобилей, не оказывает содействия в работе, – как-то некстати заявил председательствовавший товарищ председателя исполкома эсер Полянский…
Вдруг поднимается здоровенная солдафонская фигура генерала и, стуча кулаком по столу, заявляет:
– Какое вам содействие! Вы скажите сначала, как вы смотрите на наступление и отменили ли вы пораженческие резолюции?»
Конечно же, это взорвался Деникин. Исполкомовские эсеры обиделись, один из них вскипел:
«– Мы здесь собрались с представителями военного командования, по меньшей мере, как равные с равными. Поведение генерала Деникина грубо и недопустимо, и я предлагаю ему вести себя на нашем собрании более корректно, иначе мы вынуждены будем покинуть заседание.
Брусилов извиняется за Деникина, говорит, что не стерпело его русское сердце. Деникин сидит с налитым кровью лицом и злобно блестящими глазами…»[93]
Другое заседание, 16 июля того же года, Ставка Верховного главнокомандующего, – кстати говоря, последнее заседание, в котором Брусилов участвовал в качестве главковерха, а Деникин в качестве главкозапа. Прочие лица: военный министр Керенский, наштаверх Клембовский. Рассказывает Брусилов:
«Заседание затянулось до 12 часов ночи. Я… объяснил, каково было в то время действительное состояние армии. Я заявил, что стараюсь выполнять программу, выработанную моим предшественником Алексеевым, хотя считаю, что ее выполнить мудрено. Клембовский заявил что-то вроде моего. Когда же дело дошло до Деникина, то он разразился речью, в которой яро заявлял, что армия более не боеспособна, сражаться более не может, и приписывал всю вину Керенскому и Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Керенский начал резко оправдываться, и вышло не совещание, а прямо руготня. Деникин трагично махал руками, а Керенский истерично взвизгивал и хватался за голову. Этим наше совещание и кончилось»[94].
И там и там мы видим одно и то же: Деникин «стучит кулаком», «разражается речью», «трагически машет руками», «сидит с налитым кровью лицом». Не может он жить в таком кавардаке. Но и сдаваться он не приучен. Он будет бороться.
Вопрос о борьбе перед Деникиным не стоял – он был решен в нем изначально. 27 августа он, к тому моменту главнокомандующий Юго-Западным фронтом, не задумываясь, присоединился к выступлению Корнилова. Через два дня был арестован комиссаром Временного правительства Иорданским. Вместе с десятью соратниками заключен в Бердичевскую тюрьму.
Это означало: Рубикон перейден и возврата нет. Не казнит власть, так солдаты убьют корниловцев, когда только доберутся до них. При переводе группы арестованных генералов из Бердичева в Быхов едва удалось избежать солдатского самосуда. Это было 27 сентября, за месяц до Октябрьского переворота. После Октября выйти из тюрьмы и выжить стало равнозначно чуду.
Чудо совершилось: 19 ноября пришел приказ главковерха Духонина об освобождении быховских сидельцев. Они еще не знали, выходя из ворот тюрьмы, что этот приказ был для Духонина последним: уже приближается к Могилеву, к Ставке, отряд красных матросов из Петрограда, уже беспокойно поблескивают штыки, на которые завтра бросят Духонина…
И тут, в сей трагический момент, в простую ткань жизни Деникина вплетается неожиданно нежный, лирический узор.
«Я иногда думаю: а что если те славные, ласковые, нежные строчки, которые я читаю, относятся к созданному Вашим воображением идеализированному лицу, а не ко мне, которого Вы не видели шесть лет и на внутренний и внешний облик которого время наложило свою печать. Разочарование? Для Вас оно будет неприятным эпизодом, для меня – крушением… Письмо придет к Пасхе. Христос Воскресе! Я хотел бы, чтобы Ваш ответ был не только символом христианского праздника, но и доброй вестью для меня…»[95]
Это не отрывок из сентиментального романа, это строки из письма сорокатрехлетнего боевого генерала, прошедшего Городок, Карпаты, первый Луцк…
История женитьбы Антона Ивановича Деникина, как и положено подобным историям, окружена ореолом легенд. Если очистить ее от стилистики дамского романа, то получится примерно следующее.
Совсем молодой офицер Антон Деникин приезжает в провинциальную Белу. Гарнизонный быт скучен; общение офицеров однообразно; местной русской интеллигенции почти нет, поговорить не с кем. Развлечений в такой жизни немного: чьи-нибудь именины или крестины, приезд новых лиц, смена начальства. Ну, еще охота, на которую, как на праздник, собирается чуть ли не все городское русское «общество».
Как-то раз на охоте случается происшествие: разъяренный кабан несется прямо на податного инспектора Василия Чижа, тот едва успевает залезть на дерево… И тут поручик Деникин стреляет – кабан падает замертво. Эпизод, конечно же, забавный, хотя мог обернуться и трагедией. В благодарность за спасение инспектор приглашает поручика к себе домой – и офицер вскоре становится в семье Чижей своим человеком. Тут ему есть с кем побеседовать и за кем слегка поухаживать (этого требуют законы гарнизонной жизни). Хозяин дома умен и образован, хозяйка молода и обворожительна.
Ухаживания поручика, очевидно, не переходят за определенную черту. Доброе знакомство продолжается. И когда в семействе рождается дочка Ксения, поручика, разумеется, приглашают на крестины (к счастью, не крестным отцом, а то не состоялось бы в будущем соединение двух сердец). Идет время; штабс-капитан Деникин уезжает в Петербург, в Академию; через три года возвращается. Дочь податного инспектора подросла, ей уже семь лет. Офицер играет с ней, дарит ей приятные подарочки. Потом его переводят по службе, и он уезжает из Белы насовсем.
Проходят годы, и они вновь встречаются в Петербурге после Русско-японской войны. Ксения Чиж – воспитанница Института благородных девиц. Антон Деникин – полковник с орденами. Дядя Антон. Их знакомство продолжается эпизодически: Деникин служит в провинции и лишь изредка бывает в Петербурге. Но тем приятнее редкие встречи. Ксения – девушка артистичная, умная, ей интересно побеседовать, а порой поспорить с дядей Антоном о литературе, о жизни, об истории. Именно об истории: выйдя из института, Ксения поступает на Высшие женские курсы, с увлечением слушает лекции филологов и историков: Бодуэна де Куртенэ, Кареева, Приселкова, Сергея Федоровича Платонова…
Начинается Великая война. Деникин сражается на фронте, Ксения живет в Петрограде, куда отголоски войны доходят в виде газетных статей, списков убитых или представленных к наградам. В сентябре 1915 года Ксения узнает из газет: генерал Деникин во главе дивизии железных стрелков ворвался в город Луцк, захватил четыре тысячи пленных, обратил в бегство полчища австрийцев. Газетчики, конечно, разукрасили как могли эти события. Ксения пишет письмо генералу на фронт. Он отвечает взволнованно и радостно. Завязывается переписка. Через полгода приходит очередное письмо с Юго-Западного фронта. В нем – неожиданно – предложение руки и сердца.
Ксения в смущении. Все-таки дядя Антон, генерал, старше ее на двадцать лет… Но в сердце уже родилось решение. Она отвечает: согласна, но подождем до конца войны.
Трудно сказать, насколько двадцатитрехлетняя девушка верила в сделанный выбор. Год назад у нее был жених – погиб на фронте. Выбор, сделанный даже под влиянием случайности, постепенно подчиняет себе человека. К осени 1917 года Ксения Чиж уже привыкла считать себя невестой, почти женой генерала Деникина. А его имя звучало все громче, он стал знаменит.
Потом – корниловское выступление и его провал, имя Деникина среди арестованных… Она ездила в Быхов, навещала суженого в тюрьме. Потом октябрь, большевики, хаос… Страх за себя и за любимого человека. Да, уже так: любимого человека.
…Выйдя из ворот Быховской тюрьмы, генералы отправились кто куда. Несколько человек сговорились пробираться на Дон, к Каледину. Там нет Совдепов, там сохранился порядок, там можно что-то делать, собирать людей, бороться с наступившим ужасом.
Деникин через знакомых раздобыл документы на чужое имя, сбрил всем известную свою бородку, по-штатски подкоротил усы, переоделся в гражданское и отправился рискованным путем в Новочеркасск – по забитой составами железной дороге, в вагонах, переполненных дикой и пестрой публикой: мешочниками, солдатами, крестьянами, офицерами, уголовниками, буржуями, светскими дамами… Во всей этой смертельно опасной суматохе он не забыл списаться, связаться через знакомых со своей Ксенией. И она отправилась тоже, теми же безумными путями по охваченной смутой стране, в Новочеркасск. Там они встретились.
Новочеркасск был наводнен беглецами от совдепов, кипел, шумел. Формировались какие-то армии, войска, отряды.
Свидетельствует участник Белого движения писатель Роман Гуль:
«На тротуаре трудно разойтись: мелькают красные лампасы, генеральские погоны, разноцветные кавалеристы, белые платки сестер милосердия, громадные папахи текинцев.
По улицам расклеены воззвания, зовущие в „Добровольческую армию“, в „партизанский отряд есаула Чернецова“, „войскового старшины Семилетова“, в „отряд Белого дьявола – сотника Грекова“.
Казачья столица напоминает военный лагерь.
Преобладает молодежь – военные.
Все эти люди – пришлые с севера. Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов иногда попадаются солдаты в шинелях нараспашку, без пояса, с озлобленными лицами…»[96]
Деникин вместе с Алексеевым, Корниловым и иными занимался созданием Добровольческой армии. С севера наступали полуанархические отряды красных. Уже шли бои, уже Гражданская война стала фактом.
На Рождество, 25 декабря 1917 года, Антон Деникин и Ксения Чиж обвенчались в Новочеркасске. Сохранилась предсвадебная фотография. Жених, немолодой, в штатском пиджаке и галстуке, без бороды, бритоголовый, был бы похож на коммерсанта средней руки или на преуспевающего доктора, если бы не военная выправка. Невеста годится ему в дочери; волнистая прическа, пухлые губы, но во взгляде – решительность, такая же, как и в его взгляде.
В феврале Добровольческая армия с боями отступила с Дона на Кубань. Начались походы, тяготы, опасности. После гибели в апреле генерала Корнилова Деникин принял командование Добрармией, спас ее, повел в наступление. Летом 1918 года он уже признанный лидер движения, за которым закрепилось название Белого. После смерти Алексеева в сентябре того же года – главнокомандующий Добровольческой армией. С декабря – главнокомандующий Вооруженными силами Юга России. В феврале 1919 года у Деникиных родилась дочь, которую назвали Мариной.
Деникин оказался во главе белогвардейских сил, потому что он олицетворял собой самую суть Белого движения, причем позитивную суть. Он не был гением, харизматическим вождем, Бонапартом. В нем жило честолюбие и даже военное тщеславие, но идеал служения был сильнее. Служения кому? Когда-то, в юные годы, – царю. Царя нет. Значит – России.
Но той России, которой продолжал служить Деникин, тоже не было.
Соратники хотели видеть в нем нового князя Пожарского. Пожарский не был гением и вождем. Он просто делал свое дело, он просто был бескорыстен и честен. Деникин – главнокомандующий Вооруженными силами Юга России – тоже был бескорыстен и честен, тоже как мог делал свое дело. Но Пожарского повел за собой и потом стоял рядом с ним Кузьма Минин – олицетворение единства земли Русской. Рядом с Деникиным не было и не могло быть такого человека, потому что единство России перестало существовать.
В самом Белом движении не было никакого подобия единства; в войсках Деникина не было единоначалия. Разноголосица политических взглядов, столкновение амбиций, своекорыстие маленьких местных элит, порывы удалой грабительской вольницы, самостийная неуправляемость командиров, нерассуждающая жестокость одних и фаталистическое безразличие других… И над всем этим – малочисленная горстка людей, проникнутых благородными намерениями, ни над чем не властвующих, несущихся на волнах событий в неизвестном им самим направлении. Вот что представляло собой Белое движение и белая армия. Такая армия могла совершать подвиги и одерживать временные победы, но не могла существовать долго. Она была обречена на распад.
Роман Гуль:
«Как добровольно я вступил в Добрармию, так же добровольно и ушел. Я не мог оставаться – и политически и душевно. Политически потому, что всем существом чувствовал: такая „офицерская“ армия победить не может. Несмотря на доблесть и героизм ее бойцов, поражение ее неминуемо. И вовсе не потому, что „псевдонимы“[97] сильнее (они слабее), а потому, что народ не с ней. К белым народ не хотел идти: господа. Здесь сказался один из самых больших грехов старой России: ее сословность. И связанный с ней страшный разрыв между интеллигенцией и народом… Если бы вместо генерала Антона Деникина во главе армии стал бы тамбовский сельский учитель Антонов с мужицким лозунгом „земля и воля“, тогда бы дело было иное. Но в 1918 году до взрыва крестьянских восстаний (тамбовского, Кронштадта и др.) было далеко. Крестьяне еще пребывали в бакунинском дурмане революции. И царскому генералу Антону Деникину… мужик не верил»[98].
«Той» России нет. Но ведь какая-то есть, ведь не исчезла же она, одна шестая часть суши! Вот она, вот, перед нами, и мы видим ее, но узнать не можем. И мы не можем принять ее, и она нас.
Впрочем, это отвлеченные рассуждения. А война – конкретна. Она требует людей. В начале 1918 года Белое движение было слабо: люди хотели мира, какого угодно, любой ценой. Но к лету ситуация изменилась. Мирный договор в Брест-Литовске был подписан, армия демобилизована.
И тут оказалось…
Первое: цена мира непомерна. Расчленение российской территории, грабительская контрибуция похуже ордынской дани, унизительное чувство всенародного провала.
Второе: среди миллионов демобилизованных не всем мирная жизнь пришлась по душе. А удаль? А риск? А подвиг? Скучно сидеть на печи. Не лучше ли пойти погулять по волюшке, да с оружием, принесенным с войны…
Третье: да мира-то нет, его нет дома, в тылу. Два простых слова, под воздействием которых развалилась в 1917 году русская армия – «мир» и «земля», – столкнулись друг с другом, и произошел взрыв. Коль настал мир, надо делить землю. А как? И началась война за землю – ту самую, которая и есть Россия.
Конфликт из-за земли между малоимущими «иногородними», которых поддерживало правительство Ленина, и коренными казаками, организованными и сплоченными, привел ко всеобщему казачьему восстанию против Советов. Ситуация на всем Юге России изменилась. Летом 1918 года добровольцы Деникина при поддержке кубанских казаков Шкуро отвоевали Кубань. В ноябре рухнула добитая западными союзниками и революцией Германия. Появилась надежда: теперь-то большевикам, германским шпионам, не устоять! При поддержке былых союзников, Антанты, – объединить усилия в борьбе! Глава Дона атаман Краснов, нуждаясь в помощи профессиональных военных, заключил союз с Деникиным. Дон снова поднял трехцветное знамя.
В январе – феврале Вооруженные силы Юга России разгромили красных на Северном Кавказе. В апреле – мае перешли в наступление в Нижнем Поволжье и в Донбассе. В июне взяли Харьков, Екатеринослав[99], Царицын[100].
3 июля главнокомандующий Деникин подписал директиву:
«Имея конечной целью захват сердца России – Москву, приказываю:
1. Генералу Врангелю выйти на фронт Саратов – Ртищево – Балашов… и продолжать наступление на Пензу, Рузаевку, Арзамас и далее – Нижний Новгород, Владимир, Москву…
2. Генералу Сидорину… продолжать выполнение прежней задачи по выходу на фронт Камышин – Балашов. Остальным частям развивать удар на Москву в направлениях: а) Воронеж, Козлов, Рязань и б) Новый Оскол, Елец, Кашира.
3. Генералу Май-Маевскому наступать на Москву в направлении Курск, Орел, Тула. Для обеспечения с запада выдвинуться на линию Днепра и Десны, заняв Киев и прочие переправы на участке Екатеринослав – Брянск…»[101]
Смысл этого документа укладывается в два слова: «На Москву!»
Летом и осенью 1919 года судьба России, да, может быть, и всего мира, решалась на пространствах между Доном, Днепром и Окой, где в вихре встречных боев, стремительных обходов и тыловых рейдов сошлись Красная армия и Вооруженные силы Юга России. Во главе этих войск стояли два выученика одной школы, два выпускника Императорской Николаевской академии Генерального штаба. Они не были вождями своих армий, скорее профессионалами-штурманами, волей обстоятельств оказавшимися у руля почти неуправляемых, несущихся навстречу друг другу кораблей. И вот что удивительно: в то время как главнокомандующим армиями «их превосходительств» был внук крепостного крестьянина Антон Иванович Деникин, главкомом армии рабочих и крестьян был назначен потомственный дворянин, военный интеллигент, кабинетный работник, бывший Генерального штаба полковник Сергей Сергеевич Каменев. Вот уж действительно: свой среди чужих, чужой среди своих.
Сергей Сергеевич Каменев – герой полузабытый. И в Советской стране, и в мире русской эмиграции о нем редко вспоминали, мало писали. В Советской-то стране его имя долгое время вообще пребывало под запретом. В 1937 году он (редкий случай) посмертно был причислен к лику врагов народа. И хотя после ХХ съезда партии обвинения с него были сняты, все-таки советские военные историки и авторы популярных книг предпочитали о нем помалкивать.
Но затененность его образа объясняется не только этим. Он вообще до странности неброский человек. Хотя внешностью обладал неординарной: высокий, крепкий, черты лица правильные, можно сказать красивые. Глаза крупные, стеклисто-влажные. Взгляд внимательный, проникновенный. И главная примета: огромные роскошные усы. Не усы, а усищи.
С этими усами связана биографическая легенда. В 1903 году двадцатидвухлетний поручик Каменев прибыл в Петербург сдавать экзамены в Николаевскую академию Генерального штаба. В своих силах и знаниях был уверен. И вдруг – неудовлетворительная оценка. Провал. Прошло несколько месяцев. Отец нашего поручика, полковник, отдыхая где-то на курорте, познакомился с неким преподавателем Академии, тоже полковником. Слово за слово – выяснилось, что этот второй полковник и есть экзаменатор, который Сергея зарубил.
– Да помилуйте, за что же?
– Понимаете, как получилось… Принимаю экзамен. Соискателей много. Устал. Смотрю вполглаза: сидит офицер, готовится к ответу; над листом бумаги низко склонился; лица не видно, зато видны огромные усы. Старик, что ли, какой-то? Что ж, таких стариков в Академию брать? Не надо!
И, не выслушав, влепил неудовлетворительный балл.
Это, скорее всего, вымысел, нечто вроде анекдота. Об усах Каменева всегда в военной среде ходили шутки, добрые и недобрые. Кто-то из недругов пустил такую злюку: «Сергей Сергеевич Каменев – это человек с большими усами и маленькими способностями». Несправедливость сего Каменев доказал, поступив в Академию и окончив ее по первому разряду, – но шепоток о соотношении длины усов и размеров ума следовал за ним всю жизнь. В годы Гражданской войны мифология каменевских усов пополнилась бесспорно положительным для массового сознания мотивом. В 1919 году весной Каменев был назначен командующим красным Восточным фронтом, в составе которого действовала дивизия Чапаева. Чапай, понятное дело, решил проверить, что там за Генштаба полковник такой поставлен над ним командовать. Не крыса ли кабинетная, не контра ли? Отправил «на разведку» в штаб фронта своего посланца, бойца Якова Пугача. Тот поехал. Вернулся. Характеристику новому главкому дал положительную:
«Перво-наперво – усищи во-о-о! Глазищи как у разбойника Чуркина. Собой детина што надо. Ручищи… Во! Одно слово, старик правильный. Как мигнет глазами, ажно мурашки по загривку пойдут»[102].
Старику, заметим, было тридцать восемь лет.
По своему происхождению, по обстоятельствам детства и юности и даже по особенностям характера Каменев – прямая противоположность Деникину (по крайней мере, тому Деникину, каким мы его видели до рокового 1919 года).
Деникин решителен и энергичен; Каменев раздумчив, склонен семь раз отмерить. Деникин, когда считает нужным, смело идет на конфликт; Каменев покладист, ссор не любит. Деникин может стукнуть кулаком по столу, крикнуть по-генеральски. Каменев тих, выдержан, голос не повышает (хотя «мигнуть глазами» может – так, что мурашки по спине бегут). Деникин – строевой командир, любит музыку боя, штабная работа не по нем; Каменев – типичный штабист, постоянно размышляющий над картой, знающий толк в бумажной работе. Деникин всегда на виду; Каменев всегда в тени.
Но есть между ними нечто общее. В оценках современников оба они предстают одинаково незапятнанными. О Деникине писали многие; характеристики Каменева встречаются в мемуарах участников Первой мировой и Гражданской войн несравненно реже. В этих характеристиках, даже когда они принадлежат заклятым врагам или лукавым недоброжелателям, нет обвинений в злых и неблаговидных делах, нет проклятий.
Лев Давидович Троцкий, председатель Реввоенсовета республики, начальник и отчасти покровитель Каменева в годы Гражданской войны:
«Каменев… отличался оптимизмом, быстротой стратегического воображения. Но кругозор его был еще сравнительно узок, социальные факторы Южного фронта: рабочие, украинские крестьяне, казаки – не были ему ясны… Я не переоценивал Вацетиса (предшественника Каменева на посту главкома РККА. – А. И.-Г.), дружески встретил Каменева и стремился всячески облегчить его работу… Трудно сказать, кто из двух полковников был даровитее. Оба обладали несомненными стратегическими качествами, оба имели опыт Великой войны, оба отличались оптимистическим складом характера, без чего командовать невозможно. Вацетис был упрямее, своенравнее и поддавался, несомненно, влиянию враждебных революции элементов. Каменев был несравненно покладистее и легко поддавался влиянию работавших с ним коммунистов… С. С. Каменев был, несомненно, способным военачальником, с воображением и способностью к риску. Ему не хватало глубины и твердости»[103].
Генерал-майор Петр Семенович Махров, в 1916 году исполняющий должность генерал-квартирмейстера 8-й армии Каледина; во время Гражданской войны начальник штаба Вооруженных сил Юга России при Деникине и Врангеле; противник Каменева в Гражданской войне:
«Каменев был одного выпуска со мной из Академии Генерального штаба, и мы с ним были в дружеских отношениях. Он был хорошим офицером Генерального штаба и отлично командовал полком в конце войны. Его политических убеждений я не знал, но во время революции он умел ладить с комитетами, а потом, попав в Красную армию, он служил большевистскому правительству так же честно, как и царю и Временному правительству»[104].
Полковник Анатолий Леонидович Носович, в 1918 году перебежавший от красных к белым:
«По сведениям из Совдепии, новым главнокомандующим всеми „красными“ силами назначен бывший офицер Генерального штаба бывший генерал-майор Каменев. Служба этого бывшего офицера протекала большей частью в штабах, и он во время прошлой кампании не командовал никакой строевой частью. Каменев в мирное время служил в Петроградском военном округе, где мне приходилось довольно часто его встречать… Его внешность жгучего брюнета, с большими черными навыкате глазами и иссиня-черными, пушистыми усами очень походит на румына… На тотализаторе Каменев играл с большим увлечением и азартом. Вероятно, его страстная натура и была причиной того, что он увлекся авантюрой и попал в русло большевистского потока»[105].
(Заметим в скобках: Носович – личность весьма сомнительная. Перебежчик, выдававший себя за разведчика; в дальнейшем стал одним из руководителей белогвардейской контрразведки, то есть ловил и порой расстреливал таких же сомнительных перебежчиков, как он сам. Ненадежны и приводимые им сведения. В цитируемом фрагменте он допускает по меньшей мере две ошибки. Каменев не имел чина генерал-майора. Каменев никогда не служил в Петербургском военном округе. Поэтому непонятно, где Носовичу «приходилось довольно часто его встречать». Однако характерно, что о Каменеве он пишет в извинительно-сочувственном тоне, в то время как характеристики большинства других красных военачальников в его очерках буквально пропитаны ядом.)
Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, генерал-майор, в 1919 году исполнял обязанности начальника полевого штаба Реввоенсовета республики. Характеристика относится к моменту назначения Каменева на пост главкома Красной армии:
«Я давно и довольно близко знал Каменева и понимал, что не сработаюсь с ним. Его нерешительность, известная флегма, манера недоговаривать и не доводить до конца ни собственных высказываний, ни принятых оперативных решений, – все это было не по мне.
В начале минувшей войны Сергей Сергеевич занимал скромную должность адъютанта оперативного отделения в штабе армии Ренненкампфа. Между тогдашним моим и его положением была огромная разница, но во мне говорило не обиженное самолюбие, а боязнь совместной работы с таким офицером, которого я никак не считал способным руководить давно превысившей миллион бойцов Красной армией»[106].
Все-таки отчасти «обиженное самолюбие» проступает в оценке, которую дает Каменеву Бонч-Бруевич. Как генерал-майору быть под началом полковника? Вообще-то, Михаил Дмитриевич, всегда прежде превосходивший Сергея Сергеевича по службе двумя, тремя и даже четырьмя ступенями, а в июле 1919 года на какое-то время оказавшийся во главе управления всей Красной армией, рассчитывал, что именно его Реввоенсовет назначит главнокомандующим. Поэтому в словах его сквозит затаенная генеральская ревность.
Как мы уже говорили, родился и рос Сергей Каменев в условиях совершенно иных, нежели Деникин: в материальном достатке, в интеллигентной дворянской среде. Каменевы – потомственные, хотя и не особо знатные дворяне. По всей вероятности, их род восходит к Федосею Каменеву, служившему в Курском уезде и в 1654 году назначенному на воеводство. Отец будущего главкома, Сергей Иванович Каменев, тоже служил. Ко времени рождения второго сына Сергея (4 апреля 1881 года) он в чине полковника артиллерии занимал должность инженера-механика киевского военного завода «Арсенал». Военный инженер в те времена – это элита. Чин и должность обеспечивали Сергею Ивановичу прочное положение в обществе, его семье – безбедное существование. Детство сыновей – старшего Петра и младшего Сергея – обещало быть благополучным, но ранняя смерть матери внесла в их жизнь трагическую ноту.
Вопрос о выборе жизненного пути перед Сережей не стоял: двери киевского Владимирского кадетского корпуса для него, полковничьего сына, были открыты; да и отцу одному трудно воспитывать сыновей. Учась и живя в корпусе, кадет младшего класса Каменев, наверно, не без зависти смотрел на старших товарищей, среди которых красотой, статью и учебными успехами выделялся Николай Духонин (кто бы мог подумать, что ему суждено стать последним главковерхом русской армии и умереть на солдатских штыках). В 1898 году Сергей Каменев окончил кадетский корпус с отличием. Выпускникам-отличникам предоставлялось право продолжать образование в любом военном училище по своему выбору. Каменев уехал в Москву, где был зачислен юнкером в Александровское военное училище, одно из самых престижных в России и при этом более доступное для незнатных дворян, чем петербургские школы. Учился весьма успешно, и через два года, окончив училище третьим по баллам, был выпущен подпоручиком в 165-й Луцкий пехотный полк. Четыре года прослужил батальонным адъютантом, был произведен в поручики. Принял решение поступать в Академию Генштаба.
Историю его поступления в Академию мы уже знаем. Поручик Каменев привык к успехам в учебе, поэтому и в Академии учился старательно, с истинным рвением. Но жизнь и учеба в помпезном здании на Суворовском проспекте в Петербурге – дело нелегкое.
Из воспоминаний генерала Махрова:
«Несмотря на его усидчивость, Академия давалась ему трудно. На последнем, дополнительном курсе его положение было критическим по общей сумме баллов. Для того, чтобы быть причисленным к Генеральному штабу, ему нужно было получить не меньше 11 баллов за работу по стратегической теме. На его счастье, ему досталась та же тема, которую защищал мой брат Николай Семенович Махров, за два года до него, в 1905 году.
Каменев через меня обратился с просьбой к моему брату выслать срочно его доклад, что мой брат, служивший в это время уже в штабе Виленского военного округа, и сделал. Каменев вызубрил присланную моим братом „тему“, и его доклад был оценен в 12 баллов. Попав вместе с нами на службу в Вильну, Каменев не раз вспоминал эту историю и сердечно благодарил нас с братом»[107].
Преодолев все препоны, в 1907 году Каменев окончил Академию по первому разряду, был произведен в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу.
В последующие годы его служба продолжается без заметных шероховатостей, вполне рутинным образом. Сначала, как положено, – командование ротой в родном Луцком полку. Потом – по штабам. В 1909 году (ненадолго) направлен в штаб Иркутского военного округа помощником старшего адъютанта. Произведен в капитаны. В 1910 году – в штаб 2-й кавалерийской дивизии, в Сувалки, старшим адъютантом. С 1911 года и до начала мировой войны – помощник старшего адъютанта штаба Виленского военного округа.
В сущности, это все работа канцелярская. Каменев выполнял ее, но, по-видимому, скучал. В воспоминаниях генерала Самойло, служившего перед войной в разведывательном отделении Генштаба, есть упоминание о том, что в начале 1914 года капитан Каменев обратился к нему с просьбой о зачислении его в это отделение. Но стать разведчиком ему не довелось: на вакантное место уже был назначен полковник Духонин, тот самый…
С началом войны на базе Виленского округа была развернута 1-я армия под командованием генерал-адъютанта генерала от кавалерии Ренненкампфа. Капитан Каменев назначается исполняющим должность помощника старшего адъютанта отдела генерал-квартирмейстера штаба армии. Каково название, такова и суть. На такой работе любой офицер, даже самый способный, остается незаметным – винтиком штабного механизма. Поэтому никаких сведений о службе Каменева в начале войны мы не имеем.
В августе 1914 года развернулось сражение в Восточной Пруссии – первое для русских войск, и крайне неудачное. 1-я армия Ренненкампфа вначале имела успех в боях под Гумбинненом[108], но после разгрома 2-й армии Самсонова оказалась под двойным ударом превосходящих сил немцев и в тяжелых условиях должна была отступать. В это время Каменеву и его товарищам оставалось только радоваться, что они служат не в армии Самсонова, штабу которой с боями и потерями пришлось пробиваться из окружения. Если, конечно, в напряжении походной жизни у них оставались силы на такого рода мысли и эмоции.
В середине октября то, что осталось от 1-й армии, было переброшено в Польшу, в район Плоцка – Влоцлавска, и там пополнено новыми тысячами людей, лошадей и прочего военного материала, предназначенного к уничтожению. (Вполне возможно, что капитан Каменев, выполняя служебные поручения, побывал на родине генерала Деникина, во Влоцлавске. Но ни тот ни другой об этом пересечении своих жизненных путей так и не узнали.) Ставка готовила наступление из середины польского выступа в сердце Германии, по кратчайшему направлению на Берлин. Но немцы успели нанести удар первыми. В конце октября и в ноябре между Вислой и Вартой закипели жестокие и многосложные боевые действия, получившие в военной истории название «Лодзинская операция».
Федор Федорович Новицкий, генерал-майор, во время Лодзинской операции начальник штаба I корпуса, впоследствии – один из создателей советских военно-воздушных сил:
«…Вряд ли в военной истории найдется еще один такой пример, когда успех, можно сказать, сам лез в руки одной из сторон, в данном случае – русской, и когда эта сторона, благодаря своему военному убожеству, сделала, по-видимому, все, чтобы этим успехом не воспользоваться»[109].
Он же об одном из эпизодов этого сражения:
«…Наша наступательная операция рухнула, ибо немцы… сбили наши части у Кутна и Ленчицы и хлынули в образовавшийся прорыв между нами и левофланговыми корпусами 1-й армии, переброшенными через р. Висла на ее левый берег у Плоцка…
…С молниеносной быстротой надо было отменить все ранее отданные приказы, проследить за получением и выполнением новых и постараться переломить наступательную психологию войск. Если принять во внимание, что после директивы о „глубоком вторжении в Германию“ все мысли и устремления русских были направлены на запад, что передовые части корпуса, выдвинутые далеко вперед, подходили уже к границе и что в ожидании серьезных боев в ближайшие дни все тылы были подтянуты к войскам, то тяжесть создавшейся обстановки станет вполне понятной…
Утро 16 ноября застало корпус в таком положении, когда кое-какие части продолжали наступление на запад, т. е. навстречу друг другу. Хаос усугублялся вдобавок тем, что не представлялось возможным в полной мере своевременно убрать тылы, загромождавшие все пути отхода»[110].
Дальнейший рассказ Новицкого изобилует ситуациями такого типа: «полученное распоряжение совершенно не соответствовало наличной обстановке»; «штаб Ловичской группы во главе с третьим по счету за 5 дней операции начальником… был отрезан в ночь на 24 ноября в Брезинах, чем было окончательно парализовано управление». Конечно, в воспоминаниях, написанных в советское время, бывший генерал-майор несколько сгущает краски. И все же по этой зарисовке можно представить себе, в каких условиях проходила штабная работа в ходе Лодзинской операции.
Для Каменева участие в этих хаотичных и опасных боях означало долгожданное продвижение по службе. В декабре он произведен в подполковники и назначен старшим адъютантом генерал-квартирмейстерского отдела штаба армии. В этой должности он оставался в дальнейшем. В конце 1915 года дослужился до полковника. Полученные им ордена – Анна и Станислав третьей степени, без мечей, Владимир четвертой степени, боевой, с мечами, – свидетельствуют о большой и успешно осуществляемой, иногда с риском для жизни, оперативно-штабной работе. Он по-прежнему незаметен, но не на таких ли незаметных, усидчивых и выносливых штабных тружениках держится управление войсками?
В аттестационной характеристике, составленной в штабе 1-й армии, о Каменеве сказано: «По всем отношениям выдающийся офицер Генерального штаба и отличный боевой строевой начальник»[111]. Достоин выдвижения на генеральские должности.
Из царских полковников – в красные генералы
Но производства в генералы он не дождался.
4 марта 1917 года датируется назначение Каменева на должность командира 30-го Полтавского пехотного полка.
Манифест об отречении только-только был опубликован, Николай II еще не успел передать Верховное главнокомандование. Все командующие оставались на своих местах, отданные ими приказы исполнялись. Значит, вопрос об уходе Каменева из штаба армии был решен раньше, еще до начала революции.
Весной 1917 года ожидалось большое наступление. По-видимому, полковник Каменев решил попробовать себя в качестве боевого командира. Это ли не лучший путь к генеральским чинам?
Но грянула революция – и все перевернулось.
Наступления, подвигов, чинов и наград не получилось. Но во главе полка Каменев остался. И даже больше того: по всем правилам революционной демократизации армии был избран солдатскими комитетами на должность полкового командира.
Тут надо отметить одну черту: при всей своей генштабовской интеллигентности Каменев умел поладить с комитетами, с солдатским миром и даже расположить к себе эту буйную и опасную публику. Он прост, деловит, доступен, профессионален – эти качества роднят его с Деникиным. Но в нем нет начальственного грома, нет генеральского окрика.
По легенде, о которой мы уже упоминали, Яков Пугач так продолжал свой рассказ Чапаю о Каменеве:
«Не балуется. Денщиков и вообще бездельников около себя не держит. Сапоги сам чистит, как наш Василий Иваныч. Твердый и смелый в речах. Подручных держит в руках. Над планами они сидят до петухов. Баб в штабу не приметил. Старик „свой“ и не зазнается: единым махом к нему в избу проскочил. Говорит, скажи привет доблестным красным войскам Пугачевской округи и Чапаеву. Сам, говорит, скоро приеду знакомиться, как только, мол, здесь вздохну. На прощеванье за руку взял»[112].
Как видим, легенда приписывает Каменеву качества образцового «народного» начальника.
Каменев оставался в составе старой армии вплоть до ее демобилизации и расформирования в начале 1918 года (последняя должность – начальник штаба 3-й армии – связана именно с хлопотным и неприятным делом расформирования). С апреля 1918 года он числится в составе Рабоче-крестьянской Красной армии. Красная армия тогда еще формировалась на добровольной основе. Значит, выбор Каменева был добровольным. А через полгода Реввоенсовет республики принял решение о назначении Каменева командующим Восточным фронтом – главным на тот момент фронтом Гражданской войны.
Бывший полковник стал красным генералом.
Почему?
Старые знакомые Каменева из белого лагеря хотели верить, что его переход на службу большевикам был случайным («увлекся, как увлекался игрой на тотализаторе») или вынужденным («куда ему было деться-то? заставили!»). В советской историографии доминировала версия «идейного перерождения» под влиянием солдат и комиссаров – сознательных большевиков, а также чтения марксистской литературы. Отчасти могло иметь место и то, и другое, и третье. Но главным был какой-то иной мотив, не учтенный ни красными, ни белыми судьями.
В 1931 году сотрудниками ОГПУ был арестован бывший начальник Всероглавштаба и бывший генерал-лейтенант Александр Андреевич Свечин. Чекисты добивались компрометирующих показаний в отношении многих его коллег по штабной работе в Красной армии. Показания Свечина о Каменеве проливают некоторый свет на мотивы, которыми руководствовались Каменев и многие другие военные профессионалы, вступая в Красную армию:
«В 1918 году в сентябре или октябре месяце ко мне как к Начальнику Всероссийского Главного штаба поступил приказ от Троцкого выбрать наиболее пригодного офицера Генерального штаба для назначения на должность командующего Восточным фронтом. Я остановился на выборе С. С. Каменева, который был известен мне как дельный работник оперативного отделения штаба Виленского военного округа и штаба 1-й армии в мировую войну, а в службе завесы[113] Западного фронта выделился как дельный руководитель Невельского участка. К этому времени С. С. Каменев являлся моим преемником по руководству Смоленским участком, где он также проявлял полную согласованность с требованиями его комиссаров…»
(Тут надо пояснить. К началу февраля 1918 года старая армия полностью разложилась, утратила боеспособность и управляемость. Мирные переговоры в Брест-Литовске зашли в тупик. Все очевиднее становилась опасность нового германского наступления – и что тогда? Даже безумные романтики разрушения – левые коммунисты, левые эсеры, анархисты; даже Ленин и народные комиссары, вдохновляемые верой в скорую мировую революцию, должны были задуматься: как защитить республику и самих себя? Тогда и возникла идея завесы. Из распадающейся армии и из добровольцев-красногвардейцев сформировать небольшие по численности мобильные отряды, которые смогли бы воспрепятствовать продвижению вражеских войск к жизненно важным центрам России или хотя бы максимально затруднить их продвижение. Для формирования таких соединений и для эффективного руководства ими необходимы были военные специалисты высокой квалификации. Без генералов и штабных офицеров старой армии обойтись было невозможно.
29 января (11 февраля) стало известно: переговоры в Бресте сорваны. Через неделю германское наступление началось. В спешном порядке создавались отряды завесы. В них пошли служить многие офицеры и генералы… К этой теме мы еще будем возвращаться. Невельский участок, кстати говоря, был одним из самых важных: это направление от Пскова на Смоленск и Москву).
Продолжим знакомство с показаниями Свечина:
«В то время все офицеры старой армии, поступившие на службу в Красную армию, считали, что они приняли обязательство сражаться против внешнего врага на Западном фронте и более чем неохотно смотрели на какое-либо использование их в связи с Гражданской войной…
Под этим настроением С. С. Каменев расценил назначение его на Восточный фронт как незаслуженную обиду… Эту оценку он выразил в жалобах, посланных по телеграфу Троцкому и Склянскому на меня. С моим объяснением Склянскому, что в назначении Каменева я пользовался только соображениями целесообразности, последний согласился и подтвердил приказ Каменеву ехать на Восточный фронт»[114].
Итак, вступая в Красную армию, Каменев просто продолжал то дело, которому служил раньше: воевал против внешнего врага.
Подписанный 3 марта Брестский мир ничего принципиально не изменил: всем, даже большевикам-ленинцам, ясно было, что такой мир не может быть прочным. Завеса сохранялась, и именно она стала ядром формирования новой Красной армии – не той добровольной, стихийной, полуанархической, какой была вначале, а организованной, способной решать серьезные боевые задачи – словом, настоящей.
Возможно, Каменев и в самом деле воспринял свое назначение на Восточный фронт как обиду. Этот фронт и позднее в среде военспецов из «бывших» считался непрестижным. С кем там воевать? С сибирскими татарами, с адмиралом Колчаком (к нему сухопутные генералы и генштабисты относились как к щуке, которая взялась охотиться на мышей), с войском эмира Бухарского? То ли дело Запад: там немцы или хотя бы поляки… Возможно, и даже несомненно, Каменева не радовала перспектива вести войну против белых, своих вчерашних начальников, приятелей или подчиненных. Но все же он принял фронт – и руководил им добросовестно. Из-за конфликта с главкомом Вацетисом был, правда, ненадолго отстранен от командования. Но вскоре возвращен решением Реввоенсовета республики.
Михаил Николаевич Тухачевский, весной – летом 1919 года командующий 5-й армией Восточного фронта красных:
«Командвост тов. С. С. Каменев был освобожден от должности и на его место был назначен т. Самойло А. А. Это обстоятельство совершенно испортило блестящее начало нашего контрнаступления и позволило белым упорядочить их отступление. <…>
Члены реввоенсовета Востфронта 2 июня обратились в Центральный комитет с телеграммой, в которой говорилось, что вместо т. Каменева „назначен человек бездарный, бестолковый, без знаний и опыта, без инициативы, неспособный самостоятельно принять ни одного решения, кроме нелепых…“
Вмешательством ЦК партии выдвиженец Троцкого 29 мая был снят и командующим фронтом вновь был назначен т. Каменев С. С., что обеспечило дальнейшее наступление»[115].
Под командованием Каменева к середине лета 1919 года решающая победа на Восточном фронте была достигнута: войска Колчака отброшены за Урал. Именно после этого было принято решение о его назначении главкомом Вооруженных сил Советской республики.
По принуждению или случайно можно попасть в армию, можно даже исправно служить, но нельзя служить хорошо. Каменев 1919 года, командвост, а потом главком, – это военачальник большого масштаба, работающий много, вдохновенно и в общем успешно. Конечно, рядом с ним и над ним стояли комиссары, Реввоенсовет, ЧК. Надо учесть и то обстоятельство, что главком Красной армии в условиях Гражданской войны не был высшим военачальником, воля которого непререкаема. Скорее, он выполнял функцию начальника штаба при коллективном Верховном главнокомандующем – Реввоенсовете республики. И все же нет сомнения: Каменев нашел свое место в руководстве армии рабочих и крестьян.
И снова: почему?
Ответ, полагаю, прост: потому что это была армия.
Та власть, которая установилась в 1917 году как власть разрушения, постепенно, поневоле, под влиянием неумолимых обстоятельств превращалась во власть нового государственного строительства. В силу тех же неумолимых обстоятельств Россия заново объединялась вокруг этой власти. В 1919 году большевики перехватили у белых – не в лозунгах, а на деле – роль восстановителей единой и неделимой России. И это красное царство, разоренное, озлобленное и полуголодное, уже обретало черты великой мировой державы.
Малосознательные пролетарии распевали частушку:
Сидит Ленин на березе,
Держит серп и молоток,
А под ним товарищ Троцкий
Ведет роту без порток.
Однако эта рота уже готовилась идти на штурм Перекопа и Варшавы…
Где держава – там и армия. Где армия – там и будут служить такие люди, как Каменев. Без армии они могут доживать свои дни – на пенсии или в изгнании.
Здесь сходятся противоположности: Каменев и Деникин. Оба они принадлежат целиком армии и государственному служению.
Боевой, прямолинейный характер Деникина привлек его сначала на сторону Корнилова против «комитетов»; потом в Добровольческую армию против национальной измены, развала и анархии. Обратного пути не было, вернее, был только один: победителем во главе белых войск вступить в Москву.
Тихий, выдержанный, несколько флегматичный Каменев смог переждать времена распада, притерпелся к хамству «товарищей» и кровожадности комиссаров. И дождался своего часа.
О дальнейшем.
В июле – сентябре наступление деникинских войск разворачивалось успешно. В августе были взяты Полтава, Одесса и Киев; в сентябре – Курск; в октябре – Воронеж и Орел; дошли до Тулы. Но в середине октября в сражениях южнее Орла белые потерпели поражение и начали стремительно откатываться назад. К исходу декабря были потеряны Украина и Донбасс. В феврале 1920 года деникинские войска потерпели новое поражение – на Дону. Армия стала разваливаться. Остатки войск переправились в Крым. 17 апреля 1920 года Деникин передал полномочия главнокомандующего генералу Врангелю и в тот же день отбыл на миноносце Британского флота в Стамбул.
Последующие двадцать семь лет Деникин прожил в эмиграции: в Англии, Бельгии, Венгрии; дольше всего во Франции – с 1926 по 1945 год. Во время гитлеровской оккупации находился под надзором гестапо; с оккупационными властями не сотрудничал и открыто призывал русских эмигрантов не поддерживать Германию в борьбе с Советской Россией. В 1943 году тайно отправил в СССР вагон медикаментов, приобретенных на личные средства. Возможно, этот его поступок стал причиной того, что после войны советское руководство не поднимало вопрос о его экстрадиции. Не имея на этот счет надежной информации, Деникин с семьей все же предпочел перебраться в США. В 1945 году поселился в Нью-Йорке.
За годы жизни в эмиграции политической деятельностью не занимался. Много писал, главным образом в мемуарно-историческом жанре. Умер от сердечного приступа 7 августа 1947 года в больнице Мичиганского университета. Похоронен с воинскими почестями как главнокомандующий войсками союзной с США державы.
Каменев оставался в должности главнокомандующего Вооруженными силами республики до апреля 1924 года. В 1920 году осуществлял общее руководство войсками в ходе войны с Польшей (лично разрабатывал план наступления на Варшаву) и в борьбе против Врангеля (участвовал в разработке Перекопско-Чонгарской операции). В 1922-м и последующих годах руководил военными действиями в Туркестане, в частности разгромом и ликвидацией формирований турецкого панисламиста Энвер-паши.
Весной 1924 года в партийно-государственных верхах разгорелась борьба группировки Зиновьева – Каменева – Сталина против Троцкого и его сторонников. Хотя Каменев не принадлежал к троцкистам, да и вовсе не был членом партии, его постарались на всякий случай убрать с высшего командного поста: все-таки около шести лет он прослужил под началом председателя Реввоенсовета Троцкого и пользовался его покровительством. Далее Каменев последовательно занимал должности инспектора РККА, начальника штаба РККА, главного инспектора РККА, начальника Главного управления РККА. С 1927 года он – заместитель наркома по военным и морским делам (Ворошилова). В 1930 году, на волне «развернутого наступления социализма по всему фронту», вступил в ВКП(б). Благополучно избежал ареста во время первых чисток комсостава Красной армии в 1930–1931 годах. В 1934 году, однако, был понижен в должности: с замнаркома – до начальника Управления ПВО. Это был дурной знак. В следующем году в стране развернулись неслыханные по масштабам репрессии, среди первых жертв которых были бывшие офицеры царской армии. Тучи над Каменевым сгущались. В 1936 году летом в Москве состоялся процесс Троцкистско-зиновьевского объединенного центра. Троцкий был на нем заочно приговорен к высшей мере наказания. Среди осужденных на смертную казнь фигурой номер три после Троцкого и Зиновьева был Лев Каменев (Розенфельд), революционный псевдоним которого случайно совпал с фамилией офицера Генерального штаба. Партийный деятель Каменев был расстрелян 25 августа 1936 года. По странному стечению обстоятельств командарм первого ранга, бывший главком РККА Сергей Сергеевич Каменев умер в этот же день. Диагноз – острая сердечная недостаточность.
Через год его объявили троцкистом, врагом народа, и имя его на полвека было вычеркнуто из истории Первой мировой и Гражданской войн.
Люди взрыва, или Сойдется Запад с Востоком
Лавр Корнилов принадлежал к категории людей, которых можно назвать неуемными. Ему не сиделось на месте. Он никогда не был доволен занимаемым положением. Он всегда рвался куда-то – вперед и вверх. Где бы он ни служил, служба заканчивалась ссорой с начальством. Сейчас уже невозможно понять, кто был прав, а кто виноват в этих столкновениях. Ясно только одно: на мировую Корнилов не соглашался. Конфликт и риск необходимы были ему как воздух. Он сам шел прямиком на опасность, тянул за собой и подчиненных, и вышестоящих, и близких. Казалось, он был начинен каким-то взрывчатым веществом. Сама его гибель от случайного фугасного снаряда (в те времена такие снаряды называли гранатами) выглядит трагически символично. Как будто ушел в энергию взрыва, до конца растворился в ней.
Неуемность была, по-видимому, у него в роду. Его старший брат Александр был исключен из военной прогимназии за «предерзостное поведение». Другой брат, Автоном, страдал эпилепсией – болезнью, вызванной той неуправляемой энергией, которая бывает спрятана внутри человека. Впрочем, проследить в поколениях истоки корниловской неуемности не представляется возможным: родословная его родителей неизвестна.
Известно, что отец его, Георгий (Егор) Николаевич Корнилов, был семиреченский казак, из рядовых, дослужившийся до младшего офицерского чина – хорунжего. Перешел на гражданскую службу, но там не преуспел, поднялся лишь на одну ступень Табели о рангах, в коллежские секретари. Однако был человек не простой: с ним водил дружбу Григорий Николаевич Потанин, знаменитый путешественник, географ, этнограф, ссыльнокаторжный и тоже яркий представитель породы неуемных людей. О матери Корнилова Прасковье Ильиничне[116] говорили, что она калмыцкого (ойрат-монгольского) рода, и чуть ли не ханского. Никакими документами это не подтверждается; ее девичья фамилия – Хлыновская – указывает на происхождение от переселенцев (крестьян? чиновников? ссыльных?). Но все же очевидно: кто-то из предков передал в наследство Лавру Георгиевичу монгольский разрез глаз и горячую кровь кочевника.
Родился он, по документам, 18 апреля 1870 года в Каркаралинске, уездном городе Семипалатинской области (по другим сведениям – в Усть-Каменогорске, куда на некоторое время переехал его отец по делам службы). Впоследствии, когда Лавр Георгиевич стал знаменит, пошла гулять легенда: будто бы был он сыном не своих официальных родителей, а казачки, сестры Егора Николаевича Корнилова, и некоего крещеного калмыка Гильджира Дельдинова. Никаких доказательств этому нет, но легенда живет, как отблеск того романтического сияния, которое всегда окружало образ Корнилова.
Обратим внимание на один крохотный, но любопытный завиток того узора, которым Творец истории любит украшать ткань бытия. Всего через четыре дня после того, как в доме Корниловых запищал младенец, нареченный Лавром, за две с половиной тысячи верст от Каркаралинска, в городе Симбирске, в семье инспектора народных училищ Ильи Николаевича Ульянова тоже родился сын. Его назвали Владимиром. Пройдет сорок семь с половиной лет, и ровесники – Лавр Корнилов и Владимир Ульянов-Ленин – станут заклятыми политическими врагами, главными фигурами-символами двух противоборствующих лагерей.
Но тогда родители ничего подобного предвидеть не могли и просто радовались своим малышам.
Мальчик Лавр рос смышленым, активным. Рано проявил способности к учебе. Начальную школу окончил в Каркаралинске. Оттуда семья Корниловых перебралась в совсем уже пограничный Зайсан. Там год подготовки к серьезнейшему испытанию – поступлению в Сибирский Императора Александра I кадетский корпус. В корпус, в Омск, двенадцатилетнему мальчишке пришлось отправиться из привольных казахских степей и чистых предгорий Алтая. Затем – шесть лет учебы и окончание корпуса с отличием. Такой успех давал ему право продолжения образования и выбора военного училища. В 1889 году из Омска Лавр отправляется в Петербург и поступает в Михайловское артиллерийское училище[117].
Интересно, что в характеристиках, выданных кадету и юнкеру Корнилову, преобладают вовсе не бунтарские, а идиллические мотивы: «В классе внимателен и заботлив, очень прилежен… Скромен, правдив, послушен, очень бережлив… К старшим почтителен, товарищами очень любим…»; «…тих, скромен, добр, трудолюбив, послушен, исполнителен, приветлив…». Правда, намечаются и другие оттенки образа: «В манерах угловат»; «Вследствие недостаточной воспитанности кажется грубоватым… Будучи очень самолюбивым… серьезно относится к наукам и военному делу»[118].
Училище окончено в 1892 году по первому разряду. Как следствие – право выбора места службы. Подпоручик Корнилов мог бы выбрать столицу, но он выбирает близкий ему Туркестан. И через месяц прибывает в Ташкент, в 5-ю батарею Туркестанской артиллерийской бригады. Три года службы под Среднеазиатским солнцем, производство в поручики и новый рывок – в Николаевскую академию Генштаба. И вновь успех за успехом: поступил с наивысшим баллом, окончил в 1898 году с малой серебряной медалью. За академическими успехами – рост в чинах: на втором курсе – штабс-капитан, по окончании Академии – капитан.
Капитан – это старший обер-офицерский чин. Ступень серьезная. И возраст уже зрелый. Настало Корнилову время жениться. Невеста его – Таисия Марковина, дочь петербургского чиновника средней руки. Отныне маленькая, худенькая, как бы фарфоровая Тая станет спутницей своего беспокойного Лавра в его многотрудных походах.
А походы начались сразу же по окончании Академии. Корнилов снова отказывается от столичной карьеры и снова едет в Туркестан. На сей раз – в пограничный Термез, в распоряжение начальника 1-й Туркестанской линейной бригады генерал-майора Михаила Ефремовича Ионова.
От Термеза начинаются две дороги. Одна ведет в Душанбе и оттуда – на высокогорья Памира; другая соединяет цветущую Фергану с суровым Афганистаном. На этом пути, кратчайшем из пределов Российской империи в Индию, русским пограничным войскам противостоял афганский гарнизон Мазари-Шарифа и крепость Дейдади, прикрывавшая дороги к перевалам Гиндукуша. Крепость возводилась афганцами под руководством английских инженеров в спешном порядке и, разумеется, очень интересовала русское военное командование. Однако сведения, получаемые о ней традиционным способом – от платных осведомителей (таджиков и узбеков), – были непрофессиональны и ненадежны.
И тут Корнилов впервые показывает характер. На свой страх и риск, без ведома начальства, с двумя спутниками из местных совершает разведывательный рейд через границу. Помогли азиатская внешность и знание языков.
Из отчета Корнилова:
«План мой заключался в следующем: переодевшись туркменом, скрытно пройти у Чушка-Гузара линию афганских пограничных постов, далее же идти совершенно свободно, днем – на Балх, Дейдади, Тахтапуль, Мазар-и-Шериф и через Сиягырт вернуться в Патта-Гиссар. <…>
В ночь с 12 на 13 января мы переправились через Аму-Дарью на гупсарах (бурдюках) в кишлак Шор-Тепе. В последнем Худай-Назаром заблаговременно подготовлены были лошади»[119].
Вернувшись через несколько дней, капитан Корнилов предоставил генералу Ионову подробное словесное описание, профессионально выполненные кроки` – эскизы крепости, и даже фотографии (что уж совсем удивительно: как удалось скрытно пронести туда и обратно громоздкий фотоаппарат, верный признак шпиона, да еще переправиться с ним вплавь через широкую Амударью?). За успешно проведенную операцию Ионов представил Корнилова к награде – ордену Святого Владимира, но от начальства получил два выговора: на свою долю и на долю Корнилова. Ташкентское начальство можно понять: обстановка на границе опасная, в любой момент жди войны; за спиной афганского правительства стоит могучая Британская империя… А тут такой случай: русский офицер незаконно пересекает границу, проникает на секретный объект, фотографирует, срисовывает план. Хорошо, что все обошлось, а если бы попался?
В этом эпизоде – тот Корнилов, который потом войдет в историю. Храбрец, азартный до безоглядности, не думающий о возможных последствиях своих действий, неуправляемый, привлекающий к себе и увлекающий, опасный и для врагов, и для своих.
Что делать с таким офицером? Через полгода после дейдадинской эскапады Корнилова переводят в штаб Туркестанского округа, а еще через несколько месяцев отправляют в Синьцзян, на должность офицера Генерального штаба при Императорском Российском Генеральном консульстве в Кашгаре. Если перевести на общепонятный язык – чрезвычайным и полномочным разведчиком в пограничной с Российским Туркестаном области Китайской империи. Уже в декабре 1899 года он с небольшим отрядом казаков отправляется разведывать горные дороги и тропы, ведущие из Кашгара на восток, в Яркенд.
Первый, декабрьский поход – разведка пути от укрепления Иркештам до города Кашгар (216 верст за девять дней). В марте 1900 года – изучение путей от Кашгара к Яркенду (в сопровождении двух казаков). В октябре – ноябре того же года – дальняя и трудная разведка (совместно с подпоручиком Кирилловым и двумя казаками): от Кашгара к Яркенду через Янги-Гиссар (187 верст по труднейшим горным тропам; шесть переходов); от Яркенда к Каргалыку (72 версты, два перехода). От селения Каргалык до города Хотана через Гуму (259 верст за двенадцать дней). В апреле 1901 года Корнилов отправляется в Сарыкол «для осмотра нашего поста и для личного ознакомления дел в Сарыколе». Затем, тою же весной, вместе с подпоручиком Кирилловым прошли и описали пути: от укрепления Таш-Курган до Кашгара через перевал Улуг-Рабат и укрепление Булун-Куль (261 верста за четырнадцать дней); от Таш-Кургана до Яркенда через Шинди, Чехил-Гумбез и Якка-арык (303 версты, четырнадцать дней марша); от Таш-Кургана до селения Янги-Гиссар через перевалы Тер-Арт и долину Кингулсу (284 версты за двенадцать дней)[120].
Надо пояснить: горы над Кашгаром – не просто горы, а всем горам горы. Тут сходятся и в тугой узел завязываются хребты Памира, Тянь-Шаня и Кунь-Луня. Перевалы на путях от Кашгара и Яркенда к Таш-Кургану лежат на высотах четыре-пять тысяч метров, а окружающие вершины вздымаются еще на два – два с половиной километра выше. Тропы пролегают по каменистым осыпям, по моренам, по ледникам. Даже лошади не всегда могут их одолеть. Особенно впечатляет путь из Таш-Кургана на Янги-Гиссар. Вначале подъем из зеленой долины, постепенно все круче и круче; слева сине-белая громада ледника, взбирающегося к вершине Музтагата на высоту семь с половиной тысяч метров. Обогнули ледник, по осыпям все вверх и вверх – и вот вышли на перевал Тер-Арт. Кругом – необозримая горная страна, бурый вздыбленный камень, снежные вершины, ледяные реки, небо – и ничего более. Вода из-подо льда струится по камушкам; один, другой, третий поток сливаются в речку Кингулсу. По ней – долгий, опасный спуск на широкие просторы долины Яркенда.
Результаты походов отложились в обширной монографии «Кашгария или Восточный Туркестан. Опыт военно-статистического описания», изданной в Ташкенте в 1903 году малым тиражом для служебного пользования. И тут же, конечно, новый конфликт с начальством. На сей раз не поладил Корнилов с российским консулом в Кашгаре Петровским. Консул обвинил Корнилова в сборе недостоверной информации, Корнилов резко возражал… Но, надо думать, причина конфликта заключалась не в методике разведывательных действий, а в неуправляемости Корнилова: никак он не хотел признавать над собой власть гражданского чиновника. Кончилось дело рапортом о невозможности совместной работы с Петровским, отзывом в Ташкент, награждением орденом Станислава 3-й степени, производством в подполковники – и скорой отправкой на новое разведывательное задание, в Персию, в Хорасан. Снова дороги, описания, полусекретные публикации. В 1903 году – командировка в Британскую Индию, на сей раз вполне официальная.
В январе 1904 года Генерального штаба подполковник Корнилов в сопровождении британских офицеров изучал военные объекты в Пешаваре. Тут он узнал из газет о нападении японского флота на Порт-Артур и о начале Русско-японской войны. Немедленно выехал в Петербург, представил отчет о командировке в Генеральный штаб, получил выгодное назначение в Главное управление Генштаба – и тут же написал прошение о переводе в действующую армию в Маньчжурию.
Но оказалось, что до фронта добраться не так-то легко. Сначала не находилось должности, потом долго формировались части Сводно-стрелкового корпуса. Только в ноябре эшелоны двинулись на восток. Корнилов – штаб-офицер при штабе бригады. Должность, конечно, не по нем, да и с командиром бригады отношения сразу не заладились. Ехали долго: Транссибирская магистраль была плотно забита военными эшелонами, товарными составами, санитарными поездами. На театр военных действий прибыли в середине декабря. Настроение в войсках было мрачное: неудачи в этой войне обретали характер фатальный; за бестолково проигранным сражением под Ляояном последовало долгое и безрезультатное пролитие крови на реке Шахэ. Затем – многонедельная томительная пауза.
Через два дня после прибытия бригады к месту дислокации телеграф разнес по всему миру известие о капитуляции Порт-Артура. Потом еще полтора месяца прошло в ожидании чего-то. Из России приходили тревожные вести: беспорядки и кровопролитие в Санкт-Петербурге, взрывы эсеровских бомб… Наконец главнокомандующий генерал Куропаткин двинул войска в осторожное наступление. Впрочем, какое это было наступление! Как робкий купальщик входит в холодную воду: шаг сделает – остановится, другой раз шагнет – отпрыгнет. Стратегические просчеты сочетались с тактической робостью и неразберихой в управлении войсками. В феврале японцы нанесли контрудар; главные силы русских очутились в Мукденском мешке. Полтора полка из бригады, в которой служил Корнилов, попали в окружение у деревни Вазые; командиры куда-то делись. Один подполковник Корнилов оказался на высоте: принял командование, организовал рассыпающиеся боевые порядки, ободрил бойцов, повел в атаку и вывел из окружения вместе с артиллерией, обозом и ранеными.
Это был его первый боевой подвиг. За него он получил Георгия четвертой степени, золотое оружие и чин полковника.
Война закончилась, отшумела первая революция. В 1906 году Корнилов опять назначен в Главное управление Генштаба – курировать разведывательную деятельность на Кавказе и в Туркестане. В Генштабе он близко сошелся с группой амбициозных интеллектуалов, реформаторов, без пяти минут революционеров в мундирах с аксельбантами. Во главе этой компании – начальник Главного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Палицын; рядом с ним обер-квартирмейстер генерал-майор Алексеев. Еще – подполковник Романовский, капитан Марков: с ними пересекутся дороги Корнилова в будущей смуте.
А ведь смута вызревала уже тогда, и не только в подпольных ячейках революционных партий, но и в кругах военной и бюрократической элиты. Штабные полузаговорщики имели связи с лидерами нарождающихся политических партий (с честолюбивым Гучковым, во всяком случае) и пользовались покровительством великого князя Николая Николаевича, председателя Совета государственной обороны. Все это отзовется эхом в событиях февраля – марта 1917 года.
Генштабовская фронда обеспокоила высшие сферы. В 1907 году Палицын был уволен, а Корнилов, недолго думая, вновь подал по начальству рапорт дерзкого содержания. Он, мол, «вследствие отсутствия работы не считает свое дальнейшее пребывание в Управлении Генерального штаба полезным для Родины и просит дать ему другое назначение». Скандал замяли при участии генерала Алексеева, а бунтаря отправили подальше от Петербурга. И вновь поезд уносит нашего героя на восток: военным агентом (по современной терминологии, атташе) в Пекин.
Служба в столице великого Китая, конечно же, не могла обойтись без нового конфликта – на сей раз с первым секретарем посольства Арсеньевым. Полковник смог победить дипломата: Арсеньева отозвали, а Корнилов остался в Китае еще на два года. В конце 1910 года, совершив долгое, но весьма познавательное в военно-политическом отношении путешествие через Внутреннюю и Внешнюю Монголию, Синьцзян и Туркестан, он вернулся в Петербург. В Генштаб сданы отчеты о состоянии войск и администрации Китая.
Китай стоял тогда на пороге революции. В Петербурге задумывались о том, как бы прибрать к рукам отваливающиеся окраины империи Цин. В 1914 году было совершено последнее территориальное присоединение в истории Российской империи: под протекторат русского царя перешел Урянхайский край (Тува), ранее подвластный Китаю. Хотя Корнилов через Урянхай не проезжал, но непрочность китайской власти в соседней Монголии видел отчетливо. Возможно, решение о принятии Урянхая под царскую руку было принято не без влияния докладов Корнилова.
И опять счастливая судьба предлагает Корнилову процветание на благословенном Западе; и снова он выбирает дикий и трудный Восток. В феврале 1910 года он получает полк в Варшавском военном округе, а через четыре месяца, по собственному прошению, отбывает в Харбин на должность начальника 2-го отряда Заамурского округа пограничной стражи. (Начальник округа генерал-лейтенант Евгений Иванович Мартынов впоследствии станет первым советским биографом Корнилова, и, конечно же, биографом недоброжелательным.) По численности подчиненных войск это должность генеральская, вровень с командиром дивизии. В декабре того же года погоны генерал-майора ложатся на плечи Корнилова. Ему идет сорок второй год.
Два года проходят в пограничных хлопотах, и что же? Лавр Георгиевич оказывается инициатором и героем нового скандала, прогремевшего теперь уже на всю Россию.
Из письма Корнилова сестре Анне:
«…В конце 1913 года у нас в округе начались проблемы по части довольствия войск, стали кормить всякою дрянью. Я начал настаивать, чтобы довольствие войск было поставлено на других основаниях, по крайней мере у меня в отряде. Мартынов поручил мне произвести расследование по вопросу о довольствии войск всего округа. В результате открылась такая вопиющая картина воровства, взяточничества и подлогов, что нужно было посадить на скамью подсудимых все Хозяйственное управление округа во главе с помощником начальника округа генералом Савицким. Но последний оказался интимным другом премьер-министра Коковцова и генерала Пыхачева, которые, во избежание раскрытия еще более скандальных дел, потушили дело. В результате Мартынова убрали, а я, несмотря на заманчивые предложения Пыхачева, плюнул на пограничную стражу и подал рапорт о переводе в армию…»[121]
Корнилов недоговаривает, не хочет слишком тревожить сестру. Скандал вышел превеликий. Дошло до государя. Премьер Коковцов лично уговорил доброго царя закрыть официальное расследование, которое начинало уже пахнуть десятками каторжных приговоров для самых высокопоставленных лиц. Мартынов подал в отставку, а после этого опубликовал собранные комиссией Корнилова факты военно-тылового воровства в газетах и отдельными брошюрами. Кого же наказали? Все воры остались на свободе и при чинах. Мартынов был отдан под суд, хотя и оправдан после долгой волокиты. Корнилов ушел из пограничной стражи в армию, отправлен (фактически с понижением) командовать бригадой во Владивосток, на отрезанный от всего мира остров Русский.
Это – самая восточная точка жизненных странствий Корнилова.
Отделенный от Владивостока проливом Босфор Восточный, остров этот скалист, его гранитные осыпи поросли лесом. Хоть называется он Русский, но пейзажи здесь русскому глазу непривычные, японско-корейские. Даже березы, невысокие, раскидистые, выглядят как на японских гравюрах. Сверху, с горы Русских, видны внутренние озера, пляжи и бухты, бесконечные тихоокеанские дали. На вершине в зарослях высоких трав греются на солнце два береговых орудия. Огромные стволы высовываются из гигантских вращающихся башен. Внутри, в скале, – устрашающее сооружение: шесть этажей, лифты, казармы, снаряды, подъемники – батарея береговой обороны, возведенная, точнее, врубленная в скалу в 1930-х годах. Строительство фортов и батарей на Русском началось на полвека раньше, так что помнят они и генерал-майора Корнилова. Правда, командовал он гарнизоном на острове Русском недолго: около года.
Из письма Корнилова сестре, апрель 1914 года:
«…Занимаем небольшую квартирку в неотстроенном доме, квартира сырая, климат здесь суровый, крайне резкий. Таиса и Юрка (жена и сын Корнилова. – А. И.-Г.) стали болеть… Таисе необходимо серьезно полечиться, так как у ней болезнь почек, которая под влиянием климата и др. неблагоприятных условий жизни сильно обострилась… Я остаюсь здесь, т. к. мне придется до октября командовать дивизией… В конце октября выяснится окончательно, – останусь ли я здесь или же перевожусь в Евр[опейскую] Россию: мне обещан перевод или в строй или в Гл[авное] Управление Генерального Штаба»[122].
Но не перевод в Генеральный штаб и не продолжение службы во влажном климате Приморья ждали Корнилова. Его ждала война. Как всю Россию. Как и весь мир.
Ну а теперь послушаем, что говорят о Корнилове люди, знавшие его лично.
Надо, однако, учесть, что характеристики Корнилова всегда пристрастны: этот человек редко кого оставлял равнодушным. Участники Белого движения восхваляют Корнилова; для них он прежде всего герой, сложивший голову в борьбе с красным чудовищем; о Корнилове либо хорошо, либо ничего. Авторы воспоминаний, написанных в Стране Советов, с тем же постоянством Корнилова ругают: он-де враг народа, авантюрист, честолюбец, узколобый упрямец. Кроме того, все его бывшие начальники отзываются о нем отрицательно; подчиненные – положительно до восторженности.
Оберучев:
«Калмыцкого вида, с косо поставленными разрезами глаз, живой и подвижный, полный молодой энергии, с огоньком в глазах, – таков был Корнилов»[123].
Из телеграммы венгерских властей, 1916 год:
«…Бежал сегодня утром Корнилов Лавр, военнопленный генерал… Наружное описание: 45 лет, среднего роста, продолговатое, худощавое лицо, коричневый цвет лица, плоский нос, большой рот. Глаза, волосы, острая бородка черные, говорит по-немецки, по-французски, по-русски»[124].
Роман Гуль, писатель, участник первых походов Добровольческой армии Корнилова:
«Лицо у него – бледное, усталое. Волосы короткие, с сильной проседью. Оживлялось лицо маленькими, черными как угли глазами. <…>
Что приятно поражало всякого при встрече с Корниловым – это его необыкновенная простота. В Корнилове не было ни тени, ни намека на бурбонство, так часто встречаемое в армии. В Корнилове не чувствовалось „Его Превосходительства“, „генерала от инфантерии“. Простота, искренность, доверчивость сливались в нем с железной волей, и это производило чарующее впечатление.
В Корнилове было „героическое“. Это чувствовали все и потому шли за ним слепо, с восторгом, в огонь и в воду»[125].
Георгий Гуссак, участник первых походов Добровольческой армии Корнилова:
«В обед разнесся слух, что сегодня к нам прибудет ген. Корнилов…
Мы и до этого часто видели его портреты на страницах журналов и газет, но нам представлялся он иным. Нам казалось, что появится генерал во всем блеске и величии: грудь колесом, твердый шаг, зычный голос и все прочее, что полагается вождю и народному герою.
И вот, в сумерки, при тусклом свете слабо накаленных лампочек, он вошел к нам медленной, как бы утомленной походкой, в обыкновенной бекеше с серым воротником. Вошел так просто и свободно. Мы стояли строем вдоль коек. И странно: и эта простота в движениях, во всей его фигуре, и негромкий голос, каким он поздоровался с нами, не рассеяли, не умалили того чувства, которым мы были полны еще до его прихода. Наоборот, оно расширилось. Выросло до того предела, когда все человеческое, обыденное отходит на задний план. В такой момент не страшна уже ни смерть, ничто. Это чувство не оставляло нас и в походе. Бывало, едва плетемся. Усталые, сонливые, с одним только желанием – прилечь, припасть к земле и, вытянув натруженные ноги, лежать без движения, забыться. И в это время издалека доносится «ура», и катится волной по колонне все ближе и громче. Наконец – трехцветное знамя, группа всадников-текинцев, а впереди – генерал Корнилов. Вмиг все забыто. Точно с его появлением в нас вливались свежие силы и бодрость…»[126]
Деникин:
«С Корниловым я встретился первый раз на полях Галиции, возле Галича, в конце августа 1914 г. <…> Тогда уже совершенно ясно определились для меня главные черты Корнилова-военачальника: большое умение воспитывать войска: из второсортной части Казанского округа он в несколько недель сделал отличнейшую боевую дивизию; решимость и крайнее упорство в ведении самой тяжелой, казалось, обреченной операции; необычайная личная храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ему среди них большую популярность; наконец, – высокое соблюдение военной этики, в отношении соседних частей и соратников»[127].
Брусилов:
«Считаю, что этот безусловно храбрый человек сильно повинен в излишне пролитой крови солдат и офицеров. Вследствие своей горячности он без пользы губил солдат, а провозгласив себя без всякого смысла диктатором, погубил своей выходкой множество офицеров. Но должен сказать, что все, что он делал, он делал, не обдумав и не вникая в глубь вещей»[128].
Али-Ага Исмаил-Ага-Оглы Шихлинский, генерал-лейтенант артиллерии:
«Главнокомандующий (Брусилов. – А. И.-Г.) спросил:
– Скажите, пожалуйста, как действовал этот новоявленный герой Корнилов?
Генерал Балуев оглянулся, увидел, что в комнате никого кроме нас нет, потом встал, два раза повернул ключ в дверях, вернулся к нам и пониженным голосом доложил:
– Ваше высокопревосходительство, у этого человека сердце льва, а голова барана»[129].
Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич:
«Корнилов окончил Академию Генерального штаба одновременно со мной. Был он сыном чиновника, а не казака-крестьянина, за которого во время мятежа выдавал себя в воззваниях к народу и армии. В академии он производил впечатление замкнутого, редко общавшегося с товарищами и завистливого человека. При всей своей скрытности Корнилов не раз проявлял радость, когда кто-нибудь из слушателей получал плохую отметку…
Он был очень честолюбив; служба на границе показалась ему более коротким путем к карьере. Смуглый, с косо поставленными глазами, он лицом своим и подвижной фигурой напоминал кочевника-калмыка, и сходство это с годами увеличивалось»[130].
Евгений Иванович Мартынов[131], генерал-лейтенант, в 1910–1913 годах непосредственный начальник Корнилова, начальник Заамурского округа пограничной стражи:
«Это был генерал без широкого кругозора, но лично очень храбрый и не боявшийся ответственности. Самонадеянный, болезненно-самолюбивый и упрямый, он не признавал боевого авторитета своего корпусного командира Цурикова и с величайшим пренебрежением относился к своему соседу начальнику 49-й дивизии Пряслову. В оценке военной обстановки Корнилов вообще отличался большим оптимизмом, что объясняется как присущий ему смелостью и сопровождавшим его счастьем, так и тем, что до сих пор ему приходилось действовать лишь против австрийцев. <…>
Под ударами неприятеля, раздираемый внутренней смутой, русский народ тщетно искал героя-избавителя и посреди общего безлюдья некоторые думали его найти в смелом солдате, коего военные и политические таланты далеко не соответствовали его беспредельному честолюбию»[132].
В общем, портрет выразительный. Яркий человек, настоящий во всех своих проявлениях, привлекающий сердца и ставящий в тупик умы, созидатель и разрушитель одновременно.
Таких людей по-особому любила безумная русская революция: она возносила их на вершины славы, а потом убивала…
Телеграфное сообщение о начале войны генерал Корнилов получил на острове Русском.
В конце июля бригада Корнилова отбыла из Владивостока на Юго-Западный фронт. Включена в состав XXIV корпуса 8-й армии Брусилова. В августовских боях на Гнилой Липе действовала успешно. Во взятии Галича сыграла решающую роль. После этого командующий армией принял решение назначить Корнилова начальником 48-й пехотной дивизии. Во главе этого соединения Корнилов будет действовать следующие восемь месяцев, вызывая восхищение одних, нарекания других, гневные обвинения со стороны третьих.
Каким военачальником был Лавр Георгиевич Корнилов?
Ответить на этот вопрос трудно.
С уверенностью можно сказать одно: его полководческая манера резко отличалась от стратегических принципов и методов управления войсками, принятых в русской армии в годы Первой мировой войны.
Оценки, которые дают его действиям начальники, подчиненные и соратники, расходятся до полной противоположности. Разногласия начинаются уже с описания хода Городокского сражения в последних числах августа 1914 года. Командующий 8-й армией Брусилов и начальник Железной бригады Деникин рассказывают о роли 48-й дивизии и ее командира в боях к юго-западу от Львова в совершенно разных тональностях:
Брусилов:
«В 3 часа ночи 29 августа явился ко мне начальник штаба 24-го армейского корпуса генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 48-й пехотной дивизии остаться на занятых ею с вечера местах и не отходить на высоты севернее Миколаева… Я спросил начальника штаба корпуса, каким образом командир корпуса, получивший диспозицию к 9 часам вечера, решился не выполнить ее немедленно… Ведь подобным самовольным действием нарушаются мои соображения, и это может повести к глубокому охвату левого фланга армии. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он… приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова…
На второй день боя… левый фланг, к сожалению, как я это предвидел, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Щержец в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и, если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, армия была бы поставлена в критическое положение»[133].
Деникин:
«Упираясь левым флангом в Миколаев, правый корпус сильно выдвинулся вперед и был охвачен австрийцами. Бешеные атаки их следовали одна за другой. Положение становилось критическим, в этот момент Корнилов, отличавшийся чрезвычайной храбростью, лично повел в контратаку последний свой непотрепанный батальон и на короткое время остановил врагов. Но вскоре вновь обойденная 48-я дивизия должна была отойти в большом расстройстве, оставив неприятелю пленных и орудия. Потом отдельные роты дивизии собирались и приводились в порядок Корниловым за фронтом моей Железной бригады. <…>
Получилась эта неудача у Корнилова, очевидно, потому, что дивизия не отличалась устойчивостью, но очень скоро в его руках она стала прекрасной боевой частью»[134].
Еще более резки расхождения в оценках действий Корнилова при описании боевых действий в ноябре 1914 года. Тогда, после затяжных боев у Хырова и на реке Сан, австро-венгерские войска отступили к карпатским перевалам и, не удержавшись на них, начали откатываться вниз, в Закарпатье, на Венгерскую равнину. Казалось, еще один натиск – и австро-венгерский фронт рухнет. Боевые командиры дивизий и бригад, подобные Корнилову, рвались вперед. Высшее командование всячески сдерживало их рвение, тормозило наступление собственных войск. Какие соображения руководили главкоюзом Ивановым и наштаюзом Алексеевым? Опасение флангового удара с северо-запада, со стороны Германии; нарастающие трудности в снабжении вырвавшихся вперед соединений; все заметнее обозначающаяся нехватка боеприпасов; нарушение связи при быстром наступлении, грозящее потерей управления войсками… А главное – неверие в собственные силы, неумение и нежелание вести маневренную войну.
Корнилов всем своим существом не мог принять ту осторожно-вялую стратегию, которую упорно и последовательно осуществляло высшее командование. Горячая кровь воина и вождя бурлила в нем; военные барабаны и трубы неумолимо звали вперед; боевой азарт не давал остановиться, оглядеться, оценить опасность. Вольно или невольно, он вырвался из-под бремени приказов корпусного, армейского, фронтового начальства.
Брусилов тоже не был сторонником выжидательно-оборонительной войны. Он, кавалерист, хотел наступать. Но в его тылу оставался огромный неликвидированный нарыв – осажденный Перемышль. Брусилов уже знал то, о чем не думал Корнилов: сапоги, винтовки, артиллерийские снаряды, медикаменты поступают на полевые склады в недостаточном количестве и что будет твориться со снабжением дальше – неизвестно. В начале ноября Брусилов все же двинул свои корпуса за Лупковский перевал. Но осторожно, с оглядкой.
Корнилов почувствовал вольный воздух атаки. Его дивизия рванулась вперед, вниз, с перевала; с ходу захватила станцию Гуменное.
Его увлекала победа; Брусилова страшила неудача.
Брусилов:
«…Корпусу было приказано не спускаться с перевала, но тут генерал Корнилов опять проявил себя в нежелательном смысле: увлекаемый жаждой отличиться и своим горячим темпераментом, он не выполнил указания своего командира корпуса и, не спрашивая разрешения, скатился с гор и оказался, вопреки данному ему приказанию, в Гуменном; тут уже хозяйничала 2-я сводная казачья дивизия, которой и было указано, не беря с собой артиллерии, сделать набег на Венгерскую равнину, произвести там панику и быстро вернуться. Корнилов возложил на себя, по-видимому, ту же задачу, за что и понес должное наказание. Гонведская[135] дивизия, двигавшаяся от Ужгорода к Турке, свернула на Стакчин и вышла в тыл дивизии Корнилова. Таким образом он оказался отрезанным от своего пути отступления; он старался пробраться обратно, но это не удалось, ему пришлось бросить батарею горных орудий, бывших с ним, зарядные ящики, часть обоза, несколько сотен пленных и с остатками своей дивизии, бывшей и без того в кадровом составе, вернуться тропинками.
Тут уже я считал необходимым предать его суду за вторичное ослушание приказов корпусного командира, но генерал Цуриков вновь обратился ко мне с бесконечными просьбами о помиловании Корнилова, выставляя его пылким героем и беря на себя вину в том отношении, что, зная характер Корнилова, он обязан был держать его за фалды, что он и делал, но в данном случае Корнилов совершенно неожиданно выскочил из его рук»[136].
Деникин:
«Виновником неудачи был исключительно сам ген. Брусилов. <…>
Все мы получили совершенно определенный приказ командира корпуса – овладеть Бескидским хребтом и вторгнуться в Венгрию. Дивизия Корнилова, после горячего и тяжелого боя, овладела Ростокским перевалом, встречая затем слабое сопротивление отступающего противника, двигалась на юг, спускаясь в Венгерскую равнину, и 23 ноября заняла г[ород] Гуменное, важный железнодорожный узел. <…>
Движение дивизии Корнилова почему-то ничем не было обеспечено с востока, с этой стороны чем дальше он уходил на юг, тем более угрожал ему удар во фланг и тыл. Для обеспечения за собой Ростокского шоссе он оставил один полк с батареей у с[ела] Такошаны – все, что он мог сделать. <…>
И австрийцы обрушились с востока, сначала на заслон у Такошан. Полк отразил первые атаки, но 24-го австрийцы силами более дивизии смяли его, и он отошел к перевалу. Дивизия Корнилова была отрезана от Росток… 25 ноября Гуменное было атаковано с запада. По приказу армии, передав Гуменное подошедшим на помощь частям 49-й див[изии], Корнилов тремя полками вступил в бой с 1 1/2 див[изиями] противника у Такошан. 26-го и 27-го шли тяжелые бои. Командир корпуса, считая положение безнадежным, просил Брусилова об отводе дивизии по свободной еще горной дороге на северо-запад. Но получил отказ. <…>
А 48-я дивизия, уже почти в полном окружении, изнемогала в неравном и беспрерывном бою…
27-го вечером пришел наконец приказ корпусного командира – 48-й дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной, крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во время этого трудного отступления австрийцы вышли наперерез у местечка Сины, надо было принять бой на улицах его, и, чтобы выиграть время для пропуска через селение своей артиллерии, Корнилов, собрав все, что было под рукой, какие-то случайные команды и роту сапер, лично повел их в контратаку. На другой день дивизия выбилась наконец из кольца, не оставив противнику ни одного орудия (потеряны были только 2 зарядных ящика) и приведя с собой более 2000 пленных»[137].
Невозможно понять, кто прав: Корнилов, Деникин или Брусилов. Приказы отдавались и тут же менялись; чем выше стоял командующий, тем противоречивее и половинчатее были его решения. Да, бросок через Карпаты мог состояться и мог увенчаться впечатляющим успехом. Но только в том случае, если бы был поддержан общими усилиями всего фронта и тыла. Но такой совместной однонаправленности действий как раз и не было в русском командовании, в русской армии, в России. Осторожничанье одних командиров и карьеризм других; недоверие подчиненных к начальникам, обиды, амбиции, ненависть, корысть – словом, глубокий разлад и раскол, охвативший все российское общество, – вот что обесценивало победы, достигнутые героизмом и кровью, подрывало любой успех.
Корнилов с его темпераментом был обречен в бесцельных, не поддержанных свыше бросках губить людей, рисковать собственной жизнью и знаменами своей дивизии.
Ничем хорошим это закончиться не могло.
В феврале 1915 года Корнилов был произведен в генерал-лейтенанты и получил Владимира с мечами – орден, в котором ему отказали тогда, на заре службы, после разведки под Мазари-Шарифом.
А в апреле 1915 года XXIV корпус генерала Цурикова в Бескидах попал под сильнейший фланговый удар австрийских и германских войск, наносимый со стороны Горлице.
Разумеется, с прямым начальником у Корнилова отношения были прескверные. Этого корпусного командира так характеризует известный уже нам мемуарист генерал В. И. Соколов: «Приветливый внешне, с змеиной улыбкой на тонких губах… Цуриков был типичным иезуитом»[138]. Корнилов презирал Цурикова и не доверял ему; Цуриков терпеть не мог Корнилова и радовался каждой его неудаче. Кто больше виноват в той беде, которая случилась в дальнейшем, – Цуриков или Корнилов, – определить трудно. В ходе отступления связь между штабами корпуса и дивизий была нарушена. К тому же Корнилов, незадолго до этого захвативший важные высоты у селения Зборов и гордый этой победой, до последнего момента не хотел отступать. Угрозу, нависавшую над его дивизией с севера, он вовремя не увидел, не оценил. В итоге главные силы дивизии оказались отрезаны от путей отступления в районе Дуклы и 24 апреля разгромлены. Спаслись, как это ни странно, обозы и знамена; около 6000 солдат и офицеров попали в плен, примерно столько же погибло.
Из донесения германского командования:
«На предложение немецкого парламентера сдаться начальник дивизии ответил, что он не может этого сделать, сложил с себя командование и исчез со своим штабом в лесах… После четырехдневного блуждания в Карпатах генерал Корнилов 12 мая (29 апреля. – А. И.-Г.) со всем своим штабом также сдался одной австрийской войсковой части»[139].
Деникин:
«Дивизия Корнилова (48-я) была совершенно окружена и после геройского сопротивления почти уничтожена, остатки ее попали в плен. Сам ген. Корнилов со штабом, буквально вырвавшись из рук врагов, несколько дней скрывался в лесу, пытаясь пробраться к своим, но был обнаружен и взят в плен. Более года он просидел в австрийском плену, из которого в июле 1916 г. с редкой смелостью и ловкостью бежал, переодевшись в форму австрийского солдата. С большими трудностями и приключениями перебрался в Россию через румынскую границу»[140].
Шихлинский:
«Будучи начальником дивизии, при отступлении нашей армии из Австрии он по тупому своему упрямству задержался на позиции, когда всем частям приказали отходить. Его дивизия была окружена, и он, серьезно раненный в ногу, попал в плен. После того, как рана у него была залечена, он бежал из плена. Конечно, бегство генерала, начальника дивизии, из плена – это выдающийся подвиг, и Корнилов прославился»[141].
Верховский, военный министр Временного правительства в сентябре – октябре 1917 года:
«Сам Корнилов с группой штабных офицеров бежал в горы, но через несколько дней, изголодавшись, спустился вниз и был захвачен в плен австрийским разъездом. Генерал Иванов пытался найти хоть что-нибудь, что было бы похоже на подвиг и могло бы поддержать дух войск. Сознательно искажая правду, он прославил Корнилова и его дивизию за их мужественное поведение в бою. Из Корнилова сделали героя на смех и удивление тем, кто знал, в чем заключался этот „подвиг“»[142].
Как хотите, не может душа осудить Корнилова за все происшедшее. Но и восхищение отравлено горечью. Лавр Георгиевич снова перед нами, весь на ладони, такой, каким он был. Генерал-подвижник, генерал-бунтарь. Он должен совершать необыкновенные деяния. Он не может ходить теми путями, которыми идут все. Он обязан все время смотреть в лицо смерти, как будто это зеркало, в котором отражаются его раскосые ханские глаза. Он губит сотни, тысячи людей – как будто бы только ради того, чтобы гордо заявить немцам: «Я не сдаюсь!» – а потом прорваться с несколькими верными людьми в горы и там бродить до изнеможения, душевного и телесного. А потом, чуть залечив раны, бежать из плена, быть пойманным, снова бежать…
Необыкновенный это человек. Рыцарственность Запада и удаль Востока соединяются в нем – и происходит взрыв. И руины остаются кругум…
На белом коне – в красную смуту
В плену ему было не высидеть. Просто не высидеть – не то чтобы плохо, или позорно, или мучительно было. О побеге он думал с первых дней плена.
История корниловского плена и побега обросла множеством легенд. Теряющаяся в их дымке правда вряд ли может быть детально восстановлена. Сам герой о своем подвиге рассказывал мало. Версии свидетелей противоречивы. Документы фиксируют лишь моменты обнаружения побега венгерскими властями и появления беглеца в Румынии.
Дело обстояло приблизительно так.
Первое время Корнилов содержался в лагере для высокопоставленных военнопленных в замке Нойленгбах (в источниках встречаются искаженные названия «Нейгенбах», «Неленбах»). Оттуда пытался бежать на аэроплане. Не удалось. Беспокойного генерала перевели в другой лагерь, в третий, в четвертый (их названия и местоположение установить затруднительно; по-видимому, все они находились на территории Венгрии). В последнем – неожиданная встреча: генерал Мартынов, бывший начальник по Заамурскому округу пограничной стражи. Мартынов в самые первые дни войны на аэроплане залетел на австрийскую территорию и был пленен. Теперь Корнилов вдохновил его на побег… План двух генералов был раскрыт, попытка не состоялась.
И тогда Корнилов заболевает. Перестает есть. Доводит организм до истощения. Как шаман или граф Калиостро, научается вызывать у себя сердцебиение и чуть ли не остановку сердца. Его переводят в лазарет, в городок Кесег. Там он «обращает в свою веру» помощника аптекаря солдата-чеха Франтишека Мрняка и склоняет его к совместному побегу. Мрняк достает документы Корнилову (на имя Штефана Латковича, хорвата) и австрийскую солдатскую форму – и вот они вместе исчезают в ночи из замка; едут, скрывая лица под темными очками, в поезде через всю Венгрию в Трансильванию. Добравшись до станции Карансебеш, меняют военную форму на штатскую одежду; несколько дней плутают в лесу возле румынской границы. И надо же – Мрняк попадается жандармскому патрулю[143], а Корнилов после трехнедельных блужданий оказывается на румынской территории близ города Турну-Северин.
(Впоследствии родилась легенда: Корнилов, изможденный многодневным скитанием по лесу, из последних сил переплывает широкий и могучий Дунай. На самом деле граница между Австро-Венгрией и Румынией проходила не по Дунаю, а по маленькой речушке Бахна. Впрочем, где именно Корнилов пересек румынскую границу – неизвестно.)
Это август 1916 года. После успешного брусиловского наступления Румыния присоединяется к Антанте. Корнилов – на земле союзника. 22 августа исхудалый, обросший щетиной человек в оборванной одежонке был доставлен в фильтрационный пункт для бежавших из плена, к русскому военному агенту полковнику Татаринову. И военный агент услышал:
– Я генерал-лейтенант Корнилов.
4 сентября Корнилов прибыл в Петроград. Это было триумфальное прибытие.
Газеты, захлебываясь, кричат о его подвиге и о несуществующих ужасах плена. Орден Святой Анны первой степени с мечами, редкая награда, добавляется к Георгию третьей степени, пожалованному за тот апрельский бой в окружении. Государь император вызывает его в Ставку и удостаивает высокомилостивой аудиенции. Тут же следует назначение командиром корпуса.
Он, Корнилов, превращается в символ всего героического, русского, сверхъестественно побеждающего. Прав генерал Мартынов: «русский народ искал героя-избавителя». Вот он – Лавр Корнилов! Генерал на белом коне!
И ведь удивительно: Лавр Георгиевич ничуть не зазнался, не вознесся, не возгордился. Он остался точно таким, каким был: простым, искренним, ничего не боящимся, ни в чем не сомневающимся. Славу и высокое назначение воспринял как должное; не как свое торжество, а как торжество той правды, в которую он верил.
Чудесный ореол не рассеялся вокруг его образа и после неудач возглавляемого им корпуса в ноябре 1916 года – все там же, между Луцком и Ковелем, в бесконечной мельнице несостоявшегося прорыва. На Корнилова уже привыкли смотреть как на спасителя от всех бед, прошлых и будущих.
А будущие, неумолимо надвигающиеся беды были грознее прошлых.
В начале 1917 года по просьбе казаков станицы Каркаралинской епископ Омский Сильвестр благословил Корнилова нательным крестом и образом Богоматери. Генерал благодарил и писал в ответ с твердой верою: «…Сила Господня… сохранит меня целым и невредимым в предстоящих боях и даст мне новый запас сил для служения Царю и Родине…»[144]
Это письмо датировано 24 февраля. Царю оставалось царствовать семь дней. Родина стояла на краю революционной бездны. В Петрограде уже закипала стихия бунта.
Из телеграмм командующего войсками Петроградского военного округа генерала С. С. Хабалова генералу М. В. Алексееву в Ставку.
25 февраля, 17 часов 40 минут. «Доношу, что 23 и 24 февраля, вследствие недостатка хлеба на многих заводах началась забастовка. 24 февраля бастовало около 200 тысяч рабочих… В середине дня 23 и 24 февраля часть рабочих прорвалась к Невскому, откуда была разогнана… Оружие войсками не употреблялось…»
26 февраля, 13 часов 5 минут. «Доношу, что в течение второй половины 25 февраля толпы рабочих, собиравшиеся на Знаменской площади и у Казанского собора, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими чинами. Около 17 часов у Гостиного двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги с надписями: „Долой войну!“…»
27 февраля, 20 часов 10 минут. «Прошу доложить его императорскому величеству, что исполнить повеление о восстановлении порядка в столице не мог. Большинство частей одни за другими изменили своему долгу, отказались сражаться против мятежников. Другие части побратались с мятежниками…»
Из телеграммы председателя Государственной думы М. В. Родзянко в Ставку царю.
27 февраля, 12 часов 40 минут. «Правительство совершенно бессильно подавить беспорядок. На войска гарнизона надежды нет. Запасные батальоны гвардейских полков охвачены бунтом. Убивают офицеров. Примкнув к толпе и народному движению, они направляются к дому Министерства внутренних дел и Государственной думе…»[145]
27 февраля Николай II отдал приказ генерал-адъютанту Иванову во главе группы войск направиться в Петроград. Вследствие сложившихся обстоятельств приказ фактически выполнен не был.
28 февраля рано утром император выехал из Ставки в Петроград. При подъезде к столице выяснилось, что железнодорожные пути на станции Любань захвачены восставшими. Собственный его императорского величества конвой в Петербурге в полном составе примкнул к восстанию.
1 марта рано утром царский поезд развернулся от Малой Вишеры и к вечеру прибыл в Псков, где находилась ставка главкосева генерал-адъютанта Рузского. Начались переговоры между генералами и руководством Временного комитета Государственной думы о политическом будущем России. Император оказался в западне.
2 марта телеграммою за подписью государя Корнилов был назначен командующим Петроградским военным округом вместо сдавшегося Хабалова.
Что это значило? Кем должен был стать Корнилов? Последним защитником самодержавия или первым генералом революции? Был ли он связан с тем генералитетом, который давно исподволь готовил отстранение императора от власти? Однозначного ответа на эти вопросы известные ныне источники не дают. Решение о назначении Корнилова Николай II принял до отречения, но уже тогда, когда власть его испарялась так быстро, как капля влаги в пустыне. Вероятнее всего, это назначение было результатом соглашения между обреченным царем и его врагами. Корнилов с его популярностью был нужен и ему, и им.
Во всяком случае, Корнилов оказался лоялен новой власти. Именно он 8 марта выполнил ответственнейшее поручение Временного правительства – арестовал бывшую императрицу, императорских дочерей и сына. И вновь вопрос без ответа: совершал ли он эту операцию, в которой столь мало было героического, с радостью или с горестью? Панегиристы и поклонники Корнилова будут потом утверждать, что своими действиями он спасал царскую семью от самосуда революционных толп. Его недоброжелатели с той же настойчивостью будут распространять рассказ (не особенно достоверный) об оскорбительном по отношению к императрице поведении Корнилова, о красном революционном банте, вызывающе нацепленном на его мундир.
И то и другое – позднейшая мифология. Корнилов, символ всего русского, просто вел себя, как «все русское» вело себя в тот момент. Свержение царя и отвержение всего связанного с его именем стало моментом общенародного единства. Арест «немки» и ни в чем не повинных детей воспринимался как необсуждаемое должное. Кому осуществить этот акт высшей правды, как не долгожданному герою-избавителю?
Впрочем, революция изменила многое – но не характер Корнилова. С новым военным министром Гучковым он не сработался. Разнузданность Петроградского гарнизона оказалась для его военной натуры неприемлема. Более же всего невозможно было примирение с Петросоветом. После нескольких столкновений с этим самочинным и неуправляемым органом революционного безначалия 21 апреля Корнилов отказался от должности. Через неделю был назначен командующим 8-й армией (той, которой до этого командовали Брусилов и Каледин) и отправился на фронт.
19 мая командарм-8 своим приказом образовал 1-й ударный отряд добровольцев под командованием капитана Неженцева. Созданный для противодействия развалу армии, отряд стал прообразом будущих добровольческих частей и соединений Гражданской войны. Тогда появилось словосочетание «добровольцы-корниловцы»; через год оно наполнится новым содержанием…
(Примечательно, что в те же дни на съезде комитетов Юго-Западного фронта с инициативой формирования добровольческих ударных частей выступил некий капитан Муравьев. Об этом человеке речь впереди.)
Тогда же Корнилов отобрал из состава Текинского (туркменского) конного полка отряд всадников для охраны штаба армии. Этот отряд стал личной гвардией своего генерала и последовал за ним при переводе в штаб фронта, в Ставку Верховного главнокомандования и даже в Быховскую тюрьму.
Формирование войск на основе добровольности, по принципу личной преданности командиру и его идеям (признак бессилия регулярной армии) станет характерным явлением начального этапа Гражданской войны, а позднее сохранится в традициях атаманщины и басмачества. Чапаев и Сапожков, Булак-Балахович и Джунаид-хан, Махно и Котовский, Унгерн и Соловьев, Шкуро и Думенко будут прежде всего предводителями лично им преданных добровольческих отрядов. Первый в этом ряду вождей, отмеченных печатью славы и смерти, – генерал Корнилов.
Что произошло дальше, мы уже знаем. Революционный хаос нарастал на фронте и в тылу. Летнее наступление провалилось в волчью яму анархии. Новый глава правительства Керенский искал «своего» главковерха. И обрел – как казалось – его в лице Корнилова.
27 июня Корнилов был произведен в генералы от инфантерии; 10 июля назначен главнокомандующим Юго-Западным фронтом. Его назначение состоялось в условиях неудержимого распада фронта. Пассивно наблюдать за этим, терпеть поражение не от военного врага, а от внутреннего хаоса Корнилов не мог. Он опять должен стать против течения. Что можно сделать, чтобы остановить неудержимый поток? Только то, что сделать нельзя. Со свойственной ему решительной простотой он произносит те слова, которые не решались произнести другие генералы «демократизированной» армии: смертная казнь. Смертная казнь за воинские преступления на фронте, за дезертирство, за самовольное оставление позиций, за покушение на командиров. Восстановить ее, отмененную революцией, – вот что нужно сделать немедленно.
Из телеграммы Корнилова Керенскому от 11 июля:
«Армия обезумевших темных людей, не огражденных властью от систематического разложения и развращения, потерявших чувство человеческого достоинства, бежит. Меры правительственной кротости расшатали дисциплину, они вызывают беспорядочную жестокость ничем не сдерживаемых масс. Смертная казнь спасет многие невинные жизни ценой гибели немногих изменников, предателей и трусов»[146].
Через три дня фронтовая смертная казнь была восстановлена – на бумаге. Громогласный приказ был издан, но… Выносить и осуществлять смертные приговоры было некому; и те командиры, которые в душе без колебаний одобряли жесткие требования Корнилова, боялись солдатского самосуда.
Еще через четыре дня, 18 июля, последовал приказ о назначении Корнилова Верховным главнокомандующим. Он вступил на высший пост в той армии, которая уже не существовала. Понимал ли он это? Понимал. На что надеялся? На бросок, удар, подвиг, победу. Один против многих; с немногими против всех.
Сорок дней в должности Верховного – это был подъем к горной вершине наперерез лавинам. И – падение, безоглядное, как полет.
10 августа от имени Корнилова в правительство была подана докладная записка, содержание которой получило громкое название «Программа Корнилова». Речь в ней шла о необходимости укрепления дисциплины в армии, однако же при сохранении комитетов и комиссаров, при обжаловании солдатами дисциплинарных взысканий и при прочих атрибутах февральско-мартовской «демократизации». Эта словоблудная и двуликая программа совсем не в духе Корнилова; она вдохновлена окружавшими его комиссарами типа бывшего бомбиста Бориса Савинкова и эсера Максимилиана Филоненко. Верховный подписал ее, но душа его требовала другого – действия.
12 августа в Москве открылось Государственное совещание. Участвовал в нем и Верховный. От Корнилова ждали чего-то необыкновенного – и ничего не дождались. Выступление хмурого Каледина вызвало больший резонанс, чем речь «народного главнокомандующего», написанная, судя по всему, тем же Филоненко. Однако по Москве от Брестского вокзала до Большого театра, от Большого театра до Кремля за Корниловым ходили толпы; ему кричали «ура!» и «спаситель России», падали перед ним на колени. Это было ему понятнее, чем слова политических программ. Что ж, он всегда боролся с дурным начальством и всегда вырывался наверх. Теперь над ним был только один начальник – министр-председатель Керенский. И путь только один – к верховной власти.
Он принял решение: на штурм.
В политических перипетиях так называемого Корниловского мятежа разобраться трудно. Здесь много нагорожено всякого вранья: вранья от обиды, вранья от трусости, вранья от демагогической увлеченности… Один человек в этих мутных и кривых потоках остался прям, ясен, прост – Корнилов.
20 августа в переговорах между правительством и Ставкой было принято решение объявить Петроград на военном положении.
24 августа Петроградский округ передан в прямое подчинение Верховному. В этот же день в Ставку в Могилев приехал бывший член Временного правительства Владимир Николаевич Львов. В беседе с ним Корнилов сформулировал идею объединения высшей военной и государственной власти в одних руках до созыва Учредительного собрания.
25 августа по приказу Корнилова наиболее надежные части III кавалерийского корпуса и Туркестанской дивизии под общим командованием генерал-майора Крымова начали движение на Петроград. Цель – «занять город, обезоружить части петроградского гарнизона, которые примкнут к движению большевиков, обезоружить население Петрограда и разогнать советы»[147]. Это делалось открыто, в соответствии с полномочиями Верховного главнокомандующего.
26 августа В. Н. Львов, вернувшись в Петроград, сообщил о замыслах Корнилова Керенскому.
Вину за дальнейшее многие сваливают на Львова: он-де представил инициативу Корнилова как попытку захвата власти и установления военной диктатуры. Проверить это невозможно. Но и поверить в то, что великие последствия наступают из-за маленькой лжи, тоже трудно. В неясных или неправдивых речах люди слышат то, что хотят услышать. Если Корниловым всегда владел боевой порыв, то Керенским всегда владел испуг. Это был самый испуганный правитель за всю историю России. Как зверь с испугу бросается на источник возможной опасности, так Керенский бросился на Корнилова.
26 августа вечером на заседании правительства Керенский объявил Корнилова мятежником и потребовал для себя диктаторских полномочий.
27 августа в Ставке была получена телеграмма от Керенского с требованием Корнилову сложить полномочия и выехать в Петроград. Корнилов категорически отказался.
28 августа был опубликован указ правительства об отстранении Корнилова от Верховного главнокомандования и предании его суду за мятеж. В этот же день войска Крымова заняли город и станцию Луга в 130 верстах от Петрограда. В этот же день появилось «Обращение к народу»:
«Я, Верховный главнокомандующий, генерал Корнилов, пред лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самопожертвование гражданина Свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня, в эти грозные минуты бытия Отечества, не подчиниться приказанию Временного правительства и оставить за собою верховное командование народными армиями и флотом.
Поддержанный в этом решении всеми главнокомандующими фронтов, я заявляю всему Народу Русскому, что предпочитаю смерть устранению меня от должности Верховного.
Истинный сын Народа Русского всегда погибает на своем посту и несет в жертву Родине самое большое, что он имеет, – свою жизнь. <…>
Не мне ли, кровному сыну своего Народа, всю жизнь свою на глазах всех отдавшему на беззаветное служение Ему, стоять на страже великих свобод, великого будущего своего народа!
Но ныне будущее это в слабых безвольных руках; надменный враг, посредством подкупа и предательства распоряжающийся у нас в стране, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но и существованию Народа Русского.
Очнитесь, люди русские, от безумия ослепления и вглядитесь в бездонную пропасть, куда стремительно идет наша Родина!
Избегая всяких потрясений, предупреждая какое-либо пролитие русской крови в междоусобной брани и забывая все обиды и все оскорбления, я, перед лицом всего Народа, обращаюсь к Временному правительству и говорю: Приезжайте ко мне в Ставку, где свобода ваша и безопасность обеспечены моим честным словом, и, совместно со мной, выработайте и образуйте такой состав Правительства Народной Обороны, который, обеспечивая победу, вел бы Народ Русский к великому будущему, достойному могучего свободного народа.
Верховный главнокомандующий, генерал Корнилов.
28 августа 1917 года. Ставка»[148].
Но люди русские видели то, что хотели видеть; слышали то, что готовы были услышать. В шуме приказов и воззваний слишком многие услышали только два слова: «генерал» и «мятеж».
29 августа передовые эшелоны Крымова были остановлены на перегоне Вырица – Павловск, где железнодорожники вместе с рабочими-красногвардейцами разобрали пути. За следующие два дня агитаторы из Петрограда, преимущественно большевики и левые эсеры, распропагандировали солдат и офицеров крымовского отряда, и те отказались выполнять приказы командования.
30 августа генерал Крымов прибыл в Петроград для переговоров с Керенским. После встречи и беседы с министром-председателем Крымов был доставлен в Николаевский военный госпиталь с огнестрельным ранением, от которого в тот же день скончался. Ни содержание беседы, ни обстоятельства смертельного ранения Крымова не известны. По господствующей версии, Крымов застрелился.
31 августа стало ясно, что армия подчиняется не Ставке, а революционным агитаторам. Никто из крупных политических деятелей (даже Каледин) не встал открыто на сторону «мятежника». Верховное главнокомандование Корнилова повисло в воздухе.
Из воспоминаний Ивана Александровича Родионова, казачьего офицера, находившегося в Ставке в последних числах августа 1917 года:
«Какая тяжелая, гнетущая атмосфера была в этом полутемном, полупустынном доме, еще недавно сиявшем огнями и полном делового оживления! В дивном приемном зале где-то на стене горевшая электрическая лампочка только еще безнадежнее подчеркивала царивший в ней угрюмый полумрак.
Входя в него, я чуть не натолкнулся на проходившую наперерез мне скорбную фигуру почтенной Таисии Владимировны, жены Верховного.
На залитом слезами лице несчастной женщины выражалось глубокое горе.
– Где его высокопревосходительство? – поздоровавшись, осведомился я.
– У себя в кабинете. Он вас ждет.
У меня… мелькнула страшная мысль, что Корнилов хочет покончить с собой. Эта мысль, как буравом, сверлила мой мозг, и с языка моего сам собою сорвался неделикатный вопрос:
– Верует ли генерал в Бога?
– Верить-то верит. Но какие люди подлые… негодяи… обманули его… А он так доверчив… – И она зарыдала пуще прежнего. – Где Юрик? Пошлите к нему Юрика. Очень прошу… <…>
При моем входе в кабинет Корнилов сидел у стены под лампой…
Верховный пригласил меня сесть рядом с ним у маленького письменного стола.
Он был еще худее, чем всегда, чувствовал себя нездоровым; на желтом, как лимон, лице его выступали темные пятна. <…>
– Подлец Керенский обманул меня, – заявил мне Верховный. – И эти „общественные“ и „государственные“ деятели – все предатели, слякоть! – Он с отчаянием махнул рукой. – Предупредите своих, чтобы, кто может, скрылись, пока есть время, потому что нам пощады не будет. Несомненно, что мы будем преданы суду революционного трибунала… на суд сознательных „товарищей“… А вот что будет с Россией?»[149]
Не то же ли самое записано в дневнике Николая II? 2 марта 1917 года, в день отречения: «Кругом измена, трусость и обман». И 1 мая: «Что готовит провидение бедной России?»
1 сентября Корнилов был арестован прибывшим в Могилев генералом от инфантерии Михаилом Васильевичем Алексеевым. Аресту подверглись также генералы А. С. Лукомский, И. П. Романовский, Н. М. Тихменев, полковник[150] Ю. Н. Плющевский-Плющик и другие. Наиболее важные арестанты во главе с Корниловым были доставлены в город Быхов, где содержались под стражей в одном из зданий бывшего замкового комплекса. Охрану несли части Текинской «гвардии» Корнилова.
Газеты в Быховскую тюрьму доставлялись исправно. 26 октября 1917 года арестанты узнали о событиях в Петрограде, о захвате власти большевистско-левоэсеровским Военно-революционным комитетом и о провозглашении власти Советов. Через четыре дня Корнилов и его соузники прочитали в газетах телеграмму:
«Всем Советам рабочих и солдатских депутатов!
30 октября, в ожесточенном бою под Царским Селом, революционная армия наголову разбила контрреволюционные войска Керенского и Корнилова.
Именем революционного правительства призываю все вверенные полки дать отпор врагам революционной демократии и принять меры к захвату Керенского, а также к недопущению подобных авантюр, грозящих завоеваниям революции и торжеству пролетариата.
Да здравствует революционная армия!»[151]
Подпись: «Муравьев».
Сложные, наверно, чувства охватили Корнилова. Он с удивлением узнал: он еще воюет! Его, а не чьи-нибудь войска, оказывается, «разбиты в ожесточенном бою»! Значит, борьба не закончена, значит, есть цель! Не все подвиги еще совершены!
Но кто автор победной реляции?
Какой это Муравьев?
Деревенский пастушок, он же красавец-поручик
Михаил Артемьевич Муравьев так быстро вспыхнул и сгорел в революционном пожаре, что о нем не успели написать, высказаться, крикнуть. Сам он тоже ни записок, ни рассказов о себе не оставил. Достоверных сведений о его личности и жизни существует немного, гораздо меньше, чем легенд. Это – первое, что роднит его с Корниловым: жизнь обоих обросла преданиями. Конечно, мифы о Корнилове гораздо масштабнее и известнее. Будучи на десять лет старше Муравьева, Корнилов к исходу 1917 года не только взял штурмом высоты славы, но и закрепился на них. Муравьев успел только совершить рывок к этим вершинам: пуля остановила его за шаг до исторического бессмертия.
Вот что говорят о Муравьеве люди, с которыми революция столкнула его в последний год жизни; его ненавистники и враги. Их речи заведомо необъективны, но сходятся в главных тонах: честолюбец, храбрец, красавец, вождь.
Троцкий:
«Муравьев был прирожденным авантюристом. В этот период он считал себя левым эсером… Хлестаков и фанфарон, Муравьев не лишен был, однако, некоторых военных дарований: быстроты соображения, дерзости, умения подойти к солдату и ободрить его. В эпоху Керенского авантюристские качества Муравьева сделали его организатором ударных боевых отрядов, которые направлялись, как известно, не столько против немцев, сколько против большевиков…
В отличие от других военных работников того периода, особенно партийных, он не жаловался на недочеты, прорехи, на саботаж, а, наоборот, все недочеты заделывал жизнерадостным многословием, заражая постепенно и других верою в успех»[152].
Тухачевский:
«Муравьев отличался бешеным честолюбием, замечательной личной храбростью и умением наэлектризовывать солдатские массы… Мысль „сделаться Наполеоном“ преследовала его, и это определенно сквозило во всех его манерах, разговорах и поступках. Обстановки он не умел оценить. Его задачи бывали совершенно нежизненны. Управлять он не умел. Вмешивался в мелочи, командовал даже ротами. У красноармейцев он заискивал. Чтобы снискать к себе их любовь, он им безнаказанно разрешал грабить, применял самую бесстыдную демагогию и проч. Был чрезвычайно жесток. В общем, способности Муравьева во много раз уступали масштабу его притязаний. Это был себялюбивый авантюрист, и ничего больше»[153].
Бонч-Бруевич:
«Сам Муравьев не внушал доверия ни мне, ни политическим руководителям ВВС[154]. Называя себя левым эсером, он пользовался поддержкой входившей еще в советское правительство парии левых эсеров и ее „вождя“ Марии Спиридоновой. Бледный, с неестественно горящими глазами на истасканном, но все еще красивом лице, Муравьев был известен в дореволюционной офицерской среде как заведомый монархист и „шкура“. Этим нелестным прозвищем солдаты наделяли наиболее нелюбимых ими офицеров и фельдфебелей, прославившихся своими издевательствами над многотерпеливыми „нижними чинами“»[155].
Последние фразы о монархизме и шкурничестве, противоречащие многим фактам, оставим на совести Бонч-Бруевича и его редакторов из Идеологического отдела ЦК ВКП(б).
Итак, достоверных сведений о Муравьеве мало. Нам придется конструировать его образ из сложного материала: разрозненных фактов, догадок, противоречий. Несомненно только одно: он был наделен той же взрывной энергией, что и Корнилов. Разве что, может быть, разрушительного начала в Муравьеве было больше. Больше атакующей анархии. Меньше принципов и чести.
Так же как и Корнилов, Муравьев происходил, что называется, из народных глубин (если, конечно, не сочинил себе «народную» родословную после победы революции). Согласно общепринятой версии, он родился 13 сентября 1880 года в деревне Бурдуково Ветлужского уезда Костромской губернии[156]. Однако ныне существующая недалеко от Ветлуги деревня Бурдуково до революции относилась не к Ветлужскому, а к Варнавинскому уезду Костромской губернии. Между тем на честь быть родиной Муравьева претендует не только Ветлужская земля, но и Самарская: в некоторых публикациях местом его рождения именуется Мелекесс[157].
О его родителях известно еще меньше, чем о родителях Корнилова. Одни называют его отца зажиточным крестьянином, другие – середняком, третьи намекают на бедняцкое происхождение. Последнее маловероятно: Михаил получил образование, позволившее ему поступить в юнкерское училище, а для сына бедняка средняя школа едва ли могла быть доступна.
Говорят, что он с малолетства работал пастухом. Что это: легенда или правда? Скорее всего, легенда: пастух в деревне – фигура серьезная, ответственная. А может быть, ходил в подпасках? Может быть.
Окончил начальную школу – это безусловно. Говорят, что уже в церковно-приходской школе на его способности обратили внимание учителя и что даже кто-то из местных благотворителей дал семье Муравьевых денег, чтобы устроили Мишу в школу второй ступени – в уездное трехклассное училище. Возможно.
Также сохранились сведения о его обучении в семинарии: одни говорят, что в учительской, другие – в духовной. И вновь возникает версия – то ли правда, то ли легенда, – что, мол, семинарию не окончил: слишком оказался бунтарь, неслух, драчун. Это тоже вполне вероятно.
Тем не менее (и это уже определенно правда) Михаил Муравьев был зачислен на военную службу вольноопределяющимся. А для этого требовался документ об образовании. Здесь опять-таки является полулегендарная история о том, как исключенный из семинарии юнец едет без денег, зайцем, в Петербург, там бедствует в поисках фортуны, живет чуть ли не воровством, наконец находит знакомого офицера (откуда такое знакомство?), оказывает ему какие-то секретные услуги, и тот помогает юноше без нужных бумаг надеть окантованные погоны «вольнопера». Может такое быть? Вполне. И такая история, конечно, соответствует образу Муравьева – героя революционной смуты.
Следующий несомненный факт его биографии – поступление в Казанское двухгодичное юнкерское училище после отбытия положенного срока службы вольноопределяющимся. (Выбор Казанского училища плохо согласуется с легендой о побеге в Петербург.) И снова расхождения: на сей раз в датах. Одни источники указывают год окончания училища 1899-й, другие утверждают, что в 1899 году он поступил в юнкера, а выпущен был в 1901 году.
Так или иначе, Казанское пехотное юнкерское училище он окончил и был определен на службу в армию подпоручиком. Тут, понятное дело, мы сталкиваемся с новой легендой, даже с двумя, одна краше другой.
Излагается эта история примерно так.
Подпоручик был направлен на службу в Рославль Смоленской губернии. Там как раз в это время начинаются большие маневры: настолько большие, что на них присутствует сам государь император и в них участвует (в качестве командующего одной из сторон) военный министр генерал-адъютант Куропаткин. И вот в ходе маневров некий отважный подпоручик (мы уже догадываемся кто) отправляется на разведку в тыл «противника» и берет в плен проезжавшего по дороге генерала. Нетрудно догадаться, что это – генерал Куропаткин. Подпоручик хочет доставить пленного государю. Но тут уж генерал раскрывает свое инкогнито, идти к царю пленником отказывается наотрез, но хвалит подпоручика за удаль и обещает продвижение по службе.
Подпоручик счастлив. Но карьере его не суждено взлететь. Сразу по окончании маневров полковые офицеры приглашены местным обществом на бал. Подпоручик Муравьев, молодой красавец и сердцеед, пользуется успехом у уездных барышень и дам. К одной из них он и сам готов воспылать серьезной страстью. Это замечают другие офицеры. Один из них, грубиян и бурбон, значительно старше нашего героя в чине, отпускает по этому поводу оскорбительную шутку. Муравьев вспыхивает… Дуэль… Обидчик убит. За убийство старшего офицера Муравьева предают суду, приговаривают к разжалованию в солдаты… Вот тут-то пригодилось короткое знакомство с военным министром. Высокие покровители молодого храбреца-дуэлянта добиваются смягчения приговора. Отбыв несколько месяцев на гауптвахте, подпоручик Муравьев возвращается в строй.
Конечно, эти истории – «плод романтических затей»; они просто выписаны из бульварных приключенческих романов того времени и приклеены к уже сложившемуся образу Муравьева – человека, известного своей удалой бесшабашностью, храбростью, неуживчивостью – теми же качествами, которые так заметны в характере молодого Корнилова.
Возможно, и даже скорее всего, какие-то приключения в жизни офицера Муравьева имели место. Мифы, как известно, не врут, они стирают детали и подают истину в наиболее обобщенном и запоминающемся обличье. Мог быть какой-то выдающийся успех на маневрах, о котором говорили в офицерских собраниях и который со временем отлился в полусказочную форму. Есть сведения (их, правда, трудно проверить), что Муравьев был осужден на полтора года арестантских рот за убийство офицера прямо на балу, но помилован по случаю войны с Японией и в связи с отправкой на фронт.
Во всяком случае, в Русско-японской войне Муравьев участвовал в чине поручика 122-го Тамбовского пехотного полка. Любопытно, что тут Муравьев служил под началом двух командиров, с которыми ему придется столкнуться на исходе мировой и на восходе Гражданской войны. Командиром полка был тогда полковник Владислав Наполеонович Клембовский. В августе 1917 года главкосев генерал от инфантерии Клембовский поддержит (правда, только словесно) выступление Корнилова и будет отстранен от должности; в 1918 году, незадолго до гибели Муравьева, он вступит в Красную армию; в 1920 году будет арестован ЧК и погибнет в тюрьме при невыясненных обстоятельствах. Начальником штаба корпуса, в составе которого числился Тамбовский полк, был в 1904 году генерал-майор Афанасий Андреевич Цуриков, известный нам как начальник и недруг Корнилова. Этот генерал не забыл давних обид: 28 августа 1917 года он подписал резолюцию солдатских комитетов, объявлявшую Корнилова изменником и врагом народа. Умрет он вскоре после Гражданской войны в должности инспектора кавалерии Рабоче-крестьянской Красной армии. С ним военные дороги сведут главкома Муравьева в начале 1918 года в Одессе.
В августе 1904 года 122-й полк в составе 1-й бригады 31-й пехотной дивизии X армейского корпуса участвовал в сражении при Ляояне.
X корпус был выдвинут в центр расположения русских войск; левый его фланг опирался на деревню Пегоу. 13 августа 122-й полк столкнулся около этой деревни с наступающими частями японцев и после ожесточенного боя вынужден был отступить. В этом бою был ранен полковник Клембовский; поручик Муравьев принял тут боевое крещение.
Мы не знаем, как он вел себя в кровопролитном сражении. Увлек ли его азарт боя, бежал ли он в наполеоновском порыве, размахивая штатным револьвером, в атаку впереди своих солдат, или в смертельном испуге пытался укрыться в каком-нибудь овражке, или же просто честно сделал свое боевое офицерское дело… Так или иначе, бой у Пегоу предшествовал главным событиям Ляоянского сражения, а сражение, развивавшееся в общем неплохо для русских войск, закончилось неожиданным и необъяснимым отступлением.
О дальнейшем участии Муравьева в этой войне тоже почти ничего не известно. Вполне возможно, что как-нибудь зимой, перемещаясь с полком с места на место по желтовато-серым, слегка запорошенным снегом дорогам Маньчжурии, он повстречал худенького невысокого подполковника, со скуластым смуглым лицом и черными, искрящимися, немного раскосыми глазами. Может быть, видел где-нибудь другого подполковника, бравого, рослого, в лихо заломленной фуражке, усами и бородкой напоминающего государя императора… Даже если они и оказались рядом друг с другом, внимания друг на друга все равно не обратили. Мало ли поручиков и подполковников толчется в разных направлениях по военным дорогам Маньчжурии. Пройдет тринадцать лет (роковое число!), и их фамилии – Корнилов, Деникин, Муравьев – станут символами двух миров, двух Россий, схлестнувшихся в непримиримой и жестокой борьбе под знаменами красным и трехцветным.
От Западной Маньчжурии до Восточной Пруссии
В Мукденском сражении, том самом, за которое Корнилов получил своего первого Георгия, Муравьев был серьезно ранен в голову. Пока находился на излечении, война кончилась. Поручик получил длительный отпуск. В биографических справках упоминается поездка Муравьева за границу вскоре после Русско-японской войны. Говорят даже о нескольких годах жизни во Франции, о посещении занятий в Парижской военной академии, об увлечении культом Наполеона. Иные столь же уверенно пишут о знакомстве с эсерами-эмигрантами, с революционными бомбистами, с Савинковым. И даже утверждают: Муравьев становится организатором эсеровских военно-террористических формирований. На чем основаны эти утверждения – непонятно. Опять же легенды, мифология.
Достоверный же факт заключается в том, что к 1909 году Михаил Артемьевич Муравьев числится в 1-м Невском пехотном полку в чине поручика. В списках офицеров полка на начало 1911 года он – штабс-капитан. Повышение в чине свидетельствует о том, что военная служба Муравьева не прерывалась. Медленное продвижение, возможно, объясняется длительностью отпуска «для поправки здоровья». Надо иметь в виду и то, что офицеру без связей, протекции и значка выпускника Академии Генерального штаба очень трудно было расти в чинах; многие так и оставались «вечными поручиками» и лишь перед отставкой получали возможность ощутить на плечах по четыре штабс-капитанские звездочки.
Наверно, Муравьеву так и привелось бы тянуть служебную лямку годами и спиться от скуки где-нибудь в захолустном гарнизоне, если бы не мировая война. Ему к началу войны тридцать три года – возраст знаковый. Пора идти на штурм судьбы.
Но первый штурм не удался. Штабс-капитан с ходу попадает в первую бойню этой войны, жестокую и катастрофическую для русских войск. Остается жив и в строю, но без надежды на желанное, по-наполеоновски скорое продвижение по службе.
1-й Невский полк отправился на войну в составе XIII армейского корпуса 2-й армии генерала Самсонова. В августе 1914 года армия начала многообещающее наступление в Восточной Пруссии. 4 августа полк выступил в поход и 8 августа перешел государственную границу близ местечка Зарембы.
Колонны тянулись, огибая озера, минуя аккуратные деревеньки, по непривычно хорошим дорогам, с юга на север, на Алленштейн[158]. Погода стояла жаркая, сухая. Боев не было, лишь порой издалека доносились звуки перестрелок, но быстро затихали. Солдаты шли бодро, настроение у всех поначалу было веселое, как перед хорошим воскресным пикником. Но на шестой день марша не подвезли хлеба людям и овса лошадям; на седьмой день и вовсе заночевали на биваке натощак. На восьмой день марша смех и песни в колоннах поутихли, зато, проезжая верхами вдоль рот, офицеры слышали матерную ругань в адрес интендантов. Да, впрочем, и сами офицеры про себя бранили начальство. Люди и лошади устали, направление движения менялось, запасы продовольствия заканчивались, а боя, которого все почему-то хотели и который оправдывал бы эти неудобные, трудные условия жизни, все не было.
Из донесения исполняющего должность генерала для поручений при штабе 8-й армии полковника Крымова командующему армией генералу от кавалерии Самсонову от 10 августа:
«Необходимо улучшить вопрос о снабжении. Кавалерия обеспечена, так как у нее еврей-подрядчик, но пехота и артиллерия обеспечены скверно. Я не знаю, как войска справятся дальше… Необходимо наладить связь. Телефоны со штабом армии не работают. Необходимо командировать сапер для исправления телеграфных и телефонных линий…»[159]
Из донесения командира XIII корпуса генерал-лейтенанта Клюева в штаб 2-й армии от 12 августа:
«Сегодня утром удалось подвезти часть хлеба и сухарей, полагаю, что дня на три теперь обеспечены, а потом настанет опять нужда… Буквально нельзя найти ни куска хлеба, что испытываю на себе лично. Полков, богато обеспеченных хлебом и сухарями, в корпусе нет»[160].
На десятый день движения что-то тревожное повисло в воздухе, что-то вроде тех темных туч, которые все настойчивее скапливались по краям ясного еще неба. Слева, из-за длинного озера, слышался странный, неприятный гул, как будто великаны молотили зерно, хрипло выдыхая при каждом ударе. Это была канонада, и раздавалась она со стороны левофлангового XV корпуса. Там, стало быть, завязывалось дело. А на направлении движения колонн Невского полка было все тихо, пели птицы, и это создавало особенно беспокойное, неуверенное настроение.
Из цитированного выше донесения Крымова:
«Я, находясь под впечатлением виденного, считаю долгом сказать, что, по-моему, они умышленно нас затягивают в глубину. Лучше бы бросить правый берег Вислы и переходить на левый… Они уходят так поспешно, что это равносильно бегству».
Так писал Крымов, тот самый, который через три года возглавит поход корниловских войск на Петроград и погибнет после переговоров с Керенским. Тогда, в августе 1914 года, он одним из первых ощутил тревожное предчувствие катастрофы. 14 августа части XV корпуса попали под сильный удар противника у городка Хохенштейн[161]. Это было начало того наступления 8-й германской армии Гинденбурга, которое имело итогом полный разгром главных сил армии Самсонова.
Поздним вечером 14 августа в штабе XIII корпуса был получен приказ командующего армией о немедленном оказании содействия левофланговому соседу. Но войска были до того утомлены переходами, что генерал Клюев отложил выступление до утра.
Ранним утром 15 августа Тамбовский полк был поднят с бивака и начал движение от Алленштейна на Хохенштейн. Там, куда шли солдаты, гремело все сильнее. Шутки уже прекратились совершенно. Люди шли с сосредоточенными лицами, глядя под ноги, молча. Шли долго. Солнце поднялось в самый зенит. Внезапно колонны остановились и с полчаса стояли без движения. Потом проскакали в разных направлениях вестовые, забегали офицеры, раздались многоголосые крики команд. Колонны стали разворачиваться в боевые порядки по обеим сторонам широкого шоссе.
Роты Невского полка двинулись в сторону леса, видневшегося в полуверсте от дороги. За лесом справа маячили крыши домиков Хохенштейна. Оттуда послышался нарастающий воющий звук, над головами как будто прогрохотал поезд, что-то треснуло с нестерпимой, оглушающей силой. Потом застрекотала частая винтовочная стрельба со стороны леса. Начался бой.
Из сообщения генерала Клюева:
«1-й пехотный Невский полк повел атаку на лес, западнее Хохенштейна, занятый сильно противником; только к 10-ти часам вечера удалось отбросить его окончательно. Невский полк потерял до 600 человек»[162].
С наступлением темноты бой затих. Но в это время генерал Клюев уже знал: XV корпус разбит и отступает, немцы выходят в тыл. Глубокой ночью началось отступление XIII корпуса. Невский полк снялся последним. Когда выходили из леса, попали под обстрел, залегли… Через час выяснилось: стреляли свои же, приняв за немцев. Пока разбирались – появились настоящие немцы, с разных сторон. Где-то в тылу застучали пулеметы. Из-за леса ударила немецкая артиллерия. Начался ад.
Из сообщения генерала Клюева:
«Окруженный превосходными силами арьергард доблестно дрался во главе со своим командиром… В конце концов, потеряв убитыми командира бригады и командира полка, он был разбит и взят в плен по частям. Половина Невского полка успела отойти за озерное дефиле, половина была отрезана…»[163]
Вскоре отступление XV и XIII корпусов приобрело беспорядочный характер. Все смешалось и обрушилось за какие-то несколько часов. Массы людей и лошадей, все менее и менее управляемые, метались внутри тонкостенного мешка, пытаясь вырваться из него. Гремело со всех сторон; отовсюду била германская артиллерия, отовсюду вырастали страшные германские полки… Раненный в штыковом бою командир Невского полка полковник Первушин попал в плен. Дальше пробивались кто как мог.
Из воспоминаний полковника П. Н. Богдановича:
«Я проехал через небольшой перелесок, отделявший нас от штаба XIII корпуса, и перед глазами открылась следующая картина. Слева стояла в полной боевой готовности немецкая конная батарея, до нее было не больше 300–400 метров; немцы молча стояли и смотрели. Толпой в 3–4 тысячи человек, почти без оружия, без фуражек и сапог, с лицами каких-то одержимых, наши стремились на восток; кругом этой толпы дико носились с обрубленными постромками обозные, тоже без фуражек и сапог…
В средине толпы реял флаг командира XIII корпуса; с трудом я продрался туда. В этот момент находившийся там генерал Клюев громко сказал приблизительно следующее: „Дальнейшее сопротивление нахожу невозможным и во избежание бесполезного кровопролития приказываю сдаться“… Происшедшее стало моментально известно толпе, и в воздухе замелькали белые платки и ночные рубахи»[164].
Из двух корпусов 2-й армии разрозненными группами и поодиночке прорвались к своим около 10 000 бойцов; остальные погибли или попали в плен. Погиб командующий армией генерал Самсонов. Среди прорвавшихся был подпрапорщик Невского полка Никифор Удалых, спасший полковое знамя. За свой подвиг был награжден Георгиевским крестом (для нижних чинов) первой степени и стал одним из первых в той войне полных кавалеров «солдатского Георгия».
Почему это случилось? Почему 2-я армия, имея превосходство в силах над противником, потерпела такое тяжкое поражение? Было проведено расследование, названы разные причины. Среди них и поспешность в подготовке наступления, и недостатки снабжения, и отсутствие тяжелой артиллерии, и неналаженная связь, и стратегические просчеты командования. Все это так, но все же в ключевых моментах Восточно-прусской операции решающую роль сыграл один фактор – плохая управляемость войск. Не составляя единого организма, они при сбое руководства легко превращались в неуправляемую массу разрозненных людских единиц. Любая армия при поражении может превратиться в толпу обезумевших людей; русская армия в Первой мировой войне обернулась колыхающейся, разъяренной толпой до поражения. Это – болезнь, которой русское общество заразило армию: распад общественных связей. Та картина, которую увидел в лесах под Ниденбургом полковник Богданович, была страшным знамением грядущей русской cмуты: в ней так же «с лицами каких-то одержимых» будут носиться и сталкиваться между собой сотни тысяч вооруженных людей, обуянных бесами разрушения и истребления.
…Из окружения вышел и Михаил Муравьев. Сведений о его награждении за участие в Восточно-прусской операции нет. Как нет почти никаких сведений о дальнейшем его участии в сражениях мировой войны. Известно, что он был произведен в капитаны, несколько раз ранен. После очередного ранения не смог вернуться в строй и был направлен преподавателем в школу прапорщиков (так назывались ускоренные офицерские курсы военного времени).
«За землю и волю, за мир всего мира…»
Революция извлекла его из несродного его душе покоя учебных классов.
Впрочем, был ли покой? Весной 1917 года мы видим Муравьева на Юго-Западном фронте в должности капитана 21-й автомобильной роты (так он поименован в приказе главкоюза). Когда он получил это назначение? Неизвестно.
В мае 1917 года он – участник съезда делегатов фронта, проходившего в Каменец-Подольске. Именно здесь прозвучали первые призывы к созданию добровольческих ударных частей. Энтузиастов было немало: десятки, сотни. Свою записку об этом представил главкоюзу Брусилову капитан Муравьев. Тут же он организует коллективное обращение к Брусилову и Керенскому от имени группы солдат, офицеров, рабочих, о создании волонтерских батальонов в тылу. Интересна формулировка задачи: «…Чтобы этим вселить в армию веру, что весь русский народ идет за нею во имя скорого мира и братства народов… Чтобы при наступлении революционные батальоны, поставленные на важнейших боевых участках, своим порывом могли бы увлечь за собою колеблющихся»[165]. Это значит: энтузиазм и порыв приходят на смену военной организации и дисциплине.
22 мая главкоюз утвердил образование при штабе фронта Исполнительного комитета по формированию революционных батальонов тыла. Член комитета – капитан Муравьев.
Но ему уже тесно в рамках фронта. Ему нужно общероссийское поле деятельности. В начале июня он в кипящем Петрограде, участник совещания различных военных и тыловых общественных организаций. 3 июня на одном из этих бурных заседаний под одобрительный гул и гром аплодисментов принято постановление об образовании Всероссийского центрального комитета по организации Добровольческой революционной армии. Председатель – Муравьев. В «проходных казармах» на Мойке[166] (рядом с роскошным особняком Юсупова, где полгода назад был убит Распутин) началась запись в добровольческие батальоны.
Из воззвания ВЦК ДРА, за подписью Муравьева:
«Во имя защиты свободы, закрепления завоеваний революции, от чего зависит свобода демократии не только России, но всего мира, приступлено к формированию Добровольческой революционной армии, батальоны которой вместе с доблестными нашими полками ринутся на германские баррикады во имя скорого мира без аннексий, контрибуций, на началах самоопределения народов… Все, кому дороги судьбы родины, кому дороги великие идеалы братства народов, рабочие, солдаты, женщины, юнкера, студенты, офицеры, чиновники, идите к нам под красные знамена добровольческих батальонов…»[167]
Обратим внимание: термин «Добровольческая армия» впервые появляется в ходе русской смуты в связи с именем Муравьева. В дальнейшем этот термин прочно свяжется с именем Корнилова.
Обратим внимание также на словосочетания: «завоевания революции», «свобода демократии», «братство народов», «мир без аннексий и контрибуций». Именно эти лозунги были написаны на красных знаменах и транспарантах тех революционных сил, которые в октябре 1917 года взяли Зимний.
Отметим, что и знамена, и погоны ударников-корниловцев тоже пламенели красным цветом – правда, в сочетании с траурным черным.
И еще: лозунг всех добровольцев-ударников, принятый еще на Съезде делегатов Юго-Западного фронта: «За землю и волю, за мир всего мира с оружием в руках – вперед!» Что это, если не лозунг мировой революции? И ведь генерал Корнилов принимал этот лозунг так же, как и капитан Муравьев!
Не капитан, уже подполковник. Приобретший широкую известность офицер был повышен в чине: военному министру и министру-председателю Керенскому были нужны популярные соратники.
Но Керенский, ошибавшийся во всем, ошибся и тут.
Муравьев метил выше, дальше. Ему неинтересно было служить подпоркой падающего министра.
Он чувствовал в себе то, что чувствует ветер, вырвавшийся из тесного ущелья на простор бескрайней равнины.
По этой же причине не присоединился Муравьев к Корниловскому движению. Если не сам Корнилов, то окружавшие его люди олицетворяли собой порядок, границу, приказ. Муравьев слишком долго прожил под гнетом порядка, слишком долго выполнял чужие приказы, чтобы теперь снова подчиниться кому-то. Не Корнилов и не Керенский – он, Муравьев, сам себе главнокомандующий!
Ни в какую партию он не вступил. Сблизился с левыми эсерами, партией молодой, боевой, анархической. Вместе с ними участвовал в октябрьских событиях в Петрограде.
26 октября в Петрограде было арестовано Временное правительство и сформировано большевистское советское правительство, возглавляемое Лениным.
27 октября несколько сот казаков при поддержке артиллерии заняли Гатчину. Во главе этих незначительных сил стоял генерал-майор Петр Николаевич Краснов и безвластный уже Верховный Керенский. На следующий день казаки без боя заняли Царское Село. В нервном, замученном истерикой революции Петрограде разлетелся слух: казаки идут свергать большевиков.
29 октября образованный меньшевиками и правыми эсерами Комитет спасения родины и революции предпринял попытку вооруженного выступления против правительства Ленина. Попытка, в которой участвовали в основном юнкера Николаевского и Владимирского училищ, была подавлена к утру 30 октября.
30 октября постановлением советского правительства Муравьев был назначен на должность со следующим грамматически странным названием: «главнокомандующий по обороне Петрограда». В революционной смуте Россия обучалась новому языку, нелепому и странному, но по-своему выразительному.
Существует великолепная легенда о назначении Муравьева на это «по обороне»: якобы привел его в Смольный зеленый змий. После захвата Зимнего дворца солдаты, матросы, рабочие, истомленные тремя годами сухого закона, бросились в подвалы бывшей царской резиденции, где хранились огромные запасы спиртных напитков. Ни резолюции, ни аресты не могут помочь: борцы за свободу винопития предпочитают смерть с перепою пролетарско-сознательному похмелью. Самые надежные отряды матросов и красногвардейцев, отправляемые Военно-революционным комитетом на этот фронт, быстро тают, братаясь с погромщиками, ложатся костьми в подвалах возле полуопустошенных бочек. Ленин и Троцкий не знают, что делать; не теряет присутствия духа один Муравьев. Он является в Смольный, получает от вождей большевиков все нужные мандаты, собирает ударный отряд добровольцев с пулеметами, занимает стратегически важные точки на подступах к винным погребам и открывает огонь в упор по мародерам. Около 200 человек убито, остальные разогнаны. После этого Муравьев твердым голосом, сжимая маузер в недрогнувшей руке, приказывает: все бочки и бутылки разбить, а все их содержимое слить в канализацию. Так как десятки тысяч литров коллекционных вин и редких коньяков невозможно вычерпать вручную из затопленных подвалов, образовавшийся коктейль выкачивают в Неву помпами с крейсера «Аврора».
После успешного осуществления этой операции Муравьев обретает доверие вождей революции и назначается ими на следующий пост – спасать Петроград от войск Керенского.
История красивая, но нисколько не соответствующая истине. Погромы винных складов действительно имели место в Петрограде, но не в первые дни пролетарской революции, а позже, начиная с середины ноября. Во время октябрьских событий солдаты и матросы действительно пытались попользоваться спиртными сокровищами царских погребов (как, впрочем, и юнкера, охранявшие Временное правительство), но эти попытки тогда были пресечены. Подлинный штурм подвалов Зимнего дворца случился 7 декабря 1917 года, и стихийный погром удалось остановить, только открыв пожарные водоводы из Невы. Эту воду потом пришлось вычерпывать помпами (конечно, не с «Авроры»). Участвовал ли Муравьев в подавлении пьяных бунтов – неизвестно.
Как же на самом деле состоялось его назначение «главнокомандующим по обороне Петрограда»?
По словам председателя Петросовета Троцкого, вот как:
«…С приближением Краснова к Петрограду, Муравьев сам, и притом довольно настойчиво, выдвинул свою кандидатуру на пост командующего советскими войсками. После понятных колебаний, кандидатура его была принята. При Муравьеве была учреждена выбранная гарнизонным совещанием пятерка из солдат и матросов, которым внушено было иметь за Муравьевым неослабное наблюдение и, в случае малейшей попытки к измене, убрать его прочь. Муравьев, однако, не собирался изменять. Наоборот, с величайшей жизнерадостностью и верою в успех он принялся за дело»[168].
В должности главкома Муравьев продержался недолго. Поход Керенского – Краснова провалился. После небольшого боя у Пулковских высот начались переговоры, в ходе которых распропагандированные казаки отказались подчиняться своим предводителям. Керенский бежал, Краснов сдался.
Уже 8 ноября Муравьев сдал командование генерал-майору Тигранову. Еще через два дня главнокомандующим войсками Петроградского округа стал большевик, бывший подпоручик Овсеенко (Антонов).
Муравьев ненадолго ушел в ноябрьскую тень.
19 ноября, как мы уже знаем, арестованные генералы и офицеры покинули Быховскую тюрьму. Последним во главе колонны текинцев ушел в сторону Дона Корнилов.
Возле станции Унеча, на полпути между Быховом и Курском, колонне преградили дорогу советские воинские части, поддержанные вооруженным поездом. После неудачного боя текинцы попросили своего вождя оставить их. Отсюда до Новочеркасска Корнилов пробирался в гражданской одежде, с поддельными документами – как полтора года назад, когда бежал из австрийского плена.
В начале декабря в том же направлении – на Дон – отбыл и Муравьев. 9 декабря он был назначен начальником штаба Антонова-Овсеенко, народного комиссара по борьбе с контрреволюцией на Юге России. Бывший поручик и нестроевой подполковник повели разношерстные, полуанархические-полудобровольческие красные формирования против белых формирований, спешно создаваемых генералами Корниловым, Алексеевым, Деникиным.
Так разделились цвета русского знамени.
Корнилову оставалось жить четыре месяца, Муравьеву – семь.
Из записи разговора по прямому проводу Муравьева с председателем Воронежского ВРК Моисеевым 19 декабря 1917 года.
Муравьев: «Именем революции призываю вас действовать энергично, где нужно и без пощады… Колеблющихся и стоящих на неопределенной точке зрения… считать врагами революции и действовать против них хотя бы силой оружия…
Итак… вперед, давите крепче на казаков, необходимо покончить с этой бандой»[169].
Там, куда направлял красные полки Муравьев, уже начинала действовать Добровольческая армия Корнилова. Но Муравьеву не довелось столкнуться в боях с мятежным главковерхом. В январе Муравьев возглавил наступление красных на Киев, против разрозненных и слабых вооруженных формирований Центральной рады.
Из записей разговоров по прямому проводу главкома Муравьева со штабом Антонова-Овсеенко.
17 января 1918 года. Муравьев: «Вчера только вечером закончился бой за обладание участком Бахмач-Круты. Противник был разбит, командовал войсками рады сам Петлюра… Вопрос о взятии Киева – [вопрос] нескольких дней…»
21 января. Муравьев: «Что касается событий в Киеве, то там революция, восстание рабочих, солдат, части гарнизона против рады идут, происходят ежедневно уличные бои… Войска рады занимают Киев Второй и другие пункты, откуда грозят революционерам и громят их артиллерией. Мы страшно спешим на выручку… Передайте в Петроград, что сегодня начинаю бой под Киевом…»[170]
Из приказа главкома Муравьева от 22 января 1918 года:
«…Приказываю беспощадно уничтожить в Киеве всех офицеров и юнкеров, гайдамаков, монархистов и всех врагов революции. Части, которые держали нейтралитет, должны быть немедленно расформированы…»[171]
После взятия Киева, в феврале, Муравьев был назначен главнокомандующим войсками эфемерной Одесской Советской Республики. В конце февраля нанес поражение румынским войскам в Бессарабии (Молдавии). Решающий бой произошел возле Рыбницы на Днестре 23 февраля (примечательная дата: в Стране Советов она станет именоваться Днем Красной армии; имя Муравьева при этом вспоминать не будут).
В конце февраля части Добровольческой армии Корнилова начали свой знаменитый Первый, или Ледяной, поход – с Дона на Кубань. 14 марта красные отряды заняли столицу Кубани – Екатеринодар. После ряда маневров и боев с красными Корнилов принял решение брать Екатеринодар штурмом. Однако бой 12 апреля на окраинах города оказался неудачным.
В ночь с 12 на 13 апреля[172] Корнилов не спал: в маленькой комнате на ферме близ Екатеринодара готовил план новой отчаянной атаки. Всю ночь красные вели артиллерийский обстрел расположения корниловцев. В 7 часов 20 минут был сделан артиллерийский выстрел – как утверждают многие очевидцы, последний. Фугасный снаряд попал в стену фермы, пробил ее и разорвался внутри.
Свидетельствует адъютант Корнилова корнет Хан Хаджиев:
«Раздался сильный шум и треск. Верховного швырнуло в сидячем положении к печке, и он, очевидно, ударившись о нее головой, рухнулся на пол. На него обрушился потолок»[173].
Через десять минут он скончался, не приходя в сознание.
Похоронен Верховный был тайно, в поле. Добровольческой армии пришлось отступить. Через несколько дней тело Корнилова было извлечено из земли красными и после издевательств сожжено.
Вдова Корнилова умерла в сентябре того же года. Брат Корнилова Петр, бывший офицер, был расстрелян в 1919 году в Ташкенте; сестра Анна арестована и расстреляна в 1929 году в Луге. Дети жили в эмиграции долго и в общем благополучно.
Муравьев после вступления 13 марта в Одессу австро-германских войск бежал в Москву – уже столицу Советской России. Был отдан под суд революционного трибунала за многочисленные злоупотребления властью. Однако 13 июня назначен главнокомандующим Восточным фронтом Красной армии и отбыл в Казань. Там вступил в контакт с представителями левых эсеров и в начале июля попытался повернуть войска фронта против германцев и заключивших с ними мир большевиков. 10 июля он с отрядом верных бойцов на двух пароходах ушел из Казани и высадился в Симбирске. Оттуда он разослал телеграммы-воззвания.
Из последних телеграмм Муравьева:
«Защищая власть советов, я от имени армий Восточного фронта разрываю позор Брест-Литовского мирного договора и объявляю войну Германии. Армии двинуты на Западный фронт…»
«Всем рабочим, крестьянам, солдатам, казакам и матросам. Всех своих друзей и бывших сподвижников наших славных походов и битв на Украине и юге России ввиду объявления войны Германии призываю под свои знамена для кровавой последней борьбы с авангардом мирового империализма – германцами. Долой позорный Брест-Литовский мир! Да здравствует всеобщее восстание!»[174]
Не правда ли, чем-то стиль этих воззваний напоминает «Обращение к народу» Корнилова?
Установить полный контроль над Симбирском ему не удалось, несмотря на арест командующего 1-й армией красных Тухачевского и нескольких большевиков. В ночь с 11 на 12 июля он был убит.
Обстоятельства его гибели изложены в мемуарах Бонч-Бруевича:
«В зал, расположенный рядом с комнатой, где по требованию Муравьева должно было состояться совместное с ним заседание губисполкома, ввели несколько десятков красноармейцев – латышей из Московского отряда. Против двери поставили пулемет. И пулемет и пулеметчики были тщательно замаскированы. <…>
Ровно в полночь, закончив свое совещание с левыми эсерами, Муравьев в сопровождении адъютанта губвоенкома Иванова и нескольких эсеров явился в губисполком. Главкома окружали его телохранители – увешанные бомбами матросы и вооруженные до зубов черкесы.
Председательствовавший на заседании Варейкис (председатель Симбирского губкома большевиков. – А. И.-Г.) дал слово главкому, и тот надменно изложил свою „программу“… Сам Варейкис так описывает дальнейшие события:
„Я объявляю перерыв. Муравьев встал. Молчание. Все взоры направлены на Муравьева. Я смотрю на него в упор. Чувствовалось, что он прочитал что-то неладное в моих глазах, что заставило его сказать:
– Я пойду успокою отряды.
Медведев наблюдал в стекла двери и ждал сигнала. Муравьев шел к выходной двери. Ему осталось сделать шаг, чтобы взяться за ручку двери. Я махнул рукой. Медведев скрылся. Через несколько секунд дверь перед Муравьевым растворилась, из зала блестят штыки.
– Вы арестованы.
– Как? Провокация! – крикнул Муравьев и схватился за маузер, который висел на поясе. Медведев схватил его за руку. Муравьев выхватил браунинг и начал стрелять. Увидев вооруженное сопротивление, отряд тоже начал стрелять. После шести-семи выстрелов с той и другой стороны в дверь исполкома Муравьев свалился убитым“»[175].
Правду ли рассказывают Бонч-Бруевич и Варейкис, или первый красный главком погиб по-другому – этого мы не знаем. Его смерть, как и его жизнь, осталась окутана туманом недомолвок, версий, предположений.
Муравьев и Корнилов – фигуры разного исторического масштаба. Корнилов возглавил Белое движение и после своей гибели остался символом этого движения. О нем хранили благоговейную память эмигранты, его с бранью и ненавистью поминали советские учебники истории.
Муравьев был убит – и забыт. В следующие месяцы и годы у Гражданской войны появились новые герои. И все же между ним и Корниловым есть глубинная связь. Оба они – люди взрыва, оба они смогли окончательно найти себя лишь в грохоте и хаосе русской смуты. Революция вознесла обоих – и убила обоих.
Что бы мы знали о генерале Корнилове, если бы не революция? Немногим больше, чем о капитане Муравьеве.
Пенсне для их превосходительств
30 октября 1920 года по русскому календарю, или 12 ноября по календарю России совдеповской, в Севастополе, на улицах, спускающихся к морю, к порту, творилось нечто неописуемое. Тысячи, десятки тысяч людей, толпы – мужчины всех возрастов, штатские и в военных шинелях; дамы с картонками и котомками; барышни в сбитых набок шляпках; мальчики и девочки в пальтишках и матросках – в смятении, с криками, с ужасом в глазах, спешили, толкаясь, к пристани. Последние пароходы уходили в Констанцу, в Варну, в Стамбул. Людей гнал страх, как штормовой ветер гонит пыль и мусор на обезлюдевших улицах. Страх этот приходил сверху, с гор, нависших над Южным берегом Крыма. Где-то там еще держались последние арьергардные части белогвардейских войск; оттуда шли красные. Это было страшнее, чем смерть.
В толпу там и сям влипали повозки и экипажи; сквозь людскую массу проталкивались, гудя, автомобили. В одном из них, обшарпанном «рено» с откидным верхом, ехали несколько военных. Водитель беспрестанно сигналил, яростно выкрикивал какие-то ругательства. Автомобиль уже почти протиснулся к вожделенной набережной, но тут опять застрял, упершись в повозку, на которой полулежала какая-то полная немолодая дама. При каждом гудке клаксона дама припадочно вскрикивала и хваталась за виски руками в грязных белых перчатках.
Внезапно военный, ехавший в автомобиле, грузный краснолицый господин в пенсне и с генеральским погонами, поднялся с сиденья, вытянулся как перед главнокомандующим. Правую руку понес к фуражке… В руке – револьвер… От звука выстрела шарахнулась во все стороны и без того перепуганная толпа… Тяжелое генеральское тело рухнуло обратно на сиденье машины…
Свидетельствует известный кинорежиссер Сергей Иосифович Юткевич, в 1920 году – шестнадцатилетний художник, зарабатывавший частными заказами в Севастополе:
«Я и сейчас с ужасом вспоминаю то невообразимое, что творилось в Севастополе, когда к городу подходили красные. Обезумевшие люди рвались к порту. На моих глазах генерал Май-Маевский, привстав в машине, выстрелил себе в висок»[176].
Наша зарисовка не претендует на документальность. Паники, говорят историки, в этот день в Севастополе не было; она началась через два дня, когда стало ясно, что всем мест на пароходах не хватит, что многие и многие завтра-послезавтра окажутся в руках большевиков. Что же касается свидетельства Юткевича, то он, скорее всего, не знал генерала в лицо и мог ошибаться. Общепринятая версия гибели одного из самых известных военачальников Вооруженных сил Юга России генерал-лейтенанта Владимира Зеноновича Май-Маевского – иная. В большинстве случаев говорится о внезапной кончине, о смерти от разрыва сердца. Но дата не вызывает сомнений: 12 ноября (30 октября по старому стилю) 1920 года, первый день эвакуации из Севастополя частей белой армии «и всех, кто разделял ее крестный путь».
Генерал Май-Маевский происходил из дворян Могилевской губернии. О его родителях и вообще о родне мы никакими сведениями не располагаем. Однако род Май-Маевских записан в шестую часть «Списка дворянских родов Могилевской губернии», а это говорит о многом. В первых четырех частях «Списка…» значились те, кто получил права дворянства за выслугу или за орден; в пятой – несколько особенно знатных титулованных фамилий; а в шестой – многие старинные шляхетские роды. Некоторые – знаменитые. Здесь встречаются такие фамилии, как Грум-Гржимайло, Коллонтай, Станкевич, Шокальский, Стравинский; здесь числятся предки святого врача и епископа Луки Войно-Ясенецкого; здесь же – родичи многих военачальников, с которыми Май-Маевскому предстоит встретиться на путях службы и борьбы: Войцеховские, Янушкевичи, Ромейко-Гурко, Бонч-Бруевичи…
Могилевская шляхта, хотя и мелкая, небогатая, могла похвастаться многочисленностью и древностью. В иных домах семейные предания восходили ко временам варяго-росским, к родовой знати племен радимичей и дреговичей. Правда, Май-Маевские – фамилия не белорусская, а польская: среди могилевской шляхты фамилий польского происхождения и семей католического исповедания было не меньше трети. Владимир Зенонович, однако, всегда во всех документах числился православным и был, по-видимому, крещен по православному обряду.
Родился он, как указано во всех документах, 15 сентября 1867 года. С отчеством в документах имеются разночтения. К примеру, в «Списке полковникам по старшинству» 1907 года он поименован Владимиром Зиновьевичем[177]. Скорее всего, это просто следствие писарской ошибки. В некоторых публикациях встречается утверждение, что отец будущего генерала сменил имя при переходе из католичества в православие. Но оба имени – Зенон (Зинон) и Зиновий – есть в православных именословах. Поэтому говорить о замене католического имени на православное не приходится.
Хотя никаких земельных владений за Май-Маевскими не числилось, семья, судя по всему, была обеспеченная и не без связей. Можно предположить, что Зенон Май-Маевский тоже служил на военной службе, иначе вряд ли бы ему удалось устроить сына в кадетский корпус, да не в какой-нибудь, а в Первый, самый престижный, привилегированный из всех кадетских корпусов России. В Петербурге, под старинными сводами Меншиковской усадьбы на Васильевском острове, прошли школьные годы Владимира. Сохранилась фотография: Владимир в выпускном классе. Юноша с чуть наметившимися усиками, высоким крутым лбом, аккуратной стрижкой бобриком, устремленным вдаль взглядом. Кадет как кадет.
Первый кадетский корпус он окончил в 1885 году. В тот же год из бывших хором генералиссимуса князя Меншикова перекочевал в другое историческое здание – в Михайловский замок, где до сих пор по ночам бродит призрак императора Павла и где вплоть до революции размещалось Николаевское военно-инженерное училище. Из этого знаменитого учебного заведения, стены которого помнят Эдуарда Тотлебена, Федора Достоевского, Дмитрия Брянчанинова (святителя Игнатия), Владимир Май-Маевский был выпущен в 1888 году подпоручиком в 1-й отдельный саперный батальон. Батальон входил в состав I армейского корпуса Петроградского военного округа и дислоцировался в маленьком живописном городке Боровичи Новгородской губернии. Вдали от столичного шума подпоручик Май-Маевский прослужил, однако, недолго (если вообще доехал до места назначения). Почти сразу он был переведен тем же чином в блестящий лейб-гвардии Измайловский полк. Опять-таки – тут не могло обойтись без протекции…
Кто помогал молодому офицеру, мы не знаем, но карьера его на первых порах была весьма успешной, и средства для того, чтобы вести в столице дорогостоящую жизнь гвардейца, у него имелись. Может быть, именно поэтому развилась в нем та привычка к кутежам и выпивке, которая потом, во время Гражданской войны, будет предметом осуждения со стороны многих соратников по Белому делу. Но молодой гвардеец не только предавался веселью, но отдавал дань и военным наукам. В 1893 году гвардии поручик Май-Маевский поступил в Николаевскую академию Генерального штаба и в 1896 году окончил ее, конечно же по первому разряду. Он был слушателем третьего курса, когда на первом учились Корнилов и Бонч-Бруевич, а Деникин готовился к штурму академических высот.
При выпуске из Академии Май-Маевский, как положено, получил повышение – штабс-капитан гвардии; но так как гвардейская служба давала преимущество в чинах, то к Генеральному штабу он был причислен уже в чине капитана.
Далее – четыре года службы в штабах войск Одесского военного округа. В конце 1900 года – производство в подполковники (что неплохо для тридцатитрехлетнего офицера) и перевод в Осовецкую крепость, близ Белостока, начальником штаба. Это примерно соответствует должности начальника штаба бригады. Крепость активно строилась и перестраивалась; военно-инженерное образование нового начштаба пришлось очень кстати.
В ходе Первой мировой войны эта крепость сыграет особенную роль. Первостепенные крепости той эпохи, такие как Мобеж, Льеж, Намюр на западном театре военных действий, Новогеоргиевск (Модлин), Ковно – на восточном – падут, продержавшись лишь по шесть – двенадцать дней. Второразрядный Осовец в 1915 году будет вести непрерывную оборону в течение семи месяцев; гарнизон оставит его только после приказа об общем отступлении русских войск. Надо полагать, свой вклад в эффективность обороны Осовецкой крепости внес и подполковник Май-Маевский.
Возвращаясь к жизнеописанию нашего героя, мы вынуждены констатировать, что в его служебном продвижении назрел кризис. До сих пор пред нами типичный «момент» – так звали в армии офицеров, быстро делающих карьеру благодаря связям, гвардейской службе или причислению к Генштабу. После 1900 года наш герой постепенно переходит в категорию «вечных». Вечный подполковник? Все идет к тому. О служебных неприятностях свидетельствует тот факт, что первый орден – Станислава третьей степени – Владимир Зенонович получил только на шестнадцатом году службы. Этой награды удостаивались практически все служащие, офицеры и штатские, не имеющие серьезных взысканий. Преуспевающие офицеры нацепляли на парадный мундир восьмиконечный крест с орлами в двадцать пять – тридцать лет. Май-Маевскому Станислав был пожалован с явным запозданием. Почему? Имели место, очевидно, какие-то трения с начальством. Может быть, уже давал о себе знать тот самый «недуг запоя», о котором напишет много позже Деникин?
Впрочем, был ли недуг? К этому вопросу еще вернемся.
Из Осовца подполковник Май-Маевский в ноябре 1903 года был переведен в 7-ю Туркестанскую стрелковую бригаду, штаб-офицером при управлении. Это уже выглядит как понижение: и должность ниже, и место гиблое. Бригада дислоцировалась в юго-восточном Прикаспии, в окружении туркменских степей и пустынь, вдоль беспокойной персидской и афганской границы. Места сии неплохо изображены в культовом советском фильме «Белое солнце пустыни». Пески, да жара, да опасные наездники на горизонте. Корнилов чувствовал себя здесь как рыба в воде, но он был уроженец Семиречья, детство свое проведший среди казахов и киргизов. Для Май-Маевского, столичного кадета и гвардейца, это была явная ссылка.
Избавиться от служебных неприятностей и продвинуться в чинах Май-Маевскому, как и многим офицерам, помогла война. В 1904 году, вскоре после начала Русско-японской войны, он (очевидно, по собственному прошению) был направлен в действующую армию. Однако удача оказалась половинчатой. Место ему нашлось хорошее, полковничье: начальник штаба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Но дивизия за всю войну так и не приняла участия в боевых действиях: она была сосредоточена во Владивостоке, составляла его гарнизон. Возможностей отличиться в бою, как Корнилов, Деникин или Муравьев, Май-Маевский не имел. А вот инженерная подготовка опять пригодилась Владимиру Зеноновичу: главная работа дивизии заключалась в строительстве и усилении Владивостокской крепости на случай нападения японцев. И эта работа была оценена. В декабре 1904 года Май-Маевский получил погоны полковника и орден Святой Анны третьей степени. Через год – еще и Станислава второй степени.
Правда, за два года службы во Владивостоке случались и иные занятия, не из приятных. Война закончилась, и до Приморья докатилась революционная смута. В октябре 1905 года в городе вспыхнули массовые беспорядки; войска гарнизона подавили их. Но уже через два месяца революционное брожение забурлило и в армии. Были образованы солдатские комитеты, матросы захватили склады с оружием… Восстание удалось ликвидировать в середине января. Мы не знаем, какое участие принимал в этих событиях начальник штаба 8-й Восточно-Сибирской дивизии, но ясно одно: в те дни во Владивостоке будущий белогвардейский генерал впервые столкнулся со стихией революции.
Постепенно все возвращалось на круги своя. Штаты сибирских и забайкальских частей подверглись сокращению до норм мирного времени. Около года Май-Маевскому не могли найти подходящего места. В России еще не окончательно утихли бури первой революции. В августе 1907 года его наконец отправили в полк – 48-й Одесский пехотный. Май-Маевский отбыл в Киев.
Это вновь понижение: после должности начальника штаба дивизии – вторым по старшинству офицером в полку. Не складывается служба у Владимира Зеноновича! Теперь, на пятом десятке, он уже явно стал вечным полковником. О генеральских чинах нечего и мечтать. Разве что дадут полком покомандовать.
Дали. В 1910 году полковник Май-Маевский получил 44-й Камчатский пехотный полк. Это как гимназистов за плохое поведение отправляют сидеть на камчатку. Слава богу, ехать на настоящую Камчатку не пришлось: полк, состоявший в 11-й пехотной дивизии XI армейского корпуса, дислоцировался в Луцке Волынской губернии. В том самом Луцке, вокруг которого прольется столько крови в 1915 и 1916 годах.
Отметим еще одну биографическую деталь. Владимир Зенонович никогда не был женат. О романтической стороне его жизни не сохранилось никаких сведений. Также почти ничего не известно о его родственниках. Да и были ли они? Была племянница, Вера; она вышла замуж за морского офицера Георгия Седова и уехала с ним на Север. Через год Седов отправился в полярную экспедицию и пропал без вести…
Похоже, что к сорока семи годам полковник Май-Маевский остался один на свете (он да служба). Единственный в своем роде.
В должности командира Камчатского полка он встретил мобилизацию 1914 года.
С началом войны XI корпус генерала от кавалерии Сахарова вошел в состав 3-й армии генерала от инфантерии Рузского. 5 (18) августа 3-я армия двинулась в наступление. Бригады XI корпуса выступили из района сосредоточения Дубно – Кременец в направлении Рудня – Броды – Буск. Началась Галицийская битва.
На правом фланге у XI корпуса находился XXI корпус, выдвигавшийся параллельно из района Острожец по реке Стырь на Боремель – Радехов – Каменку. В составе корпуса наступал 176-й Переволоченский полк, которым командовал полковник Бонч-Бруевич, один из соседей Май-Маевского по списку могилевского дворянства. Правда, уже через несколько дней он был отозван в штаб армии; там начался стремительный взлет его карьеры. Но полковник Май-Маевский не знал и не думал об этом. Он ехал верхом по разбитым дорогам Волыни рядом с колыхающимися колоннами солдат, не предполагая, какие изгибы жизненного пути, какие взлеты и падения готовит ему и тысячам подобных ему офицеров эта невиданная, непонятная война.
Почти все оценки, характеристики, описания Май-Маевского, сохранившиеся в воспоминаниях очевидцев, а также почти все фотографии относятся к последним двум годам его жизни. И даже к одному, предпоследнему, 1919 году. Ему уже было за пятьдесят, он был грузен, близорук, изрядно измучен войной и холостым походным житьем-бытьем. Вот таким он запомнился разного пошиба людям, общавшимся с ним на кроваво-боевом закате его биографии.
Верховский (зарисовка относится к 1915 году):
«Суровый, но твердый старик…»
«…Толстый, стоявший на своих коротких, как тумбы, ногах…»[178]
Врангель:
«Небольшого роста, чрезвычайно тучный, с красным обрюзгшим лицом, отвислыми щеками и громадным носом-сливой, маленькими мышиными глазками на гладко выбритом без усов и бороды лице, он, не будь на нем мундира, был бы несомненно принят каждым за комика какой-либо провинциальной сцены. Опытный, знающий дело военачальник и, несомненно, не глупый человек, генерал Май-Маевский в разговоре производил весьма благоприятное впечатление. Долгие месяцы ведя тяжелую борьбу в Каменноугольном бассейне, он не потерял бодрости духа. Он, видимо, близко стоял к своим войскам, знал своих подчиненных»[179].
Борис Александрович Штейфон, полковник, участник Белого движения на Юге России (в 1920 году произведен Врангелем в генерал-майоры):
«Человек несомненно способный, решительный и умный, Май-Маевский обладал, однако, слабостью, которая в конце концов парализовала все лучшие стороны его души и характера, принесла много вреда Белому делу и преждевременно свела генерала в могилу.
Среднего роста, полный, с профилем „римского патриция времен упадка“, он был красен и возбужден. Когда я вышел от Мая и затем высказал кому-то свои впечатления об этом странном визите, то мне разъяснили причины моего удивления.
А когда вы были у Мая? До его обеда или после?
– Думаю, что после, так как денщик доложил, что „генерал сейчас кончают обедать, просят подождать“.
– Ну так Май был просто на взводе!.. <…>
В фигуре Май-Маевского было мало воинственного. Страдая одышкой, много ходить он не мог. Большевицкие пули щелкали по паровозу и по железной обшивке вагона.
Май вышел, остановился на ступеньках вагона и, не обращая внимания на огонь, спокойно рассматривал поле боя.
Затем грузно спрыгнул на землю и пошел по цепи.
Здравствуйте, N-цы!
Здравия желаем, ваше превосходительство.
Ну что, заробел? – обратился он к какому-то солдату.
Никак нет. Чего тут робеть!
Молодец. Чего их бояться, таких-сяких?»[180]
Павел Васильевич Макаров, авантюрист, в 1919 году адъютант Май-Маевского, прообраз капитана Кольцова из фильма «Адъютант его превосходительства»:
«На кровавом фоне белогвардейщины вырисовывалась грузная, высокая фигура генерала Май-Маевского. <…>
Май-Маевский поставил дело крепко: стоило ему нажать клавиши правления, как под мбстерскую игру генерала плясали и правые, и левые…
Шли беспрерывные бои, железнодорожные станции переходили из рук в руки. У Май-Маевского было не много войск. Но, перебрасывая их с одного участка на другой, генерал вводил в заблуждение красных. Одним и тем же частям белых войск в течение дня приходилось участвовать во многих боях и разных направлениях; для этой цели был хорошо приспособлен подвижной состав транспорта. Такая тактика и удары по узловым станциям были признаны английским и французским командованием выдающейся новостью в стратегии. Май-Маевский в течение недели раз пять выезжал на фронт, поднимая своим присутствием стойкость бойцов. Войска его уважали, называя вторым Кутузовым (фигурой генерал был похож на знаменитого полководца)»[181].
Михаил Александрович Критский, поручик, участник Белого движения на Юге России:
«Страдал Май-Маевский от своей тучности ужасно – для него не было большей муки, чем молебны и парады, когда он, стоя, непрестанно утирал пот с лица и багровой шеи огромным носовым платком, но этот же человек совершенно преображался, появляясь в боевой обстановке. Пыхтя, он вылезал из вагона, шел, отдуваясь, до цепи, но как только равнялся с нею, на его лице появлялась бодрость, в движениях уверенность, в походке легкость. На пули, как на безобидную мошкару, не обращал никакого внимания. Его бесстрашие настолько передавалось войскам, что цепи с ним шли в атаку, как на учении. За это бесстрашие, за умение вовремя сказать нужное подбодряющее слово добровольцы любили своего „Мая“»[182].
Деникин:
«До поступления его в Добровольческую армию я знал его очень мало. После Харькова до меня доходили слухи о странном поведении Май-Маевского, и мне два-три раза приходилось делать ему серьезные внушения. Но теперь только, после его отставки, открылось для меня многое: со всех сторон, от гражданского сыска, от случайных свидетелей, посыпались доклады, рассказы о том, как этот храбрейший солдат и несчастный человек, страдавший недугом запоя, боровшийся, но не поборовший его, ронял престиж власти и выпускал из рук вожжи управления. <…>
Но считаю долгом засвидетельствовать, что в активе его имеется тем не менее блестящая страница сражений в Каменноугольном районе, что он довел армию до Киева, Орла и Воронежа, что сам по себе факт отступления Добровольческой армии от Орла до Харькова при тогдашнем соотношении сил и общей обстановке не может быть поставлен в вину ни армии, ни командующему. Бог ему судья!»[183]
Описания мемуаристов складываются в весьма своеобразный, колоритный портрет. Так и видишь, так и чувствуешь этого человека, слугу войны, отца солдатам, в своем тучном, обрюзгшем теле скрывающего боевитый дух; человека деятельного и в то же время зависимого, привлекательного и отталкивающего, благородного и отчаянного, хитроватого, доверчивого и, бесспорно, одинокого. За стеклами его генеральского пенсне прячутся неведомые миру чувства, мысли, планы.
Как мы знаем, до 1914 года Май-Маевский не участвовал в боевых действиях. И тут, на сорок седьмом году жизни, вдруг выяснилось, что он – настоящий, прирожденный боевой командир.
Великая война изменила многие устоявшиеся представления, одни репутации разрушила, другие создала. Немало было генералов, занимавших высокие места в довоенной служебной иерархии, которые в первые же месяцы войны показали свою полную неспособность управлять войсками. На их места выдвигались вчерашние полковники и подполковники. При всей косности российской военно-бюрократической системы, тормозившей выдвижение способных, этот процесс невозможно было сдержать.
Непригодность начальника выявляется тем быстрее, чем ниже он стоит на служебной лестнице. Никчемный правитель может десятилетиями стоять во главе государства; бездарный главнокомандующий бывает терпим во главе войск даже до конца войны. А вот негодный командир полка или трусливый и безграмотный начальник бригады в боевых условиях долго на своем посту не удержится.
Май-Маевский удачно проявил себя в первом же большом бою у деревень Утишков и Брыконь на Буге, южнее Буска, 13 августа 1914 года. В те дни войска двух армий, 3-й Рузского и 8-й Брусилова, спешили прорвать оборону австрийцев на Золотой Липе и Буге, а в сердцах их командующих уже рождалась тщеславная надежда овладеть Львовом.
Этот бой, приведший к взятию важной железнодорожной станции Красне на пути к Львову, отмечен в подробном описании Галицийской битвы, которое в 1928 году составил комбриг РККА, бывший полковник Генерального штаба Александр Сергеевич Белой:
«11-я дивизия, наступавшая вдоль жел[езной] дороги на Красне, к 12 часам установила, что переправы у Бриконь и д[еревни] Уцишков сильно заняты пехотой австрийцев. На западном берегу Буга, на гористом кряже, была обнаружена вторая линия окопов. Авангардный 44-й полк повел наступление на бриконские переправы… Несмотря на открытую местность и большие потери, авангард к 18 час[ам] овладел переправами у Брикони, рощей к северу от него и д[еревней] Уцишков и продвинулся немного западнее, заночевав в окопах на линии д[еревни] Стронибабы…
[На следующий день] части 93-й [австрийской] ландш[турмовой] бригады около 6 часов утра перешли в наступление… Поддерживая атаку огнем новых батарей от Красне, австрийцы пытались охватить левый фланг 11-й дивизии у Уцишкова. Губительный огонь батарей 11-й и 78-й дивизий, расстреливавших во фланг открыто наступавшую пехоту, заставил в 11 часов утра 93-ю ландш[турмовую] бригаду повернуть назад. Вторичная атака около 13 часов была снова отбита с громадными потерями… В 15Ѕ часов… 11-я дивизия начала наступать, направляя правый фланг на Красне, которое к 18 часам было взято с боя»[184].
Как видим, 44-й полк сыграл решающую роль в овладении переправами и в отражении контратак противника, а стало быть, и во взятии Красне, открывающем дорогу на Львов. За бой под Красне полковник Май-Маевский вскоре получил орден Святого Георгия четвертой степени. Это была его первая боевая награда. За три года войны к ней добавятся еще три: георгиевское оружие, Анна первой степени с мечами, Владимир второй степени с мечами.
В октябре 1914 года Камчатский полк снова отличился во время затяжных боев на реке Сан. После этого Май-Маевский был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 2-й бригады своей родной 11-й дивизии. В этой должности он пробыл более года.
Полководческая манера Май-Маевского складывалась в сложных условиях Галицийской битвы, боев на Сане и в совсем уж драматической ситуации весны – лета 1915 года. Каковы были главные трудности? Первое – плохое снабжение боеприпасами, перераставшее порой в катастрофу. Второе – слабая согласованность действий с соседями, особенно с частями соседних корпусов. В результате действовать часто приходилось в одиночку, на свой страх и риск. Одиночество усугублялась постоянными затруднениями со связью, так что делить ответственность было не с кем. Эти обстоятельства, тяжелые для ведения военных действий в «организованной», «правильной» войне, окажутся неплохими факторами подготовки к войне Гражданской – с ее непредсказуемостью, переменчивостью ситуации, разбросанностью войск, ненадежностью тыла.
К осени 1915 года Май-Маевский – уже вполне сложившийся военачальник: хладнокровный, настойчивый, умеющий принимать неожиданные и потому весьма эффективные решения.
Об этом свидетельствует Александр Иванович Верховский, во время описываемых событий (сентябрь 1915 года) капитан, исполняющий должность старшего адъютанта отделения управления генерал-квартирмейстера 9-й армии (то есть замначоперод штаба армии – так называлась бы его должность на телеграфном языке времен Гражданской войны); заметим, что к этому времени XI корпус был передан в состав 9-й армии генерала от инфантерии Лечицкого):
«На командном пункте полка я застал начальника штаба корпуса генерала Май-Маевского, жестоко спорившего с командиром 9-й кавалерийской дивизии генералом князем Бегильдеевым. <…>
Суровый, но твердый старик, каким был генерал Май-Маевский, видел один только выход из положения. Он говорил Бегильдееву:
– Вы должны с наличными силами атаковать противника в конном строю и отбросить в исходное положение. Это задержит его до утра, а на рассвете подойдет генерал Раух со своими дивизиями.
Бегильдеев возражал со всей страстностью:
– Вы шутите, ваше превосходительство. Разве вы не видите, что наступает темнота, что все поле изрыто окопами и опутано проволочными заграждениями. Здесь не только коннице, но и пехоте атаковать невозможно.
– Я вижу только одно, – спокойно, но настойчиво возражал Май-Маевский, толстый, стоявший на своих коротких, как тумбы, ногах, – что мы все служим нашему императору – и пехота, и конница. И если пехота может сидеть и погибать в окопах, то и конница, спасая пехоту, может сделать невозможное. Я вас предупреждаю, что в случае отказа я немедленно телеграфирую, что вы струсили и отказались атаковать, как на Днестре.
…Бегильдеев насупился:
– Нет, ваше превосходительство, конница не трусит. У каргопольских гусар выбило за войну народу не меньше, чем в любом пехотном полку.
– Если так, то вы имеете случай показать, что говорите не пустые слова, – твердо произнес Май-Маевский. – Вы должны отбросить германскую атаку.
Не говоря больше ни слова, Бегильдеев повернулся, сел на коня и, с места подняв его в галоп, скрылся из виду»[185].
Отчаянная кавалерийская атака, на которой настоял Май-Маевский, завершилась неожиданно блестящим успехом: немцы не выдержали вида всадников, несущихся из тьмы в свете прожекторов, и обратились в бегство.
Правда, в воспоминаниях Верховского присутствует неточность. Май-Маевский никогда не занимал должность начальника штаба корпуса. В сентябре 1915 года начальником штаба XI корпуса числился генерал-майор Сушков. Май-Маевский оставался командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии; его действия в этой должности и в эти самые дни описаны полковником Александром Халильевичем Базаревским, исполнявшим тогда обязанности начальника штаба 11-й пехотной дивизии[186]. Однако вряд ли Верховский мог с кем-нибудь перепутать Май-Маевского: слишком уж характерна его внешность. Возможно, мемуарист ошибся в датах, и в описываемый им момент Май-Маевский, оставаясь во главе бригады, по каким-то причинам временно исполнял обязанности наштакора.
В октябре 1915 года начальник XI корпуса генерал Сахаров был назначен командующим 11-й армией. Два месяца спустя он забрал к себе Май-Маевского на должность генерала для поручений. Это, разумеется, повышение. Но все же обратим внимание: десять месяцев Владимир Зенонович ходит в порученцах, не получает самостоятельной командной должности. Это после успешного руководства полком и бригадой! Почему? То ли потому, что незаменим он для Сахарова в качестве полномочного представителя, исполнителя воли командующего. То ли потому, что не доверяет Владимир Викторович самостоятельности Владимира Зеноновича: как бы чего не вышло… Опять эта странная тень на репутации генерала.
Только осенью 1916 года, на исходе изнурительно кровопролитных наступательных боев Юго-Западного фронта, Май-Маевский получил дивизию – 35-ю пехотную, в составе XVII корпуса. Но особо отличиться на новой должности не успел. Бои местного значения, штурмы и обороны деревень, названия которых и на карте-то не найдешь: Баткув, Звыжин, Грабковце, Кудобинде, Пасюжова, Янковице, Стехниковице, Ханчариха… Убитые, раненые – и никакой славы.
Наступило зимнее затишье. И далее – революция. Март семнадцатого.
Как воспринял генерал Май-Маевский ошеломляющие новости из Петрограда и Пскова, мы не знаем. Скорее всего, как большинство офицеров: с изумлением, страхом и… затаенной радостью. Никаких оснований считать Май-Маевского монархистом у нас нет. С новой властью он неплохо поладил: это видно из того, что остался в должности, пережил Гучковскую чистку. В конце апреля был назначен начальником 4-й пехотной дивизии. Во главе этого соединения участвовал в июньско-июльском наступлении. Тут, правда, выражение «во главе» не совсем подходит. «Фронт сплошных митингов» рушился, и никакой генерал, самый отважный и самый решительный, не мог спасти положения. Май-Маевский, правда, пользовался уважением солдат и доверием Советов: ему дали «Георгия с веточкой» (Георгиевский крест с веткой лавра) – награду, присуждавшуюся по решению солдатских комитетов.
В августе 1917 года Май-Маевский был назначен командовать IV гвардейским корпусом. Так нежданно-негаданно, по неисповедимой воле революционной власти, произошло его возвращение в гвардию. Правда, гвардия теперь уже была не опорой и охраной престола, а одной из неуправляемых сил в революционной смуте.
Генерал-майор Май-Маевский долгое время пытался быть вне политики. В корниловском выступлении не участвовал. Ни в октябре, ни в ноябре семнадцатого года никак себя не проявил. Что делал? Плыл по течению? Жил надеждой на совесть русского народа и доблесть русского солдата? Вряд ли: совесть испарилась, а доблесть обратилась в свирепость. Пил? Это более вероятно. Но скоро и выпить стало нечего. Стремительнее, чем немцы, наступала разруха. Вихри Гражданской войны буйствовали все шире, все сильнее. Отсиживаться на нейтральной почве было невозможно, потому что нейтральная почва исчезала, уходила из-под ног.
Необходимо выбирать. И как трудно это сделать!
Для многих генералов и старших офицеров выбор – на чьей стороне быть в русской смуте – определялся не идейными принципами, а личными мотивами, зачастую случайными, основанными на человеческих симпатиях и антипатиях, инстинктивном приятии своих и неприятии чужих. Немалую роль могли играть родственные связи, знакомства, прежние служебные отношения. Зерно, из которого выросла Добровольческая армия, – сообщество генералов и офицеров, сблизившихся во время «быховского сидения». К ним невольно тянулись бывшие сослуживцы и подчиненные, не ведавшие, к какому берегу пристать в бушующей вокруг буре.
Мы не знаем, что думал и как собирался жить дальше Владимир Зенонович Май-Маевский в те долгие и трудные месяцы, которые прошли от Октябрьской революции до его вступления в Добровольческую армию. Он был одинок, он был немолод. Сумбурным и непонятным Советам он, во всяком случае, не имел желания служить. В конце концов он просто пошел к своим.
Когда это произошло? Как ни странно, однозначного ответа на этот вопрос нет. Казалось бы, генерал – не иголка; однако нет ясных и надежных сведений о присутствии Май-Маевского в белых формированиях до осени 1918 года. Там, где нет определенных фактов, появляются легенды. Бытует легенда, что Май-Маевский пробрался в марте 1918 года на Дон и был принят рядовым солдатом в отряд полковника Дроздовского, пробивавшийся из Румынии на Кубань (впоследствии отряд вырос в 3-ю дивизию Добровольческой армии). Этого, конечно, не было и быть не могло. Все-таки генерал, бывший командующий гвардейским корпусом! Уж хоть полк ему бы дали. Да и трудно представить себе нездорового, тучного, одышливого Владимира Зеноновича в качестве участника труднейшего Ледяного похода Добровольческой армии или многоверстных маршей дроздовцев. Но, во всяком случае, пятьдесят второй год своей жизни он начал в составе белых войск.
В ноябре 1918 года, после ранения Дроздовского, приказом главнокомандующего Деникина Май-Маевский был назначен временно начальником 3-й дивизии. В январе 1919 года Дроздовский умер от пустяковой, как вначале казалось, раны, и Май-Маевский унаследовал его дивизию, одно из лучших соединений белых войск. В это время развернулось сражение за Донецкий угольный район. Главнокомандующий Вооруженными силами Юга России Деникин назначил Май-Маевского командиром 2-го корпуса, воевавшего с превосходящими силами красных между Ростовом и Горловкой. Весь февраль и март красные и белые, казаки и махновцы метались по донецким степям. Города по нескольку раз переходили из рук в руки. 9 марта 1919 года Деникин подписал приказ о производстве Май-Маевского в генерал-лейтенанты. В апреле части 2-го корпуса взяли Горловку, повели наступление на Юзовку и Мариуполь. В начале мая весь Донецкий район оказался в руках белых. 22 мая Деникин назначил «генерала Мая» командующим Добровольческой армией, главной ударной силой белых в готовящемся наступлении на Москву.
В воспоминаниях многих участников Белого движения о Май-Маевском ощущается некоторый холодок. Отчасти это объясняется тем, что он поздно вступил в их ряды, «пришел на готовенькое». Иные и вовсе молчат о нем. Так, например, не упоминает его имени дроздовец Антон Васильевич Туркул в своей книге «Дроздовцы в огне», хотя именно его полк и дивизия наступали на острие армии Мая. В эмигрантской мемуаристике сложилась традиция: о Май-Маевском либо молчать, либо вспоминать с оттенком горького сожаления, как о падшем ангеле, увлекшем многих своим падением. Именно из этих мемуаров почерпнуты общеизвестные сведения о запойном пьянстве Май-Маевского. Между тем никто и никогда не привел ни одного факта, свидетельствующего о том, что Владимир Зенонович в качестве командующего принимал решения (или, наоборот, не мог принять нужных решений) под влиянием проклятого вина.
Война шла такая, в которой трудно было сохранить душевное равновесие. Свои истребляли своих с бессмысленным, неостановимым остервенением. А была ли надежда на победу?
Из воспоминаний Туркула:
«В Тихорецкой 1-й солдатский батальон опрокинул красных, переколол всех, кто сопротивлялся. Солдаты батальона сами расстреляли захваченных ими комиссаров».
«Снег заносил сугробами наших мертвецов».
«Все знали, что в плен нас не берут, что нам нет пощады. В плену нас расстреливали поголовно. Если мы не успевали нести раненых, они пристреливали себя сами».
«Безмолвной, страшной была ночная атака 4-й на красных в деревне под самым Дмитриевом. Они перекололи всех, они не привели ни одного пленного».
«Среди тел, покрытых инеем и заледеневшей кровью, мы едва отыскали Димитраша. Он был исколот штыками, истерзан. Я узнал его тело только по обледеневшим рыжеватым усам и подбородку. Верхняя часть головы до челюсти была сорвана. Мы так и не нашли ее в темном поле, где курилась метель».
«Толпа уже ходила ходуном вокруг кучки пленных… Их били палками, зонтиками, на них плевали, женщины кидались на них, царапали им лица… С жадной яростью толпа кричала нам, чтобы мы прикончили матросню на месте, что мы не смеем уводить их, зверей, чекистов, мучителей. Какой-то старик тряс мне руки с рыданием:
– Куда вы их ведете, расстреливайте на месте, как они расстреляли моего сына, дочь! Они не солдаты, они палачи!..
…Их расстреляли».
«…Из опросов пленных, мы отыскали… кривоногого краскома, мальчишку-коммуниста. Краскома расстреляли».
«У насыпи едва освещало огнем подкорченные руки убитых. Уже нельзя было узнать в темноте, кто красный, кто белый. Бронепоезда догорали, снаряды продолжали рваться всю ночь»[187].
Надежда не покидала фанатиков Белого дела, таких как Туркул, готовых ради торжества высшей касты, к каковой причисляли себя, искрошить половину собственного народа, гордящихся количеством убитых и расстрелянных по их приказу большевиков.
Надежду долго хранили слуги совести и долга: Деникин, Врангель, Махров. Они знали, что за ними люди, десятки, сотни тысяч людей, что они не имеют права на слабость – и, следовательно, на правду.
Надежда раньше всего оставила людей мыслящих, умеющих смотреть правде в глаза, таких как Роман Гуль. Они понимали, что эшелон истории уходит в другом направлении и никто не в силах его остановить.
Генерал Май не был ни фанатиком, ни вождем, ни отчаявшимся интеллигентом. Он был военным. Он понимал, что у белых армий нет тыла, нет резервов, нет единства действий. Белые могли победить только при условии всенародной поддержки. Но народ России в массе своей не встал на сторону белых.
Генерал Май пил, конечно; может быть, пил слишком. Но ума не пропивал, это точно. За обвинениями в пьянстве, особенно со стороны Деникина, виднеется стремление задним числом найти объяснение той катастрофе, которая постигла белые армии в ноябре – декабре 1919 года. Списать все на Мая: запил, мол, не удержался и не удержал фронт. Но катастрофе предшествовало ошеломляюще успешное наступление Добровольческой армии, которой командовал тот же Май-Маевский. 25 июня после пятидневных боев был взят Харьков. 27 июля части Добровольческой армии вошли в Полтаву. В августе были взяты Одесса и Киев, в сентябре – Курск и Воронеж, 13 октября – Орел. В Москве царила паника: одни с тайной радостью готовились встречать белых, другие собирались бежать на север, в Вологду и Пермь, вслед за красными…
И тут все рухнуло. Удар, нанесенный красными под основание изгибающейся в сторону Москвы линии фронта, отразить оказалось нечем. 20 октября обессиленные белые оставили Орел и с боями стали откатываться к Курску. 17 ноября был потерян и Курск.
27 ноября Деникин подписал приказ об отстранении Май-Маевского от командования.
Потом в своих «Очерках русской смуты» Деникин напишет: «Личность Май-Маевского перейдет в историю с суровым осуждением… Не отрицаю и не оправдываю…»[188]
Май-Маевский уехал в Крым, где жил, оставаясь не у дел, до самой своей смерти в первый день крымской эвакуации.
Старая киносъемка.
Титры: «Взятие Полтавы войсками генерала Май-Маевского. 18 июля 1919 года». Дата – по старому стилю. В окружении всякого рода военных и штатских – толстый генерал в черном мундире, с одутловатым лицом, в пенсне, в фуражке немного набекрень. На рукаве – треугольная нашивка добровольца. Вот он отдает честь, вот поворачивается, командно машет рукой. Солдаты маршируют.
Вот он же стоит в открытом автомобиле; его приветствуют, кричат что-то восторженное; в воздух летят фуражки и шляпы; какая-то барышня, явно робея, бочком протискивается к нему с букетом цветов. Он пожимает чьи-то руки, кому-то кланяется легким поклоном. Несмотря на тяжелую полноту, в нем чувствуется гвардейская выправка, точное благородство манер. Он садится, сняв фуражку и обнажив генеральскую плешь. Автомобиль трогается.
(…В таком же автомобиле будет пробираться он по запруженным перепуганной толпой улицам Севастополя утром 12 ноября 1920 года…)
А вот он же на вокзале. Выходит из вагона. По бокам – конвой с саблями наголо. Вот он позирует у стенки вагона. И не позирует, а просто пожилой усталый генерал стоит, щуря близорукие глаза за стеклами пенсне. Чувствует себя перед камерой немного непривычно. Его можно хорошо рассмотреть. Нет, не прав Врангель: это не комик провинциальной сцены. Серьезный, вдумчивый человек, чем-то похожий на капитана дальнего плавания. Над нагрудным карманом френча светятся два креста: Георгий и Анна.
Вот к нему подходят, его окружают генералы и офицеры с аксельбантами. Один из них, молодой офицер с неприметным лицом и пышным аксельбантом, – адъютант его превосходительства Макаров. Интересная личность. Говорят, генерал без него шагу не может ступить. Через полгода Макаров перебежит к красным, будет выдавать себя за разведчика, работавшего в тылу врага… Адъютант стоит несколько боком и явно чувствует себя не в своей тарелке. Руки его судорожно комкают белые перчатки.
Все. Сеанс окончен.
В то время, когда штабной поезд Май-Маевского стоял неподалеку от уже взятой Полтавы и безымянный кинооператор, быть может, уже пробовал свою аппаратуру перед съемкой торжественной встречи, в Петрограде, на замусоренном Николаевском вокзале, разводил пары́ другой поезд: паровоз да два вагона. Этим коротеньким составом отбывал в Москву Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, бывший генерал-майор и начальник полевого штаба Реввоенсовета республики – тоже теперь уже бывший. Его военная карьера закончилась на четыре месяца раньше, чем закатилась звезда Май-Маевского. Хотя на службе Стране Советов он будет состоять еще долго и умрет через тридцать семь лет в чине генерал-лейтенанта Советской армии.
А было в его карьере многое: борьба со шпионами истинными и мнимыми; секретные беседы с великим князем Николаем Николаевичем, с Распутиным, с Лениным; погребение старой армии и пестование новой. Он рисковал жизнью в Ставке и на Лубянке; только вот в бою ни разу не был… Высокий лысоватый генерал, с закрученными усами и суровым испытующим взглядом, пробивающим овальные стекла пенсне.
Бонч-Бруевичи – род, внесенный в ту же шестую часть «Списка дворянских родов Могилевской губернии», в которой значится и род Май-Маевских. О происхождении рода существуют различные легенды: о некоем Бонифации Мерже Бонча, итальянце, служившем якобы королю Польши Болеславу Храброму (в X веке, во времена Владимира Красное Солнышко); о литовской ветви охотников на зверя, именуемой Брувчи; о выходцах из Сербии, поступивших на королевскую службу в Речи Посполитой в XVI веке. Но это все легенды. По некоторым данным, роды герба Бонча восходят к общему предку, жившему в конце XVI – первой половине XVII века. То была мелкопоместная шляхта, по-видимому, православного исповедания. В XIX веке Бонч-Бруевичам принадлежало маленькое именьице Кулигаевка. В соседнем селе Прусино в церкви сохранилась икона с надписью: «В память раба Божьего Андрея приносит Дмитрий Афанасьевич Бонч-Бруевич, 1908 год». Это, очевидно, приношение отца будущего генерала. Отец, когда-то окончивший Константиновский межевой институт в Москве, официально именовался «чиновником по межевой части» (как говорили тогда – казенный землемер; как сказали бы мы сейчас – служащий кадастровой палаты). Позднее ему удалось устроиться на более высокооплачиваемое место – управляющим в имении. Тут перед нами среда интеллигентская, служилая, дворянская, московская, но с провинциальными корнями.
В семье интеллигентного чиновника 24 февраля 1870 года родился сын Михаил, а через три года – сын Владимир.
Жизненный путь Михаила Бонч-Бруевича до мировой войны во многом повторяет путь Май-Маевского. Но есть два существенных исходных различия. Первое: у Михаила Дмитриевича был младший брат, с которым он всегда был дружен. Брат – личность весьма примечательная. Но об этом после. Второе: Бонч-Бруевич не сразу выбрал военную карьеру. Сын землемера, он вначале было пошел по стопам отца: поступил в тот же Московский межевой институт, который успешно окончил в 1891 году. Решение надеть военный мундир, по-видимому, созрело в его душе еще во время учебы. Сразу же по окончании института он поступил на одногодичный военно-училищный курс Московского юнкерского пехотного училища (будущего Алексеевского) и был выпущен в 1892 году в чине подпоручика в 12-й Астраханский гренадерский полк с последующим прикомандированием к лейб-гвардии Литовскому полку.
Служба Бонч-Бруевича, как и служба Май-Маевского, начиналась в гвардии: очевидно, гвардейское начальство не чуждалось могилевских дворян. Но гвардейская жизнь, строевая и светская, строгая и разгульная, не привлекала московского интеллигента. Отбыв в Литовском полку положенные три года, он подает прошение о допуске к вступительным испытаниям в Академию Генштаба. Многоступенчатые экзамены успешно сданы – и гвардии подпоручик уже зачислен слушателем на первый курс Академии. Там отучился три года. Как мы уже знаем, в этом рассаднике интеллектуальной военной элиты в те же времена по коридорам бродили и в аудиториях корпели Май-Маевский, Корнилов, Деникин…
По окончании первого курса Бонч-Бруевич был произведен в поручики. В 1898 году успешно окончил Академию по первому разряду. Как и положено, при выпуске получил очередной чин – гвардии штабс-капитана – и тут же был причислен к Генеральному штабу с производством в капитаны.
Штабная карьера новоиспеченного капитана продолжилась в Киевском военном округе. Здесь ему суждено было прослужить десять лет и обзавестись связями, многое предопределившими в его будущей судьбе. С самого начала ясно было: Бонч-Бруевич не строевик, а штабист. Военный интеллигент. Ну и «момент», конечно. Карьерный путь он проходит без сучка без задоринки. В тридцать лет получает Станислава третьей степени, в тридцать три года – Анну третьей степени и чин подполковника.
Командующим войсками Киевского округа в эти годы был генерал от инфантерии Михаил Иванович Драгомиров; именно при нем Бонч-Бруевич служил офицером для поручений в 1900–1902 годах. Драгомиров был окружен ореолом славы шипкинских боев 1877 года, но для молодого капитана Бонч-Бруевича, уже тогда носившего учительское пенсне, более важным являлось другое – авторитет командующего как военного теоретика. По драгомировскому «Учебнику тактики» учились поколения юнкеров и слушателей Академии; над этим учебником сидел, склоняясь, ночи напролет и Бонч-Бруевич. И вот – о великая радость! великая честь! – сам генерал, давно заприметивший старательного и интеллигентного офицера-порученца, предложил ему участвовать в переработке старого учебника в свете новых достижений военной науки.
Работа началась, но в декабре 1903 года Драгомиров был отправлен в почетную отставку – назначен членом Государственного совета. Через месяц вдалеке загремели пушки Русско-японской войны. Бонч-Бруевича направили, правда, не на фронт, а в Киевское военное училище, преподавателем военных наук. Тут бы и заняться им с Драгомировым работой над учебником… Но старый генерал уже был болен, силы оставляли его… В октябре 1905 года Драгомиров скончался. К этому времени подготовлена была только первая часть книги. Целиком «Учебник тактики» Драгомирова в переработке Бонч-Бруевича вышел в 1906 году. Труд подполковника был замечен и оценен: в 1907 году последовало производство в полковники.
Имя Бонч-Бруевича, благодаря ученым и литературным трудам, приобрело известность в военных кругах. А служба шла своим чередом: в 1908 году он был переведен в Варшавский округ и назначен начальником штаба Либавской крепости. Вновь они с Май-Маевским идут параллельными путями. Но разница в том, что Осовец, в котором три года прослужил начальником штаба подполковник Май, готовился к войне и сыграл в ней героическую роль. А подполковник Бонч был назначен в Либаву тогда, когда тамошняя крепость была упразднена, и ему предстояло заняться ее ликвидацией и передислокацией гарнизона. Своеобразное предзнаменование: так же точно в ноябре 1917 года он будет назначен начальником штаба Верховного главнокомандования всей русской армии с одной целью: ее расформирования, ликвидации.
В Либаве Бонч-Бруевич пробыл чуть больше года. В 1910 году он был переведен в Петербург, в Академию Генштаба. Должность называлась так: заведующий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами. В стенах Академии, в торжественном новом здании на Суворовском проспекте, могла бы и завершиться его карьера – куда еще стремиться ученому полковнику с профессорским пенсне на носу? – если бы не мировая война.
В 1914 году Бонч-Бруевич должен был проходить цензовое командование полком. Ему достался 176-й Переволоченский пехотный полк, расположенный в Киевском округе, в Чернигове. Полковник прибыл к месту назначения в марте.
Через три месяца прогремели выстрелы в Сараеве.
16 июля вечером из штаба Киевского военного округа в Чернигов был доставлен секретный пакет на имя командира бригады. В пакете содержался приказ о немедленном приведении всех частей гарнизона города Чернигова в предмобилизационное положение.
Много лет спустя Михаил Дмитриевич напишет книгу мемуаров. Она будет издана посмертно, в 1957 году (после XX съезда КПСС и разоблачения культа личности Сталина), под верноподданным названием «Вся власть Советам». Мы уже неоднократно цитировали эти воспоминания. Они писались бывшим царским генералом и братом соратника Ленина в сталинские годы, с оглядкой и опаской, и поэтому их нужно просеивать и провеивать, как обмолоченную пшеницу, отделяя зерно информации от плевел самозащиты и идеологической мякины. Между тем они написаны человеком исключительно информированным. И говорящим правду – хотя не только правду и не всю правду.
Единственная глава, которую можно читать без критического сита, – глава первая, в которой речь идет о мобилизации и о начале войны.
Из мемуаров Бонч-Бруевича:
«Через два дня пришла телеграмма о всеобщей мобилизации русской армии. Захватив с собой в положенный мне по штатам парный экипаж начальника хозяйственной части и казначея полка, я отправился в отделение государственного банка и вскрыл сейф, в котором хранились деньги, предназначенные на мобилизационные расходы.
В тот же день все офицеры полка получили подъемные, походные, суточные и жалованье за месяц вперед и на покупку верховых лошадей теми, кому они были положены по штатам военного времени….
Приказ о мобилизации породил в полку множество взволнованных разговоров, но с кем придется воевать, никто еще не знал, и только 20 июля стало известно, что Германия объявила войну России. Несколько позже до Чернигова наконец дошло, что наряду с Германией войну России объявила и Австро-Венгрия, и нам было объявлено, что XXI армейский корпус, в состав которого входил 176-й Переволоченский полк, должен выступать в поход против австро-венгерской армии»[189].
Мобилизованные распрощались с семьями, старшие офицеры отправили в Дубно, к штабу армии, своих жен. Пора было выступать.
«К утру пятого дня своей мобилизации полк был готов к походу…
В пять часов дня я подъехал к полку, встреченный бравурными звуками военной музыки. Медные, до умопомрачительного блеска начищенные трубы полкового оркестра торжественно горели на солнце, приодетые, вымывшиеся накануне в бане солдаты застыли во взятом на меня равнении, блестели выровненные в ниточку штыки, несмотря на жару, на солдатах были надеты через плечо скатки, и, право, построившийся на поле четырехбатальонный, полностью укомплектованный по штатам военного времени пехотный полк не мне одному представлялся внушительным и восхитительным зрелищем»[190].
От Луцка, куда полк был доставлен железнодорожными эшелонами, выступили в направлении на Торговицы. Тут командира полка настигло известие о новом назначении. «Ординарец привез новую записку командующего, в которой мне было предложено немедленно сдать полк старшему из полковых офицеров, а самому явиться в штаб 3-й армии для назначения на должность генерал-квартирмейстера»[191]. Так и не приняв участия ни в одном бою, он отправился в Дубно, в штаб армии.
Это был подъем на большую высоту. Доселе пути могилевских дворян Бонч-Бруевича и Май-Маевского пролегали почти параллельно; теперь они резко разошлись.
Как мы уже знаем, в ведении генерал-квартирмейстера находилось планирование перемещений войск, разработка оперативных планов, обучение личного состава, военная разведка и контрразведка. Если штаб называли мозгом армии, то отдел генерал-квартирмейстера можно считать чем-то вроде коры больших полушарий… Но дело даже не в этом. Командующий 3-й армией генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский справедливо считался одним из дипломатичнейших, хитрейших, а потому и перспективнейших генералов русской армии. Мы уже знаем, как ловко отобрал он у Брусилова славу завоевателя Львова. Благодаря этому уже в середине сентября, после восточно-прусского разгрома, Рузский был назначен главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта. Вслед за ним и Бонч-Бруевич поднялся на одну ступень – стал генерал-квартирмейстером штаба фронта.
Взлет полковника в заоблачные генеральские выси был, в общем-то, предопределен. Бонч-Бруевич водил знакомство с Рузским еще во время службы в Киевском округе, где Николай Владимирович занимал генерал-квартирмейстерскую должность при Драгомирове. Но еще важнее, что Бонч-Бруевичу посчастливилось жениться (вторым браком, после развода) на подруге жены Рузского. Дружба двух дам обусловила и редкостные для армии, почти приятельские отношения между генералом и штабным офицером. Отношения эти сохранились до начала войны. Честолюбивый и осторожный Рузский уже тогда вынашивал далекоидущие политические планы. Став командующим и нуждаясь в надежных доверенных людях, он взял Бонч-Бруевича под свое крыло; тут же добился и производства его в генерал-майоры.
Стоит упомянуть об одном обстоятельстве, весьма необычном с нашей нынешней точки зрения. Дело в том, что родной брат Михаила Дмитриевича Владимир давно и хорошо был известен Департаменту полиции как активный, непримиримый борец против существующего строя. Еще в 1890-х годах он участвовал в распространении социал-демократической литературы; позднее эмигрировал, вместе с Ульяновым-Лениным сотрудничал в «Искре». В 1905 году вернулся в Россию, участвовал в подготовке вооруженного восстания… Словом, принадлежал к самым радикальным революционным кругам. Известно было и то, что ближайшие друзья-соратники Владимира Дмитриевича с самого начала войны заняли пораженческую позицию, что в окружении Ленина господствовал лозунг: «чем хуже, тем лучше». Наконец, жандармские офицеры, служившие при штабе 3-й армии и Севзапфронта, не могли не знать, что полковник, а с сентября 1914 года генерал Бонч-Бруевич систематически переписывается со своим братом и вообще поддерживает с ним доверительные отношения. Тем не менее ни у кого – ни в штабах фронтов, ни в Ставке, ни в Петербурге – не возник вопрос: можно ли допускать к сверхсекретной работе человека, так близко стоявшего к подрывным антиправительственным организациям?
Нет, Михаил Дмитриевич ни тогда, ни потом не был революционером, не разделял большевистских взглядов своего брата. И все же беспечность охранных структур вызывает удивление, особенно если учесть, что под контролем генерала Бонч-Бруевича с сентября 1914 года находилась вся контрразведывательная деятельность фронта, прикрывающего столицу империи.
Возможно, однако, что здесь имела место не глупость, не бессилие жандармов, а многоходовая политическая интрига.
Во всяком случае, дальнейшая деятельность Бонч-Бруевича и его общественная репутация вплоть до самой революции будут все более и более тесно связаны с контрразведкой, со шпионскими скандалами, каждый из которых представляет собой удар по основам политического режима. Весной 1915 года имя Бонч-Бруевича зазвучало в связи с расследованием по обвинению в шпионаже жандармского полковника Мясоедова. С этого дела начинается вхождение Бонч-Бруевича в сферы высшей политики.
История сия требует отдельного рассказа. Назовем эту новеллу в духе немых кинофильмов того времени.
Дуэль через повешение, или Шпионские страсти
Когда-то, лет за десять-пятнадцать до начала мировой войны, некий жандармский офицер, ротмистр Мясоедов, служил начальником жандармского отделения станции Вержболово на российско-германской границе. Уже тогда вокруг ходили слухи о том, что обходительный жандармский офицер в пенсне (он тоже был близорук, как и Бонч-Бруевич) водит дружбу с контрабандистами, а порой помогает провозить в Россию нелегальную литературу революционного содержания. Проведенное по этому делу расследование к каким-либо неприятным для Сергея Николаевича результатам не привело. Мясоедов даже удостоился чести быть приглашенным на прием к германскому императору Вильгельму, охотничий замок которого располагался неподалеку, по ту сторону границы.
Несмотря на благоприятный исход расследования, Мясоедов после всей этой канители выходит в отставку. Активно участвует в коммерческих делах родственников своей жены, коммерсантов Гольдштейнов и Фрейбергов. И попутно оказывает важные услуги высокому начальству: командующему Киевским военным округом Владимиру Александровичу Сухомлинову.
(Пояснение в скобках. Сухомлинов сначала был помощником Драгомирова, а потом сменил его в должности командующего округом. Ходили упорные слухи, что помощник подсидел своего начальника. Сторонники Драгомирова, к числу коих принадлежали и Рузский, и Бонч-Бруевич, не могли простить этого Сухомлинову и относились к нему с открытой или тщательно скрываемой враждебностью.)
Тут звучит мотив романтический. В киевском житии Сухомлинова не обошлось без известной коллизии: Марс – Венера – Меркурий.
Сухомлинов, пожилой, заслуженный, недалекий и, заметим, женатый генерал, влюбился в супругу украинского помещика Екатерину Гошкевич-Бутович, ангела по внешности и авантюристку в душе. Роман между ними зашел так далеко, что генерал стал подумывать о разводе. Как раз в это время (очень своевременно) умирает его первая жена. Теперь для соединения влюбленных, двадцатипятилетней очаровательницы и шестидесятилетнего воина, осталось одно препятствие – муж Бутович, слышать не хотевший о расторжении брака. Вот в этот момент на помощь влюбленному Марсу и явился ловкий Меркурий в жандармском мундире: Мясоедов. Он взялся за организацию тяжелого и неприятного бракоразводного процесса.
(Еще одно пояснение. В дореволюционной России расторжение брака по воле одного из супругов возможно было только при наличии доказанного факта неверности другого супруга. Бракоразводные процессы поэтому сводились к поиску наемных лжесвидетелей такого рода фактов. Дело неприятное, грязное и дорогостоящее.)
Интересны лица, привлеченные им в помощники: начальник киевского охранного отделения жандармский полковник Кулябко и агент той же организации Дмитрий (Мордко) Богров. Оный Богров, состоя агентом охранки, являлся также и участником боевой организации эсеров. Через несколько лет, в сентябре 1911 года, он пройдет в здание Киевского театра по пропуску, выписанному рукою Кулябко, и там, беспрепятственно подойдя к первому ряду партера, несколькими выстрелами смертельно ранит премьер-министра Столыпина… Впрочем, это случится не скоро и к Мясоедову прямого отношения не имеет. Так вот, при помощи Кулябко, Богрова и иных темных личностей Мясоедов собрал все необходимые свидетельства и документы, уломал строптивого господина Бутовича и в конце концов добился расторжения брака. Сухомлинов тут же женился на очаровательной Екатерине Викторовне. Вскоре он сделался военным министром, переехал в Петербург и, конечно, сохранил полное доверие и чувство благодарности к спасителю в голубом мундире.
Госпожа Бутович-Сухомлинова в последующие годы играла заметную, но далеко не прозрачную роль в жизни околоправительственных кругов предвоенного Петербурга. В своих воспоминаниях Бонч-Бруевич как бы мимоходом обронил фразу о поездках «госпожи министерши» в Египет с бакинским миллионером Манташевым и о постановках там, у подножия пирамид, каких-то любительских спектаклей. Мемуары Бонч-Бруевича – настоящая тайнопись, и данная фраза, как и многое другое в этой книге, нуждается в расшифровке. Манташев – не просто миллионер-нефтепромышленник. Известно, что закавказская подпольная организация социал-демократов (ее участники – Коба-Сталин и Камо) получала секретные денежные пожертвования от Манташева. Перепадало кое-что и эсерам (не было ли здесь цепочки: Сухомлинова – Мясоедов – Кулябко – Богров?). Манташев имел широкие контакты за границей; его знакомство с женой военного министра, подозрительное само по себе, приобретает специфический характер в свете поездок в Египет. Едва ли дело тут было в любительских спектаклях. Египет тех лет – излюбленное место пребывания шпионов всех стран. В эти годы в Каире создавал свою агентурную сеть главный резидент английской разведки на Ближнем Востоке генерал Клейтон, непосредственный начальник и «крестный отец» легендарного Лоуренса Аравийского. Начало шпионской карьеры Маты Хари (Маргариты Гертруды Целле) тоже, по-видимому, связано с Египтом. Словом, вокруг Сухомлиновой и ее подслеповатого мужа кипели шпионские страсти.
К несчастью для Мясоедова, Сухомлинов вскоре был назначен военным министром и оказался в лагере политических противников думского лидера Гучкова.
(Пояснение третье. Александр Иванович Гучков, 1862 года рождения, из московских купцов, богач, забияка, меткий стрелок, страстный честолюбец и неуемный авантюрист. Единоличный лидер партии «Союз 17 октября», председатель думской Комиссии государственной обороны. Имел связи среди высшего генералитета; пользовался поддержкой великого князя Николая Николаевича.)
В апреле 1912 года, выступая в Комиссии обороны, Гучков открыто обвинил Сухомлинова в организации негласного надзора за офицерами. Это «шпионство» генерал якобы поручил осуществлять Мясоедову. Тут же звучали и намеки на шпионство внешнее: через Бутович-Сухомлинову и Мясоедова секретная информация из кабинета министра утекает за границу, в германский и австро-венгерский Генеральные штабы. Вот когда припомнилось Мясоедову приглашение в кайзеровский замок! Противоречивые, но сенсационные гучковские разоблачения были опубликованы во влиятельных столичных газетах «Вечернее время» и «Новое время». Заголовки броско-тревожные: «Шпионаж и сыск», «Кто заведует в России контрразведкой?» На следующий день Мясоедов прислал Гучкову вызов на дуэль.
Туманным утром 22 апреля автомобиль Гучкова, увязая в непросохшей еще земле, выкатился на пустырь возле Новой Деревни, неподалеку от места дуэли Пушкина. Там уже ждал Мясоедов с секундантами. От примирения противники отказались. Секунданты развели их на исходные позиции. Первым выстрелил Мясоедов – и промахнулся. Гучков послал пулю так далеко в сторону, что это можно было счесть за выстрел в воздух. На том и закончился единственный в своем роде поединок между депутатом и жандармом.
Продолжение последовало через три года, в разгар Великой войны.
После поражения в Восточной Пруссии и победы в Галиции российское общество ждало решающего успеха. Но долго и тщательно подготовлявшееся наступление Северо-Западного фронта в ноябре 1914 года обернулось точно рассчитанным упреждающим ударом, нанесенным немцами под Лодзью. Казалось (да так и было в действительности), что германское командование заранее знало обо всех перемещениях русских войск. Итог: месяц тяжелейших боев, огромные потери, утрата наступательной инициативы. Нужно было искать виновных. В армии и в обществе зашуршали слухи о немецких шпионах, безнаказанно творящих свое дело при покровительстве самых высоких сфер. Гучков и его союзник, Верховный главнокомандующий великий князь Николай Николаевич, почувствовали: настало время повалить Сухомлинова.
Старые гучковские обвинения зазвучали вновь, когда к российскому военному представителю в Стокгольме явился некто подпоручик Колаковский, якобы бежавший из германского плена, и заявил: он завербован германской разведкой для осуществления подрывных актов в России. Допрошенный уже в Петербурге, подпоручик назвал имя человека, с которым он должен был связаться и от которого получить дальнейшие инструкции. Человек этот – Мясоедов.
Показания Колаковского во многих отношениях вызывали сомнения. Но за Мясоедовым установили наблюдение. Следствие поручено было вести начальнику отделения разведки и контрразведки штаба Севзапфронта полковнику Батюшину под руководством Бонч-Бруевича.
У подозреваемого были обнаружены секретные документы и подозрительные письма. Этого оказалось достаточно для предания его военному суду. Мясоедов виновным себя не признал, а после вынесения смертного приговора попытался вскрыть себе вены стеклышком пенсне. Приговор еще не был утвержден вышестоящими военно-судебными инстанциями, но приведен в исполнение по личному приказу Верховного. Мясоедова повесили через несколько часов после суда.
Жандармский генерал А. И. Спиридович, один из руководителей дворцовой охраны:
«На второй день Пасхи, 21 марта, появилось в газетах официальное сообщение о раскрытом предательстве подполковника запаса армии Мясоедова и о его казни. Снова заговорили об измене повсюду. Все военные неудачи сваливались теперь на предательство. Неясно, подло намекали на причастность к измене военного министра Сухомлинова. У него были общие знакомые с Мясоедовым. Кто знал интриги Петрограда, понимали, что Мясоедовым валят Сухомлинова, а Сухомлиновым бьют по трону…»[192]
Вскоре последовала отставка Сухомлинова, а через год и его арест. Бонч-Бруевич завоевал славу борца с темными силами и ненависть руководства корпуса жандармов.
После благополучного завершения дела великий князь Николай Николаевич добился генеральского чина для Батюшина, а Бонч-Бруевича удостоил приглашения на обед и… сразу же перевел его в Петроград, начальником штаба 6-й армии, обороняющей столицу. Указания, данные великим князем при этом Бонч-Бруевичу, очень любопытны. Цитируем мемуары последнего. «Вы едете в гнездо германского шпионажа, – слегка понизив голос, сказал он мне, – одно Царское Село чего стоит… В случае надобности обращайтесь прямо ко мне, я всегда вас поддержу»[193].
Назначая Бонч-Бруевича начальником штаба армии, Верховный, как бы забыв о военных действиях, ставит перед ним одну лишь задачу – искать врагов и шпионов в Царском Селе. Это упоминание о Царском очень многозначительно: сосуд с двойным дном. В широком смысле речь идет об императорском дворе и, конечно же, об окружении императрицы Александры Федоровны. Императрица и Николай Николаевич – давние враги, и вот великий князь делает сильный ход: посылает в столицу своего человека, способного взять под контроль окружение императрицы. В узком смысле «Царское Село» – это лазарет Вырубовой, служивший, помимо всего прочего, конспиративной квартирой Распутина. Иносказательным образом великий князь дает своему ставленнику указание: установить слежку за окружением императрицы, и в первую очередь за Распутиным.
В 1915–1916 годах недовольство Николаем II и в особенности императрицей Александрой в кругах высшей государственной и военной элиты породило серию осторожных, не вполне оформленных «как бы заговоров», в которых были замешаны и высшие военачальники, и депутаты Думы, и великие князья. Наиболее решительные заговорщики уже перемигивались о необходимости отстранения императора; более боязливые стремились лишь к удалению императрицы. Пущен шепот: «Александра – немка, покровительствует шпионам-немцам». И тут фигурой, удобной как для компрометации царской семьи, так и для ведения всевозможных закулисных переговоров, становится Распутин.
Мы не будем распутывать (простите за невольный каламбур) клубок сплетен, загадок, выдумок и противоречий, которым оплетен образ Григория Ефимовича Распутина-Новых. Для нас важно то, что распутинская карта стала одним из главных козырей в игре против последнего русского самодержца. И то, что участником этой игры оказался генерал Бонч-Бруевич.
В бескомпромиссной борьбе с немецким шпионажем, которую отныне ведет он, можно заметить некую побочную цель – бросить тень на окружение императрицы. В шпионаже обвинены (и притом так, чтобы обвинения стали известны обществу) придворные немцы: гофмейстер Экеспарре, член Государственного совета Пилар фон Пильхау, камер-юнкеры свиты ее императорского величества Брюмер и Вульф. И наконец, в контексте шпионских скандалов начинает звучать имя Распутина. Тут до прямых обвинений дело дойти не могло, все же «друг государя», но поиски ведутся. Внедряется в окружение «старца» агент: журналист, авантюрист, секретный сотрудник полиции, связанный с революционной эмиграцией, Манасевич-Мануйлов. В общество забрасываются и фонтанируют слухи о связях Распутина с германской разведкой. Тут же звучат глухие намеки на измену Сухомлинова. Не будем обсуждать, справедливые ли. Обвинение в шпионаже тем и удобно, что его трудно доказать и невозможно опровергнуть. Важно то, что все эти обвинения нацелены на «Царское Село».
Мы склонны думать, что Бонч-Бруевич честно выискивал агентов врага и искренне подозревал в измене многих людей из окружения императрицы. Но интересна в этой истории роль его покровителя Рузского. Она двойственна. С одной стороны – старый знакомый Сухомлинова, добрый ангел его киевского романа. (Екатерина Бутович-Сухомлинова до первого замужества служила машинисткой в конторе брата Рузского, киевского адвоката. Есть основания думать, что через Рузских она вышла в свет, через Рузских же познакомилась с будущим военным министром.) С другой стороны, после начала войны Николай Владимирович все отчетливее перемещается в лагерь Николая Николаевича, не порывая, однако, и с «Царским Селом». Выдающийся стратег, ловкий царедворец и хитрый человек, Рузский стремился быть незаменимым и для тех и для других, то санкционируя аресты, производимые Бонч-Бруевичем среди окружения военного министра и императрицы, то открещиваясь от «шпиономании» своего начштаба, то отправляясь в отпуск под предлогом болезней (действительных и мнимых), то возвращаясь в строй, занимая с каждым возвращением все более высокие и важные посты в военном командовании.
С августа 1915 до середины 1916 года ситуация усложняется до крайности. Группы заговорщиков и контрзаговорщиков, толкаясь, мешают друг другу отодвинуть ненужного императора и захватить власть. Николай Николаевич снят с поста главнокомандующего и направлен наместником и главнокомандующим в Закавказье, подальше от Петрограда; в то же время и «Царское Село» слабеет, окончательно теряя опору в высших военных кругах. Компромиссный Рузский становится действительно незаменим; его назначают командовать прикрывающим столицу и потому особо важным Северным фронтом (образован в августе 1915 года, Ставка – в Пскове, тылы – в Петрограде). Любопытно, что за Рузского ратовал и Распутин. Бонч-Бруевич приводит текст его секретной телеграммы царю: «Народ всеми глазами глядит на генерала Рузского, коли народ глядит, гляди и ты». Откуда такое проявление любви? Распутин – для себя или для «Царского Села»? – ищет примирения с военными из окружения Николая Николаевича. Похоже, он готов идти на переговоры, а может быть, перебежать во вражеский стан.
Но «Царское Село» не хочет сдаваться. Слишком громкий скандал с камер-юнкерами Брюмером и Вульфом переполнил чашу терпения императрицы. В декабре 1915 года Рузский очередной раз «заболевает»; в феврале 1916 года Бонч-Бруевич снят с должности начальника штаба Северного фронта (которую занимал с августа). Временно остается не у дел: «генералом для особых поручений» при новом командующем фронтом Куропаткине. «Особое поручение» ему дается только после возвращения хитреца Рузского осенью 1916 года: инспектировать работу контрразведки фронта и Петербургского военного округа. Не занимая официальной должности, он снова поставлен над контрразведкой, которой теперь руководит его проверенный соратник Батюшин. Плетя сеть вокруг Распутина, Батюшин и Бонч выполняют негласные указания далекого Николая Николаевича и близкого Рузского. По линии контрразведки устанавливается слежка за Распутиным, за Вырубовой. Между тем Рузский негласно вступает в контакт с председателем Думы Родзянко, а через него – с думской оппозицией и с ее вдохновителями Гучковым и Милюковым. Интрига ширится, петля вокруг «Царского» затягивается. Генерал Бонч-Бруевич активно помогает ее затягивать, не зная, чем эта история закончится для династии, для страны, для него самого.
Вернемся, однако, к мемуарам Бонч-Бруевича. Он рассказывает о намерении своими силами осуществить арест и высылку «старца». «Перед тем, как отдать распоряжение об аресте Распутина, я решил с ним встретиться… Организатором моего свидания с Распутиным явился Манасевич. Местом встречи была выбрана помещавшаяся на Мойке в „проходных“ казармах комиссия по расследованию злоупотреблений тыла. Председателем этой комиссии не так давно назначили генерала Батюшина; он был для меня своим человеком, и я без всякой опаски посвятил его в свои далеко идущие намерения»[194].
Этот текст, творение заправского контрразведчика, представляет собой прямо-таки шифровку, в которой рассматривать под лупой приходится чуть ли не каждое слово. Встреча проходила не где-нибудь, а в здании, расположенном стенка в стенку с особняком Юсупова, где вскоре будет убит Распутин. Манасевич – агент батюшинской контрразведки и в то же время личность близкая к Распутину. Распоряжение об аресте Распутина никогда не было, да и не могло быть отдано, по крайней мере при этом царе. Тогда в какие же «далеко идущие планы» посвятил Батюшина Бонч-Бруевич? И какие вообще цели преследовала эта странная встреча в двух шагах от будущего места убийства одного из ее участников? Бонч-Бруевич пытается уверить нас, что, боясь арестовать невинного, он хотел посмотреть противнику в глаза. Игра в наивность! Ясно, что оба – генерал и «старец» – согласились на эту полуконспиративную встречу ради каких-то переговоров. О чем?
Похоже, что это была не единственная встреча, не первый раунд таинственных переговоров. Чуть раньше Бонч-Бруевич пишет, что он побывал в том самом «находившемся в Царском Селе лазарете Вырубовой, о котором контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина». Зачем побывал? Ведь не ради душеспасительных бесед с ранеными! Единственная разумная цель – еще одно тайное свидание со «старцем». Встречи имели успех: спустя несколько дней Бонч-Бруевич «получил от Распутина записочку», из которой узнал, что он теперь «для этого проходимца „милой“ и „дарагой“»[195].
О лазарете Вырубовой «контрразведчики говорили как о конспиративной квартире Распутина». Значит, контрразведке Северного фронта были известны тайные распутинские адреса. За Распутиным следили по распоряжению Батюшина, который лично занимался сбором материала на Григория Ефимовича. И информировал Бонч-Бруевича. Последний утверждает, например, что за назначение Добровольского министром юстиции Распутин получил от банкира Рубинштейна сто тысяч рублей; что премьер Трепов предлагал Распутину двести; что министр внутренних дел целовал «старцу» руку. Ссылка: «от агентов контрразведки я знал». Более того, генерал цитирует конфиденциальную телеграмму, отправленную Распутиным царю и царице в Царское Село, ненавязчиво упоминая, что она была «тайно переписана кем-то из офицеров контрразведки»[196].
Предостаточно фактов для того, чтобы утверждать: Распутин находился под плотным колпаком у контрразведки. И играл некую роль в планах ее руководителей… И вот…
На этом распутиниада обрывается.
В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года Распутин был убит другими заговорщиками. Сеть, сплетенная Батюшиным и Бонч-Бруевичем по указанию сверху (исходившему от Рузского? от кого-то еще?), оказалась пуста. Бонч-Бруевича убрали подальше из Петрограда – инспектировать строительство железных дорог Псков – Двинск и Псков – Рига.
Завершая инспекционную поездку, Бонч-Бруевич на одной из станций получил телеграммы о революционных событиях в Петрограде. Немедленно отправился в штаб фронта, в Псков, куда прибыл рано утром 3 марта. Через несколько часов после отречения императора.
Через восемь месяцев Бонч-Бруевич станет одним из первых генералов, перешедших на службу советской власти. За это его возненавидят многие бывшие сослуживцы, оказавшиеся в стане белых. Эмигранты в своих воспоминаниях будут ругать его на чем свет стоит: он-де грубиян, хам, приспособленец, иуда… Эта брань несправедлива, как всякая брань. Генерал Бонч-Бруевич сделал выбор задолго до октябрьских событий, тогда, когда приход большевиков к власти едва ли мог привидеться во сне кому-либо из серьезных политических деятелей.
Советским генералом он стал не в октябре, а в марте семнадцатого.
В первых числах марта Рузский назначил его начальником гарнизона Пскова. Это произошло после первых вспышек солдатского буйства, после первых убийств офицеров. Через несколько дней Бонч-Бруевич уже участвовал в заседаниях исполкома Псковского солдатского совета и как-то незаметно, явочным порядком был включен в его состав.
Он, как и все генералы, испытывал чувство ужаса при виде развала армии. Он, в отличие от многих других генералов, понимал, что этот обвал неостановим.
Из мемуаров Бонч-Бруевича:
«…Старого не вернуть, колесо истории не станет вертеться в обратную сторону, и потому нечего и думать реставрировать в армии сметенные революцией порядки. Я хорошо знал настроение солдат: никто из них не видел смысла в продолжении войны и не собирался отдавать свою жизнь за Константинополь и проливы, столь любезные сердцу нового министра иностранных дел Милюкова. <…>
Все больше и больше солдат уходило с фронта. По засекреченным данным Ставки, количество дезертиров, несмотря на принимаемые против них драконовские меры, составило к Февральской революции сотни тысяч человек. Такой „молодой“ фронт, как Северный, насчитывал перед февральским переворотом пятьдесят тысяч дезертиров»[197].
(Добавим, что дезертирство тщательно скрывалось не только властями – из политических соображений, – но также командирами и начальниками тылов многих соединений – ради получения довольствия и иных материальных средств, которые потом обращались в деньги и клались в свой карман.)
Бонч-Бруевич, полтора года руководивший столичной контрразведкой, как никто другой, знал также и потаенную жизнь имперской государственной элиты. Клубок интриг, в котором не найти истины; круговерть ненавидящих друг друга людей, где правого не отличишь от виноватого. Кругом – измена, трусость и обман. И миллионы людей, которые должны идти на смерть, повинуясь этой лживой системе человеческих отношений.
Власть начала рушиться, и падения ее не остановить. Невозможно, встав на пути камнепада, расставив ноги и раскинув руки, удержать его движение. А что же делать?
«Поняв, что вкусившие свободы солдаты считаются только с Советами, а не с оставшимися на своих постах „старорежимными“ офицерами, я постарался наладить отношения с только что организовавшимся Псковским Советом и возникшими в частях комитетами.
Такое поведение представлялось мне единственно разумным»[198].
Прав был Михаил Дмитриевич или нет – судить не нам. Но, во всяком случае, его позиция уже тогда вызвала резкое неприятие тех генералов и офицеров, которые не мыслили себя вне традиционного армейского порядка. В разрастающейся постепенно смуте, в будущей Гражданской войне Бонч-Бруевичу не было пути к белым; был только выбор: или к красным, или в небытие.
Его участие в корниловском выступлении исключалось; именно поэтому 29 августа, в решающий момент противостояния Временного правительства и Ставки, Керенский назначил его исполняющим обязанности главнокомандующего Северным фронтом. В этой должности Бонч-Бруевич пробыл всего несколько дней. Затем приоткрылась дверь в небытие: более месяца для него не находилось служебного места. Сорокасемилетний генерал готовился к отставке. В октябре последовало назначение – начальником гарнизона в Могилев, где располагалась Ставка главковерха.
Начальником штаба Ставки после ареста корниловца Лукомского и дипломатичного ухода Алексеева был генерал-майор Николай Николаевич Духонин, старый приятель Бонч-Бруевича, даже, пожалуй, друг. Кругом все свирепее клокотало солдатское море. В глазах сорокалетнего красавца Духонина уже горели отблески его скорой и злой погибели…
Как-то раз в присутствии Бонч-Бруевича он выдохнул:
– Если бы вы знали, как мучительно все время жить в ожидании чего-то страшного.
В начале ноября с генералом Бонч-Бруевичем связался по телеграфу его брат Владимир (после октябрьских событий – управделами Совета народных комиссаров). От имени советского правительства он предложил брату принять на себя обязанности Верховного главнокомандующего. Генерал отказался.
20 ноября 1917 года Духонин был убит солдатами.
В этот же день Бонч-Бруевич по решению Совнаркома и нового главковерха прапорщика Крыленко был назначен начальником штаба Ставки.
Сведения о дальнейшей военной службе Михаила Дмитриевича Бонч-Бруевича, комментируемые им самим.
С 20 ноября 1917 по 19 февраля 1918 года – начальник штаба Ставки. Деятельность его вначале сводилась к сохранению хотя бы частичной управляемости и боеспособности войск. Безрезультатно. В последние два месяца речь могла идти только о том, чтобы похоронить разлагающийся труп старой армии с наименьшим вредом для окружающего мира и спасти (тоже хотя бы фрагментарно) его материальную часть.
Комментарий: «Огромная власть, которую якобы давало мне мое высокое назначение, таяла в моих руках. Я все острей чувствовал свое бессилие…»; «Мне было ясно, что наступил полный развал армии»[199].
Последняя задача, поставленная перед начальником штаба Ставки, – ликвидация Ставки. Но в осуществление этой ликвидаторской миссии духи войны внесли свои коррективы. 11 февраля (29 января по старому стилю) главковерх Крыленко распространил приказ об общей демобилизации. Старая армия престала существовать. 18 февраля Германия и Австро-Венгрия объявили о прекращении перемирия, и германские войска перешли в наступление на некоторых участках фронта. 19 февраля Бонч-Бруевич получил телеграмму следующего содержания: «Предлагаю вам немедленно с наличным составом Ставки прибыть в Петроград». Подпись: «Ульянов (Ленин)».
Комментарий: «До сих пор для меня остается загадкой, как мы, несколько генералов и офицеров, оставшихся от ликвидированной Ставки, проскочили в столицу! Из Могилева в Петроград наш поезд шел через Оршу, Витебск, Новосокольники, пересекая с юга на север весь тыл действующей армии, по которому лавиной катились бросившие фронт и пробиравшиеся домой солдаты. Сметая на своем пути все, что могло ей мешать, лавина эта, наперерез нам, двигалась по путям, ведущим с фронта во внутренние губернии России»[200].
С 22 февраля Бонч-Бруевич вместе с группой бывших генералов (Лукирский, Гришинский, Раттэль, Сулейман, Парский), теперь именуемых военспецами, работал над созданием той самой завесы против немцев, о которой мы говорили в главе о Каменеве. Привлек к участию в завесе, а затем и в создаваемую Красную армию многих бывших офицеров и генералов.
Комментарий: «Россия как никогда нуждается теперь в мощной армии»[201].
Маленькая документальная иллюстрация к этим словам. Об обстановке, сложившейся на Петроградском направлении в конце февраля – начале марта 1918 года. Из донесений начальника Нарвского оборонительного района Парского Бонч-Бруевичу:
«3 марта 1918 г. 23 час. 50 мин. <…> Сведения из Нарвы крайне противоречивые, в общем составляется приблизительная картина, что около 16 часов в нескольких верстах впереди Нарвы шел бой, в котором почти исключительно принимали участие красногвардейцы и матросы, теперь город, по-видимому, очищен. Наши войсковые эшелоны преимущественно 49 корпуса беспорядочно идут один за другим к Гатчине. Артиллерия нескольких корпусов 12 армии отходит по шоссе. Попытки задержать не удаются. Никакой вооруженной силы при себе не имею.
4 марта 1918 г. 22 час. Неприятель своими передовыми частями, по-видимому, не продвигался дальше дер. Комаровки, между Нарвой и Ямбургом. Нарва занята крайне слабыми силами. Железнодорожный мост у Ямбурга взорван. Все матросские эшелоны отправились с комиссаром Дыбенко [к] Гатчине. Оборонять позицию у Ямбурга были несклонны. Красногвардейские части отправляю из Ямбурга вслед за матросами. По примеру последних и красногвардейцы стали колебаться; больше никаких вооруженных сил под рукой у меня нет…»[202]
Стоит обратить внимание на слова: «оборонять позицию… были несклонны» и «больше никаких вооруженных сил под рукой у меня нет». В условиях полного развала и анархии несколько военспецов мыслят о мощной армии, в которой нуждается Россия.
Возвращаемся к послужному списку Бонч-Бруевича.
С 4 марта по 27 августа – военный руководитель Высшего военного совета. С этого же времени числится в составе Рабоче-крестьянской Красной армии. Видел свою задачу главным образом в организации обороны против внешних врагов – Германии и Польши, но по мере разрастания Гражданской войны оказался вынужден руководить военными действиями против различных антибольшевистских сил. Это, видимо, стало одной из причин его ухода с должности военрука Высшего военного совета.
Комментарий: «Перейдя на службу к большевикам, я рано или поздно должен был от борьбы с немцами и австрийцами перейти к борьбе с белыми, то есть с теми же русскими людьми, руководимыми вдобавок старыми моими сослуживцами и товарищами»[203].
Высший военный совет был через несколько дней ликвидирован; вместо него образован Революционный военный совет республики.
С 27 августа 1918 по 16 июня 1919 года Бонч-Бруевич не у дел. По собственной инициативе участвовал в создании Высшего геодезического управления.
16 июня 1919 года назначен начальником полевого штаба Реввоенсовета республики. Гражданская война достигла наивысшей точки напряжения. В эти самые дни Май-Маевский уже перебрасывал добровольческие дивизии к Харькову. Впереди был поход на Москву.
Бонч-Бруевич не попал в ногу с большевистским руководством. В то время, когда партия выдвинула лозунг: «Все на борьбу с Деникиным!», он продолжал утверждать, что главный враг, с которым должна бороться Красная армия, – это враг внешний.
Комментарий: «…Основные наши военные усилия должны быть направлены не против обреченных на самоуничтожение Колчака и Деникина, а против Польши Пилсудского…»[204]
Пытался ли бывший генерал-майор таким образом отклонить удар от своих прежних сослуживцев или в самом деле предвидел коллизии Советско-польской войны 1920 года, сказать трудно. Но в Реввоенсовете слушать его не стали. В конце июля, совершив с новым главкомом Каменевым поездку по фронтам, он сдал дела и выехал из Петрограда, из штаба Северного фронта, в Москву.
До октября 1923 года Бонч-Бруевич, числясь на службе в РККА, занимал должность начальника Высшего геодезического управления. В 1923 году был обвинен во вредительстве, арестован, но затем освобожден; обвинения с него сняты. Несколько лет возглавлял основанное им бюро «Аэрофотосъемка». 21 февраля 1931 года вновь арестован по делу о контрреволюционном заговоре бывших офицеров и генералов (дело «Весна»). Через три месяца освобожден, дело в отношении его прекращено. После этого – в основном на преподавательской работе.
Имел воинские звания комбрига, комдива. С 1944 года генерал-лейтенант в отставке.
На допросе в 1931 году дал следующие показания: «Я с малых лет исповедую христианскую религию, которая, по моим представлениям, является предметом моего нравственного склада»[205].
Ни в какой партии никогда не состоял. Умер 3 августа 1956 года в Москве.
Врангель – самый внушительный персонаж Белого движения. В эмиграции белогвардейцы из него сделали памятник, отлили в бронзе. Советская пропаганда создала образ сказочного чудовища, черного барона из семейства врановых. Сам он в своих мемуарах постарался представить себя рыцарем без страха и упрека, непримиримым борцом с революционной анархией и большевистской тиранией. За этой завесой нелегко различить истинные черты этого человека, неординарного и непростого, умевшего скрывать свои истинные мысли и побуждения. Его жизненный путь совсем не такой прямой, каким подобает идти бронзовой статуе; его награды бывали выше заслуг, а честолюбие выше наград. Он совершал подвиги, но не забывал и себя. Таким был и в Великой войне, и в смуте.
Петр Николаевич Врангель – один из немногих героев Первой мировой войны и русской смуты, кого без колебаний можно назвать аристократом. Его родословие прослеживается на протяжении семи столетий, вплоть до эпохи Крестовых походов. Родоначальник Врангелей – знатный человек (доминус) Туки Вранг – числится среди «мужей королевских», вассалов короля Вальдемара II Датского, оставленных им в 1219 году в новопостроенной крепости Ревеле, что в земле эстов. После жестокой битвы на крутом холме близ балтийского берега, на месте захваченного эстонского города-святилища Линданисе, завоеватели поставили каменный донжон и стены. Может быть, поэтому главной частью герба Врангелей стало изображение крепостной стены. Имя основателя рода, по одной версии, происходит от кельтского корня, означающего «твердость», «оружие», «железо», по другой – имеет значение «варяг, бродячий воин» (в раннесредневековых источниках – «варанг»). Потомки Туки Вранга по мужской линии были воинами светскими или духовными, служителями меча или креста. Так продолжалось не менее шести столетий.
К XVI веку род Врангелей умножился настолько, что в нем насчитывали около двадцати ветвей. После Ливонской войны Эстляндия отошла к шведской короне. У новых сюзеренов Врангели завоевали благорасположение, добились высоких постов: были из их рода и губернаторы, и фельдмаршалы. Наиболее знатные ветви Врангелей издавна именовались баронами. Официально баронский титул был закреплен в 1653 году грамотой шведской королевы Христины за ветвью рода, именуемой по своим владениям аф Луденхоф или Тольсбург-Элистфер. В результате Северной войны Эстляндия вошла в состав Российской империи. С середины XVIII века Врангели выдвигаются в первые ряды остзейской знати на службе у российских императоров. Список Врангелей, достигших на русской службе генеральских чинов, насчитывает более двух десятков имен.
Но времена меняются. Во второй половине XIX века бароны от рыцарской службы переходят к буржуазным занятиям. Барон Николай Егорович (Георгиевич) Врангель, родившийся в 1847 году, окончил университет в Берлине, недолго прослужил, как тогда говорили, «по статской» и «по военной» (в лейб-гвардии Конном полку) и, выйдя в отставку, занялся коммерцией. Нелишне добавить, что предки Николая Егоровича еще во времена Елизаветы Петровны перешли в православие, а вскоре породнились с Ганнибалами. Таким образом, сам он был потомком арапа Петра Великого и дальним родственником Пушкина. Возможно, отсюда происходит артистизм натуры, присущий Николаю Егоровичу и его сыновьям.
В середине 1870-х годов Николай Егорович был избран мировым судьей в городке Новоалександровске (ныне Зарасай) Виленской губернии. Туда в 1877 году привез свою молодую жену Марию Дмитриевну, урожденную Дементьеву-Майкову. Там же, в Новоалександровске, 15 августа 1878 года у четы Врангелей родился первенец, которого назвали Петром. Вскоре после этого семейство переехало в Ростов-на-Дону, где Николай Егорович получил место представителя Русского общества пароходства и торговли.
При рождении никто не пророчил младенцу Петру военной судьбы. Семья, в которой он рос вместе с двумя младшими братьями, Николаем и Всеволодом, была не гвардейской, не чиновной, не монархической, а вполне интеллигентной, «передовой», в либеральном духе с демократическим оттенком. Родители были, как видно, хорошими воспитателями. Во всяком случае, отец Николай Егорович в своих сочинениях формулировал педагогические принципы, от которых не отказался бы Макаренко: «Детей нельзя тренировать как тренируют собак… Действовать на них можно примером, и только примером. Сказать ребенку „не лги“, „работай“, „не оскорбляй других людей“ и в то же время лгать самому, ничего не делать и быть грубым с окружающими – ни к чему хорошему не приведет»[206].
По воспоминаниям отца, характеры и природные наклонности у сыновей были разные:
«У моего старшего сына была одна бросающаяся в глаза способность – быть верховодом над маленькими мальчиками и девочками и подчинять их своей воле. Другой сын любил дрессировать котов, получалось у него замечательно, и он мог бы, наверно, стать соперником известного Дурова. Маленький Вова хотел стать драматургом. Не уставая, он придумывал бесконечные и очень смешные сценки для своего театра»[207].
В Ростове Врангели жили в благополучии и достатке, коммерческие дела отца процветали, старшие сыновья учились в реальном училище. Но случилась беда: младший, любимый сын в девять лет заболел дифтеритом и умер. После этой трагедии семья переехала в Петербург. Это было в 1895 году. Здесь Петр поступил в Горный институт. Его жизненный путь, казалось, определился: быть ему горным инженером, отслужить лет с десяток на инженерном поприще, потом сделаться коммерсантом-предпринимателем, как отец… В 1901 году институт был окончен. По закону надобно отбыть воинскую повинность – три месяца вольноопределяющимся. Старые отцовские, родовые, баронские связи привели двадцатитрехлетнего дворянина в лейб-гвардии Конный полк. По отбытии положенного срока строевой службы он благополучно сдал офицерский экзамен и мог быть зачислен корнетом в гвардию. А там чины, возможность придворной карьеры…
Военная служба, однако, молодого Врангеля нисколько не прельстила.
Летом 1902 года в канцелярию Иркутского генерал-губернатора генерал-лейтенанта Александра Ильича Пантелеева поступило следующее прошение[208]:
«Его Высокопревосходительству Господину Иркутскому Генерал-Губернатору.
Горного инженера барона Петра Николаевича Врангеля.
Прошение.
Желая служить под начальством Вашего Высокопревосходительства, имею честь всепокорнейше ходатайствовать о зачислении меня на службу чиновником для особых поручений. <…>
Барон Петр Николаевич Врангель
30 июля 1902 г.
Жительство имею: Петербург, Сергиевская, № 65, кв. № 2».
К прошению прилагаются два документа об образовании.
Свидетельство от 22 июня 1901 года за № 1767:
«Дано сие от Горного Института Императрицы Екатерины II барону Петру Николаевичу Врангелю в том, что он, Врангель, ныне окончил курс означенного Института с правом на звание горного инженера и на чин Коллежского Секретаря при поступлении на государственную службу».
Копия свидетельства от 21 июня 1902 года за № 11975:
«Дано сие свидетельство от Главного Управления Военно-Учебных Заведений в том, что унтер-офицер из вольноопределяющихся Л. Г. Конного полка Барон Петр Врангель подвергался в апреле и в мае месяцах сего 1902 г. установленному законом экзамену из военных предметов учебного курса Военных Училищ и практических по ним занятий на право производства в офицеры и получил оценку познаний нижеследующую:
По тактике: ответ – 9 баллов, задача – 9, практические занятия – 9
Военной истории – 11
Артиллерии – 8
Фортификации – 10
Военной администрации – 7
Военному законоведению – 10
Военной топографии и ситуации – 12
Военно-глазомерной съемке – 11
Иппологии – 12 <…>
Сумма баллов – 108…
Средний балл по военным предметам – 9,82.
На основании такового результата испытаний означенный вольноопределяющийся Барон Петр Врангель, как окончивший курс высшего учебного заведения и выполнивший экзаменные требования, установленные для выпуска из военных училищ по первому разряду, по научным познаниям, может быть признан удовлетворяющим условиям на производство в офицеры…»
Из этих бумаг, сохранившихся в архивном деле чиновника Врангеля в Иркутске, мы узнаем, что военные науки Петр Врангель сдал, по нашим нынешним понятиям, на твердую четверку. Любопытно, что самая низкая оценка, соответствующая нашей тройке, – по предмету «военная администрация». Через восемнадцать лет именно административные дарования главнокомандующего Врангеля будут восхищать его соратников по Белому движению.
Засим в деле следуют служебные телеграммы:
«28 сентября 1902 г. Петербург, Сергиевская, д. 65, кв. 2, Барону Врангелю.
Приказ о Вашем назначении задерживается отсутствием сведений о выходе в запас. Когда выйдете телеграфируйте».
Телеграмма от 6 октября 1902 года:
«Справка штабе сегодня бумаги отправлены Ливадию приказ около четырнадцатого немедленно уведомляю. Врангель».
В Ливадию – то есть на высочайшее рассмотрение. Государь лично решает, можно ли уволиться в запас молодому титулованному дворянину, сдавшему экзамен на офицерский чин и достойному быть зачисленным в блистательный Конный полк. Как видим, не так-то просто было Врангелю устроиться на статскую службу в Сибирь. Но он не колеблясь выбирает путь чиновника.
Телеграфическая депеша Иркутского военного генерал-губернатора:
«Первого ноября будет отдан приказ о Вашем назначении; тот же день будет телеграфирован Департамент Общих Дел, где получите подъемные, прогонные деньги; желателен скорый приезд».
31 октября 1902 года:
«Высочайшим приказом от 18 произведен корнеты зачислением запас гвардейской кавалерии жду ваших распоряжений. Врангель».
Наконец 1 ноября 1902 года генерал-лейтенант Пантелеев подписывает приказ:
«Определяется на службу окончивший курс Горного Института Императрицы Екатерины II с званием горного инженера Барон Петр Врангель – Чиновником особых при мне поручений VII класса»[209].
Итак, вместо столичной службы в гвардейском полку Врангель по собственной воле отправляется в далекий Иркутск на невнятную должность чиновника для особых поручений. Правда, при этом делает скачок через несколько ступеней Табели о рангах. Присвоенный ему чин VII класса – надворный советник – соответствует чину ротмистра гвардейской кавалерии, тогда как до этого высочайшим приказом Врангель был произведен в гвардии корнеты, чин XI класса. Свидетельство об окончании Горного института давало право на чин X класса. Но чтобы сразу седьмой! Тут, конечно, не обошлось без благодетельных связей, без протекции. А связи у семейства Врангелей имелись, и нешуточные. С кем только не был знаком барон Николай Егорович, кто только не появлялся в числе его деловых партнеров и собеседников! Министры и лейб-медики, банкиры и губернаторы… Не исключено, что несколько необычный для столичного аристократа выбор места службы Петра Николаевича был связан с делами отца. Помимо прочего, Николай Егорович возглавлял Русское золотопромышленное общество, и на золотых приисках Забайкалья у него имелись свои интересы.
До сих пор не удалось найти никаких сведений о службе Врангеля в Иркутске в течение полутора лет. Известно, что в Иркутск он прибыл 28 ноября 1902 года, а в мае 1903 года его покровитель Пантелеев был заменен в должности иркутского генерал-губернатора графом Павлом Ипполитовичем Кутайсовым.
Двадцать пятым октября того же года датировано:
«Удостоверение.
Дано от Канц. Чиновнику Особых Поручений VII класса при Иркутском Военном Губернаторе Барону Врангель в том, что он Г[осподином] Главным Нач[альник]ом Края командирован по делам службы в СПБург, сроком по 15 февраля будущего года»[210].
Был ли Петр Николаевич отправлен в Петербург действительно по делу, или это лишь благовидный повод для его возвращения в столицу – мы не знаем. Так же как неведомы нам дальнейшие жизненные планы «Чиновника Особых Поручений при Иркутском Губернаторе». Во всяком случае, этим планам не дано было осуществиться. Срок его официальной командировки не успел истечь, когда началась война с Японией. Она круто и навсегда изменила жизнь двадцатипятилетнего барона Врангеля.
Из хорунжих в гвардии ротмистры
До сих пор мы видели Врангеля – мальчика из хорошей семьи, который ничего особенного миру не обещает. Не отличника, а хорошиста. Человека без ярко выраженных талантов и амбиций.
Война с Японией пробудила в нем совершенно иные черты, дремлющие страсти, унаследованные, наверно, от предков-воинов, от далекого прапращура-варяга. С первых дней войны он принялся добиваться перевода в армию с той же настойчивостью, с которой два года назад искал чиновничьего места. И получил желаемое, невзирая на трудности: гвардейских офицеров, в том числе запасных, неохотно отпускали на театр военных действий. Пришлось претерпеть сильную потерю в чине: зачислен он был во 2-й Верхнеудинский казачий полк хорунжим, а это на ступень ниже, чем гвардии корнет. Получали этот чин выпускники военных училищ, которые были моложе Врангеля лет на пять-шесть. Но делать нечего. И Врангель принялся добывать себе положение боевой доблестью (хотя и не без помощи аристократического происхождения и родительских связей).
Сразу же по прибытии на театр военных действий он добился перевода во 2-й Аргунский казачий полк, входивший в состав кавалерийского отряда генерала Ренненкампфа. В 1900 году, при подавлении восстания ихэтуаней в Китае, Ренненкампф прославился своим отчаянно смелым рейдом на Мукден и Гирин[211]. И теперь служба под его началом сулила смелые походы, бои, победы, почести и награды. Действительно, с мая по август 1904 года сотни 2-го Аргунского полка приняли участие в более десяти боевых столкновений. Подробности об участии в этих боях хорунжего Врангеля нам неизвестны. Участвовал он в рейдах по тылам противника, в борьбе с партизанско-разбойничьими отрядами хунхузов. Действовал, по всему судя, удачно, храбро. За это получил первую награду – Анну четвертой степени; на военном жаргоне – «клюкву» (знак этого ордена – крест в круге красного цвета – носили на эфесе, или рукояти, холодного оружия). Затем последовало награждение более значимое – производство в сотники (чин, соответствующий армейскому поручику).
Война принесла России неудачи и жертвы, а Врангелю ранение и… успех. Он нашел себя. Здесь, в Маньчжурии, впервые проявилась его бесспорная храбрость; гром пушек пробудил в нем честолюбие. И он, что называется, был замечен. Да и трудно было не заметить высокого, прямого как палка кавалериста, с удлиненным, лошадиным лицом и темными навыкате креольскими глазами.
Войну он закончил в чине подъесаула, имея уже и Станислава с мечами. Вскоре был переведен в драгунский Финляндский полк штаб-ротмистром и прикомандирован к свите его императорского величества. Сам государь обратил милостивое внимание на офицера-аристократа. Во исполнение монаршей воли летом 1906 года барон Врангель был прикомандирован, а через полгода причислен к лейб-гвардии Конному полку в чине гвардии поручика.
И снова – Петербург.
Конный полк – инкубатор остзейских дворян. Многие сородичи Петра Николаевича служили в этом великосветском войске. Все солдаты и офицеры полка должны были быть рослыми брюнетами; обязательно полагались усы. Восседали воины на крупных лошадях вороной масти. Словом, рыцари. Вернулся барон Врангель на стезю своих предков.
И далее служба его шла как по маслу.
В 1906 году стал кавалером ордена Святой Анны третьей степени.
В 1907 году поступил в Академию Генштаба. В том же году женился на фрейлине ее императорского величества, дочери камергера Ольге Михайловне Иваненко.
В 1909 году произведен в гвардии штаб-ротмистры.
В 1910 году окончил Академию; остался служить в Конном полку.
В 1912 году назначен командиром эскадрона его величества, самого привилегированного в полку. Шеф эскадрона – государь император.
В 1913 году произведен в гвардии ротмистры. Этот чин соответствует чину подполковника армии.
Служба его – более чем успешная – проходила на глазах у государя.
Среди главных действующих лиц будущей русской смуты Врангель – единственный, кто мог написать: «Мне много раз доводилось близко видеть государя и говорить с ним».
Из воспоминаний Врангеля о Николае II:
«На всех видевших Его вблизи Государь производил впечатление чрезвычайной простоты и неизменного доброжелательства. Это впечатление являлось следствием отличительных черт характера Государя – прекрасного воспитания и чрезвычайного умения владеть собой.
Ум Государя был быстрый, Он схватывал мысль собеседника с полуслова, а память его была совершенно исключительная. Он не только отлично запоминал события, но и лица, и карту; как-то, говоря о Карпатских боях, где я участвовал со своим полком, Государь вспомнил совершенно точно, в каких пунктах находилась моя дивизия в тот или иной день. При этом бои эти происходили месяца за полтора до разговора моего с Государем, и участок, занятый дивизией, на общем фронте армии имел совершенно второстепенное значение»[212].
Этот сдержанно-положительный отзыв о царе содержится в окончательной редакции «Записок», выглаженной ради ублажения ностальгических чувств верхушки русской эмиграции. В черновых редакциях имели место куда менее лояльные характеристики. Еще более неприязненные оценки Николая II содержатся в воспоминаниях Николая Егоровича. Врангели – отец и сын – изрядно недолюбливали государя императора.
Началась война, которую в первые же дни окрестили Второй Отечественной.
Гвардия должна воевать. И конечно же, против главного врага, Германии, на главном направлении – Восточно-Прусском. Разорить гнездо тевтонских рыцарей.
Конный полк в составе 1-й гвардейской кавалерийской дивизии отправился на фронт. Гвардия была включена в 1-ю армию Ренненкампфа, которая должна была наступать в общем направлении на Гумбиннен, Инстербург и Кёнигсберг из района Ковно – Вильковишки[213]—Сувалки. В успехе наступления старались не сомневаться.
К 25 июля закончилось сосредоточение 1-й кавалерийской дивизии в районе города Сувалки. На следующий день гвардейская кавалерия выступила в поход. 30 июля эскадроны Конного полка имели первое боевое столкновение с германской пехотой на левом берегу реки Липоны неподалеку от пограничной станции Вержболово[214]. 2 августа Конный полк вел бой у селения Кибарты. Преодолев к 3 августа сопротивление германских заслонов, части 1-й армии перешли границу и начали движение вглубь территории противника.
6 августа утром у деревни Каушен[215] гвардейская кавалерия столкнулась с крупными силами немцев, наступающих с севера во фланг 1-й армии. Бой принимал кровопролитный и затяжной характер, а его неудачный исход грозил остановить наступление главных сил армии на направлении Сталлупенен[216]—Гумбиннен.
Дело шло к вечеру. Парило. 3-й эскадрон Конного полка, которым командовал ротмистр Врангель, стоял с утра в тыловом прикрытии возле небольшой рощицы при дороге на Каушен. Офицеры маялись. Скучно и неспокойно торчать тут, под шрапнельными разрывами, не ведая толком, что происходит на поле боя. Из-за пригорков, где грохотало, все чаще и чаще приходили легкораненые; санитары бегали с носилками. Нарастающее напряжение ощущалось во всем, даже в долговязой фигуре командира эскадрона.
Штаб 1-й гвардейской кавалерийской дивизии расположился на хуторе в нескольких верстах от Каушена и совсем близко от конногвардейских коноводов и прикрытия. Командующий конной группой генерал-лейтенант Гуссейн Хан Нахичеванский, нервничая, разъезжал между штабом и конногвардейцами, время от времени принимая донесения и отдавая приказы вестовым и адъютантам.
Со стороны деревни трещали частые выстрелы и время от времени ахала артиллерия. Оттуда спешил вестовой, спотыкаясь и обгоняя раненых. Свернул с дороги и, утирая лицо, направил свой полубег к конногвардейцам. Подбежал к Врангелю, отрапортовал задыхаясь. Гимнастерка его была мокра, по лицу тек пот. Перебросились несколькими фразами. Командир эскадрона вскочил в седло и тревожным аллюром поскакал к дороге, где виднелась группа всадников.
Хан Нахичеванский уже собирался отдать гвардейской коннице приказ отступить от Каушена. Сие было неприятно, но донесения о потерях и об угрозе обхода слева все больше беспокоили командующего. Хуже всего было то, что он не имел точного представления о ходе боя: сведения поступали противоречивые.
Краем глаза он увидел кавалериста, скачущего от конногвардейского резерва.
– Ваше превосходительство, разрешите доложить!
Треск разрывающейся в воздухе шрапнели. Слова глохнут. Кавалерист прокричал что-то. Хан приложил ладонь к уху, наклонился:
– Что? Какую атаку? Какой ротмистр? Барон Врангель?
Хан задумался. Усмехнулся. Несколько часов назад он получил от командующего армией нагоняй за недостаточно энергичные действия. Можно попытаться исправить дело.
– Хорошо. Атакуйте.
Ротмистр стремительно поскакал к своим. Генерал снова усмехнулся и, ни на кого не глядя, проговорил:
– Конногвардеец. Полковником хочет.
Тот вестовой, что прибежал к Врангелю, был послан от 2-го эскадрона. Принес известия беспокойные: о больших потерях, о расходе боеприпасов; вместе с тем и просьбу поддержать эскадрон резервами. Это был тот миг, которого ждал Врангель. В том, что согласие на атаку будет дано, он мало сомневался: кто же может помешать лейб-гвардейцам отличиться!
И вот он, высокий, прямой, вылетает на вороном своем коне перед строем. Громкий басовитый голос разносится:
– Эскадро-он! Равнение на середину! Направление – за мной! Рысью – марш!
Приближаясь к деревне, Врангель увидел орудия батареи конной артиллерии, быстро поскакал к ней. Командир батареи князь Эристов вел наблюдение с чердака какого-то сарая, обитого шрапнелью и пулями. Отсюда хорошо видно было: несколько эскадронов лейб-улан, конногренадер и конногвардейцев уже залегли, обессиленные и обескровленные, прижатые к земле огнем противника. Видны были и дымки выстрелов немецкой артиллерии чуть в стороне от деревни, возле мельницы. Что там за движение? Подкатывают передки? Кажется, собираются увозить пушки. Ротмистр Врангель полетел к эскадрону:
– Поручик Беннигсен, ко мне!
Под команду Беннигсена он отделил полуэскадрон и бросил его на деревню. Сам во главе второго полуэскадрона, ускоряясь, помчался вверх по косогору на артиллерийскую позицию у мельницы.
Что это была за атака! Смертельная. Кавалерия – в лоб на пехоту, укрывшуюся за каменными стенами деревенских строений.
Первый полуэскадрон на подступах к деревне попал под частый и прицельный огонь немецких стрелков; все офицеры были выбиты, но уцелевшие конногвардейцы с унтерами во главе ворвались на позиции противника. За ними уже поспешали другие поднявшиеся в атаку эскадроны.
Впереди своего полуэскадрона Врангель стремительно несся к батарее. Два орудия еще торчали на позиции, невывезенные. Жизнь и смерть зависела от скорости. Грянула картечь; треть скакавших за ним конногвардейцев на всем скаку попадали на землю; под ним самим упала израненная лошадь. Но позиция была уже рядом, в двух десятках шагов. Вскочив на ноги, ротмистр бросился вперед. Через несколько секунд он и дюжина пеших конногвардейцев были на батарее. Там – убитые и несколько раненых немцев, остальные бежали. Два орудия стояли еще горячие. Трофеи.
Шум боя отодвинулся в сторону. В направлении Каушена шли цепи спешившихся кавалеристов. Немцы, отстреливаясь, отходили за поле, за пригорки.
Бой за Каушен закончился победой.
В этом бою около 100 гвардейцев были убиты, почти 300 ранено. Среди убитых и тяжелораненых – полковник князь Кантакузин, штаб-ротмистр князь Трубецкой, поручик князь Кильдишев, корнет барон Пиллар, вольноопределяющийся граф Шувалов, ротмистр Бибиков, поручик Кауфман, поручик Зиновьев, корнет Лопухин… Какие имена! Поистине цвет гвардейской аристократии! В Конном полку убыль офицеров за один этот день превысила половину состава.
Стоила ли деревня и две неприятельские пушки таких потерь? Вопрос, на который нет ответа.
Но Врангелю каушенский бой принес настоящую славу. Еще бы, первый в этой войне успех гвардейской кавалерии, первый подвиг гвардейского офицера. Да не просто офицера – барона, потомка рыцарей, командира эскадрона его величества! Об этом зашелестит пресса, об этом с завистью будут рассказывать друг другу молодые гвардейцы. Портрет героя опубликуют в популярном журнале «Летопись войны». Николай Егорович Врангель о подвиге своего сына узнает в Париже, из французских газет. Ротмистр Врангель и полковник князь Эристов вскоре получат Георгия четвертой степени; оба они станут первыми офицерами, заслужившими орден Святого Георгия в этой войне. Врангель удостоится высочайшей аудиенции. После нее вскоре последует еще одно награждение – орден Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом. В декабре он будет произведен в полковники и пожалован во флигель-адъютанты.
А война пойдет своим ходом. Через две недели русские армии в Восточной Пруссии потерпят сокрушительное поражение.
Во Врангеле было что-то от памятника. Это заметно на фотографиях. Высоченный (рост – два аршина одиннадцать с половиной вершков, 193 сантиметра; в Академии его прозвали Циркуль), неестественно стройный, надменный, он высится над другими людьми, над окружающим миром как бронзовый истукан. Его мемуары так же прямы и против воли надменны. Из них убрано все двусмысленное, все спорное, все, что может поставить под вопрос жизненную правоту автора.
И в воспоминаниях современников о Врангеле заметна эта особенность – отсутствие живых, теплых красок. Набор его достоинств и недостатков несет на себе печать условности: храбр, решителен, умен, бескорыстен, расчетлив, честолюбив, властолюбив, жёсток – жестук. Даже светские добавки к этой духовно-рыцарской смеси (элегантен, танцор, воспитан) не отменяют монументальности образа. Хотя по всему видно: барону не чужды были соблазны бонвиванства; но и на светских балах и дружеских пирушках он оставался все тем же: безукоризненным, прямым, устремленным вверх. Отметим также отсутствие романтических историй в его жизни: женился, что называется, раз и навсегда.
Генерал Павел Николаевич Шатилов, начальник штаба Русской армии при Врангеле:
«Хорошо я помню его молодым офицером. Это был любивший общество светский человек, прекраснейший танцор и дирижер на балах и непременный участник офицерских товарищеских собраний. Уже в молодых годах он имел удивительную способность необычайно ярко, образно и кратко высказывать свое суждение по всевозможным вопросам. Это делало его чрезвычайно интересным собеседником. С другой стороны, он обыкновенно не воздерживался высказывать откровенно свои мнения, почему уже тогда имел недоброжелателей, число которых увеличивалось завистниками его яркой натуры»[217].
Генерал-лейтенант Михаил Андреевич Свечин в мае 1918 года был направлен донским атаманом Красновым к гетману Скоропадскому в Киев, где встретил Врангеля:
«Собралось до 40 человек, и среди них я увидел быв[шего] конногвардейца барона П. Н. Врангеля, способного и храброго офицера, с которым не раз встречались в его полку, где он носил название „Пипер“, и в застольных красноречивых тостах он соревновался со своим однополчанином Бискупским»[218].
Пояснение. «Пипер» по-латыни «перец». Есть знаменитая марка шампанского – «Пипер-Хайдшик». Гвардейское прозвище Врангеля указывает на пристрастие к дорогим игристым винам, а также намекает на взрывную остроту его характера. Он – как шампанское: кипуч и холоден; искры во льду.
Макаров, адъютант Май-Маевского в 1919 году:
«Высокого роста, худощавый, он неизменно сохранял суровый вид. Академию Генерального штаба не окончил, в империалистическую войну находился в гвардейских частях, расположенных ближе к ставке, и мало участвовал в боях. Но Врангель был храбр, тверд и весьма тщеславен. В погоне за местом Деникина он не брезговал интригами»[219].
Пояснение. Насчет Академии Макаров ошибается: Врангель окончил все три курса полного обучения. От причисления к Генеральному штабу отказался ради продолжения службы в гвардии.
Димитрий Лехович, участник Белого движения, в семнадцать лет вступил в Добровольческую армию, впоследствии эмигрант:
«Врангель импонировал наружностью, гигантским ростом, властной манерой в обращении с окружающими. Его решительность, неприятие беспорядков в армии, умение подчинить себе строптивых начальников, честолюбие и несомненная жажда власти – все это в глазах его сторонников гарантировало перемены в верхах Белого движения. <…>
Врангель обладал красивой наружностью и светским блеском офицера одного из лучших кавалерийских полков старой императорской гвардии. Был порывист, нервен, нетерпелив, властен, резок и вместе с тем имел свойства реалиста-практика, чрезвычайно эластичного в вопросах политики… Врангель по натуре своей был врожденным вождем и диктатором… В подборе подчиненных генерал Врангель, не считаясь со старшинством и с прошлой службой офицеров, отметал в сторону тех, кто ему не подходил»[220].
Генерал Махров:
«Генерал Врангель выглядел очень эффектно: высокий, стройный, затянутый в черную черкеску с белыми газырями и небольшим изящным кинжалом у пояса. У него было красивое, гладко выбритое лицо, коротко подстриженные усы, в больших темных глазах отражались ум, воля, энергия. Манеры Врангеля были элегантны в своей простоте и непринужденности. Голос звучал приятно, а говорил он кратко и ясно. <…>
Служить с ним было очень легко. Это был умный человек и образованный генерал. Обстановку он схватывал быстро, сразу же принимал решения и отдавал краткие и ясные распоряжения, которые не могли вызывать каких-либо кривотолков… Редким качеством Врангеля было, в частности, то, что он всегда был готов внимательно выслушивать возражения по поводу его распоряжений и, если находил их убедительными, то соглашался. В обращении с сослуживцами он был настоящим джентльменом и держал себя очень просто»[221].
Деникин:
«…Я выдвинул барона Врангеля на высшую ступень военной иерархии; я уговорил его в минуты потери душевного равновесия остаться на посту командующего (март 1919 года); я предоставил ему, по его желанию, Царицынский фронт, который он считал наиболее победным; наконец, я терпел без меры, без конца пререкания, создававшие вокруг Ставки смутную и тяжелую атмосферу и подрывавшие в корне дисциплину. В этом я вижу свою большую вину перед армиями и историей»[222].
Деникин изрядно недолюбливал Врангеля – своего преемника по главнокомандованию белыми войсками. Известно, что в эмиграции они ни разу не встретились. При нарочитой корректности своих высказываний о бароне он, однако, старается показать читателю: Врангель – амбициозный честолюбец, не знающий преград на пути к славе и власти.
Современники подмечали в нем и такую черту: всеми силами старался избегать неудач. Сие стало особенно заметно после каушенского триумфа. Недоброжелатели толковали: Врангель избегает боя, если бой не сулит ему заведомого успеха. Намекали, что и в каушенском бою он угробил половину эскадрона в тот момент, когда исход дела должна была решить артиллерия, и сделал это исключительно ради славы и наград.
Не беремся судить, правы ли оные недоброжелатели. События, последовавшие за первыми победами в Восточной Пруссии, оставляли Врангелю не много шансов на новые подвиги и почести. Наступление 1-й армии через две недели сменилось отступлением, быстрым, порой беспорядочным, даже паническим. В эти дни брат каушенского героя Николай Николаевич Врангель – в мирное время искусствовед, а теперь начальник санитарного поезда – сделал запись в своем дневнике: «…Кошмар, который я видел сегодня, превосходит все, что можно себе вообразить… В лазаретах на 200 человек помещается 2500 стонущих, кричащих, плачущих и бредящих несчастных. В душных комнатах, еле освещенных огарками свечей, в грязной соломе валяются на полу полумертвые люди…»[223]
Вместе с деверем в санитарном поезде работала баронесса Ольга Михайловна.
Из писем Петра Николаевича Врангеля к жене.
18 сентября 1914 года: «Для действия в районе 10-й армии образована сводная кавалерийская дивизия, – которой назначен командовать Скоропадский (он все же остался командиром Конной гвардии); я назначен начальником штаба дивизии (не правда ли, как громко звучит)…»
23 декабря 1914 года: «…Производство мое в полковники уже вышло. Относительно планов Твоих – выжди, что будет с нами, ежели же решишься оставаться в Варшаве, во всяком случае, оставь Твой лазарет и устройся в лучшей обстановке…»
1 февраля 1915 года: «Сегодня иду в охранение до 5-го, после чего, ежели не будет ничего нового, на 12 дней в резерв. <…> Все мы с нетерпением ждем, когда отведут отсюда, хотя мы, и стоя здесь, хозяйственные дела привели в порядок, но главное, вырваться с этого фронта – скука и никакого просвета впереди. Живем изо дня в день, производим занятия и лишь изредка представляется возможность сделать немцам какой-либо сюрприз…»[224]
По этим письмам мы видим: Врангель пошел в гору. Начальником штаба он был назначен в дивизию, которую новый главкосевзап Рузский придал 10-й армии для прикрытия района Августов – Гродно. Армия участвовала в сентябрьских боях в районе Августова и Сувалок без особого успеха. Отвечать за неудачи вышестоящих командиров Врангель не хотел. В скором времени он подал прошение о возвращении в полк. Прошение было удовлетворено. В должности помощника командира полка по строевой части барон провоевал целый год – с октября четырнадцатого по октябрь пятнадцатого.
В октябре – ноябре 1914-го конногвардейцы стояли в резерве неподалеку от Ставки Верховного, располагавшейся в Барановичах. Потом, с декабря по февраль, – в сторожевом охранении и в резерве на речке Пилице («скука и никакого просвета впереди»). В феврале – марте участвовали в боевых действиях, но без громких побед, в районе Мариамполя. Здесь Врангелю довелось совершить рейд с захватом переправ через речку Довине у деревни Даукшяй. Двенадцать пленных и четыре зарядных ящика – не слишком впечатляющий трофей для дивизиона кавалерии. Но за этот успех полковник Врангель был почтён золотым георгиевским оружием.
С апреля по июнь – снова в резерве. Летом русские армии отступали на всех направлениях. Война все дальше вторгалась вглубь Российской империи. В тяжелые дни августа 1915 года, когда немцы взяли Ковно и рвались к Риге, Конный полк вместе со всей гвардией был направлен в Вильну. Над всем Западным фронтом сгущались тучи. Немцы прорвались у Свенцян и угрожали Минску. Вильну пришлось оставить.
В октябре 1915 года Врангель был назначен командиром 1-го Нерчинского полка Уссурийской конной дивизии. (Почему после блестящих успехов первых месяцев войны так долго ждал продвижения по службе? Не было случая отличиться? Быть может. Но поговаривали, что государь тогда, в августе четырнадцатого, был недоволен большими потерями эскадрона в лихой врангелевской атаке и, хотя и удостоил барона высоких почестей – пропаганда нужна на войне, ох как нужна! – затаил надолго недоверие к военным талантам слишком отважного офицера.)
Уссурийская конная дивизия, хотя и формировалась на основе Забайкальского казачьего войска, имела пестрый офицерский состав. Командиром дивизии уже полгода, с марта, был генерал-майор Крымов, тот самый, который, будучи полковником и порученцем при командующем 2-й армии, писал тревожные донесения Самсонову в начале наступления в Восточной Пруссии; тот, которому суждено будет возглавить авангард Корнилова и погибнуть загадочной смертью в августе 1917 года.
Заметим также, что Крымова многие называют деятельным участником полуконспиративной генеральской фронды, того «как бы заговора», который через полтора года сыграет решающую роль в отречении Николая II. Заговорщической интригой он, как говорили, был связан с Гучковым и, несмотря на неравенство в чинах, с генералами Алексеевым и Рузским. (За спинами этих последних вырисовывается высоченная фигура великого князя Николая Николаевича.) Был ли Врангель посвящен своим прямым начальником в его политические планы? Возможно. В своих «Записках» он называет Крымова ярким сторонником «дворцового переворота» и «бескровной революции» и добавляет: «В неоднократных спорах со мною в длинные зимние вечера он доказывал мне, что так дальше продолжаться не может, что мы идем к гибели и что должны найтись люди, которые ныне же, не медля, устранили бы Государя „дворцовым переворотом“…»[225]
Впрочем, возникают сомнения. Неужто генерал так вот прямо и открыто «длинными зимними вечерами» вел с полковником беседы революционно-террористического содержания? Тут одно из двух: либо Крымов считал Врангеля своим полным и надежным единомышленником, либо сей пассаж в воспоминаниях барона недостоверен. В первом случае Врангель – заговорщик, во втором – обманщик. Второе предположение не вяжется с монументальным образом рыцаря. Но и против первого говорит многое; в частности, тот факт, что в ближайшее время после отречения государя, в период «гучковских чисток», он не получил повышения по службе (был назначен временным начальником дивизии, но эту должность он и по штату должен был исполнять во время отсутствия Крымова). Вероятнее всего, в мемуарах, написанных в эмиграции, Врангель подправил действительность для придания своей особе политического веса: он, мол, еще до революции был в курсе тайных планов высшего генералитета. Надо учесть и то, что Крымов считался приверженцем Николая Николаевича, а Врангель в изгнании примкнул к сторонникам этого великого князя в качестве претендента на российский престол.
Нет, конспиратором и мятежником барон Врангель не был. Но, как многие офицеры, испытывал нарастающее недовольство режимом. Крамольные разговоры, хотя и не в такой откровенной и настойчивой форме, мог вести и с Крымовым, и со своими товарищами по полку.
А офицеры в Нерчинском полку подобрались небезынтересные. К примеру, полковой адъютант Григорий Семенов – настоящий забайкальский казак, кряжистый, широколицый, глядящий исподлобья на мир глубоко посаженными, темно-огненными глазами.
Врангель – о Семенове:
«Бойкий, толковый, с характерной казацкой сметкой, отличный строевик, храбрый, особенно на глазах начальства, он умел быть весьма популярным среди казаков и офицеров. Отрицательными свойствами его были значительная склонность к интриге и неразборчивость в средствах для достижения цели. Неглупому и ловкому Семенову не хватало ни образования (он окончил с трудом военное училище), ни широкого кругозора, и я никогда не мог понять, каким образом мог он выдвинуться впоследствии на первый план Гражданской войны»[226].
Да уж, суждено было ему, «плотному коренастому брюнету с несколько бурятским типом лица» (как описывает его внешность Врангель) выйти на первый план Гражданской войны. Да еще как! Там, за Байкалом, создаст он в 1918 году свое государство, не подвластное ни красным, ни Колчаку, ни генералам Антанты. А потом, после поражения и долгих лет эмиграции, будет возвращен на родину как заключенный и повешен в 1946 году по приговору Верховного суда СССР.
Был и другой, еще более необычный офицер в полку – подъесаул барон Унгерн-Штернберг, «тип», по словам Врангеля, «несравненно более интересный», нежели Семенов. Но подробный рассказ об Унгерне ждет нас впереди.
С такими однополчанами служить интересно.
Уссурийская дивизия входила в состав I Сибирского корпуса. Вместе с корпусом ее перебрасывали с участка на участок 1-й и 2-й армий в ходе затяжных, кровопролитных и безрезультатных боев конца 1915 – начала 1916 годов. В июле, после неудачи главного удара Западного фронта в районе Барановичей, корпус был направлен на Юго-Западный фронт для развития успеха на Ковельском направлении. Но в луцко-ковельской позиционной мясорубке кавалерия не могла найти себе должного применения. Лишь в конце августа полковнику Врангелю далась в руки относительная удача: 118 пленных и ранение в атаке. Начальник дивизии объявил ему благодарность; дошло, как говорится, до государя.
В это время, на исходе кровопролитнейшей из всех военных кампаний, самые малые успехи на фронте подхватывались и раздувались имперским официозом. За атаку, в которой убито было больше своих, чем врагов, 1-му Нерчинскому полку была объявлена высочайшая милость – установление шефства цесаревича Алексея. В ноябре 1916 года, после отхода в резерв, командир полка вместе с тремя офицерами отбыл в Петроград – благодарить государя. Несколько дней были проведены при дворе. Врангель был назначен дежурным флигель-адъютантом и имел счастие завтракать в кругу августейшей семьи. Церемонии закончились 4 декабря. От имени полка цесаревичу была подарена чистокровная лошадь. Все прошло прекрасно.
В тот же день государь выехал в Ставку. Полковник Врангель на следующий день отбыл на Румынский фронт, к новому месту дислокации своего полка и дивизии.
16 декабря был убит Распутин. Врангель был хорошо знаком с двумя участниками убийства: с великим князем Дмитрием Павловичем и князем Феликсом Юсуповым. Совершенное ими деяние без колебаний одобрил.
В январе 1917 года в Бырладе, где стоял Нерчинский полк, было получено сообщение о назначении Врангеля командиром бригады. Засим последовало и производство в генерал-майоры. Государь и Верховный главнокомандующий, окруженный со всех сторон тайными врагами, искал людей, на которых можно положиться. Флигель-адъютант барон Врангель во время последней встречи произвел на него хорошее впечатление…
Февральская революция поначалу мало что изменила в жизни Врангеля. Отречение государя не могло быть для него неожиданным: Петр Николаевич имел множество информированных знакомых. В должности бригадного командира и временного командира дивизии (Крымов получил корпус) он оставался до летнего наступления. Июль 1917 года принес России углубление революционного разлома, Временному правительству – очередной кризис, разваливающейся армии – провал наступления и смену командования, а Врангелю – стремительный, хотя и бесплодный, взлет по службе. В начале июля был назначен командиром 7-й кавалерийской дивизии, а через неделю – командиром Сводного конного корпуса. В эти дни части Юго-Западного фронта то там, то сям обращались в неуправляемое бегство. В тылу бушевали погромы. Отступлением на рубеж реки Збруч в середине июля активные военные действия русской армии закончились.
От участия в событиях конца августа, именуемых Корниловским мятежом, Врангель уклонился. Надо полагать, уже в ходе летних боев он понял: армии нет, поэтому служба в армии – путь в никуда. В обстановке послекорниловской агонии Временного правительства он отказался от предложенных ему назначений, уехал в Могилев, в Ставку. Может быть, надеялся, что высшее военное командование еще имеет шансы взять власть в свои руки. Но после Октябрьского переворота эти надежды растаяли как дым. Попытки военного контрпереворота рухнули: генерал Краснов сдался Советам в Гатчине, полковник Полковников – в Петрограде, полковник Рябцев – в Москве. Не дожидаясь прибытия в Ставку красного главковерха Крыленко и сопровождающих его революционных матросов, Врангель уехал вместе с семьей в относительно еще спокойный Крым.
Надо отметить одну особенность биографии будущего вождя белых армий: к Белому движению он примкнул поздно. Почти полгода прожил в Ялте и ее окрестностях как частное лицо, снял военную форму, ходил в гражданском. Совсем недалеко от Крыма формировались Добровольческая и Донская армии; в самом Крыму татарское правительство пыталось создать собственные войска. С Калединым и Корниловым Врангель не попытался связаться; от предложений эфемерного правительства Крымской Народной Республики отказался. Он явно не спешил стать под ружье ради борьбы с большевиками. В отличие от многих генералов и офицеров, живших лишь службой и жалованьем, он был хорошо обеспеченным человеком. И большевистская национализация не могла отнять у него средств к существованию, ибо кое-какие семейные (отцовские) капиталы имелись и за границей. Он мог рассчитывать и выжидать.
В январе 1918 года в Крым вошли красные. Татарская республика рассыпалась. В Ялте начались аресты. Был арестован и Врангель. Однако через день выпущен на свободу. Об этом эпизоде он впоследствии составил беллетризованный рассказ, включенный в первую главу «Записок». Тут описана и свирепость большевиков, и мученичество арестованных офицеров, и непреклонное мужество самого автора воспоминаний. Роль спасительницы приписана баронессе Ольге Михайловне Врангель: она, как жена декабриста, последовала в темницу за своим мужем; этот подвиг так поразил матросов и самого председателя ревтрибунала товарища Вакулу, что они отпустили обоих супругов.
Подтвердить или опровергнуть этот рассказ трудно: документы отсутствуют.
Короче и, по-видимому, точнее обстоятельства ареста и освобождения Врангеля изложила его дочь, Наталья Петровна Базилевская:
«Как-то вечером в наш ялтинский дом вломилась толпа матросов. Парня, который арестовал отца, я смогла бы узнать и сегодня. Такой бледный, весь в веснушках. Мама сказала, что пойдет с отцом. Ночь родители вместе с другими офицерами провели в каком-то помещении, а наутро было назначено судебное разбирательство. Если, конечно, так можно назвать то, что происходило тогда. Заседавшие „просеивали“ людей на две группы: одних – налево, других – направо. Когда подошла очередь отца отвечать на вопросы, он сказал, что не имеет никакого отношения к военным (что на тот момент было сущей правдой), а является инженером»[227].
Итак, барон был освобожден по той причине, что назвался штатским, отверг принадлежность к офицерству. Время тотального террора и истребительной войны еще не настало. Супругов отпустили.
Характерно, что и после ухода красных из Крыма Врангель не предпринял попыток присоединиться к антибольшевистским силам. Лишь в апреле он приехал в Киев, где в это время при поддержке германских военных властей был установлен режим гетмана Скоропадского. Скоропадский командовал Конным полком и Сводной дивизией в начале войны, и Врангель мог рассчитывать при нем на высокую властную должность.
Но «держава» Скоропадского соответствовала фамилии правителя. Она стояла, как ярмарочный балаган, на временных, шатких подпорках. Служить в Киеве означало кланяться хозяевам-немцам да разыгрывать глупый «украинско-запорижський» маскарад. Это, конечно, было никак не по нраву барону, да и не сулило заманчивых перспектив. Германия выдыхалась в борьбе с западными союзниками, а если она рухнет – что станет с гетманом и его окружением?
В это же время, в начале мая, в Киев прибыли и представители донского атамана Краснова. Генерал Михаил Андреевич Свечин агитировал Врангеля присоединиться к донцам или к добровольцам – и вновь безуспешно.
Решение присоединиться к Деникину Врангель принял лишь в конце августа.
Чем было вызвано это решение? Тремя причинами.
Причина первая: требования амбициозной, деятельной натуры. Год не у дел – скука! Врангель мог уехать куда-нибудь подальше от российского хаоса и жить в тишине и благополучии. Но ему нужно было другое: шум, почести, власть. Всего этого он мог добиться, только участвуя в русской смуте.
Вторая причина: совершившееся размежевание сил. То, что Врангелю, гордецу, аристократу и богачу, не ужиться с большевиками, – было ясно с самого начала. Но антибольшевистские силы были слабы, разрозненны, нестойки. Делать ставку на них расчетливый инженер-кавалерист не считал возможным: слабых он презирал, романтиком не был. Но летом 1918 года Совдепия потонула в кромешной тьме внутреннего кризиса, а враги большевиков умножили и укрепили свои ряды. Добровольческая армия Деникина шла от успеха к успеху, и с каждым успехом увеличивались ее силы.
Главной была третья причина. В августе началось наступление союзников – англичан, американцев, французов – во Франции и в Бельгии. Окончательное поражение Германии стремительно приближалось. Врангель, как и многие другие, полагал: победившая Антанта раздавит большевиков. Дни Совдепии сочтены. Самое время включиться в решительную борьбу против узурпаторов власти.
25 августа Врангель прибыл в Екатеринодар, в ставку Деникина. В сентябре вступил в командование конной дивизией. В ноябре возглавил корпус. За успешные действия на Северном Кавказе 22 ноября Деникин произвел его в генерал-лейтенанты, а еще через месяц назначил командующим Кавказской Добровольческой армией (в апреле переименована в Кавказскую армию). К началу 1919 года Врангель по своей популярности и авторитету сделался человеком номер два в командном составе Вооруженных сил Юга России после Деникина. С этого момента началось их противостояние, все более явное и напряженное.
Врангель идет от победы к победе. Январь 1919 года – разгром красных под Моздоком и у станицы Слепцовской, полное очищение от большевиков Северного Кавказа. В апреле – мае – отражение наступления красных на Дону. В мае – наступление в Нижнем Поволжье.
Из рапорта Врангеля Деникину от 4 апреля 1919 года:
«Главнейшим и единственным нашим операционным направлением полагаю должно быть направление на Царицын, дающее возможность установить непосредственную связь с армией адмирала Колчака»[228].
30 июня (по новому стилю) врангелевские войска с бою взяли Царицын. Через два дня в город торжественно въехал генерал Врангель.
Это был его высший боевой триумф. Его слава гремела повсюду. Для белых он стал белым рыцарем, символом движения; для красных – страшным чудовищем, черным бароном.
2 июля вечером в Царицын прибыл главнокомандующий Деникин. Здесь он подписал свою директиву о наступлении на Москву. Главной силой этого наступления становилась Добровольческая армия Май-Маевского. Кавказской армии Врангеля отводилась второстепенная роль: продвижение в Поволжье на Саратовско-Балашовском направлении.
Для Врангеля, почувствовавшего вкус славы, окруженного почитанием и поклонением, это было обидно и оскорбительно. Борьба с Деникиным неизбежна.
В то время, когда слава Врангеля достигла апогея, военная звезда генерала Снесарева клонилась к красному горизонту. Собственно, звезд этих было шесть: по три на каждом погоне. Даже служа в Красной армии, он долго носил генеральские звезды на плечах, рискуя стать жертвой чекистского рвения или красноармейского самосуда. И двуглавого орла, изображенного на нагрудном знаке выпускника Николаевской академии Генерального штаба, он тоже не снимал со своего френча. Есть фотография, сделанная вскоре после Гражданской войны: седой военспец с небольшими усами, грустным, все понимающим взглядом и высоким лбом ученого. На груди справа – орел в академических лаврах. Правда, погоны уже сняты.
Свидетельствует Семен Михайлович Буденный, лето 1918 года, близ Царицына:
«Когда нас, группу командиров, представили А. Е. Снесареву, я увидел высокого пожилого человека с безукоризненной военной выправкой, в полной форме генерал-лейтенанта старой русской армии. Меня, как и других, прежде всего удивило, почему Снесарев в генеральских погонах: ведь красноармейцы относились к „золотопогонникам“ с неприкрытой враждой, и носить погоны было небезопасно. Кто-то даже сказал ему об этом. Андрей Евгеньевич ответил: „Погоны – знак военных заслуг пред Отечеством. К тому же меня никто не разжаловал“»[229].
Андрей Евгеньевич Снесарев во многом полная противоположность, антипод Врангеля. Врангель – аристократ и богач, вхожий в высшие сферы дореволюционного общества; Снесарев – сын сельского священника, сам прокладывавший себе путь в жизни. Врангель честолюбив и властен; Снесарев скромен, как будто бы лишен амбиций. Врангель – полевой командир, кавалерист; Снесарев – штабной работник, ученый, мыслитель. Врангель отлит в бронзе; Снесарев человечен.
Но есть между ними нечто общее.
Первое: широта ума, последовательность воли, артистизм натуры. Оба они – интеллектуалы в военной среде, оба – люди целенаправленного и методичного действия, оба знатоки и ценители прекрасного.
Второе: они пришли в армию до некоторой степени случайно, уже имея гражданскую профессию и образование. Поэтому они всегда были больше чем военные. Врангель мог без колебаний и без обмана называть себя горным инженером, а был еще и дипломатом, и гражданским администратором; Снесарев – профессиональным математиком, музыкантом, географом, востоковедом. Эта причастность к разным сферам мирной жизни отличает их от «военных до мозга костей», какими являлись Деникин, Каменев, Май-Маевский, Каледин, Брусилов, Тухачевский.
И третье: их судьбы связал Царицын. Правда, в боях за этот город они разминулись на год: Снесарев оборонял его летом восемнадцатого, Врангель штурмовал летом девятнадцатого. Но для того и для другого Царицын стал венцом военной карьеры. В жизни Врангеля взятие Царицына ознаменовало восхождение на постамент, начало роли вождя и символа Белого движения. Для Снесарева – руководство самой крупной в его биографии военной операцией и судьбоносное столкновение с человеком, чьим именем назовут этот город в советское время.
Если вспомнить, что здесь же, в Царицыне, переименованном в Сталинград, четверть века спустя будет решаться судьба Второй мировой войны и всего человечества, то пересечение линий жизни Врангеля и Снесарева на берегах Волги не покажется малозначащим.
Выдержка из выступления Снесарева, военного руководителя Северо-Кавказского военного округа Красной армии, в царицынской газете «Борьба» от 21 июня 1918 года:
«Защита Царицына ввиду его теперешнего значения – дело всенародное. Не может быть спора о том, защищать город или нет, весь вопрос в следующем: какие силы необходимы для его защиты? Царицын – сердце всей страны, и наша задача отстоять его»[230].
Эти слова можно поставить эпиграфом к истории обороны Сталинграда в 1942 году.
Служебные пути никогда не сводили Врангеля со Снесаревым, и мы не знаем, встречались ли они когда-нибудь. Если и встречались, то разошлись, не заметив друг друга. Для барона Врангеля попович Снесарев был человеком иного мира, «не нашего круга». Дворяне Российской империи привыкли относиться к духовному сословию свысока, с усмешкой, пренебрежительно. Между тем русское духовенство по своей родовитости ничуть не уступало дворянству, даже, пожалуй, превосходило его. Священническое служение, будучи делом сословным, переходило от отцов и дедов к сыновьям и внукам. Династии священников могли насчитывать десятки поколений и порой уходили корнями в такие давние времена, до которых редкий дворянин мог дотянуть свою родословную.
Священнический род Снесаревых вполне можно назвать аристократическим в среде духовенства Воронежской епархии. Отец Евгений Снесарев, иерей Успенской церкви в селе Старая Калитва Острогожского уезда, приходился внучатым племянником митрополиту Евгению Болховитинову, знаменитому ученому, к которому когда-то Державин адресовал стихи о жизни Званской. Отец Евгений, судя по фотографиям и по воспоминаниям, был крупный, красивый, породистый здоровяк, человек веселый, жизнерадостный, да к тому же прекрасный певец. Вот этот-то полный жизни человек умер внезапно в сорокапятилетнем возрасте: говорили, приехал в гости к замужней дочери, прилег на диван и скончался.
Это случилось в 1883 году. Много раньше, а именно 1 декабря 1865 года, матушка Екатерина Ивановна родила батюшке Евгению сына Андрея. У Снесаревых он был вторым ребенком (старше его – сестра Надежда). За последующие годы семья пополнится еще шесть раз: появятся на свет брат Павел и пять сестер – Лидия, Клавдия, Анна, Вера, Мария. Андрею не исполнилось и пяти лет, когда отца перевели на служение из Старой Калитвы в село Ураково Коротоякского уезда, а еще через год – в станицу Камышовскую, на приход церкви Рождества Христова. Как и положено, отец Евгений учительствовал в церковно-приходской школе; в этой же школе начал свое учение Андрей. Любопытно: по воспоминаниям родственников, камнем преткновения для него в начальной школе была арифметика. Кто бы мог тогда подумать, что через пятнадцать лет он с блеском окончит физико-математический факультет по отделению чистой математики!
Надо полагать, отец Евгений не очень стремился к тому, чтобы старший сын продолжил служение предков. Трудна и скудна была жизнь приходского священника в православной России. А служба светская полна заманчивых перспектив. Поэтому после начальной школы Андрея не отдали в духовную семинарию, а определили в прогимназию, находившуюся в станице Нижне-Чирской. Там он учился, там жил «в людях» с 1875 по 1882 год. Способности его уже определились, учился он все успешнее и успешнее. Когда окончил прогимназию, сомнений ни у него, ни у его родителей не было: нужно продолжать образование. Успешный аттестат прогимназии давал право на поступление в седьмой, предпоследний класс гимназии. Андрей Снесарев был принят в Новочеркасскую гимназию, которую в 1884 году окончил с серебряной медалью «за отличные успехи в науках, в особенности же в древних языках». Забавно, что в аттестате будущего математика и географа, одного из творцов истории, в окружении пятерок стоят четверки по логике, истории и географии…
Успех был достижением не одного только врожденного ума, но и результатом осознания нелегкой ответственности за судьбу свою и близких. Смерть отца, весть о коей поразила Андрея в начале последнего гимназического года, принесла душевную боль, а вместе с ней и тяжкие материальные проблемы. У матери – грошовый пенсион за отца и пятеро детей на руках. Нужно зарабатывать – и он зарабатывает уроками, содержит себя сам, помогает семье.
Трудности дисциплинируют. Летом 1884 года Снесарев отправляется в Москву и поступает в университет, на отделение математических наук физико-математического факультета. Окончание учения в 1888 году было вновь триумфальным: золотая медаль за диссертацию[231] о бесконечно малых величинах, отличие за академические успехи, предложение остаться при кафедре.
Может быть, заманчивый сей вариант и выбрал бы «кандидат чистой математики», которому не исполнилось еще и двадцати двух лет, если бы не два обстоятельства. Во-первых, место при кафедре давалось поначалу без жалованья. А жить на что-то надо было, да и семье помогать. Во-вторых, по закону выпускника университета ждала неприятность в виде военной службы. Правда, он имел право, не ожидая призыва, записаться в полк вольноопределяющимся и, отслужив три месяца, поступить в военное или юнкерское училище. Отучившись год, можно было получить погоны подпоручика, соответствующее место и жалованье.
Способный юноша, блестящий математик, зачисляется в 1-й Екатеринославский лейб-гренадерский его императорского величества полк и поступает на одногодичное отделение Московского пехотного юнкерского училища (на этом же отделении тремя годами позже будет учиться Бонч-Бруевич). Через год училище окончено, вновь с отличием и с занесением имени на мраморную доску. В августе 1889 года Андрей Евгеньевич Снесарев вернулся в полк подпоручиком. Как указано в послужном списке: «В этом полку проходил службу до чина поручика, сначала в должности младшего офицера роты, а потом делопроизводителя полкового суда»[232].
Итак, выбор был сделан: военная служба. Не так уж это и удивительно: духовенство Воронежской епархии издавна окормляло донских казаков, многими нитями связано было с войском. Друзья детских игр Андрея Снесарева выходили в офицеры – почему бы и ему не надеть портупею? Конечно, решающую роль в этом выборе играли мотивы материальные. Как-никак надежное, хоть и небольшое жалованье. Важно и то, что Екатеринославский полк был причислен к гвардии (хотя и недавно, в 1855 году, и потому у аристократии не считался престижным) и дислоцировался в Москве. Молодой офицер мог жить полноценной московской жизнью. И он использовал эту возможность – в первую очередь для своего развития, роста. Поступил вольнослушателем в консерваторию, в оперную студию профессора Прянишникова. Впоследствии ему, обладателю прекрасного баритона, случалось петь на сцене Большого театра, концертировать вместе с первым тенором России Леонидом Собиновым. Продолжал обучение военным наукам. Правда, в Военно-инженерное училище поступить не удалось, но в Николаевскую академию Генштаба прекрасно сдал все экзамены, и в 1896 году, после одиннадцати лет московской жизни и семи лет полковой службы, прибыл для слушания курсов в Петербург.
Любопытно, что в Академии Снесарев учился на одном курсе с Деникиным, но никакого сближения между ними не случилось – люди разных кругов. Для Деникина Снесарев – интеллигент, человек полувоенный; для Снесарева Деникин – малообразованный строевик не без солдафонства. (В дальнейшем у них возникнет точка пересечения интересов: геополитическая оценка роли России на Востоке; взгляды их окажутся принципиально схожими, хотя Снесарев будет обосновывать их как ученый, а Деникин – как военный публицист.) Учиться Снесареву, с его университетским запасом, было легче, чем Деникину. Академию он окончил, не в пример Антону Ивановичу, без скандалов, по первому разряду, в июле 1899 года; был произведен в штабс-капитаны и причислен к Генеральному штабу.
До этого момента Снесарев шел по жизни достойно, но не выходя за рамки обыкновенного. Здесь же начинается необыкновенное. Так вот идут люди общим путем до камня на распутье, а там расходятся, каждый своей дорогой. Для Врангеля камнем на распутье стала Русско-японская война. Снесарев в свои тридцать три года нашел нужный маршрут без подсказки. 2 июля 1899 года датировано прошение военного министра Куропаткина на высочайшее имя о командировании в Индию подполковника Полозова и штабс-капитана Снесарева. На прошение наложена резолюция о высочайшем соизволении. Итак, по окончании Академии, имея право выбрать место будущей службы, Снесарев выбрал командировку на Восток и последующую службу в войсках Туркестанского военного округа.
Восток в его загадочных ипостасях – Сибирь, Маньчжурия, Монголия, Туркестан – могучей силой вторгался в судьбы многих персонажей этой книги. Его воздействие по-разному испытали Деникин и Муравьев, Май-Маевский и Унгерн, Корнилов и Врангель. В Туркестанском округе служили трое из них. Для Корнилова Туркестан был дом родной; для Май-Маевского – место ссылки; для Снесарева – врата познания земного мира.
Служба в Туркестанском округе (включая сюда время индийской командировки) продолжалась пять лет и четыре месяца. В эти годы совершилось становление Снесарева как ученого, мыслителя, деятеля.
Прямо из Петербурга через Ташкент и Ош ему дулжно было отправиться в трудный путь – туда, где русского человека видели так же редко, как эфиопа в Чухломе. Командировка в северную часть Британской Индии длилась полгода. И это была экспедиция, а не путешествие туриста. Вдвоем с подполковником Александром Александровичем Полозовым (выпускником Пажеского корпуса, талантливым и преуспевающим офицером, которому суждена, увы, недолгая жизнь) совершен переход через горные хребты: Алайский и Заалайский, затем вниз по Мургабу и снова вверх по Аксу, к высочайшим перевалам Памира. Высоко в горах разделились: Полозов пошел через Таш-Курган в обход афганской территории, теми путями, которыми в следующем году пройдет капитан Корнилов; Снесарев же двинулся более прямой, но не более легкой дорогой: через Ваханский коридор и хребет Гиндукуш, через перевалы на высотах пятнадцать тысяч футов, к Гилгиту. После этого – четыре месяца внимательного изучения Гилгита, Кашмира, Пенджаба; поездка в Дели и Агру…
Результатом этой экспедиции стала серия публикаций, выходивших в течение нескольких лет: «Северо-индийский театр», «Индия как главный фактор в среднеазиатском вопросе», «Физическая Индия», «Этнографическая Индия». Притом еще не все было опубликовано. То, что опубликовано, сегодня читать интересно так же, как и сто лет назад.
Надо отметить еще один факт, равнозначный чуду. На дорогах и в селениях Афганистана, Синьцзяна, Кашмира, Пенджаба он разговаривает с местными жителями на их языках. Ко времени поездки он изучил урду, хинди, пушту, фарси, узбекский. Это в дополнение к французскому, немецкому, латыни и греческому, освоенным еще в гимназии. Разумеется, выучил и английский. Всего в активе Снесарева – четырнадцать языков.
Дальнейшая служба в Туркестане была не менее плодотворной. Снова экспедиции, наблюдения, анализ. В отличие от Корнилова, для которого в географических исследованиях (как и во всем прочем) главное – действие, Снесарев – аналитик и мыслитель. Изо всего он делает выводы, складывающиеся в единое масштабное целое. Его наследие как востоковеда и геополитика до сих пор ценно и до сих пор не осмыслено в должной мере. Впрочем, это тема отдельных книг и специальных исследований. Мы же обратимся к внешним событиям жизни Снесарева. Тем более что он, сын священника и человек веры, хорошо помнил слова Христа: «Не Тот же ли, Кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?»[233]
В 1901 году Снесарев произведен в капитаны и награжден орденом Станислава третьей степени. В том же году совершил поездку в Англию, где изучал материалы об Индии. Впечатления о поездке печатаются в газете «Туркестанские ведомости». В 1902–1903 годах командует Памирским отрядом пограничной стражи в зачет цензового командования ротой, деля время между командирскими обязанностями, деловыми и исследовательскими поездками и учеными занятиями. В 1903–1904 годах – обер-офицер для поручений при штабе Туркестанского военного округа; выступает с докладами, публикует статьи, поет на концертах в Ташкенте. В ноябре 1904 года откомандирован в Петербург, в Военно-ученый комитет Главного штаба.
В столицу, однако, отправился не один: за месяц до отъезда в городе Оше Ферганской области состоялось венчание капитана Генерального штаба Андрея Евгеньевича Снесарева и дочери начальника Ошского уезда полковника Зайцова (именно так, хотя встречается и написание «Зайцев») Евгении Васильевны Зайцовой. Со своим тестем Снесарев был знаком со времени первого своего путешествия через Памир: тогда Зайцов командовал Памирским отрядом. Человек, пользующийся заслуженной известностью среди туркестанских офицеров и географов (русских и зарубежных), Зайцов вскоре оставит службу и переедет вслед за дочерью и зятем в Петербург. А семья Снесаревых будет отныне расти: в 1905 году родится первенец; назовут его, естественно, Евгением; за ним – еще пятеро детей.
Служба в Главном штабе, а с 1905 года – в третьем обер-квартирмейстерстве Главного управления Генерального штаба была прямым продолжением туркестанской службы. Вышепоименованный отдел занимался разведкой и планированием на среднеазиатском направлении. Снесарев продолжает разработку восточной тематики не только в Генштабе. Он – участник Русского императорского географического общества, Российского общества ревнителей военных знаний, Императорского общества востоковедения. Прибавляется и новый род деятельности: журнально-газетная публицистика. С 1905 по 1907 год он редактирует просветительский журнал «Чтение для солдат», а с 1906 по 1910 год – газету «Голос правды», которую издает совместно с тестем, Василием Николаевичем Зайцовым.
Газета не то чтобы оппозиционная, но от нее веяло духом свободомыслия. Начальству это не могло нравиться. Особенно то обстоятельство, что какой-то там подполковник (с 1908 года – полковник) высказывает свое мнение о «предметах, составляющих виды правительства». В 1907-м была заключена англо-русская конвенция о разграничении сфер влияния в Средней Азии и на Среднем Востоке. Следствием этого договора было присоединение России к Антанте – союзу, направленному против Германии. Снесарев написал ряд статей, в которых критиковал такую внешнюю политику. Россия не должна ни с кем делить мир; Россия не должна вступать в союзы, направленные против кого-то и чреватые войной. Россия должна быть нейтральной. России нужен мир; война несет ей катастрофу.
«Возмутительно! Подполковник забывается! Да как он смеет! Да как это Россия не должна воевать?! Ведь наша военная слава должна быть восстановлена после Мукдена и Цусимы! Мы ли, с французами и англичанами заодно, не поделим Европу и Азию? А французские займы? А британская мудрость?» – так, или примерно так, толковали в высших военно-светских кругах. Точка зрения Снесарева, и особенно та свобода, с которой он высказывал ее, раздражали многих. Газета была обречена, а ее редактор не мог долго удерживаться в Генштабе.
Примечательный факт: издание «Голоса правды» в 1910 году было прекращено по причине оппозиционности и склонности к вольномыслию; а через два года в свет стала выходить другая газета, куда более противовластная, куда более вольная, с усеченным названием «Правда». Ее вдохновителем был некий Владимир Ульянов, скрывающийся под псевдонимом Ленин… Так, при очевидном содействии властей, происходила радикализация общественной мысли в России.
В статье, опубликованной в «Голосе правды» в 1909 году, за три месяца до прекращения издания, Снесарев писал: «Худшими врагами для себя самих являемся мы сами, и в этом все наше несчастье. В эту-то опасную сторону дела, т. е. в сторону лечения самих себя, и должны идти наши усилия, чтобы избежать ужасного Божьего наказания»[234].
Божий гнев разразился над Россией: через пять лет началась мировая война.
К этому времени полковник Снесарев, удаленный из Генштаба под видом повышения, служил в Каменец-Подольске в должности начальника штаба 2-й сводно-казачьей дивизии. Дивизия входила в состав XII корпуса Брусилова. Соседней, 12-й кавалерийской дивизией командовал генерал Каледин.
«Был ранен, но строя не покинул»
О боевом пути полковника, а затем генерала Снесарева в Первой мировой войне лучше всякого сочинения рассказывают документы о его службе и наградах, а также его собственные фронтовые дневники.
Из послужного списка (правый край листа поврежден; даты не всегда читаются; в документе есть неточности):
«Выступил в поход… – 1914 Июл. <…>
Участвовал в ряде боев, первые два месяца примерно через день: у Городка, Гусятина, Черткова, Бучача, Монастыржески, Стрыя, Миколаева (Гнилая Липа), у Садовой Вишни, Самбора, Турки, перев[ала] Ужок, во многих пунктах Венгрии и т. д. <…>
Назначен командиром 133-го пехотного Симферопольского полка – 1914 Окт. 3? <…>
За бои с полком получил… чин генерал-майора.
Командовал бригадой 34-й пехотной дивизии – с 1915 Авг. 2? по 1915 Дек. 2?
Назначен начальником штаба 12-й пех. дивизии – 1915 Дек. 2? <…>
Командирован в XVIII корпус для временного командования 64-й пех. дивизией. Прибыл – 1916 Сен. Убыл 1916 Нояб. 23. <…>
Назначен начальником штаба 12 арм. корпуса – 1917 Янв. 13. <…>
Назначен начальником 159-й пех. дивизии – 1917 Апр. 7. <…>
Назначен командиром IX арм. корпуса – 1917 Сен. 16. <…>
Произведен в генерал-лейтенанты – 1917 Сен. 18.
Отбыл в долговременный отпуск и на фронт не возвращался – 1917 Нояб. 12. <…>
В сражении под Монастыржеской был ранен, но строя не покинул. <…>
Был контужен в бою (в Венгрии). <…>
Вновь был контужен, но в тыл не отбыл…»[235]
Из наградного листа:
«За текущую кампанию награжден:
1. Орденом Св. Владимира III ст. с мечами высочайшим приказом 5 декабря 1914 г. за особое отличие вне нормы за бой под Бучачем 10 августа 1914 г.
2. Георгиевским оружием, приказ 8-й армии 1914 г. № 209. Выс[очайшим] приказом 24 февраля 1915 г. за особое отличие вне нормы: за бой под Монастыржеской 12 августа 1914 г.
3. Высочайшее благоволение. Высочайшим приказом 23 июля 1915 г. за особое отличие вне нормы: за взятие перевала Ужок 3 ноября 1914 г. <…>
5. Орденом Св. Георгия IV степени – высочайшим приказом 10 июня 1916 г. за особое отличие вне нормы: за бои 4–6 декабря 1914 г.
6. Высочайшим приказом от 10 декабря 1917 г. начальник шт[аба] 12-й пех[отной] дивизии генерал-майор Андрей Снесарев за отличие в делах против неприятеля награжден орденом Св. Станислава I степени с мечами.
7. Приказом армии и флоту о военных чинах сухопутного ведомства от 11 марта 1917 года за отличия в делах против неприятеля начальник штаба 12-й пех[отной] дивизии генерал-майор Андрей Снесарев награждается орденом Св. Анны I степени с мечами.
8. Приказом армии и флоту от 15 июня [19]17 г. награжден Св. Георгием III степени»[236].
Из приказа о награждении орденом Святого Георгия четвертой степени:
«Генерал-майору, начальнику штаба 12-й пехотной дивизии, Андрею Снесареву за то, что 4 декабря 1914 г., в бытность в чине полковника командующим 133-м пехотным Симферопольским полком, быстро прибыв в Посада-Работыцка, когда прорвавшийся противник угрожал захватом шоссе Троица – Работычи и заходом в тыл нашим войскам, он после быстрой ночной разведки, находясь все время под действительным ружейным огнем неприятеля, подвергая жизнь явной опасности и воодушевляя нижних чинов, молодецким наступлением, штыками выбил противника из ряда окопов и занял деревню Цысово, где и укрепился»[237].
Комментарий в дневнике Снесарева, запись от 9 июля 1916 года:
«Так-то так… Но ведь забыты: 1) восстановление блокады Перемышля (честь моя и полка); и восстановление линии, брошенной 9-й кав[алерийской] дивизией и 2 пех[отными] полками 8-й (величина подвига и обстановка); 3) атака полком целой дивизии (смелость шага)… Иначе выходит подвиг ретивого ротного командира, не больше»[238].
Из приказа о награждении орденом Святого Георгия третьей степени:
«…1) Временно командуя 64 пехотной дивизией в бою 23 октября 1916 г. в районе Кирлибаба, когда противник, после сильной артиллерийской подготовки, повел атаку с целью прорыва нашей главной позиции… лично руководил отбитием атак на решительном участке 253 пехотного Перекопского полка… Внезапной штыковой атакой в ночь на 24 октября выбил противника из наших окопов, отбросив его за линию его исходного положения. Трофеи: 3 офицера, 185 солдат, 3 пулемета, 3 бомбомета и 2 миномета;
2) командуя той же дивизией, после ряда личных разведок под действительным огнем противника, разработал план прорыва позиций противника, прикрывавших участок шоссе Кирлибаба – Якобени… В момент движения рот в атаку, презрев очевидную опасность и находясь под сильным и действительным огнем противника, лично стал во главе наступающих рот и направлял их в атаку. Когда же наша пехота, преодолев сильное сопротивление противника, прорвала позицию последнего, лично повел в атаку 2-й батальон 255 пехотного Аккерманского полка… Трофеи: 19 офицеров, 863 австро-венгерцев, 11 пулеметов, 4 бомбомета и 2 штурмовых орудия»[239].
Выглядит это, прямо скажем, более впечатляюще, чем два трофейных орудия и двенадцать пленных Врангеля (это отмечаем не в укор и не в преуменьшение доблести барона). Правда, Снесарев при совершении сих подвигов командовал полком и дивизией, а Врангель – эскадроном и дивизионом. И все же…
Отметим также, что Врангель получил своего Георгия через два месяца после каушенского боя, а золотое оружие – через пять месяцев после успеха на Довине; Снесареву же заслуженных наград пришлось дожидаться долго: первый белый Георгиевский крестик искал героя полтора года, второй – восемь месяцев. Конечно, грудь барона и флигель-адъютанта – куда более подходящее место для императорских орденов, чем скромный мундир офицера-интеллигента из поповичей.
Русская армия была проникнута духом угодливости перед вышестоящими.
Из дневника Снесарева, 30 июня 1916 года:
«Наша армия представляет в [лице] большинства своих членов того сына [из притчи] Евангелия, который сказал отцу, что идет работать, и… не пошел. Наша система в воспитании растит и ширит такой тип, растит, практикуя хамство, капризность, беспринципность. В результате затурканный человек, как в древности пытаемый, смотрит в глаза своему палачу и старается прочесть, что тому угодно, чтобы так и сделать. На первый план: сохранить начальническое настроение в терпимом или выгодном тоне, а существо или польза дела отодвигается далеко, вглубь волевых осадков. И есть какой-то дьявольский закон, что воспитанный в таких „ежовых рукавицах“ начальник, сделавшись старшим, забывает тягость и гнет системы (в свое время он ее критиковал) и неизменно надевает сам „ежовые рукавицы“. И идет система беличьим колесом, без изменений и улучшений»[240].
«Сердце лопнуло бы от горя и страданий»
И еще несколько выписок из дневника Снесарева.
1916 год[241]. Юго-Западный фронт.
16 июня.
«Начали мы маневрировать, и оно нам не дается: разрываемся, упускаем противника, атакуем поодиночке, выдаем друг друга, не верим, врем и т. п. Что тут больше: тактические ли неготовности или отсутствие воспитания? Для сильной и дружной тактики нужно воспитание: 1) чувство товарищеского долга; 2) чувство гражданственности или общего дела; 3) чувство правдивости, 4) гражданское мужество».
28 июня.
«Стоим все на месте. Днем большая жара, по ночам, во вторую половину, предутреннюю – проходят ливни. На фронте спокойно; обе стороны влезают в землю, плетут проволоку и углубляют плацдарм. <…>
Изнанка войны: разграбленное всюду добро, поломанные и оборванные сады и нестерпимый, всюду вас преследующий запах».
11–12 июля.
«Люди часто боятся больше, чем это бывает страшно в действительности. Страшно – пойди и посмотри: не будет страшно».
9 августа.
«Как мы, ходящие вокруг смерти, привыкаем и к ней, и к мысли о ней. Одна сестра расставалась с офицером и спокойно договаривалась; „Будешь убит, и я покончу с собою“. Он тоже спокойно: „Только проверь слух, не торопись. А если буду ранен, то жди результата“. Как будто разговор идет об уплате рублевого долга».
7 сентября.
«Идем в гору и набредаем на кучу трупов. Они лежат всюду. Недалеко друг от друга офицер русский и офицер немецкий: у того ничего, у этого письма, карточки и т. п. Ведем бой. <…> Ничего не удается. Назад возвращаюсь мимо наших трупов, они в двух кучках (23 и 12); они скошены пулеметом. Позы разные. Есть один, сьежившийся в ровике, от пулемета уцелел, но найден шрапнелью».
8 сентября.
«Иду в Перекопский полк и на пути отстреливаюсь. При спуске с 1552-й [высоты] в 12 шагах рвется тяжелый снаряд; мы оглушены и припадаем к земле… Мы целы, и я говорю: „Ребята, перекреститесь; Бог помиловал“, и мы молимся, Сижу у бат[альонного] ком[андира], после круч с наслаждением пью чай, а около нас рвутся снаряды. Вот [один] свалил целую ель. Решаюсь захватить „покинутую“ батарею и назначаю полроты с прап[орщиком] Спесяковым. Обещаю Георгия. Он полон оживления, глаза его горят. „Уж какой придется“, – говорит он, играя на слове „крест“. „Игра на крови“ – приходит мне в голову. А прапор, опираясь на палку, поскакал по камням вниз по ручью.
А мы поползли в горы к позициям 1-й и 2-й рот, ползем на пузе и выслеживаем врага».
28 сентября.
«Сегодня был на панихиде убитого (Аккерманского) полка офицера: за телом приехали старик-отец со старой матерью. Мать дрожит, пьет воду, говорит больше других, спрашивает под рыданья: при какой задаче погиб ее сын? „При взятии Деалу Ормулуй. Взяли“. Она вздохнула и сказала; „Ну, слава Богу, и мой сын, надеюсь, помог делу и погиб не зря“.
Таких картин – сколько их! И если бы их все пережить, как эту, что сегодня, сердце давно лопнуло бы от грусти и страданий».
23 октября.
«…Можно, находясь в 500 шагах от противника, быть в тылу, раз нет хождения перед смертью. Только оно освежает часть или человека, оно держит его в постоянной боевой тренировке…»
24 октября. (В этой записи речь идет о бое, за который Снесарев был награжден Георгием третьей степени. Бой начался накануне сильной атакой австрийцев, которую удалось отбить ценой больших потерь. На следующий день части 64-й дивизии под командованием и при личном участии Снесарева нанесли контрудар.)
«Атака удалась и выполнилась так, как намечали. Результаты: положение восстановлено; взяты командир 42-й батареи [противника] (лучший в 6-й горной бригаде), 2 офицера и 167 нижних чинов (плюс 18 раненых), трупов – более 300. Кроме того: 2 пулемета, 3 бомбомета, 2 миномета, более 600 ружей и т. п. Два раза попали в сведения из Ставки; благодарил командующий 8-й армией (суховато) и главнокомандующий Юго-Западного фронта (очень тепло). Словом, дело вышло очень удачное, но не знай об атаке [противника], не поработай и не подготовь всего, позиция была бы, пожалуй, прорвана. Узнал, что здесь нервничали и уже поднимали вопрос, куда отходить».
27 октября.
«Сегодня хоронили Андрея Ивановича Спивакова и Дмитрия Филипповича Воробьева (погибших в бою 23 октября. В записи от 8 сентября Спиваков назван Спесяковым. – А. И.-Г.). Особенно жалко Спивакова, фраза которого („ну какой там крест придется – Георгиевский или деревянный“) никогда не забывалась мною… Он – как будто предвидел – обрел деревянный».
1 ноября.
«Средняя жизнь прапорщика после производства – две недели. Грустно, зло, но правдиво».
23 ноября.
«В Николаевском полку в ударе идет батальон Перекрестова. Я вижу сегодня четырех ротных командиров сего батальона – безусых мальчиков, и, готовясь послать их почти на верную смерть, я внимательно всматриваюсь в их лица, как внимательно рассмотрел вчера на панихиде лица пяти елисаветградцев, убитых в бою 15.11… Сегодня всматриваюсь в живых, завтра буду в мертвых всматриваться. И так всюду и везде. Здесь, на боевом поле, шагаем по трупам, бодрим и поощряем на смерть живых, чтобы потом оплакивать мертвых».
Как мы выяснили из послужного списка, после октябрьских событий 1917 года Снесарев ушел из армии «в долговременный отпуск» – то есть без намерения вернуться. Так же как и Врангель, уехал от беды – на родину, в Острогожский уезд.
Почему же весной 1918 года он пошел служить в Красную армию? Потому что надо было противодействовать наступлению немцев. После Брестского мира их продвижение продолжалось на юге; к началу мая заняли Донбасс, дошли до Ростова и до Валуек – а это уже родные снесаревские места.
Но почему он не пошел к белым? Ведь от Острогожска до Новочеркасска или Ростова рукой подать, ближе, чем до Москвы.
Ответив на это вопрос, мы обретем ответ на вопрос великий и трудный: почему красные победили в Гражданской войне?
Главная беда, главная причина поражения Белого движения заключалась в постулате: «Без нас – погибла Россия».
Основу Белого движения составляли убежденные энтузиасты, люди чести и принципа, не лишенные при этом серьезных, а иногда и великих амбиций. Вокруг них группировались смелые честолюбцы, которым жизнь не мила без подвига, победы, славы. Те и другие не могли принять большевиков, потому что считали их бесконечно ниже себя. Они и Родину любили горячей любовью, но лишь в ее славе. Униженную военной катастрофой и Брестским миром, они не могли ее принять. Для того чтобы восстановить честь России (как они ее понимали), готовы были погибнуть сами и погубить других. Когда их героический проект рухнул, они объявили, что Россия погибла.
Под прикрытием героев действовали авантюристы, ловкие гешефтмахеры, мелкие негодяи, хапуги, палачи – публика, которая умеет примазаться ко всякому большому делу. Много было просто увлеченной молодежи, вчерашних гимназистов, студентов, юнкеров, очарованных наркотическим обаянием, исходящим от первых двух категорий. Наконец, люди, случайно прибитые революционным штормом к белогвардейским берегам, составляли немалую часть движения.
Кого было меньше всего или, по крайней мере, явно недостаточно в Белом движении? Людей, умеющих и привыкших честно, последовательно, квалифицированно вести изо дня в день тяжелую, неприметную и часто неблагодарную работу по обустройству фронта и тыла. Такие люди не сверкают яркими искрами на поверхности событий, но именно они цементируют всякую людскую общность, придают ей единство, устойчивость и крепость. Белое движение представляло собой соединение отдельных личностей и сравнительно небольших групп, связанных общей ненавистью, а не совместным трудом.
Учась на математическом факультете, Снесарев занимался анализом бесконечно малых величин. Возможно, поэтому он яснее других представлял себе разницу между огромной величиной, каковой является Россия, и теми бесконечно малыми величинами, которыми оказываются рядом с ней отдельные лица и группы лиц. Ни царские вельможи, ни министры Временного правительства, ни немецкие генералы, ни большевики не могут быть причиной гибели России, потому что они несоразмерны ей. Поэтому, если сейчас в России плохо, надо работать ради ее будущего. Которое все равно будет.
Снесарев хорошо знал многих вождей Белого движения, с некоторыми водил дружбу (с Корниловым даже детей крестил). О положении дел на Дону и Кубани получал постоянно сведения от знакомых – ведь границ и определенных линий фронтов между белыми и красными территориями тогда еще не было.
Из дневника Снесарева, 10 (23) сентября 1918 года:
«Беседую урывками с Климовым (Вас. Мих.), кавалеристом… Он был в Ростове н/Дону в момент смерти Каледина („человек духа“). Как там все растерялись – бросился на Кавказ, хотел на Кубань, но там не повезло – приняли за Лукомского и чуть не расстреляли… Ушел назад. „Почему!“ – „Видите ли, кроме Алексеева, все в штатском, все с котелками; ютились в Батайске, в вагонах, а части в Ростове (12 вер.)… Все эти – Деникин, Лукомский, Марков – имели вид людей, готовых улететь куда-то на аэропланах… несерьезно все это было, растерянно, суетливо…“»[242]
«Улететь куда-то на аэропланах»… Это не для Снесарева.
В апреле немцы двинулись в наступление на Ростов, Донская армия Краснова – на Царицын. Совнарком и Высший военный совет в экстренном порядке стали скликать бывших генералов и офицеров Генштаба для организации обороны.
4 мая Снесарев приехал в Москву и явился в Высший военный совет к Бонч-Бруевичу. 8 мая получил удостоверение за подписью Ленина и Троцкого о назначении военным руководителем Северокавказского окружного комиссариата по военным делам. 26 мая прибыл в Царицын.
Это назначение стало самым высоким в его военной карьере, но и самым опасным. Части Красной армии пребывали в ужасающем состоянии, без дисциплины, без руководства, без знающих дело командиров. Некоторые из них больше походили на уголовные банды. Их надо было организовать – с опасностью для жизни. Еще опаснее оказалось другое: через несколько дней после Снесарева в Царицын из Москвы приехал народный комиссар Сталин, с неопределенными, по сути – неограниченными полномочиями. Как складывались отношения между комиссаром и военруком, в деталях мы не знаем. Но тот факт, что из дневника Снесарева были впоследствии вырваны и уничтожены именно страницы с записями за июнь и июль 1918 года, с очевидностью свидетельствует о нарастающем конфликте.
10 июля в Симбирске полыхнул мятеж Муравьева.
19 июля по инициативе Сталина были арестованы военспецы снесаревского штаба, через три дня – он сам. Большинство военспецов были расстреляны. Снесарева отпустили по решению московской комиссии. И направили подальше от белых, против немцев – руководить Западным районом завесы. Когда в ноябре 1918 года Германия пала и в ее пределах заполыхала революция, войска Снесарева, преобразованные в 16-ю Красную армию, совершили бросок на запад, от Смоленска к Гродно.
Но бывшим генералам в Москве доверия не было. От командования армией Снесарева отстранили. В августе 1919 года он был назначен начальником Академии Генерального штаба, воссоздаваемой после революционного разгрома.
Снесарев был поставлен во главе Академии как раз тогда, когда разворачивалось деникинское наступление на Москву. Наступление закончилось катастрофой; белые откатились к Белгороду и Харькову. В ноябре 1919 года Деникин назначил своего недруга Врангеля командующим Добровольческой армией вместо Май-Маевского. Но уже через месяц конфликт между двумя генерал-лейтенантами обострился до такой степени, что Деникин, невзирая на растущую популярность Врангеля среди белогвардейцев, отстранил его от командования армией и уволил в отставку. Врангель уехал в Стамбул.
Тяжелые поражения белых в начале 1920 года лишили Деникина авторитета и власти. После совещания с генералами 4 апреля 1920 года в Севастополе он передал свои полномочия Врангелю, прибывшему на британском линкоре из Стамбула. К этому времени белые относительно прочно удерживали только территорию Крыма.
Врангель установил в Крыму режим военной диктатуры, реорганизовал белые армии, осуществил ряд многообещающих реформ. Политика его была достаточно энергичной и гибкой: отразив попытки красных прорваться в Крым, он организовал наступление на Каховку и Мелитополь и вместе с тем пытался вступить в переговоры с большевистским правительством. Идея компромисса: сосуществование двух Россий – огромной большевистской и маленькой либерально-демократической в Крыму.
Однако силы белых войск были надломлены; поддержки от Запада они не получили. Красные вместо переговоров пошли на штурм и 8 ноября прорвались в Крым. 12–16 ноября части Русской армии Врангеля и некоторое количество гражданского населения были эвакуированы из Крыма в Турцию. В дальнейшем воинские части были переведены в лагерь в Галлиполи (Гелиболу) и на остров Лемнос; Врангель со своим штабом до 1922 года пребывал в Стамбуле. Впоследствии жил в Сербии (Королевство сербов, хорватов и словенцев), в городке Сремски-Карловцы. Основал Российский общевоинский союз – объединение белогвардейцев-эмигрантов. В 1927 году переехал в Брюссель.
В начале 1928 года Врангель простудился, болезнь приняла опасный характер. На ее фоне стремительно стал развиваться туберкулезный процесс. 25 апреля Петр Николаевич скончался.
Его смерть породила слухи об отравлении. Эту версию большинство серьезных исследователей считает необоснованной.
В 1929 году останки Врангеля были перезахоронены с воинскими государственными почестями в русском Свято-Троицком храме в Белграде, столице Сербии.
Два сына и две дочери Врангеля жили в разных странах Европы и в США благополучно и долго.
Что касается Снесарева, то он пережил Врангеля на девять лет, но эти годы были полны страданий.
Службу в Академии Генштаба (с 1921 года – Военной академии) и других военно-учебных и военно-научных учреждениях он продолжал до 1930 года. В 1928 году был удостоен почетного звания Героя Труда. В январе 1930 года арестован, осужден по обвинению в создании подпольной контрреволюционной организации и приговорен к расстрелу. Излишне говорить, что вся «организация» заключалась лишь в старых знакомствах и в относительно вольных разговорах. По личному решению Сталина (о чем сохранилась его собственноручная записка) смертная казнь была заменена десятью годами лагерей. Часть срока отбывал в Свирьлаге, на лесоповале, погрузке-разгрузке барж, земляных работах. Там встречался с известным философом Алексеем Федоровичем Лосевым и, возможно, со священномучеником Сергием Мечевым. В лагере продолжал работу над сочинениями, суть которых – осмысление опыта Великой войны. В 1933 году перенес инсульт, но освобожден «условно-досрочно, по состоянию здоровья» был только в сентябре 1934 года.
Скончался 4 декабря 1937 года. Посмертно реабилитирован в 1958 году.
Стараниями детей, внуков, бывших учеников имя генерала-мыслителя стало постепенно возвращаться из бездны забвения. Но и сейчас мало кто в нашей стране знает хоть что-нибудь о военачальнике, который на исходе великого мирового человекоубийства писал:
«Человеком надо заниматься серьезно, проникновенно и всесторонне, думая о тех мотивах, которые… окрыляют его на подвиги и самопожертвование, думая об его духовной организации, его нервной системе и пределах ее упругости; думая и о том человеке, который остается в тылу, который, идя за плугом в поле или работая за станком на фабрике, несет на своих плечах ту же боевую ношу, как и его соратник в далеких и сырых окопах»[243].
Ваше благородие госпожа Удача, или Пляски богов
Пятнадцать минут времени, чтобы „Офицер“ прошел за выходной семафор! Если в течение этого времени приказание не будет исполнено, коменданта арестовать! А начальника станции повесить на семафоре, осветив под ним подпись „Саботаж“».
Эти слова произносит генерал Хлудов в пьесе Булгакова «Бег». «Офицер» – название бронепоезда. Повесить человека с обозначением вины – излюбленный прием белогвардейского генерала Слащева. Во всяком случае, такие рассказы об этом человеке слышал Булгаков. Одни рассказывали о Слащеве со страхом, другие – с ненавистью, третьи – с восторгом.
Яков Александрович Слащев-Крымский. Гвардии полковник. Кавалер всех боевых наград Российской империи. Генерал-лейтенант Русской армии Врангеля. Командир Красной армии. Человек, похожий на бога войны. Человек, который болен войной.
С детства мне хорошо знакомо это здание на углу Лиговского проспекта и улицы Некрасова (бывшей Бассейной). В нем, помнится, зимними вечерами светились окна, мелькали тени, раздавались свистки – то была какая-то спортивная школа. На время советских выборов там открывался избирательный участок, вход в который был увешан красными кумачовыми лозунгами: «Да здравствует нерушимый блок коммунистов и беспартийных!», «Ленинград – колыбель революции!» И там я, восемнадцатилетний, первый раз в жизни опускал бюллетень в урну. Первый и до падения советской власти – единственный: больше на те фальшивые выборы я не ходил.
А может быть, и зашел бы – не ради права голоса, а ради прикосновения к прошлому, – если бы знал, что в этих непритязательных школьных стенах до революции располагались гимназия и реальное училище Якова Гуревича. И что по этим лестницам и коридорам в разные годы бегали мальчишки: Сережа Маковский, Коля Гумилев, Леня Каннегисер, Костя Вагенгейм. Я знал уже тогда, что поэт и критик Сергей Маковский создал журнал утонченных гениев «Аполлон» и умер в эмиграции; что поэт и георгиевский кавалер Николай Гумилев был расстрелян чекистами; что поэт Леонид Каннегисер убил председателя ЧК Урицкого и тоже был расстрелян; что поэт Константин Вагинов (до 1915 года – Вагенгейм) воевал под красным знаменем с поляками и японцами…
В этой школе вообще завязывались узелки многих необыкновенных судеб. В 1903 году ее окончил юноша Яков Слащев (или Слащов – так обычно писалась его фамилия до революции). Ему тогда было восемнадцать лет – столько же, сколько было мне, когда я единственный раз побывал в этом здании на выборах.
Яков происходил из хорошей дворянской семьи. Согласно «Гербовнику», Слащевы еще во времена царя Михаила Федоровича «многие Российскому престолу служили разные дворянские службы в разных чинах и жалованы были от государей поместьями». Правда, высоко по чиновной лестнице не поднимались и больших владений не имели. В общем-то, о них не много сохранилось сведений. Известно, что Яков Александрович Слащев, рождения 1808 года, дослужился до чина подполковника и имел собственных два дома в Гатчине. Умер он в 1875 году, и там же, в Гатчине, на Новом кладбище был похоронен. Через двадцать семь лет рядом с его надгробием появилось надгробие его сына, гвардии полковника Александра Яковлевича Слащева. Сей последний родился в 1847 году, участвовал в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов. Война закончилась, гвардия вернулась в Петербург. В декабре 1885 года (точная дата вызывает споры) у Александра Яковлевича и его супруги Веры Александровны родился сын Яков. Вот он, когда подрос, надел поверх мундирчика реалиста ремень с надписью на пряжке: «СПРУГ». Санкт-Петербургское реальное училище Гуревича.
Как учился и какого был поведения – об этом нам ничего не известно.
Гимназические и реальные классы существовали у Гуревича в едином школьном пространстве. Наш реалист наверняка с любопытством поглядывал на старшего гимназиста, долговязого, нескладного, отмеченного характерным большеротым вытянутым ликом – Игоря Стравинского. Гимназист сей был известен всей школе музыкальной одаренностью и резким характером. В глазах Яши Слащева он, наверно, выглядел недосягаемым небожителем: на два класса старше! А двумя классами младше учился аккуратный, безукоризненно воспитанный красавчик – Феликс Юсупов. В школе старшие обычно мало смотрят на мелюзгу. Но на этого фарфорового мальчика, обладавшего каким-то странным, как будто прячущимся взглядом, трудно было не обратить внимания: князь, аристократ голубых кровей, богатейший наследник России. Кто бы мог угадать в нем будущего убийцу Распутина…
Да! Если бы кто знал, во что превратятся дети, когда станут взрослыми! Вон тот косоглазый двоечник и драчун Коля Гумилев закончит жизнь в ореоле героя, в сиянии поэтической славы. А этот нежный мальчик с аккуратным проборчиком, князь Феликс, будет остервенело лупить смертельно раненного Распутина дубинкой по окровавленной голове. Интересно, кем станет этот гибкий юноша с открытым, светлым взглядом – Яша Слащев? Легендарным генералом? Героем войн? Убийцей? Палачом? Артистом? Писателем? Пьяницей? Кокаинистом? Секретным агентом спецслужб?
Из рассказов о Слащеве, собранных генерал-лейтенантом Петром Ивановичем Аверьяновым, 1920 год:
«Воодушевив прибывших несколькими словами, Слащев сам повел 250–300 юнкеров на мост – под звуки оркестра, в колонне, отбивая шаг, точно на церемониальном марше. С генералом Слащевым и ординарцем Никитой впереди юнкера прошли по мосту и бросились в атаку на противника – который бросил пулеметы, не пытаясь даже стрелять!»[244]
Из рукописи «Крым в 1920 г.» участника Белого движения В. Дружинина:
«Генерал Слащов был герой тыла и любимец фронта. Где появлялся он, там был обеспечен успех. Многие утверждали, что он ненормальный и только кокаин дает ему энергию»[245].
Из воспоминаний Врангеля о Слащеве. 1920 год:
«…Его трудно было узнать. Бледно-землистый, с беззубым ртом и облезлыми волосами, громким ненормальным смехом и беспорядочными порывистыми движениями, он производил впечатление почти потерявшего душевное равновесие человека»[246].
«Злоупотребляя наркотиками и вином, генерал Слащев окружил себя всякими проходимцами. <…> Следствие… обнаружило, что в состоянии невменяемости генералом Слащевым был отдан… приказ расстрелять без суда и следствия полковника Протопопова…»[247]
Надо полагать, Яша в старших классах уже мечтал о военном мундире, походах, подвигах и сражениях. А может быть, и не мечтал; может быть, хотел стать поэтом, музыкантом, путешественником. Но в 1902 году умер его отец. Надо было пробивать себе дорогу в жизни. Проще всего, естественнее всего было ему, сыну и внуку офицеров, идти по военной стезе. Получив в 1903 году аттестат зрелости, Яков Слащев поступил юнкером в Павловское военное училище.
Это престижное училище тоже богато знаменитыми выпускниками. Из их длинного списка выберем несколько имен. На одном курсе со Слащевым учился Владимир Константинович Витковский. Их жизненные пути долгое время шли параллельно. Оба служили в гвардии (правда, в разных полках); крест Георгия и чин полковника за боевые заслуги получили в 1916 году почти одновременно. В Добровольческой армии оба прославились отчаянными десантами, оба завоевали себе генеральские погоны. Во врангелевском Крыму, в борьбе за командование гибнущей армией, они столкнулись – и разошлись врагами. В 1921 году один уехал во Францию, другой вернулся в Советскую Россию… Не будем, однако, забегать вперед.
Михаил Гордеевич Дроздовский, фронтовой командир Витковского и его любимый вождь в Гражданской войне, тоже окончил когда-то Павловское училище. «Павлонами» гордо называли себя генералы Куропаткин, Крымов, Краснов; имена сих видных персон Великой войны и смуты не раз появлялись в наших рассказах. Через три года после выпуска Слащева и Витковского из этих же стен, что до сих пор стоят на улице Красного Курсанта в Петербурге (бывшей Большой Спасской), отправится к месту службы в Забайкальское казачье войско хорунжий барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг. А в предпоследний год существования императорской России ускоренные курсы Павловского училища окончит юнкер Михаил Зощенко. За двадцать два месяца пребывания на фронте он завоюет пять боевых орденов, дослужится до чина штабс-капитана, будет отчислен из строя по состоянию здоровья (следствие отравления газами в 1916 году под Сморгонью) и – станет писателем, одним из первых великих мастеров послереволюционного русского слова.
Слащев по окончании училища в 1905 году был выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Финляндский полк. Тут сыграли роль два обстоятельства: гвардейская служба покойного отца-полковника и внешняя стать молодого офицера. В гвардию старались подбирать солдат и офицеров видных, рослых, красивых, которые могли бы украсить собой столичные парады и придворные церемонии. Слащев подходил по всем статьям: высокий, крепко сложенный, физически сильный, полный мужественного обаяния. Волевые черты лица, широкий крутой лоб, взор светлый и пламенный…
Надо полагать, подпоручик пользовался успехом у женщин.
А это и для карьеры бывает полезно.
Нам неизвестно, какие страсти кипели вокруг импозантного офицера, но знаем, что закончились они в 1913 году женитьбой. И весьма удачной: поручик Слащев женился на дочери своего полкового командира генерал-майора Владимира Аполлоновича Козлова. Как это романтично: поручик и генеральская дочь, притом единственная, притом и имя чудесное: Софья, Сонечка… В браке они прожили недолго. Сонечка была беременна, когда началась война. Потом революция, фронтовые увлечения Яши, эмиграция Софьи Владимировны вместе с маленькой дочерью Верой, родившейся в начале 1915 года… Но мы опять забегаем вперед.
По службе Слащев продвигался весьма успешно. Всего три года отмаршировал в полку в младшем офицерском чине и в 1908 году поступил (скорее, был направлен) в Николаевскую академию. Через год произведен в гвардии поручики. Учился в Академии, правда, без блеска и без желания. Это и понятно: его манила гвардейская карьера, к которой академическое образование прилагалось лишь в виде свидетельства об окончании. После трех курсов Академии к Генштабу причислен не был, вернулся в свой полк. Через два года, как мы уже знаем, женился, вслед за тем произведен в гвардии штабс-капитаны.
Надо пояснить: с 1884 года обер-офицеры гвардии считались выше армейских на один класс Табели о рангах. Гвардии поручик при переводе в армию становится штабс-капитаном, гвардии штабс-капитан – капитаном. Штаб-офицерский чин подполковника в гвардии был упразднен, из гвардии капитанов следовало производство в полковники. Эта система была, конечно, несправедливой и приносила большой вред армии, затрудняя путь наверх способным армейским офицерам из низов. Ведь в гвардию принимали не за ум и не за заслуги, а за происхождение и внешность. Чины, которые армейские офицеры в дальних гарнизонах выслуживали десятилетиями трудной и опасной службы, гвардейцам давались легко и быстро. Несправедливость усугублялась тем, что гвардейские офицеры, как правило, были хорошо обеспечены, многие из них весьма богаты; армейские жили жалованьем, которое зависело от чина. Семейный поручик или штабс-капитан едва сводил концы с концами и как манны небесной ждал производства в следующий чин… И тут приезжает из столицы гвардеец или штабной «момент» и перехватывает вакансию.
Но у Слащева в этом отношении (да и в других прочих) жизнь складывалась прекрасно. Встречая новый, 1914 год, он имел все основания радоваться жизни. Что нужно человеку в двадцать восемь лет, на исходе молодости, на пороге зрелости? Состояние? Он неплохо обеспечен, хотя и не обременен чрезмерным богатством. Семья? Он счастливо женат и имеет все основания надеяться, что в ближайшее время продолжит и умножит славный род Слащевых. Круг общения? Гвардии штабс-капитан будет радушно принят в любом светском салоне Петербурга. Перспективы роста? Они блестящи. Тесть, генерал Козлов, повышен до командира гвардейской бригады; видимо, не без его участия Слащев получает прекрасное место: младший офицер, преподаватель тактики в Пажеском корпусе с оставлением при гвардейской пехоте. Пажеский корпус – самая привилегированная, самая элитарная школа Российской империи. Оттуда со временем можно будет перескочить на выгоднейшую должность – хоть в Генеральный штаб, хоть в Военное министерство, хоть в любую строевую часть. Да и до флигель-адъютантства рукой подать…
Вот фотография. На ней – высокий, стройный штабс-капитан с небольшими усиками в парадном гвардейском мундире. Стоячий воротник, горжет, эполеты. Идеальная выправка. Ниже горжета на ленточке орден Станислава, на груди справа – знак выпускника Николаевской академии и Мальтийский крест офицера Пажеского корпуса. Выражение светлого лица – ожидающее, как будто вот-вот откроется ему великое и прекрасное будущее.
«И обратил противника в бегство»
Все изменила война.
27 июля 1914 года колонны Финляндского полка выступили из казарм на Николаевской набережной Васильевского острова и под полковой оркестр, под бодрящую музыку маршей двинулись в сторону Варшавского вокзала. Вдоль их пути всюду толпились обыватели; барышни кидали цветы; гимназисты махали руками и провожали гвардейцев горящими взорами…
По плану развертывания вся гвардия должна была войти в состав 1-й армии Ренненкампфа и вместе с ней наступать на Кёнигсберг. Но гвардейская пехота не поспела за конницей. Кавалерийские полки уже выступили в поход, а пехотные только сосредоточивались в заданных районах. Ставка решила перенацелить их на направление Варшава – Берлин, на котором планировалось наступление. Катастрофа армии Самсонова в Восточной Пруссии и опасное положение, сложившееся на Юго-Западном фронте под Люблином, опрокинули эти планы. Гвардейская пехота была переброшена к Люблину. 25 августа Финляндский полк вступил в свой первый бой у деревни Гелчев, в тридцати верстах южнее Люблина.
Слащев оказался на фронте не сразу. Как офицер Пажеского корпуса, он мог продолжать службу в тылу, в Петербурге, – учить пажей тактике. Молодая жена на сносях, наверно, умоляла его воспользоваться сей благой возможностью, остаться хотя бы на время. Но это ли дело для честолюбивого, полного сил офицера? Позорно сидеть в тылу, когда полковые товарищи чуть ли не каждый день добывают себе звезды на погоны да получают кресты (кому повезет – Георгиевские, кому нет – деревянные…). Мы не знаем точно, когда штабс-капитан Слащев прибыл к своему полку. Официально в приказе он откомандирован из Пажеского корпуса и включен в список офицеров лейб-гвардии Финляндского полка с 31 декабря 1914 года. Но вполне возможно, что уехал из Питера, не дожидаясь приказа: слишком велико было в его нетерпеливой душе желание попробовать себя в бою, отличиться, поймать военную удачу и славу.
Не дождался он и рождения дочери. Видел ли он ее вообще когда-нибудь? Возможно, что не видел. Никаких сведений о его приездах в Петербург в последующие три года у нас не имеется. Потом Гражданская война, разрыв всех связей…
В декабре – январе гвардия стояла в резерве. В феврале Финляндский полк был выдвинут к северу от Варшавы, на Млавское направление. Первые дела, в которых мог проявить себя ротный командир Слащев, развернулись у деревни Едвабно. И он себя проявил. Подробности не сохранились, но за эти кровопролитные бои, в которых полк потерял убитыми, раненными, контуженными четверть офицеров, штабс-капитан Слащев получил свою первую боевую награду – Анну четвертой степени, «клюкву».
При награждении Анной четвертой степени на эфесе холодного оружия делалась надпись: «За храбрость». Он действительно был отчаянно храбр, штабс-капитан Слащев. В том море огня, грязи и смерти, которое представляли собой сражения Первой мировой войны, он нашел себя, он, можно сказать, купался в этой стихии. В ужасном есть прекрасное. Слащев был художник боя и смерти. Его могучая и страшная красота в бою увлекала подчиненных, устрашала противника. В нем действительно было что-то от бога войны – огромного, ярого, отчаянного, безумного.
Свидетельствует полковник Дмитрий Иванович Ходнев, офицер лейб-гвардии Финляндского полка:
«Разве можно забыть подвиг командующего 1-м батальоном, шт[абс]-кап[итана] Слащева?! Ровно в час, назначенный для атаки, минута в минуту, он встает во весь свой рост, снимает фуражку, истово крестится и с обнаженной шашкой идет вперед, ведя роты на смерть или победу…
Это была изумительно красивая, но жуткая картина! Пример начальника имеет в бою колоссальное значение; за таким офицером солдаты всегда пойдут хотя бы и на верную смерть»[248].
За отчаянно смелые действия награды следовали, догоняя друг друга. После «клюквы» – Анна третьей степени с мечами и бантом; далее Станислав с мечами, Владимир второй степени с мечами и бантом. Летом 1915 года, в дни тяжелейших сражений на всем фронте, он за три дня боев получил сразу две георгиевские награды. Правда, они нашли героя не сразу. Год пришлось ждать.
Высочайшим повелением от 18 июля 1916 года штабс-капитан Слащев награжден орденом Святого Георгия четвертой степени: «За то, что 20 июля 1915 года, командуя ротой в бою у д[еревни] Кулик, оценив быстро и верно обстановку, по собственному почину бросился во главе роты вперед, несмотря на убийственный огонь противника, обратил части германской гвардии в бегство и овладел высотой, имевшей столь важное значение, что без овладения ею удержание всей позиции было бы невозможно» [249].
Чуть позже, одновременно с производством в капитаны, прильнуло к его боку и георгиевское оружие: «За то, что 22 июля 1915 года в бою у д[еревни] Верещин, командуя батальоном и лично находясь на позиции под сильнейшим огнем противника, видя отход соседней части, по собственному почину бросился во главе своего батальона в атаку и обратил противника в бегство, чем восстановил положение и предотвратил возможность потери позиции»[250].
Обратим внимание: 20 июля он командует ротой, а 22-го – батальоном. В тяжелых оборонительных боях, в контратаках быстро выбывали из строя офицеры. Младшие становились на место старших. Назначения и производства в чины опаздывали порой на многие месяцы. По штату командир батальона должен быть в чине капитана. Чин этот был присвоен Слащеву только приказом от 28 сентября 1916 года, но со старшинством от 19 июля 1915 года – отсчет от тех боевых дней под городом Холмом.
В том же бою гвардии штабс-капитан Слащев был контужен. До этого за год войны на его счету имелись три боевых ранения и одна контузия. Еще две пули настигли его годом позже, во время кровавых боев на Ковельском направлении.
Сам Слащев воспоминаний о своем участии в мировой войне не оставил и о ранениях не рассказывал. Попытаемся отчасти восполнить этот пробел, используя свидетельство другого офицера, скрывшего свое имя за литерами К. Р. Т. Из контекста видно, что офицер этот, как и Слащев, был ротным командиром; как и Слащев, участвовал в боях на Луцком направлении (правда, несколькими месяцами раньше).
Рассказ о ранении. Из воспоминаний офицера. Действие происходит 23 мая 1916 года, в первый день Луцкого прорыва.
«Я встал опять, отдал винтовку стрелку, вынул из кобуры наган и стал стрелять в находившихся шагах в 50–70 австрийцев. Сделав два промаха, я почувствовал, что меня охватило какое-то полное безразличие… В этот же момент я почувствовал страшный удар в голову, ослепительно белый свет в глазах, почувствовал, что меня перевернуло вокруг оси на 180 градусов и что я падаю на колени, и слышу крик стрелков: „Ротный убит!“ – вижу, что стрелки один за другим вскакивают на ноги и бегут. Бегут, после такого успеха! Я закричал: „Куда? стойте! Я ранен!“ – не тут-то было! Оставшись без офицера, люди убежали и скрылись в окопах противника… Захаров и Гаголкин кинулись ко мне с перевязочным пакетом, я стою на коленях, чувствую, что у меня по правой щеке что-то течет, провожу рукой и смотрю – не кровь, а похожее на сырой яичный белок. Спрашиваю: „Глаз цел?“ – „Никак нет“. <…>
Я потерял сознание и очень надолго, что меня сочли умершим от раны. Очнулся я уже совсем на закате солнца и от того, что кто-то ударил меня в затылок. Вижу, что я лежу на склоне небольшой лощины между нашими и австрийским окопами, слева от меня длинная шеренга убитых наших стрелков, лежащих вплотную, а я, так сказать, правофланговый этой шеренги мертвецов, впереди слева огромная яма – братская могила, в которой уже лежит несколько рядов, один поперек другого, убитых. Значит, раз я фланговый, и моя очередь ложиться в могилу и меня уже хотели уложить в могилу – к ногам и голове подошли стрелки похоронной команды, и тот, который должен был взять меня за плечи, нечаянно ударил носком сапога в затылок, что и привело меня в сознание…»[251]
Слащеву повезло: в окопных боях, в лобовых атаках он не потерял ни руки, ни ноги, ни глаза. В тыловых госпиталях не отлеживался. Потерю крови, жар, слабость, боль он силился перемогать, оставаясь в строю. Чего это ему стоило? Не ради ли преодоления немощи и боли стал он употреблять наркотики? Или изведал их смертельные чары еще до войны, в блистательном и преступном Санкт-Петербурге? Модное это было занятие среди столичной богемы и знати… Впрочем, был ли он на самом деле подвержен демонам морфина и кокаина? Или это выдумки его недругов? Или один из мифов, окруживших его образ, когда он стал легендарным?
В геенне огненной под Ковелем были сожжены и развеяны по ветру отборные силы императорской гвардии. Время жизни человеческой измерялось днями, часами, минутами. Потери были огромны, цели не достигнуты.
Свидетельствует полковник Ходнев:
«Роты шли вперед – „по-гвардейски“: цепь за цепью; мерно, настойчиво; упорно… Впереди офицеры, в золотых погонах, с полковыми знаками на груди. За ними солдаты с отличительными кантами на защитных рубахах. Шли, умирали, а за ними также доблестно волнами перекатывались резервные роты. <…>
Все командовавшие ротами при прорыве были убиты или ранены… От Е[го] В[еличества] роты, бывшей в первой линии, осталось в строю – из числа около двухсот человек – всего лишь не более десятка. <…>
Солдатский состав, незадолго до этого приведенный в блестящее состояние… – был уничтожен весь, в несколько часов…
Овладеть Ковелем – этим важным в стратегическом отношении узлом путей – не удалось. <…> Винить солдат и офицеров не приходится: и те и другие честно исполнили свой долг, и тому доказательством – бесчисленное количество новых могил по всему гиблому болоту реки Стохода»[252].
Не успел Слащев привыкнуть к капитанским погонам без звездочек, как через месяц вышел приказ о его производстве в полковники за боевые отличия. В тридцать лет стать полковником гвардии – это значит почувствовать в своих руках знамя Бонапарта.
Он был отравлен войной. Он ничего более не хотел, кроме войны, подвига, победы, славы.
Революция, начинавшаяся под лозунгом «Долой войну!», была ему врагом. Но в ее сумбурных водоворотах он скоро почувствовал наполеоновскую стремительность.
В июле 1917 года, в разгар перетрясок по военному ведомству, устроенных Керенским, полковник Слащев был назначен командиром Московского полка (бывшего лейб-гвардии, теперь – просто гвардейского). К этому времени он, надо полагать, не сомневался: будет война Гражданская. Он был готов к ней и не боялся ее. Вскоре после Октябрьского переворота Слащев отправился на Дон. От Тарнополя, где он участвовал в последних боях с немцами и австрийцами, до Новочеркасска ближе, чем до брегов Невы. Да и не с тыловыми же крысами, советскими и учредиловскими, зимовать ему в Петрограде!
К Добровольческой армии он присоединился не позднее января 1918 года. В марте – апреле – на Ставрополье, собирает офицеров в отряды. Его увлекла, не могла не увлечь эта странная, неправильная, партизанская, лихая война. В мае он уходит от «добровольцев» – к кубанцам в отряд Шкуро; после признания кубанцами власти Деникина становится начальником штаба в дивизии черкеса Улагая, развернутой из того же отряда. И под трехцветными знаменами Добрармии это – вольница, а не регулярное войско. Ни формы, ни уставов, лишь бросок, натиск, успех. Он хочет своего войска – что ему должность начштаба! Он сам себе боевой вождь. Под его командой соберутся такие же охотники за боевой удачей.
Отряд, который он собрал, уже в ноябре 1918 года был назван Первой отдельной кубанской пластунской бригадой. Через три месяца бригада выросла в дивизию. Впрочем, эти дивизии и бригады по численности были в разы, а то и в десятки раз меньше дореволюционных. Не числом воевали, а ярым и переменчивым духом.
1919 год. Слащеву – тридцать три. Он стремительно вырывается в первые ряды героев Белого движения, в обход «их превосходительств» и «высокопревосходительств». Он не просто вождь, он – свой вождь, яркий вождь, необыкновенный вождь.
Из рассказов о Слащеве, собранных генералом Аверьяновым:
«Слащов после развала императорской армии и в эпоху гражданской войны никогда не носил военной формы с погонами… На вопрос [Деникина] „Почему?“ Слащов ответил: „Добрармия живет грабежом, не следует позорить наши старые погоны грабежами и насилиями“. <…>
Вместо царской военной формы Слащов носил опушенный мехом белый доломан или казакин без погон и без отличий, накинутый на плечи красный башлык и папаху, а вместо шашки имел всегда в руках толстую сучковатую дубинку. Не менял он этой формы и не надевал погон иногда даже и в официальных случаях. <…>
Держал себя Слащов с офицерами и солдатами очень просто, доступно, всякий мог смело обратиться к нему с правдивыми словами во всякое время и при всяких обстоятельствах. Жил тоже очень просто, в самой скромной обстановке, почти по-спартански, в обыкновенном вагоне»[253].
Ответ Слащева (через адъютанта) на бесчисленные запросы крымского гражданского губернатора Татищева о положении на фронте под Перекопом 24 января 1920 года, после отражения атаки красных:
«Передай губернатору, что вся тыловая сволочь может слезать с чемоданов»[254].
В мае 1919 года Деникин произвел его в генерал-майоры.
18 июня (5 июня по старому стилю) в море перед диким крымским селением Коктебель появились силуэты двух кораблей. В одном, массивном, знатоки распознали крейсер. Другой, маленький буксир, прыгал на волнах возле большого брата, как щенок возле быка. Гулко ударили орудия больших калибров. На берегу строем выросли столбы взрывов. Буксир и шлюпки отделились от борта серой громады. Корабельная артиллерия перенесла свой огонь подальше от берега. Плавсредства приблизились к кромке пляжа, солдаты и офицеры посыпались на мелководье. Среди первых в лазурную воду спрыгнул высокий командир в кубанке и белом полукафтане без погон. Затрещали винтовки и пулеметы. Немногочисленные красноармейские части, застигнутые врасплох, не приняли боя, отступили от Коктебеля к Старому Крыму.
Так совершилось одно из чудес Гражданской войны – десант войск Слащева под Коктебелем. Крым, завоеванный красными полтора месяца назад, в несколько дней стал добычей белых.
Через год Слащев повторит свой смелый десантный маневр. Это произойдет уже при главнокомандующем Врангеле, в разгар борьбы за Южную Таврию, за приазовские степи. Успех превзойдет все ожидания и породит рассказы-легенды.
Сведения о десанте Слащева, в результате которого был взят Мелитополь:
«24-го мая 1920 года, за день до выхода Русской Армии за Перекоп, Крымский Корпус (2-й) ген. Слащева высадился в тылу красных, в Азовском море, между селами Кирилловка и Степановка. <…>
…Всего около 10 000 штыков и сабель, 2000 лошадей, 50 орудий, 2 автоброневика и 150 повозок обоза. <…>
Условия высадки были чрезвычайно тяжелые, на море был сильный шторм, шел дождь, сильный прибой переворачивал шлюпки, войска высаживались по плечи в воду. Потери при высадке – 1 вольноопределяющийся и 2 лошади»[255].
Рассказ об этом же десанте у Аверьянова:
«С музыкой, игравшей на палубах, развевающимися флагами, с пением песен сидевшими на судах войсками, в стройных кильватерных колоннах, как на церемониальном марше, вошли в Азовское море суда и продолжали идти по этому морю на виду у наблюдавших с побережья красных. Наконец колонны судов стали на якорь, и на судах началось веселье и пляски под музыку и песни.
Оборонявшие побережье красные были в полном недоумении, не зная, чем объяснить такое поведение белых… в результате они даже не стреляли, а с наступлением темноты стали и отступать от береговой линии. Между тем веселье продолжалось на судах Слащова до наступления темноты, а с темнотой, совершенно неожиданно для красных, началась высадка отряда Слащова на побережье»[256].
Рассказ, конечно, фантастичен. Так образ Слащева сливался с легендой про Стеньку Разина.
Но война – война Гражданская – не сказка, не веселье, не пляска под флагами. Сама смерть пляшет на необозримых просторах Кубани, Приазовья, Крыма. Убийство вместо пахоты, братские могилы да неубранные трупы вместо жатвы. Радость человеческая – убить другого и выжить самому. В штабе Слащева, в его салон-вагоне, мечущемся по железным дорогам вдоль колеблющегося фронта, – шумно, беспорядочно, накурено, пьяно. Между напряжением боев – короткие взрывы бурного отдохновения. Музыка, водка, кокаин. Кокаина – засыпься: французские моряки тайно торгуют им в Николаеве, а Николаев под контролем Слащева… В окнах вагона отражены смертельно испуганные лица станционных обывателей. Кого там расстрелять? Кого повесить? Пощады нет.
В этом круговороте смеха и смерти, подвига и подлости настигла Слащева неожиданная зарница не этой жизни: любовь. Кто была его подруга? Откуда взялась на кровавом пути? Есть полулегендарные рассказы, нет правдивого ответа. Ни имя, ни фамилия этой женщины достоверно не известны. Если бы не запечатлелся ее юный военный образ на фотографии вместе со Слащевым и офицерами, то можно было бы подумать, что ее не было вовсе; был вымысел, еще одна легенда, тень.
Но она все-таки была. За ней закрепилось имя Нина. Фамилия – Нечволодова. Об отчестве спорят. Более никаких надежных данных нет. Говорят, происходила из офицерской семьи. Действительно, несколько Нечволодовых воевали среди белых и среди красных. Никому из них нельзя уверенно приписать родство с ней. Говорят, была сестра милосердия. Говорят, спасла раненого Слащева от наступающих красных, вынесла его на себе. Все это только рассказы не причастных к тайне людей. Она носила военную одежду, но не форменную, а такую же придуманную, как и Слащев. Именовалась – полуофициально-полуиронически – его ординарцем: ординарец Никита, поручик Нечволодов. Она пребудет со своим генералом Яшей до самой его смерти, родит ему дочь – а потом исчезнет без следа в хмуром бытии Советской России.
Эти странные двое – был бог войны, а теперь с ним еще и богиня? – больше года прожили в военном вагоне на рельсах вездесущей войны. А война и в самом деле кружила со всех сторон: тут красные, там Махно, там зеленые, а в самом Крыму, в тылу, – мятежный капитан Орлов с отрядом озлобленных офицеров. И на всех врагов, явных и тайных, одна управа – смерть.
Будучи хозяином в Крыму в девятнадцатом, и потом в Николаеве и Херсоне, и снова в Крыму, и в Александровске[257], и в Мелитополе, генерал Слащев отправлял на смерть других людей с такой же легкой ясностью, с какой сам смотрел смерти в глаза.
Рассказывали примерно такие истории.
Сидит Слащев в Николаеве в ресторане на Соборной улице, пьет один в пустом зале. Подбегает офицер, козыряет:
– Ваше-ство, красные подходят!
Генерал молчит, смотрит в стол, голова рукой подперта.
– Ваше-ство, в тюрьме полно подозреваемых в связях с большевиками!
Генерал поднимает тяжелые, налитые кровью глаза:
– Где проект приказа?
Всего три слова. Хриплый голос.
Офицер подает какую-то бумажку и карандаш. Генерал не глядя ставит кривой росчерк: «Расстрелять. Слащев». Ночью все арестованные расстреляны.
Правда это или нет? Кто теперь скажет?
Из рассказов Аверьянова:
«…Перед поездом Слащова одинаково висели на столбах по несколько дней и офицеры, и солдаты, и рабочие, и крестьяне. И над каждым из них черная доска с прописанными на ней подробно фамилией, положением и преступлением казненного, а через всю доску шла подпись мелом самого Слащова с указанием – сколько дней надлежит трупу казненного висеть на столбе»[258].
Из рукописи Дружинина «Крым в 1920 г.»:
«На трамвайных столбах мы увидели трех повешенных. Когда мы подошли, то увидели, что это висят махновцы. Один офицер и два солдата. Повешены они были в форме. У каждого из них в руках был лист бумаги, на котором синим карандашом было написано: „За грабеж мирного населения. Слащов“. <…>
Эти трупы висели три дня. Слащов не церемонился»[259].
Про анархистку Марусю Никифорову
Летом или осенью 1919 года в Крыму была повешена (или расстреляна?) Маруся Никифорова, анархистка, знаменитая своей атаманской удалью, мужским образом в полувоенной одежде, погромами Советов, расстрелами офицеров. Про нее Снесарев записал в своем дневнике в мае восемнадцатого: «…Поезд остановлен Марусей Никифоровой (обычная девка в папахе, но красивая), окруженной матросами, анархистами-коммунистами. У офицеров стали искать оружие, у трех нашли и тут же расстреляли»[260].
Она воевала и под черным знаменем анархии, и на стороне красных, потом ушла в «Крестьянскую республику» к Махно. Рассорившись с большевиками и с батькой, Маруся вместе с революционным мужем (так это можно назвать) Витольдом Бжостеком пробралась в белый Крым – творить там анархию. Вдвоем они были пойманы и казнены. Какое-то странное зеркальное отражение боевой четы – Слащева и Нечволодовой…
Маруся-маузер, Маруся-плеть.
По табуретке, солдатик, вдарь.
Вот Севастополь. Куда теперь?
На шее петля. Морская даль.
На Александровск, на Таганрог
гуляла пьяная матросня.
Глоток свинца офицеру в рот —
простая песенка у меня.
– Эх, яблочко, куды катисся? —
орал прокуренный эшелон.
Винтовка в правой, в левой «катенька»,
даль краснозвездная над челом.
– Ты баба грубая, не щука с тросточкой,
валяй, указывай, кого в распыл!
На штык Ульянова, жида-Троцкого,
хоть всю Вселенную растопи!
Маруся-камень, Маруся-волк.
Сбледнул полковник, ладони – хруст.
Ты девять пуль вогнала в него.
Братва стащила башкой под куст.
Выл Александровск, чумел Джанкой,
из рук выпрыгивал пулемет.
По теплым трупам в ландо с дружком.
Страх портупея перечеркнет.
На табуреточке, ручки за спину,
на шее – петелька, в глазах – простор.
Цигарку крутит солдатик заспанный,
над бухтой вестник грозит перстом.
Куда катишься, черный висельник,
светило дневное? за Днестр?
Эмигрируешь? А я выстрелю,
я достану тебя с небес!
Маруся-душечка, куда теперь?
В Ревком небесный на разговор?
Он девять грамм пожалел тебе.
Перекладина над головой.
Это скоро кончится. Снег
степью кружится – не для нас.
Мы уйдем по дорожке вверх.
Не особенно и длинна.
Плечо под кожанкой, папаха на ухо,
вихор мальчишеский, зрачки – свинец.
Каталась в саночках, спала под нарами,
советских ставила к стене.
Эх, яблочко – дрожит под курткой,
куда-то катится, вверх и вниз.
Неторопливо солдат докуривает.
Еще затягивается. Вдохни.
Никакие временные милости госпожи Удачи, никакие клятвы на крови не могли отменить реальности: Белое дело обречено.
В последние месяцы, предшествовавшие агонии белого Крыма, разгорелся конфликт между Слащевым и Врангелем. Кто и в чем был прав, кто не прав – разобраться трудно. Но понятен подтекст: Врангель побаивался неуправляемого и популярного Слащева; Слащев в неостановимом азарте готов был сбросить долой главнокомандующего с его расчетами и политикой, возглавить гибнущую армию, повести ее в пропасть, погибнуть вместе с ней. Всего полгода назад Врангель встал во главе белых сил, а Деникин удалился в изгнание. Ситуация могла повториться. Но Врангелю нужна была армия и власть главнокомандующего для того, чтобы и в эмиграции сохранять политический вес. Именно тогда и именно в окружении Врангеля стали настойчиво звучать речи о невменяемости Слащева, о его психической ненормальности, о болезни, вызванной кокаинизмом. Опять неново: похожим способом Деникин отделался от Май-Маевского.
Пил ли Слащев? Да, и немало. Был ли подвержен наркотическому дурману? Вероятно, да. Был ли он больным безумцем, сумасшедшей развалиной, как утверждает Врангель в своих мемуарах? Безусловно нет. Он прожил еще годы, он написал около десятка книг, и это вовсе не бредовые откровения сумасшедшего, а живо и даже как-то весело изложенные творения опытного тактика и аналитика. Могучей силой своего духа и тела он перебарывал разрушительное действие алкоголя, морфина, кокаина, как преодолевал боль ран. Смертельной для него была другая болезнь: он был болен войной.
В марте 1920 года Врангель произвел Слащева в генерал-лейтенанты. В августе отрешил от командования. В этом же приказе ему было предоставлено право именоваться Слащевым-Крымским. В последние дни обороны Крыма Врангель отпустил его к войскам, но было уже поздно: остатки белых войск откатывались от Джанкоя к Севастополю и Ялте. Вместе с армией Слащев эвакуировался в Стамбул. Там – новый конфликт с главнокомандующим, суд чести, лишение званий и наград. Суда этого Слащев не признал, в ответ издал обличительную брошюру «Требую суда общества и гласности. Оборона и сдача Крыма».
В конце ноября 1921 года русскую колонию в Стамбуле облетела новость: Слащев вернулся в Советскую Россию.
21 ноября «генерал Яша» с женой и годовалой дочерью вновь сошел на крымский берег. Теперь – в качестве репатрианта.
Почему он вернулся?
Потому что он был болен войной.
Он не мог душевно отдыхать и кормить индюшек на окраине Стамбула, где для него на собранные средства был куплен домик с садом. Ему нужна была боевая армия. Он уехал в ненавистную Совдепию, потому что только там мог надеяться снова встать в цепи атакующих войск.
Советская Россия еще вела войну на восточных своих окраинах. Советская Россия готовилась к новым революционным войнам. Здесь у Слащева была надежда. Там, в эмиграции, – нет.
С весны 1922 года Слащев – командир Рабоче-крестьянской Красной армии. Как тогда говорили – краском.
Возвращению предшествовали переговоры. Он надеялся вернуться в строй. Но в Красной армии было слишком много его вчерашних заклятых врагов; на партийных и советских должностях работали родственники и друзья тех, кто был повешен или расстрелян по его приказу. Ему не доверили командование войсками. Его назначили преподавателем тактики в Высшую стрелковую школу комсостава «Выстрел». Там он служил до дня гибели. Являлся секретным сотрудником-осведомителем ВЧК – ОГПУ.
Из показаний помощника начальника курсов «Выстрел», бывшего полковника С. Д. Харламова на допросах в ОГПУ:
«И сам Слащев, и его жена очень много пили. Кроме того, он был морфинист или кокаинист. Пил он и в компании, пил и без компании. Каждый, кто хотел выпить, знал, что надо идти к Слащеву, там ему дадут выпить. <…>
Жена Слащева принимала участие в драмкружке „Выстрела“. Кружок ставил постановки. Участниками были и слушатели, и постоянный состав. Иногда после постановки часть этого драмкружка со слушателями-участниками отправлялась на квартиру Слащева и там пьянствовала. <…>
Последнее время при своей жизни он усиленно стремился получить обещанный ему корпус. Каждый год исписывал гору бумаг об этом… Никаких, конечно, назначений ему не давали. Но каждый раз после подачи рапорта он серьезно готовился к отъезду»[261].
Харламов, арестованный чекистами в 1929 году, в самом начале репрессий, обрушившихся на «бывших» военных, скорее всего, сознательно преувеличивает пьяный размах слащевских вечеринок: таким способом он отводит от их участников подозрения в заговоре. Тут же он добавляет: «На меня не производило впечатления, что вечеринки устраивают с политической целью: уж больно много водки там выпивалось». Но в одном ему можно безусловно поверить: Слащев тосковал по строевой службе, по полю боя, мучился ролью осведомителя и топил тоску в дурмане…
Свои показания Харламов давал уже после смерти Слащева. 13 января 1929 года в газете «Правда» появилась коротенькая заметка. Сообщалось, что 11 января на своей квартире в Москве был убит бывший врангелевский командир, а в последнее время преподаватель стрелково-тактических курсов Слащев. Неизвестный преступник выстрелил и скрылся. Через несколько дней было названо имя предполагаемого убийцы: Лазарь Коленберг. И мотив: месть за казненного в Крыму брата. Суд признал Коленберга невменяемым и освободил от наказания.
Соответствует ли истине официальная версия, мы не знаем и фантазировать на эту тему не будем. Знаем следующее: с 1915 по 1920 год Слащев имел семь ранений; семь раз смерть настигала и отпускала его. Последняя, восьмая пуля летела далеко и долго: из Крыма в Москву, из 1920 года в 1929-й. Это, конечно, судьба. Война догнала генерала Яшу, Слащева-Крымского, и забрала его к себе навсегда.
Но однажды (а может быть, и не однажды) Слащев вернулся на поле боя. Об этом пишет в своих мемуарах участник боев за Крым в 1920 году, герой Великой Отечественной войны генерал армии Павел Иванович Батов. В июле 1941 года, готовясь к обороне Крыма от немцев, он вместе с другими офицерами осматривал позиции на Перекопском перешейке.
«– Посмотрите, – сказал полковник, – это остатки слащевских окопов. Как умело они были спланированы!
Да, в этих заросших колючками останках Гражданской войны чувствовался умный военный глаз. Если бы и в наши дни наступала только пехота, я бы во многом повторил этот замысел…
Бывают странные повороты судьбы. Генерал Слащев стал нашим учителем… Преподавал он блестяще, на лекциях народу полно, и напряжение в аудитории порой было как в бою. Многие командиры-слушатели сами сражались с врангелевцами, в том числе и на подступах к Крыму, а бывший белогвардейский генерал, не жалея язвительности, разбирал недочеты в действиях наших революционных войск. Скрипели зубами от гнева, но учились…»[262]
Он был стройным юношей, весьма самонаде-янным, чувствовавшим себя рожденным для великих дел»[263]. «Он находил в своей внешности сходство с Наполеоном I, и, видимо, это наводило его на мысль о его будущей роли в России. Он снимался фотографией в „наполеоновских“ позах, со скрещенными руками и гордым победоносным взглядом. У него было предчувствие и мания „великого будущего“»[264]. Слова известного композитора и музыковеда Леонида Сабанеева дорисовывают сложившийся к исходу Гражданской войны образ Тухачевского – «красного Бонапарта», «революционного аристократа», будущего главнокомандующего мировой революции. Но Бонапартом, завоевателем мира, ему не суждено было стать. Как и Слащев, он был любовником военной удачи, а не ее законным супругом. И удача зло шутила с ним, вознося на головокружительные высоты, низвергая в бездны. В первый раз следствием ее измены стал плен. Во второй – страшное поражение на пороге Варшавы. Последняя, третья ее измена ввергла Тухачевского в расстрельный подвал, в бездну, откуда нет выхода, где, по слову отвергнутого им Христа, только плач и скрежет зубов…
В Москве, на Большой Никитской, возле Бульварного кольца, есть старинная маленькая церковь – колоколенка и пять ажурных главок. Храм Феодора Студита, что у Никитских ворот. Там я был однажды, давно: крестил сынишку моих московских друзей. Нарекли новорожденного, конечно же, Феодором – в честь преподобного игумена Константинопольского Студийского монастыря. Я тогда не знал, что в этой церкви столетие с лишним назад, а именно 5 марта 1893 года, при восприемниках враче Николае Александровиче Крамареве и вдове надворного советника Екатерине Яковлевне Аутовской, был крещен младенец Михаил, Николаев сын, Тухачевский. В метрической книге указано, что родился он 3 февраля того же года. Имя ему дали – с умыслом ли, нет ли – военное. Архангел Михаил, архистратиг небесного воинства – святой покровитель благочестивых князей и всех защитников веры. О том, что новокрещеный станет предводителем безбожного красного воинства, никто, конечно, тогда и помыслить не мог. Младенцы наполнены жизнью и любовью; они не знают, что есть ненависть, тщеславие, корысть, властолюбие. Они не понимают, что такое – убивать.
Рождение Михаила Тухачевского и всех старших детей в этой многодетной семье окутано романной дымкой – а попросту сказать, они были незаконнорожденными. В силу этого обстоятельства Михаил был причислен к роду отца решением смоленского Дворянского собрания лишь в 1901 году, в восьмилетнем возрасте.
А род стоил того, чтобы быть к нему причисленным.
Хотя документальных свидетельств принадлежности Тухачевских к древней и даже титулованной знати нет, семейное предание без колебаний возводило родословную к Индрису, в крещении Константину (или Леонтию), выходцу из цесарских земель, то есть из Священной Римской империи. То же семейное предание присвоило ему титул графа и утверждало, что прибыл он на Русь, в Чернигов, еще при Мстиславе Владимировиче Великом, в начале XII века. В этом предании заключены противоречия. В Чернигове Мстислав Великий никогда не княжил; другие черниговские князья с таким именем и отчеством неизвестны. Имя Индрис может быть истолковано как Генрих в греко-византийском варианте (Индржих, Индрик у славян). Но если считать его выходцем из «цесарской земли», тем более знатным – графом, то он не мог быть некрещеным, и поэтому непонятным становится происхождение крестильного имени. Гораздо вероятнее, что предок Тухачевских выехал на службу к русским князьям из языческой Литвы, тогда же крестился, и случилось это не в XII, а в XIV или даже XV столетии. Потомок Индриса Богдан получил во владение село Тухачев, от коего прозвался Тухачевским (есть, впрочем, и другие версии происхождения фамилии). Произошло это, скорее всего, в середине XVI века, ибо до 1536 года Тухачевом владели князья московского рода. В последующие два столетия Тухачевские числились среди брянских, смоленских, костромских дворян в невысоких чинах, выше стольника никто из них не поднимался. Но родством своим они были богаты: через браки породнились с Голенищевыми-Кутузовыми, Сумароковыми, Киреевскими; того же Индрисова корня – Толстые[265].
Постепенно род скудел, беднел, умалялся. Смоленский помещик Николай Николаевич к исходу XIX века оставался последним Тухачевским, имевшим потомство, но материальные дела его были плохи. Из ходатайства на государево имя (об обучении детей на казенный счет) мы узнаем, что доходов от имения у него нет, службы тоже нет. Здесь же он упоминает о славе рода: дед его, Александр Николаевич Тухачевский, воевал и с турками, и с Наполеоном и в 1831 году, во время Польской кампании, был убит. (Добавим, что службу он начинал в лейб-гвардии Семеновском полку, – это обстоятельство сыграет роль в судьбе его правнука.) Отец Николая Николаевича вышел в отставку в ничтожном чине губернского секретаря, а сам он, по-видимому, не служил и никакого чина не имел.
Вот этот родовитый, но оскудевший помещик совершил поступок, который ужаснул бы его предков, навлек позор и бесчестие на весь их род. Он не только сошелся с крестьянской девушкой Маврой Милоховой (это бы еще ничего), но женился на ней.
Правда, на пороге нового века такой мезальянс не представлялся совсем уж невозможным, но все же в нем заключался вызов обществу. Очевидно, против брака выступила родня, прежде всего мать Николая Николаевича, Софья Валентиновна. Но чему быть, того не миновать. Барин и крестьянка жили вместе довольно долго, прежде чем наконец смогли обвенчаться. Когда это произошло – точно не известно. 23 августа 1896 года датируется определение суда о признании Михаила сыном дворянина Николая Тухачевского. К этому времени в семье уже было четверо детей; в последующие годы прибавятся еще пятеро.
Родовое смоленское имение Александровское вскоре было продано; Тухачевские перебрались в имение бабушки, село Вражское Пензенской губернии. Само село им уже не принадлежало, но усадьба и кое-какие земли при ней позволяли существовать.
Старая дворянская усадьба… Обедневший помещик… Домашние спектакли в саду, чтение книг, чаепития на веранде… Ностальгическая идиллия, разбиваемая реальностью. Детям, когда они вырастут, не останется наследства: этого сада, этой веранды. Чем они будут жить? Чего они хотят от жизни?
Кем будет подрастающий Миша? Упрямый, непослушный, беспокойный. Тесно ему в старом бабушкином доме, уже сейчас тесно.
В 1904 году одиннадцатилетний Михаил Тухачевский был определен в 1-ю Пензенскую мужскую гимназию. Это была школа пусть и не такая престижная, как петербургская гимназия Гуревича, но не менее замечательная своими учителями и учениками. Когда-то, за полвека до появления здесь Миши Тухачевского, в ее классах начинал свою учительскую работу питомец Казанского университета, кандидат математики Илья Николаевич Ульянов. Среди его учеников значились двоюродные братья Ишутин и Каракозов. Им предстояло стать первыми в истории России государственными преступниками, казненными за терроризм. Их учителю, Илье Николаевичу, Бог не попустил дожить до дня казни старшего сына за такое же преступление…
Но это все было давно. В начале индустриального XX века, накануне и во время первой русской революции, Пензенская гимназия обрела уже некий налет провинциальности. Среди гимназистов не много было ярких личностей столичного пошиба. Вот разве что тремя классами младше Миши учился мальчик Роман Гуль. Впоследствии он станет белогвардейцем, эмигрантом, писателем, напишет книги о Гражданской войне и о многих героях своего времени. Напишет и о Тухачевском, знаменитом красном командарме. Не все в его очерке достоверно, но гимназическим воспоминаниям, наверное, можно доверять.
Роман Гуль о Тухачевском-гимназисте:
«…Высокий, вихлястый темный шатен, красивый мальчик, под ежика, серые странно-разрезанные, чуть навыкате глаза, в фигуре что-то неуравновешенное, но сильное и упорное. <…>
Он славится неуспешностью, неожиданными выходками и странным озорством. Поэтому каждый день Тухачевского, извалянного в пыли, тащит за руку за дверь надзиратель Кутузов. Желчный Кутузов истошно кричит: „Опять, Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!“ На лице Тухачевского странная и упорная улыбка» [266].
Конечно, мемуаристы всегда подверстывают прошлое под свои представления о настоящем. Однако эти черты – неостановимое упорство, склонность к странноватым выходкам, неуравновешенность, иногда доходящая до буйства, – соответствуют образу молодого Тухачевского, составленному из воспоминаний его родных и знакомых.
Стремительный, не признающий препятствий, неукротимый до безумия человек. Сын барина и крестьянки.
Учился он, конечно, плохо. Такие не могут учиться хорошо. Таким скучно использовать свои бурлящие силы, свой беспокойный ум для решения школьных задачек и писания диктантов. Им нужен простор, бой, атака. Они не успокоятся, пока не услышат окрик: «Опять, Тухачевский! Пожалте-ка за дверь!» Впрочем, и после этого не успокоятся.
Миша не просто плохо учился – он плохо себя вел, что гораздо хуже по канонам имперско-государственной школы. И еще: он не ладил с Законом Божьим. И в смысле учебном – и в высшем смысле, наверно, тоже.
По этому предмету, обязательному во всех учебных заведениях дореволюционной России, почти у всех учеников стояли пятерки или четверки. Преподавали его обычно приходские или соборные батюшки, народ семейный, снисходительный, добрый. К школьникам они не особенно придирались. Чтобы получить по Закону Божьему двойку, надо было очень постараться, надо было довести законоучителя до крайнего раздражения систематическими кощунственными выходками. На Тухачевского законоучитель жаловался учительскому совету. У Тухачевского по Закону Божьему в матрикуле стояла тройка.
Тухачевский – безбожник?
Не совсем так.
Он хочет подчинить весь окружающий мир своей воле, он хочет и Богом повелевать. Он хочет – и создает сам свое божество.
Пройдет десять лет. Случится война. Тухачевский попадет в плен, совершит побег, вернется на родину в разгар революции, станет во главе красных войск, прославится. Один из его товарищей по плену напишет о нем книгу. В этой книге есть эпизод, за достоверность которого поручиться, конечно, нельзя. Но какие-то глубинные, страшные и при этом неистребимо детские мотивы, звучавшие в душе будущего командарма, услышаны мемуаристом весьма верно.
Из воспоминаний Реми Рура, французского офицера, соузника Тухачевского по лагерю Ингольштадт:
«Однажды я застал Михаила Тухачевского очень увлеченного конструированием из цветного картона страшного идола. Горящие глаза, вылезающие из орбит, причудливый и ужасный нос. Рот зиял черным отверстием. Подобие митры держалось наклеенным на голову с огромными ушами. Руки сжимали шар или бомбу… Распухшие ноги исчезали в красном постаменте… Тухачевский пояснил: „Это – Перун. Могущественная личность. Это – бог войны и смерти“. И Михаил встал перед ним на колени с комической серьезностью. Я захохотал. „Не надо смеяться, – сказал он, поднявшись с колен. – Я же вам сказал, что славянам нужна новая религия. Им дают марксизм, но в этой теологии слишком много модернизма и цивилизации. Можно скрасить эту сторону марксизма, возвратившись одновременно к нашим славянским богам, которых христианство лишило их свойств и их силы, но которые они вновь приобретут. Есть Даждьбог – бог Солнца, Стрибог – бог ветра, Велес – бог искусств и поэзии, наконец, Перун – бог грома и молнии. После раздумий я остановился на Перуне, поскольку марксизм, победив в России, развяжет беспощадные войны между людьми. Перуну я буду каждый день оказывать почести»[267].
Как бы плохо ни вел себя Тухачевский на уроках Закона Божьего, он прекрасно знал десять заповедей Моисеевых. Заповедь вторая гласит: «Не сотвори себе кумира». Тухачевский (если, конечно, верить мемуаристу) создал идола и поклонился ему. Этот идол – война.
Вопрос о вере – вопрос каверзный во всех отношениях – приобретает особенно драматическое звучание, когда речь идет о военачальниках, профессионалах и любимцах войны. Среди святых Православной церкви нет ни одного, кто был бы почитаем за воинские подвиги. Церковь не благословляет войну. Она и воинов благословляет именно на путь смертный, на самопожертвование, а не на убийство. Убийство и разрушение так же несовместимы с духом Христова учения, как неотъемлемо присущи войне. Конечно, воин, защищающий себя, свою страну, свою веру, так же как и насильно мобилизованный солдат, не погрешают против веры Христовой, когда приносят смерть врагам на поле боя. Но человек, сознательно избирающий своей профессией военное дело, то есть искусство человекоубийства, не может не встать перед проблемой взаимоотношений его профессии и веры Христовой.
Среди военачальников русской армии в Первой мировой войне, ставших потом вождями Белого движения или красными военспецами, было немало искренне верующих православных людей. Людьми веры и Церкви, бесспорно, были Брусилов, Деникин, Корнилов, Снесарев, Бонч-Бруевич. Для них вера, кроме внутреннеличного смысла, имела общественное измерение, сочеталась с понятием долга. Но в сердцах младшего поколения, штабс-капитанов, поручиков, прапорщиков Первой мировой войны, первенствовали иные вожделения, кипели иные страсти. Честь была воспринята как слава, долг обернулся самоутверждением, веру заглушало стремление к власти, или к своеволию, или к упоительному разрушительству. То было знамение эпохи. Слащев и Тухачевский – люди одной культуры. Они читали одни и те же книги. Они мыслили и чувствовали в унисон с поэтами того же поколения. В томительных вихрях поэзии Александра Блока, в безнадежности слов и мыслей Федора Сологуба, в соблазнительном экстазе песнопений Андрея Белого, в надрывном самовозвеличении Владимира Маяковского заключалось много необычного, нового, великого… Не было только Бога. Не имея слуха для того, чтобы услышать тихий голос Божий, не имея зрения, могущего вместить величие Его мира, они, как и их многочисленные читатели и почитатели, заменили все это собой, своим мнением, своими чувствами, своим «я». И в области художественного творчества, и в области общественного служения это вело к одному – к революции.
В 1909 году Михаилу Тухачевскому исполнилось шестнадцать лет. Семья перебралась в Москву. Из Пензенской гимназии его забрали со свидетельством весьма плачевным: по всем предметам тройки, только по французскому пять. Этого, впрочем, было достаточно для того, чтобы устроиться в 10-ю Московскую гимназию. Но выбор жизненного пути был им уже сделан: его влекла военная служба. Вернее, не служба, а грядущая слава. В том, что он прославится, Миша не сомневался.
В 1911 году Михаил Тухачевский поступил в последний класс Московского II кадетского корпуса. Аттестат, полученный им через год, принадлежит как будто другому ученику: только «хорошо» и «отлично», общий балл – 10,39 из одиннадцати. Столь успешное окончание корпуса дало право продолжить образование в Александровском военном училище, одном из престижнейших в России. Тут уже Тухачевский учился не просто хорошо, а блестяще. Через год производится в портупей-юнкеры (почти офицерский чин).
Учеба закончена в июне 1914 года. Блестящий итог: высший балл по училищу и право поступить в гвардию. Он подает прошение о зачислении в Семеновский полк, в коем служил его прадед. Полковое офицерское собрание не возражает. 12 июля он произведен в подпоручики. Тут же получает назначение – младшим офицером в 7-ю роту второго по старшинству полка российской императорской гвардии.
Выстрел в Сараеве уже прогремел.
В тот самый день, в воскресенье, 12 июля, когда Тухачевский в Москве впервые примерял офицерские погоны, в Петербург из Красносельских летних лагерей походным порядком возвращались гвардейские полки. Накануне стало известно, что Австро-Венгрия предъявила ультиматум Сербии. Если не повсюду, то, по крайней мере, в правительственных и генштабовских кабинетах уже явственно пахло войной. Через неделю, 19 июля, страна узнала о начавшейся мобилизации. В болезненно-патриотической суматохе прошел последний мирный воскресный день… За ним последуют война, революция, Гражданская война, террор, репрессии, снова война, снова репрессии… Когда придет следующее мирное воскресенье? Через десять лет? Через тридцать один год? Или мир в России никогда не настанет?
Тогда, в июле четырнадцатого, люди не могли предполагать, как мало среди них тех, кто доживет до окончательного мира.
Что касается Тухачевского, то его перед отправлением на фронт, наверное, беспокоили другие мысли. Война продлится три месяца, от силы полгода. Так их учили в училище, так говорят все вокруг. Успеет ли он, только что произведенный подпоручик, заслужить награды и продвинуться в чине? Ему надо спешить. Отличиться в первом же бою! Со знаменем – на мост! Во главе роты – на пушки!
Об этом думали многие подпоручики, поручики, штабс-капитаны. Штабс-капитан Слащев, наверно, тоже.
Гвардейские полки отправлялись из Петербурга один за другим. Полки 2-й гвардейской пехотной дивизии – среди них Финляндский – прошли походным маршем по улицам столицы к Варшавскому вокзалу 26–30 июля. За ними настала очередь 1-й дивизии. Вечером 2 августа семеновцы гулко промаршировали от своих казарм на Загородном проспекте к ожидающим их эшелонам. Их так же провожали петербургские обыватели, барышни кидали цветы, пожилые дамы утирали слезы, гимназисты глядели им вслед восторженными глазами.
Рассказывает Анатолий Владимирович Иванов-Дивов, офицер Семеновского полка (в 1914 году поручик 7-й роты):
«Нас провожали наши родные, и на перроне было полно народу. Отхода поезда пришлось ждать очень долго, и я как сейчас помню среди провожающих небольшого роста незнакомую нам старушку со старинной иконой Божией Матери на руках, которою она благословляла отъезжающих офицеров и солдат. Когда они прикладывались к иконе, она каждому что-то шептала, и я слышал, как, благословляя, она говорила стоявшему рядом со мной фон-дер-Лауницу: „Ангел ты мой небесный!“… Лауниц был убит одним из первых в бою под Владиславовым…»[268]
6 августа эшелоны Семеновского полка стали прибывать на станцию Новогеоргиевск, по-польски Модлин, что в тридцати верстах от Варшавы. Тут пришло известие об изменении в планах Верховного главнокомандования: гвардейская пехота переподчиняется командованию 9-й армии. Кажется, предстоит славное дело: поход на Берлин! Но следующие дни прошли в бездействии или в непонятных и изнурительных маршах вокруг польской столицы. 15 августа получили приказ: грузиться в эшелоны. Гадали: куда? После трех дней стояния на путях и разъездах забитой эшелонами железной дороги выгрузились в Люблине. Вместо победоносного броска в сердце Германии семеновцы 19 августа были выдвинуты к деревне с гротескным названием Жабья Воля.
20 августа роты Семеновского полка атаковали австрийцев в деревне Суходолы (30 верст от Люблина к Красноставу), выбили их и к вечеру заночевали в лесу южнее деревни. Следующие два дня прошли в медленном боевом продвижении к юго-западу. День относительного затишья – и снова атаки. 27 августа в боях на Люблинско-Красноставском направлении наступил перелом. Противник все быстрее откатывался назад. За неделю боев 1-я гвардейская пехотная дивизия продвинулась примерно на 40 верст. Эти версты были щедро политы кровью.
Развивая успех, гвардейский корпус продолжал наступление и к началу сентября вышел на реку Сан.
События 2 сентября в журнале боевых действий 1-й гвардейской пехотной дивизии описаны предельно кратко: «Дивизия ведет наступление на Кржешовскую переправу… Одновременно с атакой С[еменовцы] ворвались в д[еревню] Нов. Кржешов[269]; С[еменовцы] наступали с охватом противника с юга. Прорвали неприят[ельское] расположение и захватили переправу. Ночлег в г[ороде] Кржешов, II б[атальо]н выдвинут на лев. берег»[270].
В биографии Тухачевского это был день особый и бой особый.
Свидетельствует князь Федор Николаевич Касаткин-Ростовский, офицер Семеновского полка (в 1914 году капитан):
«Второй батальон, в 6-й роте которого находился Тухачевский, сделав большой обход, неожиданно появился с правого фланга австрийцев, ведущих с остальными нашими батальонами фронтальный бой. И принудил их поспешно отступить. Обход был сделан так глубоко и незаметно, что австрийцы растерялись и так поспешно отошли на другой берег реки Сан, что не успели взорвать приготовленный к взрыву деревянный высоководный мост через реку. По этому горящему мосту, преследуя убегающего неприятеля, вбежала на другой берег 6-я рота со своим ротным командиром капитаном Веселаго и Тухачевским. Мост затушили, перерезали провода, подошли другие роты, переправа была закреплена, причем были взяты трофеи и пленные»[271].
Атака на мост – в этом есть что-то наполеоновское! Пусть и не со знаменем в руках, не во главе батальона и даже не во главе роты… Но для того чтобы войти в историю – начало подходящее.
Захват Кржешовского моста озарил подпоручика Тухачевского первыми лучиками славы и принес первую награду – орден Владимира четвертой степени с мечами. Реальные последствия лихой атаки были велики: захват переправы обеспечил стремительный бросок гвардейцев на западный берег Сана, беспорядочное отступление противника, захват трофеев и пленных.
Удача окрыляет. Не успел пройти месяц, как подпоручик Тухачевский осуществил смелую разведку на западном берегу Вислы, определил местоположение артиллерийской батареи противника, благодаря чему она была уничтожена, – и получил за это Станислава третьей степени с мечами.
Свидетельствует барон Александр Александрович Типольт, офицер Семеновского полка (в 1914 году прапорщик):
«Полк занимал позиции неподалеку от Кракова, по правому берегу Вислы. Немцы укрепились на господствующем левом берегу. Перед нашим батальоном посредине Вислы находился небольшой песчаный островок. Офицеры нередко говорили о том, что вот, дескать, не худо бы попасть на островок и оттуда высмотреть, как построена вражеская оборона, много ли сил у немцев… Не худо, да как это сделать?
Миша Тухачевский молча слушал такие разговоры и упорно о чем-то думал. И вот однажды он раздобыл маленькую рыбачью лодчонку, борта которой едва возвышались над водой, вечером лег в нее, оттолкнулся от берега и тихо поплыл. В полном одиночестве он провел на островке всю ночь, часть утра и благополучно вернулся на наш берег, доставив те самые сведения, о которых так мечтали в полку»[272].
В октябре гвардия была переброшена под Ивангород (Демблин), для отражения немецкого натиска на Варшаву; оттуда перешла в наступление на Краков. И снова награды: за бои под Краковом – «клюква», за Ивангород – Анна третьей степени с мечами.
Гвардейцам ордена давались куда быстрее и легче, чем армейским офицерам. Но даже в гвардии получить четыре ордена за три месяца боев – случай из ряда вон выходящий. Тухачевский осенен каким-то особенным боевым счастьем. Ему все удается, успех со всех сторон так и лезет ему в руки. В январе он уже представлен к Анне второй степени – этим орденом награждают штаб-офицеров и генералов, редко-редко старших обер-офицеров. А уж чтобы подпоручика, который в строю всего полгода! Бесспорно, его ждет скорое повышение. И притом заметьте: за все время – ни контузии, ни раны, ни царапины! Вот оно, благословение бога войны!
Древние греки сетовали: боги завистливы.
Военное счастье Тухачевского изменило ему внезапно. Взлет оборвался. Он попал в плен.
Произошло это ранним зимним утром 19 февраля 1915 года близ городка Ломжа на Нареве, всего в десятке верст от деревни Едвабно, в боях под которой Слащев в эти же самые дни добывал свою первую Анну.
6-я и 7-я роты накануне были выдвинуты на правый фланг полка, окопались и заночевали на северной опушке леса у деревни Витнихово (Пясечно). В рассветной мгле немцы перешли в атаку, отсекая роты от тыла. Атака оказалась внезапной. Многие солдаты были застигнуты спящими в окопах и переколоты. В рукопашном бою погиб ротный командир капитан Веселаго. Подпоручик Тухачевский пытался отбиваться шашкой, но был сбит с ног ударом приклада и захвачен в плен, по-видимому в бессознательном состоянии. К своим пробились десятка полтора бойцов.
27 февраля в официальной газете военного министерства «Русский инвалид» имя гвардии подпоручика Тухачевского было напечатано в списках убитых. Ошибку обнаружили и исправили через две недели.
19 сентября 1917 года на стол русского военного агента в Берне, Швейцария, генерал-майора Сергея Александровича Голованя лег листок бумаги с рапортом следующего содержания:
«Вчера, 18 сентября, я благополучно перешел швейцарско-германскую границу, бежав из германского плена, в коем я находился с 19 февраля 1915 г. Побег я совершил из лагеря для военнопленных офицеров Ингольштадт, форт IX 3 августа с. г. Ходатайствую об отправлении меня в Россию» [273].
Подпись: «подпоручик Тухачевский».
Побег из плена – всегда подвиг, и часто – приключенческий роман. О приключениях Тухачевского в плену не надо сочинять беллетристических новелл: они описаны самим героем коротко, ясно и выразительно, в литературном жанре, именуемом «рапорт».
Этот документ мы приводим целиком. Сведения, содержащиеся в нем, подтверждаются материалами германских архивов и рассказами других пленных.
Рапорт М. Н. Тухачевского командующему гвардии Семеновским резервным полком о побеге из плена:
«№ 1, г. Петроград 16 октября 1917 г.
Сего числа прибыл в полк, возвратясь из плена после удачного побега.
В плен я был взят в немецкой атаке на участке нашей позиции у д[еревни] Пясечно. Оттуда с остановками я был перевезен немцами до солдатского лагеря Бютова, где временно провел три дня и был отправлен далее в Штральзунд в офицерский лагерь Денгольм. Через два месяца я бежал с подпоручиком Пузино, переплыв пролив между Денгольмом и материком, и шел дальше на полуостров Дарсер-Орт, откуда, взяв лодку, думал переправиться по морю на датский полуостров Фальстер, до которого было всего 36 верст. Но случайно мы были оба пойманы через 5 ночей охраной маяка на берегу.
После того как я отсидел в тюрьме и под арестом, я был через некоторое время отправлен в крепость Кюстрин, в форт Цорндорф. Через три недели я был оттуда отправлен в солдатский лагерь Губен на солдатское довольствие за отказ снять погоны. Через месяц погоны были сняты силой, и я был отправлен в лагерь Бесков. В Бескове я был предан военному суду за высмеивание коменданта лагеря, был присужден к трем неделям ареста и отбыл их. Из Бескова я был переведен в Галле, откуда через три месяца в Бад-Штуер. Из Бад-Штуера 6 сентября 1916 г. я убежал с прапорщиком Филипповым, спрятавшись в ящики с грязным бельем, которое отправляли в город для стирки. По дороге на станцию, в лесу, мы вылезли из ящиков и, так как немецкий солдат, везший белье, не был вооружен, то очень нас испугался и не мог задержать. После этого мы шли вместе 500 верст в течение 27 ночей, после чего я был пойман на мосту через реку Эмс у Зальцбергена, а прапорщик Филиппов благополучно убежал и через три дня перешел голландскую границу и возвратился в Россию.
Поймавшим меня солдатам я объявил, что я русский солдат Михаил Дмитриев из лагеря Миндена, надеясь легко убежать из солдатского лагеря. Пока обо мне наводили справки, меня посадили в близрасположенный лагерь Бекстен-Миструп. Проработав там вместе с солдатами пять дней, я опять убежал со старшим унтер-офицером Аксеновым и ефрейтором Красиком. Через три ночи пути, удачно переплыв реку Эмс и канал, идущий вдоль границы (оба препятствия охранялись), я был пойман последней линией часовых к западу от Меппена, оба же солдата благополучно пробрались в Голландию.
К этому времени я был уже настолько переутомлен, что не в состоянии был опять идти в солдатский лагерь, и потому, назвавшись своим именем, я возвратился опять в лагерь Бад-Штуер, проведя несколько дней в тюрьме в Меппене. В Бад-Штуере я отсидел три недели под арестом и был отправлен в крепость Ингольштадт, в форт IX, лагерь для бежавших офицеров.
Так как лагерь этот усиленно охранялся и не было возможности убежать, то я решил попасть в тюрьму, которая охранялась гораздо слабее. С этой целью на поверке я вышел из комнаты производившего ее немецкого унтер-офицера. Однако сразу же меня в тюрьму не посадили, а предали военному суду. Тогда я решил сделать выпад против немецкого генерала Петера – коменданта лагеря, и когда он приехал в лагерь, то разговаривал с ним, держа руки в карманах, не исполнил его двукратного приказания вынуть их и на его замечание, что это мне будет дорого стоить, спросил: „Сколько марок?“ Однако и за это меня не посадили в тюрьму, а опять предали военному суду.
В скором времени по делу оскорбления унтер-офицера я был присужден к 6 месяцам тюрьмы, суда же по делу генерала не было, так как накануне, 3 августа 1917 года, мне удалось убежать с капитаном Генерального штаба Чернивецким. Начало побега было очень неудачно. Сразу же в лесу мы наткнулись на жандарма, который нас долго преследовал. Наконец, разделившись, мы побежали с капитаном Чернивецким в разные стороны. Жандарм стал преследовать меня, но через полчаса выбился из сил и отстал. Что стало с капитаном Чернивецким, я не знаю. Через 9 дней я был пойман жандармом, объявился солдатом Михаилом Ивановым из лагеря Мюнстера, был помещен в лагерь Лехфельд, где отбыл наказание для солдат, и после был отправлен в лагерь Пукхейм.
Там я работал вместе с солдатами три недели и наконец убежал с унтер-офицером Новиковым и солдатом Анушкевичем. Через десять ночей ходьбы они были пойманы жандармами у города Шторгха, а я убежал и еще через три ночи ходьбы перешел швейцарскую границу у станции Таинген. Оттуда я следовал на Петроград через Берн, Париж, Лондон, Христианию и Стокгольм.
Подписал подпоручик Тухачевский»[274].
К сему остается добавить немногое. В лагерь Ингольштадт Тухачевский был доставлен 18 ноября 1916 года. Здесь он оказался в избранном обществе. Офицеры, за которыми числилось по нескольку попыток побега. Достаточно сказать, что его товарищем по заключению в IX форте был совершивший шесть таких попыток капитан Шарль де Голль, в будущем – генерал, вождь французского Сопротивления и президент Франции. Достойны упоминания многие: капитан де Гойс (будущий генерал), поручик Благодатов (тоже будущий генерал и агент советской разведки в Китае), военный летчик Дежобер, лейтенант Рур (будущий публицист, автор книги о Тухачевском). С ними было о чем поговорить, было чего у них понабраться.
И еще одно дополнение: в перерывах между побегами у Тухачевского оставалось достаточно времени для того, чтобы размышлять о будущем. В Россию он прибыл с нерастраченной энергией, с суммой амбиций, с опытом лагерного долготерпения и с багажом новых мыслей и планов.
Итак, 16 октября 1917 года Тухачевский прибыл в Петроград, где находились тыловые и запасные (резервные) части гвардейских полков.
18 октября он был представлен к производству сразу в чин капитана и к награждению орденом Станислава второй степени, но ни чина, ни ордена так и не успел получить.
В Петрограде шла странная игра: под шум все менее бурных и все более утомительных митингов Временное правительство и Петросовет перетягивали друг у друга вооруженную силу. Правительство явно проигрывало в этой борьбе. В тот день, которым датирован приведенный выше рапорт Тухачевского командующему резервным Семеновским полком гвардии капитану Раймонду Владиславовичу Бржозовскому, в Смольном, в Петросовете, шли бурные совещания большевиков и левых эсеров. Троцкий, Лазимир, Подвойский, Овсеенко (Антонов), именовавшие себя Военно-революционным комитетом, в прокуренных кабинетах обсуждали план захвата власти. Солдатские комитеты частей Петроградского гарнизона тоже совещались до хрипоты и все охотнее слушали товарищей большевиков. Офицеры молчали и с явным злорадством поглядывали в сторону Зимнего, где с недавних пор угнездилось правительство Керенского. В остальном город жил обычной жизнью. Бросались в глаза три особенности, резко отличавшие нынешний Петроград от того Петербурга, который провожал Тухачевского в поход тысячу сто семьдесят один день назад. Первая – отсутствие городовых, в прежние времена прохаживавшихся у каждого перекрестка. Вторая – обилие развешенных повсюду транспарантов с лозунгами, написанными на скорую руку, порой безграмотно. Третья – такое же обилие мусора, особенно подсолнуховой шелухи, на мостовых. И еще кое-что новое: праздношатающиеся солдаты и матросы, в расстегнутых шинелях и бушлатах, со сдвинутыми набекрень фуражками и бескозырками.
Взгляд Тухачевского после трех лет отсутствия и долгого плена был свеж и зорок. Как виделось ему то странное, что происходило в России? Обрадовал его революционный Петроград или ужаснул?
Скорее всего, и то и другое.
Он сразу увидел: армии больше нет. Чины, ордена, военное образование, дворянское происхождение – все это не только утратило значение и силу, но превратилось в нечто вредное и опасное. Старое – умерло. Но именно поэтому так притягательно рождающееся новое.
Впоследствии он сам и его советские биографы будут говорить о его стремительном обращении в марксизм. В постсоветское время возобладает иная версия: честолюбивый офицер стал служить большевикам ради карьеры. На самом деле не было ни идеологического выбора, ни шкурных интересов. Тухачевский был одержим войной. Он пошел туда, где война сулила ему заманчивое будущее.
Произошло это не сразу. После краткой побывки у родных во Вражском Тухачевский отбыл в Семеновский полк, на Юго-Западный фронт. Из приказа по полку видно, что прибыл он в расположение полка в село Лука-Мала, близ Волочиска, 20 ноября, в тот самый день, когда в Могилеве совершилось убийство Духонина. Поблизости от Луки-Малой располагался и гвардии Московский полк, командиром коего с июля месяца числился полковник Слащев. Собственно, полков уже не было – были распадающиеся на враждебные группировки людские массы. Пока Тухачевский, назначенный командиром роты, осматривался в этой сумрачной и диковато-странной обстановке, Слащев уже готовился к отъезду (или побегу?) на Дон.
16 декабря последовал декрет советского правительства «Об уравнении всех военнослужащих в правах». Чины и звания упразднялись. Генералов, офицеров и солдат больше нет. Есть – кто? Товарищи?
Осмотревшись, Тухачевский уехал из полка во Вражское. Там – делать нечего. А что же делать здесь?
Долгими томительными днями и ночами в плену он размышлял о будущем войны и мира. И пришел к убеждению: мира не будет. Человечеством правит война. Как ее называть – империалистической или революционной, – не важно. Наступает эпоха мировых войн. И это его, Тухачевского, эпоха – его и таких, как он.
Агитаторы на митингах до хрипоты кричат о мире, большевики вот уже три месяца обещают мир заключить – а тем временем война расползается по России в образе гражданской смуты, и все, что происходит вокруг, кричит о том, что мир невозможен.
Раз невозможен мир – значит, нужна армия. Не та, старая, в которой выслуживать чины надо было годами, десятилетиями. Новая армия, во главе коей станет тот, кому чаще улыбается боевая удача.
Удача улыбнется ему – он верит в это.
15 января нового, 1918 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров об образовании Рабоче-крестьянской Красной армии на добровольческой основе.
11 февраля (по новому, только что введенному календарю) было объявлено о демобилизации старой армии. 16 февраля Тухачевскому исполнилось двадцать пять лет.
Вскоре после этого (точная дата неизвестна, но не ранее 11–13 марта – времени переезда советского правительства в Москву) Тухачевский явился в военный отдел Всероссийского центрального исполнительного комитета Советов к заведующему отделом Енукидзе. С этого момента начинается его служба в Красной армии. Хотя службой это трудно назвать. Скорее – любовный союз с товарищем Красноармейской Удачей.
Военным комиссаром штаба обороны Москвы в эти ранневесенние дни был предвоенный московский знакомый Тухачевского Николай Кулябко, большевик. По его предложению и по его рекомендации Тухачевский вступил в партию, которая как раз в эти дни стала именоваться коммунистической. Стоит заметить: вступил тогда, когда власть большевиков усыхала со всех сторон и в их будущую победу мало кто верил. Нет, конечно, Тухачевский не был марксистом. Но в те бурные месяцы, для того чтобы стать коммунистом, не обязательно было штудировать Маркса. Коммунизм представлялся тогда, скорее, чем-то вроде общего натиска на твердыни прошлого, штурмом законов социального бытия. В коммунизме виделся языческий бунт против христианского царства истории и культуры. Красная звезда бога войны Марса, соединенная с серпом Юпитера и молотом Тора, вполне могла заменить Тухачевскому идол Перуна, слепленный им в дни лагерного безделья.
Только краснозвездное божество военного счастья могло вознести его так высоко и стремительно, как это случилось.
В марте по рекомендации того же Кулябко Тухачевский был назначен военным комиссаром Московского участка завесы. В мае он инспектирует разношерстные красные войска на Дону. В конце мая назначен военным комиссаром штаба Московского округа. 19 июня «командирован в распоряжение главкома Восточного фронта Муравьева для использования работ исключительной важности по организации и формированию Красной армии в высшие войсковые соединения и командования ими»[275] – так с редкостным косноязычием изъясняется выданный ему мандат. Главный враг красных в это время – Чехословацкий корпус. По пути из Москвы в Казань Тухачевский во главе красноармейского отряда прибывает в Пензу, выбивает оттуда чехословацкие заслоны, и – что б вы думали? Женится! Женится на Марии Игнатьевой, подруге давних юношеских лет. Любовь человеческая идет рука об руку с любовью к богам войны.
(И та и другая любовь – трагична. Первая жена Тухачевского погибнет через два года при невыясненных обстоятельствах – сгорит в пламени Гражданской войны.)
Через неделю, 27 июня, на станции Инза Тухачевский вступает в командование 1-й Революционной армией. Невиданный в военной истории взлет: за три месяца – из ротных командиров в командармы.
Дальнейшая военная биография Тухачевского описана многократно и настолько подробно, что мы ограничимся лишь кратким перечнем фактов.
11 июля в Симбирске командарм-1 был арестован по приказу главкома Муравьева, но вскоре освобожден; принимал участие в ликвидации муравьевского выступления.
В сентябре – октябре осуществил операцию по овладению Симбирском, Сызранью и Самарой.
В январе – марте 1919 года Тухачевский командовал 8-й армией Южного фронта, вел наступление в направлении Дона и Маныча, не приведшее к решительному успеху.
В апреле 1919 года, в разгар колчаковского наступления в Прикамье, вступил в должность командующего 5-й армией Восточного фронта. В апреле – июне осуществил серию операций, в результате которых войска Колчака потерпели поражение на Каме и Белой и были отброшены за Урал. В июле войска Тухачевского взяли Златоуст и Челябинск. В этих сражениях силы Колчака были сломлены. К концу года красные, преследуя колчаковцев, продвинулись до Оби.
Отметим, что и на востоке и на юге командарм Тухачевский постоянно вступает в конфликты с командующими фронтами. Его решения представляются авантюристичными бывшим генералам, а ныне красным военспецам и командирам Самойло и Ольдерогге; он же спешит ухватить победу за крыло и не стремится уважить возраст и опытность своих прямых начальников. Так же точно Слащев конфликтовал с Деникиным и Врангелем.
В феврале 1920 года Тухачевский становится командующим Кавказским фронтом и в течение полутора месяцев завершает разгром деникинских войск на Северном Кавказе. («Какая ирония: Тухачевский бьет Деникина! Не Наполеон ли?» – записал в своем дневнике бывший офицер Семеновского полка, соратник Врангеля Алексей Александрович фон Лампе[276].)
На протяжении двух лет Гражданской войны он идет от успеха к успеху. Даже поражения для него оборачиваются победами, как это случилось в сентябре 1918 года под Симбирском или в июле 1919 года под Челябинском.
В марте – апреле 1920 года развернулось польское наступление в Белоруссии и на Украине. 29 апреля Тухачевский вступил в командование Западным фронтом. В мае предпринятые им попытки контрудара в Белоруссии не увенчались успехом. Новая наступательная операция началась 4 июля. Оборона польских войск была прорвана; к середине июля силы противника сокрушены. 11 июля Красная армия овладела Минском, 14 июля – Вильно, 1 августа – Брестом. На стратегических планах штаба Тухачевского появился кумачовый росчерк: «На Варшаву!»
Вспомним древних: боги завистливы.
Удача переменчива.
Бросок на Варшаву, начавшийся 12 августа, уже через неделю завершился катастрофическим поражением Западного фронта.
Это была последняя фронтовая операция Тухачевского. За ней последуют карательные операции против мятежного Кронштадта и Антоновского крестьянского восстания на Тамбовщине, где он не остановится перед применением химических снарядов. Потом – полтора десятилетия работы в Военной академии РККА, в Штабе РККА, в Ленинградском округе, в наркомате обороны. Но его военная слава так и останется в том августе, между Белостоком и Брестом, так и застынет в броске, с шашкой, занесенной над Варшавой.
Лето 1920 года – вершина судьбы и начало конца двух любовников военной удачи: Слащева и Тухачевского.
В отличие от Слащева, Тухачевский ни разу не был ранен. Но пуля – смертельная награда бога войны – все-таки настигла его. В полночь с 11 на 12 июня 1937 года бывший заместитель наркома обороны, бывший маршал Советского Союза, бывший победитель Колчака, бывший «красный Бонапарт», бывший подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка Михаил Тухачевский был расстрелян в подвале здания Военной коллегии Верховного суда СССР.
Но это – история из другой книги.
Казачья правда, или Побежденные легендой
На станции Иловайской в вагон к Май-Маевскому вошел генерал Шкуро.
– Отец! Ты со своей стратегией не… (крепкое ругательство). Мои терцы и кубанцы – не твои солдатики, которых ты бросаешь туда-сюда!
– Успокойся, Андрюша, в чем дело? – перебил его Май-Маевский.
– Я туда не поеду, куда ты посылаешь. Ты знаешь отлично: если кубанцы и терцы не пограбят, так и воевать не будут. Мне нужны винные заводы, поместья, а на черта сдались красные голодранцы!
Май-Маевский начал успокаивать генерала. <…>
Шкуро, небрежно выслушав ряд доводов, объясняющих значение операции, сказал:
– Ну ладно. Посмотрим на эти танки. Отец, хочешь обедать? Поедем. Девочки есть, цымис. Хорошо проведем время.
– Нет, Андрюша, мне немного нездоровится. В следующий раз как-нибудь, – протягивая руку, уклонился Май-Маевский.
– Как хочешь. Поедешь – не пожалеешь, – ответил Шкуро, уходя из вагона»[277].
Так описывает встречу двух белых генералов бывший адъютант Май-Маевского Макаров, перебежчик и авантюрист. За стопроцентную достоверность его рассказа мы поручиться не можем. Однако приведенная зарисовка вполне соответствует тому образу Шкуро, который сохранился в памяти многих современников. Какое наименование будет для него самым подходящим? Рубаха-парень? Кондотьер? Разбойник? Гуляка-скандалист? Удалой атаман? Известный своей беспощадностью предводитель легендарной «волчьей сотни»?
Все это верно. И что-то важное все-таки остается недоговоренным.
Андрей Григорьевич Шкуро сам творил свою легенду – и делом, и словом.
Основным источником сведений о его жизни и подвигах до сих пор остаются его собственные (или приписываемые ему) воспоминания – «Записки белого партизана». По версии издателей, они были записаны со слов Шкуро и обработаны полковником Беком в 1920–1921 годах, по горячим следам событий. Однако публикация их по разным причинам откладывалась. В 1936 году Бек уехал в Аргентину и увез рукопись с собой. Изданы мемуары были только в 1961 году, много лет спустя после смерти Шкуро и Бека. Разумеется, проверить их подлинность затруднительно. В них много неточностей и ошибок. Автор не сообщает никаких внятных подробностей о тех боевых действиях в Первой мировой войне, за которые офицер Кубанского казачьего войска Андрей Шкура получил награды; в то же время рассказывает истории, не подтверждаемые документально. Живых, ярких деталей, которые невозможно придумать и которые придают мемуарам убедительность, здесь вообще мало. Описания боев и походов поверхностны, изложены общими плакатно-победными словами. В общем, «Записки» производят впечатление недостоверных, построенных на основе уже сложившейся легенды.
Еще больше сказок рассказывали о Шкуро публицисты, журналисты, мемуаристы, псевдобиографы разных времен, от тогдашних до нынешних. Порой кажется, что некоторым мемуаристам при взгляде на легендарного батьку и при общении с ним в самом деле начинало мерещиться то, чего не было в действительности. Картинки из приключенческого романа для подростков.
Вот в 1944 году офицер Русской освободительной армии (по терминологии, принятой у нас, – власовец) Леонид Александрович Самутин повстречался с немолодым уже Андреем Григорьевичем Шкуро и так описал его внешность:
«…Лицо [Шкуро] было разрублено наискось от левого края лба через нос, правую щеку и вниз почти до шеи. Страшный удар! Но видимо, здоров был в молодости атаман! Выдержал такое ранение»[278].
Конечно, какой же удалой атаман без шрама на физиономии! Между тем на фотографиях, сделанных в это же самое время, ясно видно: следов такого рода ранений на лице бывшего белогвардейского генерала не имеется. Что, власовцу померещилось? Или Шкуро, как настоящий оборотень, мог менять свой облик?
В этом человеке переменчиво все: внешность, возраст, повадки, чин и фамилия. В воспоминаниях одних очевидцев он был роста маленького, нрава невоздержного, с глазами хитрыми; по свидетельству других – среднего роста, с добродушным лицом, в личном обиходе прост до аскетизма. Одни называют его бандитом, другие представляют чуть ли не образцом добродетели.
Макаров, адъютант Май-Маевского:
«Генерал-лейтенант Шкуро был среднего роста, блондин, тридцати одного года, с голубыми хитрыми глазами, курносый. В империалистическую войну он служил есаулом. Настоящая фамилия его – Шкура; для благозвучности сменил «а» на «о». Шкуро оказывал огромное влияние на [Кубанскую краевую] раду, заставил ее произвести себя в полковники, а потом в генералы. Он устраивал дикие оргии и отличался бандитскими наклонностями»[279].
Генерал Махров:
«Шкуро был блондином маленького роста, лет тридцати восьми, с круглым добродушным симпатичным лицом. Он был подвижен, как юноша, держал себя очень просто в противоположность всем генералам производства периода Гражданской войны» [280].
Обратим внимание: Макаров и Махров, описывая Шкуро в 1919 году, расходятся в определении возраста на семь лет. Махров изрядно состарил Андрея Григорьевича, Макаров чуточку омолодил; каждый при этом приблизил к своему возрасту: на самом деле в феврале 1919 года ему исполнилось тридцать три… Если, конечно, он не фальсифицировал дату рождения, не присвоил себе спасителевы лета – так же, как присвоил полковничий чин.
Фамилия, которую он себе придумал и на которую даже выправил документы у кубанских властей, должна была звучать важно и торжественно: Шкуранский. Но этот бульварно-графский вариант не прижился, и как-то само собой закрепилось волчье прозвание: Шкуро. Что касается чина полковника, то Андрей Григорьевич стал самочинно именовать себя полковником после окончательного распада старой армии, зимой 1918 года. Последний его документально подтвержденный чин до начала Гражданской войны – есаул, что соответствует капитану. Производство в войсковые старшины (чин, соответствующий подполковнику) в 1917 году – под вопросом.
В следующих строках своих воспоминаний генерал Махров, человек достаточно наблюдательный и острый в оценках, буквально тает от умиления, описывая нашего героя:
«В лице Шкуро я встретил человека сердечной простоты и доброты, без дерзновенных притязаний. Слухи о его пристрастии к пьянству совершенно не соответствовали действительности»[281].
Между тем в воспоминаниях барона Врангеля, бывшего начальника и патрона Махрова, образ Шкуро нарисован вовсе не такими нежными красками и больше походит на тот портрет гуляки и бандита, который изобразил Макаров:
«…Прибыл ко мне генерал Шкуро. Он с напускным добродушием и нарочитой простоватостью начал жаловаться на „строгое“ мое к нему отношение:
– Сам знаю, что виноват, грешный человек, люблю погулять и выпить. Каждому из нас палка нужна. Треснули бы меня по голове, я бы и гулять бросил, а то гляжу, командующий армией, наш Май, первый гуляет, ну нам, людям маленьким, и сам Бог велел…»[282]
В другом месте скупой на эмоции Врангель, с трудом сдерживая негодование, изображает, как именно гуляли «маленькие люди»:
«Сплошь и рядом ночью после попойки партизан Шкуро со своими „волками“ несся по улицам города, с песнями, гиком и выстрелами. Возвращаясь как-то вечером в гостиницу, на Красной улице увидел толпу народа. Из открытых окон особняка лился свет, на тротуаре под окнами играли трубачи и плясали казаки. Поодаль стояли, держа коней в поводу, несколько „волков“. На мой вопрос, что это значит, я получил ответ, что „гуляет“ полковник Шкуро. В войсковой гостинице, где мы стояли, сплошь и рядом происходил самый бесшабашный разгул. Часов в 11–12 вечера являлась ватага подвыпивших офицеров, в общий зал вводились песенники местного гвардейского дивизиона, и на глазах публики шел кутеж. Во главе стола сидели обыкновенно генерал Покровский, полковник Шкуро, другие старшие офицеры»[283].
О «волках», «волчьей сотне», своеобразной личной гвардии Шкуро, речь у нас пойдет чуть позже.
Несколько колоритных штрихов к портрету Шкуро на фоне его окружения добавляет Федор Иванович Елисеев, офицер Кубанского казачьего войска (в Вооруженных силах Юга России имел чин полковника):
«Шкура-Шкуранский характеризовался… как веселый и бесшабашный офицер, но талантливый и удачный партизан, умевший создать вокруг себя соответствующее окружение из казаков. Был не прочь при этом и соригинальничать: набрал при развале армии казаков – „волков“.
Теперь пред нами предстала, вопреки создавшемуся заочному представлению, миниатюрная фигурка казачьего офицера с нервно подергивающимся лицом, с насмешливой кривой улыбкой. Чин – полковник, а говорили, что он только войсковой старшина. Самовольное перескакивание через чин было в обычае того времени, когда утерялось следящее начальническое око. <…>
При начале знакомства со Шкуро вам прежде всего бросается в глаза его миниатюрность, подвижность, непосредственность и, говоря правду, незначительность»[284].
Итак, перед нами подвижный, беспокойный, несколько даже вертлявый человек неопределенного возраста и роста, светловолосый и светлоглазый, с небольшими пшеничными усиками, балагур, любитель простых походных развлечений… Тип какой-то несерьезный. Ожидали увидеть Воланда, а выглянул Коровьев…
Если по возможности отслоить правду от вымысла и при этом оставить место сомнению, то биография Шкуро будет выглядеть примерно следующим образом.
Родился 7 февраля 1886 года в станице Пашковской, близ Екатеринодара. Потомственный кубанский казак. Отец, Григорий Федорович Шкура, – офицер. В «Записках белого партизана» он назван полковником, но на самом деле был уволен в отставку «за болезнью, с мундиром и пенсией» в 1901 году в чине войскового старшины. За пять лет до рождения сына Григорий Федорович участвовал в Ахал-Текинском походе Скобелева и во взятии Геок-Тепе. Видимо, тогда получил ранение в голову: след от него заметен на фотографиях, сделанных много позже. В этом, возможно, причина сравнительно ранней отставки, а также и неуживчивости, резкости, неуравновешенности характера Григория Федоровича. Человек он был состоятельный, хотя и не богач. В екатеринодарском обществе имел определенный вес, избирался гласным городской думы. Своего старшего сына, конечно же, предназначал к военной службе, и не простой, а успешной. Для этого необходимо было образование.
После окончания приготовительного класса реального училища родители отправили десятилетнего Андрея в Москву, в 3-й Кадетский корпус. В нем он отучился семь лет. Окончил с хорошим баллом, дававшим право на выбор военного училища. Выбрал Николаевское кавалерийское училище в Петербурге – то самое, в котором когда-то учился Лермонтов. Два года обучения прошли в общем благополучно. В «Записках» есть упоминание о разжаловании из портупей-юнкеров в юнкера за участие в попойке; но, во всяком случае, эта неприятность серьезных последствий не имела. Училище окончил по первому разряду, имея баллы: по наукам общим – 8,88, по наукам военным и механике – 8,5, за строевую подготовку – 10. Летом 1907 года (а не в мае, как указано в «Записках») был произведен в хорунжие и направлен к месту службы – в 1-й Уманский полк Кубанского казачьего войска. Полк дислоцировался в Армении, в Карсе, на границе с Турцией, близ границы с Ираном.
Беспокойная пограничная служба продолжалась менее года. Летом 1908 года хорунжий Шкура переводится в 1-й Екатеринодарский полк. О причинах столь скорой перемены места службы можно только гадать. В «Записках» Шкуро (если только именно он является их автором) упоминает о своем участии «охотником», то есть добровольцем, в рейдах на территорию Ирана против разбойников-горцев и о полученной за это награде – ордене Станислава третьей степени. Документальные подтверждения этих сведений нам неизвестны. Уход из полка заставляет сомневаться в успешности его службы. Возможно, что имел место какой-то конфликт. Так или иначе, хорунжий возвращается в родной Екатеринодар и вскоре женится – по любви, но и с хорошими видами на приданое. Татьяна Сергеевна Потапова, его невеста, – дочь директора народных училищ Екатеринодарской губернии и богатая наследница состояния своей бабушки.
Женитьба давала возможность и повод оставить полк. В чине сотника Андрей Шкура выходит «на льготу» – то есть в запас (для военного сословия, казаков, чистой отставки, кроме как по возрасту и болезни, не существовало). И вновь возникает подозрение, что служба не давалась Андрею Григорьевичу, что не светила ему заманчивая карьера – иначе не ушел бы в такие молодые годы с действительной службы. Чем это объяснить? Пьянством? Неповиновением начальству? Буйной неуправляемостью натуры? Не любил Андрей Шкура ходить в чужой упряжке, ох не любил. Характер у него был по-настоящему казачий, с древнеразбойным, разинским вывертом.
Но если тяготила его армейская дисциплина и упорядоченность, то тем более не по нутру пришлась спокойная жизнь обеспеченного семейного обывателя. К этому добавился еще и острый конфликт с отцом, разбирать который пришлось наказному атаману Кубанского войска Михаилу Петровичу Бабичу. Отец взыскивал с сына долг и обвинял в расточительстве; сын называл отца тираном, семейным деспотом, губителем жены и детей. Дело едва не дошло до лишения мундира; потом как-то утряслось, но осадок остался…
Прожив с молодой женой (счастливо или нет – мы не знаем) около года, Андрей Григорьевич решает поискать удачу в далекой забайкальской тайге. В 1913 году отправляется в Нерчинск – как мы сказали бы сейчас, в геологическую партию; тогда это называлось экспедицией Кабинета его величества «для отыскания и нанесения на карту золотоносных месторождений». О его работе в экспедиции мы не имеем никаких сведений. Впрочем, она продолжалась недолго. В июле 1914 года Андрей Шкура приехал в отпуск в Читу. Там из газет узнал о мобилизации и о начале войны.
Его не манила служба, но поманила война. Он немедленно возвращается в Екатеринодар и подает прошение об отправке на фронт. Тут опять оказывается не в своем полку, а в 3-м Хоперском, второочередном. Полк был включен в состав III Кавказского армейского корпуса и прибыл в конце сентября в Ивангород (Дембин) под Варшавой. Там в это время шли жестокие бои – разгар немецко-австрийского наступления.
Боевой путь Андрея Шкуры в Первой мировой войне рисуется совершенно по-разному в двух группах источников, которые можно назвать так: мифологические и реалистические.
Согласно мифологической схеме, сотник Шкура уже в первых боях проявил неслыханную храбрость, рубил и гнал немцев с австрийцами, захватывал пленных, за что удостоился выдающихся наград и быстрого повышения в чинах. Вслед за этим он выдвинул гениальную военную идею – вести партизанскую войну в тылу противника. Он, как Денис Давыдов, создает летучий отряд, который громит штабы и гарнизоны противника, собирает бесценную разведывательную информацию, захватывает в плен генералов. Маститые военачальники русской армии удивляются, разводят руками, награждают героя-кубанца очередными орденами. Слава о есауле Шкуре и его «волчьей сотне» гремит по всем фронтам… И так далее.
Однако генерал Петр Николаевич Краснов, хорошо знавший Шкуро во время Гражданской войны и в эмиграции, оценивает фронтовые заслуги будущего кубанского батьки более чем скромно:
«Молодой еще человек, он в русско-германскую войну командовал партизанским отрядом при 3-м кавалерийском корпусе. Как и все партизаны в эту войну, он ничем особенно не отличался»[285].
Еще более категоричен Врангель, впрочем вообще недоброжелательно настроенный по отношению к Шкуро (сведения, приводимые Врангелем, относятся к концу 1915-го и к 1916 году):
«Партизанские отряды, формируемые за счет кавалерийских и казачьих полков, действовали на фронте как-то автономно, подчиняясь непосредственно штабу походного атамана. За немногими исключениями туда шли главным образом худшие элементы офицерства, тяготившиеся почему-либо службой в родных частях. Отряд есаула Шкуро во главе со своим начальником, действуя в районе XVIII корпуса, в состав которого входила и моя Уссурийская дивизия, большей частью болтался в тылу, пьянствовал и грабил и, наконец, по настоянию командира корпуса генерала Крымова, был с участка корпуса отозван»[286].
Что же на самом деле? Казак Шкура – славный партизан или ничем не примечательный обер-офицер?
Истина, по-видимому, где-то посередине.
На войне всем нужен героический пример и образ; у генералов герои одни, у солдат – другие, у офицеров – третьи. Андрей Шкура не укладывался в рамки генеральского представления о славном воине, не подходил и под солдатский стереотип. Его легенда стала складываться в сознании и в среде второочередных обер-офицеров, не имеющих надежд на служебный успех при обычной армейской рутине и мечтающих о стремительном выдвижении благодаря личной храбрости, предприимчивости и боевой удаче.
Андрей Шкура, бесспорно, обладал храбростью, был прекрасным наездником, умелым командиром и отчаянным рубакой. Кроме того, отличался бесшабашным, рисковым, зажигательным нравом. Совестью обременен не был. Хороший боевой офицер, но недостаточно дисциплинированный. Начальники таких не очень любят, подчиненные побаиваются. На их подвиги (точнее, похождения) те и другие предпочитают смотреть со стороны. Отправить его в разведку, или в расположение соседнего полка для связи, или вообще сплавить в другую часть…
К нарисованному портрету вполне подходят и внешние регалии – сведения о наградах и о продвижении в чинах.
Стремительной карьеры за три года войны Шкура не сделал. Сотник – подъесаул – есаул. Для военного времени – обычный рост боевого офицера. Награды тоже обычные для фронтовых храбрецов: Анна четвертой степени («клюква» и надпись на эфесе: «За храбрость») и георгиевская шашка с позолоченной рукоятью.
«Клюкву» Шкура заработал в октябрьских боях на реке Сан, примерно в тридцати пяти верстах от того самого Кржешова, где Тухачевский добывал своего Владимира с мечами. Если верить «Запискам», сотник Шкура, будучи в разъезде во главе взвода кубанцев, неподалеку от местечка Сенява столкнулся с эскадроном неприятельских гусар. Кубанцы, прикрытые лесом, увидели противника первыми и атаковали его. Результат успешной атаки – 2 пленных офицера, 48 солдат и 2 пулемета.
Вскоре последовала еще одна награда. Автор «Записок» излагает обстоятельства, при которых она заслужена, следующим образом:
«Оторванные от своих, мы попали наконец в какую-то жуткую свалку, где наши и австрийцы были совершенно перемешаны. Неожиданно мы вышли к окруженной австрийцами 21-й дивизии генерала Мехмандарова и присоединились к ней. Мехмандаров приказал мне постараться войти в связь с нашими войсками. Внезапной конной атакой я разбил и взял в плен две роты австрийцев, и 21-я дивизия соединилась с одним из наших корпусов, в свою очередь окружавших австрийцев. Началось форменное их избиение. Мне казаки приводили каждый по 200–250 пленных. Мы преследовали врага в направлении на Кельцы, занятые австрийцами, которые, при приближении наших разъездов, бросили город, оставив громадную добычу и значительное количество пленных.
В начале ноября под Радомом я, вместе с донцами, взял много пленных, орудия, пулеметы и получил за это георгиевское оружие»[287].
То же событие описано в официальных источниках куда более сдержанно.
Из приказа войскам 4-й армии Юго-Западного фронта за № 413 от 29 января 1915 года:
«Утверждается пожалование командующим армиею за отличие в делах против неприятеля георгиевского оружия подъесаулу Хоперского полка Кубанского казачьего войска Андрею Шкуре за то, что 5 и 6 ноября 1914 года у дер[евни] Сямошницы, подвергая свою жизнь явной опасности, он установил и все время поддерживал постоянную связь между 21-й и 75-й пехотными дивизиями, а с 7-го по 10-е – между 21-й и 1-й Донской казачьими дивизиями»[288].
Здесь нет речи о толпах пленных, захваченных казаками сотника (на момент издания приказа уже подъесаула) Шкуры, хотя такие данные всегда заносились в приказы о награждении. Да и вообще масштабы деяний, представленных в «Записках», дают право на более высокую награду – на орден Святого Георгия четвертой, а то и третьей степени. Впрочем, в донесениях в штаб 4-й армии генерала от инфантерии Эверта столь масштабные успехи на участке III Кавказского корпуса в эти дни вроде бы не отмечены. Неувязка в мемуарах Шкуро возникает и с местом победоносных сражений. С 5 по 10 ноября 21-я пехотная дивизия III Кавказского корпуса в ходе Ченстоховско-Краковской операции вела бои к северу от Кракова. Деревня Сямошницы, упомянутая в приказе (по-видимому, Сямошице на современных картах), расположена в районе действий корпуса и почти в полутораста километрах от Радома. Кельцы к этому времени уже давно были взяты русскими войсками. Вновь мы сталкиваемся с недостоверностью «Записок белого партизана», по крайней мере в той их части, которая относится к мировой войне. Военным свойственно хорошо запоминать названия мест больших боев, а тем более таких боев, за которые последовали награды. По версии издателей, Шкуро диктовал свои воспоминания всего через шесть-семь лет после описываемых событий. Неужели все забыл и перепутал?
Так как надежных и правдивых описаний фронтовых будней в «Записках» Шкуро не найти, попытаемся восполнить этот недостаток из другого источника.
Почти в то же время и примерно в тех же местах в составе лейб-гвардии Уланского полка, в 1-м Ея императорского величества эскадроне воевал вольноопределяющийся Николай Степанович Гумилев. Уланы выполняли в основном ту же боевую работу, что и казаки: передовое охранение, прикрытие флангов пехоты, рейды в тыл противника, поддержание связи между частями и, конечно, всевозможная разведка. Будни кавалериста состояли из разъездных заданий, передислокаций и отдыха; разведка представляла собой что-то вроде праздника – смертельно опасного, но увлекательного и сулящего награды. В таких разведках, несомненно, участвовал и казак Шкура.
О своей кавалерийской жизни и о боевых приключениях Гумилев писал очерки – нечто вроде фронтового дневника. Очерки печатались в популярной петербургской газете «Биржевые ведомости». Они вполне достоверны, даже документально точны.
Вот описание одной такой разведки, за которую Гумилев получил Георгиевский солдатский крест четвертой степени и был произведен в унтер-офицеры:
«Светила полная луна, но, на наше счастье, она то и дело скрывалась за тучами. Выждав одно из таких затмений, мы, согнувшись, гуськом побежали к деревне, но не по дороге, а в канаве, идущей вдоль нее. <…>
Становится чуть светлее, это луна пробивается сквозь неплотный край тучи; я вижу перед собой невысокие темные бугорки окопов и сразу запоминаю, словно фотографирую в памяти, их длину и направление. Ведь за этим я сюда и пришел. В ту же минуту передо мной вырисовывается человеческая фигура. Она вглядывается в меня и тихонько свистит каким-то особенным, очевидно условным, свистом. Это враг, столкновение неизбежно.
Во мне лишь одна мысль, живая и могучая, как страсть, как бешенство, как экстаз: я его или он меня! Он нерешительно поднимает винтовку, я знаю, что мне стрелять нельзя, врагов много поблизости, и бросаюсь вперед с опущенным штыком. Мгновение, и передо мной никого. Может быть, враг присел на землю, может быть, отскочил. Я останавливаюсь и начинаю всматриваться. Что-то чернеет. Я приближаюсь и трогаю штыком, – нет, это – бревно. Что-то чернеет опять. Вдруг сбоку от меня раздается необычайно громкий выстрел, и пуля воет обидно близко перед моим лицом. Я оборачиваюсь, в моем распоряжении несколько секунд, пока враг будет менять патрон в магазине винтовки. Но уже из окопов слышится противное харканье выстрелов – тра, тра, тра, – и пули свистят, ноют, визжат.
Я побежал к своему отряду. Особенного страха я не испытывал, я знал, что ночная стрельба недействительна, и мне только хотелось проделать все как можно правильнее и лучше. Поэтому, когда луна осветила поле, я бросился ничком и так отполз в тень домов, там уже идти было почти безопасно»[289].
Именно из опыта таких разведок выросла идея формирования кавалерийских отрядов особого назначения, так называемых партизанских, для глубоких рейдов малыми трудноуловимыми группами по тылам противника. Сразу отметим принципиальное отличие партизан той войны от партизан Великой Отечественной: в Первую мировую они действовали в тылу противника, но базировались на своей территории, по эту сторону линии фронта. В сущности, это были летучие диверсионно-разведывательные отряды в составе регулярной армии. В силу специфики боевой работы в этих отрядах складывался особый стиль жизни и особая система отношений, основанная не столько на дисциплине, сколько на товариществе и авторитете командира.
Творцы мифа о батьке Шкуро, в том числе и автор (или авторы) «Записок белого партизана» (кто бы он или они ни были), представляют дело так, будто подъесаул Шкура был первым партизаном Великой войны – и в смысле, так сказать, приоритета, и по достигнутым успехам. Однако никто из русских военачальников Первой мировой не приписывает ему таких заслуг. Автор специального исследования о партизанских действиях генерал Клембовский не упоминает его имени в своем труде. По данным Клембовского, первым обратился в Ставку с предложением организовать конные отряды особого назначения для действий в тылу врага некий офицер Кучинский в августе 1915 года.
На самом деле мысль о партизанских рейдах возникла у многих кавалеристов, и рождена она была скукой окопно-позиционной войны. Осенью 1915 года фронт застыл в кровавом равновесии. Пехоте приходилось терпеть грязь траншей, ежедневные обстрелы и бесплодные дежурные атаки – такова ее пехотная доля. Кавалеристам сия жизнь была поперек горла.
Свидетельствует Николай Николаевич Мензелинцев, офицер Оренбургского казачьего войска, один из первых командиров добровольческих войск особого назначения:
«Разговоры о формировании партизанских отрядов начались чуть ли не с самого начала войны, но все это были разговоры, и только тогда, когда в 1915 году был отдан приказ по Юго-Западному фронту о формировании партизанских отрядов от каждой кавалерийской дивизии, таковые начали формироваться. В приказе было сказано, что партизанские отряды формируются для работы в тылу противника. В партизанские отряды вызывались исключительно желающие, как среди офицеров, так и среди нижних чинов»[290].
По данным штаба главковерха, на октябрь 1915 года в составе Северного и Западного фронтов имелось по шесть партизанских отрядов, в составе Юго-Западного – одиннадцать. Один из добровольческих отрядов Запфронта сформировал и возглавил Андрей Шкура. Только один из многих. Начальники охотно отпускали таких «охотников» из своих частей: без них спокойнее. В дальнейшем, в течение следующего года, отряд Шкуры – сотня или две – действовал, не выделяясь какими-то особенными успехами среди подобных формирований.
По страницам популярных биографий Шкуро кочует позаимствованная из «Записок белого партизана» апокрифическая история о разгроме его отрядом штаба германской дивизии и о захвате в плен дивизионного генерала. При этом ни место, ни время этого дивного налета, ни номер дивизии, ни фамилия генерала не называются. Если бы такой подвиг был в действительности известен командованию, носил бы Андрей Григорьевич белый Георгиевский крестик на своей черкеске, а может быть, и на шее. И уж в 1916 году точно ходил бы в войсковых старшинах, а то и в полковниках.
История эта, однако, не является полностью вымышленной. Диверсионный рейд, имевший целью разгром штаба, захват секретных документов и пленных, имел место 14–15 ноября 1915 года в районе деревень Невель и Жидча, неподалеку от Пинска, в полосе 8-й армии Юго-Западного фронта. Он подробно описан в цитированных воспоминаниях Николая Мензелинцева. Набег на штаб 82-й германской резервной дивизии осуществляло сводное формирование из семи партизанских отрядов (среди которых были кубанцы, но не из 3-го Хоперского полка, находившегося в составе 3-й армии Запфронта, а из 1-го Екатеринодарского). В результате внезапного нападения на село Невель (не путать с одноименным городом в Псковской губернии!) были захвачены документы штаба, три офицера и два генерала, в том числе начальник дивизии генерал Фобериус. Правда, уже будучи доставлен в русский тыл, генерал воспользовался оплошностью конвойного офицера (по некоторым данным, тот вышел в соседнюю комнату – выпить с друзьями за удачу) и застрелился из револьвера, кем-то оставленного по разгильдяйству.
К лету 1916 года действия партизанских отрядов были практически свернуты. Их признали неэффективными. Негодование генералов вызывали неуправляемость «партизан», их разухабистое поведение в собственном тылу. Уже тогда проявилась разрушительная сила этих спаянных на крови коллективов. Штабы корпусов постоянно получали жалобы от мирных жителей на грабежи, насилия и прочие обиды со стороны «партизан». Словом, отряды особого назначения оказались чужеродным телом в организме императорской армии. Никто тогда еще не знал, что армия больна и скоро умрет, а чужеродное тело сохранится, переживет и империю, и армию и явится в полной силе в годы Гражданской войны.
Настоящий Шкуро появился и начал расти во внешнем обличье заурядного казачьего офицера Андрея Шкуры именно здесь, в Кубанском конном отряде особого назначения.
Он обрел себя. Отождествился с беспокойными духами своих далеких предков, вольных степных и горных воинов – половцев, касогов, ясов, сарматов, скифов. Здесь же нашел он подобных ему вольных воинов, сыновей ветра, рыцарей шашки и нагайки, которым тесно было в рамках военно-государственной дисциплины. Мы не знаем поименно этих опасных удальцов, не знаем их биографий, но смело можем предположить, что именно они, по крайней мере некоторые из них, составят вскоре ядро той самой «волчьей сотни», с которой Шкуро прославится в Гражданской войне.
Их час настал в 1917 году.
На исходе февраля отряд есаула Шкуры находился в составе III кавалерийского корпуса графа Келлера на Румынском фронте, в Кишиневе (рядом – дивизия генерала Крымова, полк полковника Врангеля). Келлер, едва ли не единственный из царских генералов, не признал отречения Николая II, отказался присягать Временному правительству и был отстранен от командования корпусом. С новым командиром, Крымовым, отношения у Шкуры и его лихих кубанцев, по-видимому, не сложились. В мае отряд был переброшен из Молдавии в Закавказье, а затем в персидский Гилян, в распоряжение генерал-лейтенанта Баратова. Где-то там же и, может быть, по тем же горным тропам проходил и взвод драгун со своим унтер-офицером Семеном Буденным. Правда, два будущих вождя красной и белой конницы разминулись на каменистых дорогах Ирана: Северский драгунский полк, в котором служил Буденный, был отозван из Персии и передислоцировался с востока на запад как раз в то время, когда отряд Шкуро направлялся с запада на восток.
О переезде отряда Шкуры с фронта на Кубань, оттуда в Баку и в Энзели, о пребывании в Азербайджане и Персии надежных сведений очень мало. В «Записках белого партизана», как всегда, правда перемешана с вымыслом. Несомненно то, что действия отряда Шкуры становятся все более самостийными и даже приобретают явно криминальный оттенок, что, впрочем, не было дивом в это время стремительного наступления анархии по всему фронту, внутреннему и внешнему. Согласно утверждению помощника военного прокурора Кавказского военно-окружного суда полковника Калинина, имя Шкуры в 1917 году «блистало в реестрах военных следователей». Правда, подробностей военный юрист не приводит. Надо полагать, шкуринцы пограбили «персиян» вдоволь – помянули Стеньку Разина, гулявшего в тех же местах двести пятьдесят лет назад.
Видимо, здесь родилось их дикое имя – «волчья сотня». Черное знамя с оскаленной волчьей мордой. Черные черкески, волчьи шапки с хвостами. Нарукавный знак и черный эмалевый крест с той же вурдалачьей символикой. В то время вошли в моду подобные картинки из дурных кинофильмов про разбойников и пиратов. Добровольцы-ударники изображали череп и кости на своих знаменах (конечно же, черно-красных). Большевистская красная звезда в окружении помпезных лучей на знаменах красногвардейцев выглядела, пожалуй, привлекательнее.
Повсюду в России наступал хаос. Дойдя до государственных границ, его потоки выплескивались в пределы соседних стран. Осенью 1917 года революционные вихри долетели по Каспия, до Гиляна и Хамадана, где находились части отдельного корпуса Баратова.
В мае 1918 года волны мировой бури выбросили Андрея Шкуру – то ли бывшего есаула, то ли войскового старшину – через Дагестан на Ставрополье, в Кисловодск.
По всему югу России гуляла смута. Десятки эфемерных «республик» и «правительств» не могли поделить между собой несуществующую власть. Движение Чехословацкого корпуса и спровоцированное им наступление немцев отсекали Северный Кавказ от большевистского центра, от Москвы. Большевики, еще недавно, после гибели Каледина и Корнилова, казавшиеся здесь хозяевами положения, теперь еле держались. На Дону крепла сила атамана Краснова, подпираемая немцами; в Новочеркасске быстро восстанавливала силы полуразбитая Добровольческая армия.
Перед Андреем Шкурой не стоял вопрос: что делать? Конечно воевать. Вопрос: к кому присоединиться?
Его облик всегда был изменчив и неуловим.
Вот мы видим Шкуру с мандатом за подписью главкома войск Кубано-Черноморской Советской республики Александра Автономова. Екатеринодарский победитель Корнилова, Автономов предписывал оказывать содействие командиру Шкуро (к этому времени утвердился «облагороженный» вариант фамилии – на «о») в формировании вооруженных отрядов для борьбы с немецкими завоевателями. Вот его, невзирая на мандат, арестовывают красные – и тут же отпускают. Вот он во главе небольшого, но удалого формирования (в сущности, банды) действует в окрестностях Кисловодска, Пятигорска, Ставрополя. Банда быстро растет. В сложившейся ситуации лучше самому взять оружие в руки и идти грабить и убивать других, чем ждать, когда другие с оружием в руках придут убивать и грабить тебя.
Партизанская война продолжалась. Только линия фронта исчезла, и понятия «свои» и «враги» смешались, полностью изменив значения.
На каком-то повороте этого стремительного пути отряд получил ценное пополнение: к нему присоединился полковник Слащев. Через него удобнее стало договариваться с добровольцами, с Деникиным.
В июле Добровольческая армия развернула наступление на Кубани. Шкуро сделал выбор: повел свой уже довольно многочисленный отряд к Екатеринодару. Признал власть Деникина. За это Деникин утвердил его полковничий чин, а отряд переименовал в Кубанскую партизанскую отдельную бригаду. Через три месяца бригада стала дивизией, а Шкуро – генерал-майором. В 1919 году он – генерал-лейтенант, под его командой корпус.
Под деникинскими знаменами Шкуро провоевал чуть больше года. Впрочем, знамя у него было свое, то самое, волчье.
Полковник Калинин:
«К нему, в его корпус, стекались все, кто не дорожил жизнью, но кому хотелось крови, вина и наживы. Слагались легенды об его лихих налетах, с улыбкой рассказывали об его безумных кутежах, с затаенным сладострастием – об его кровавых расправах с коммунистами.
„В ауле Тамбиевском, в семнадцати верстах от Кисловодска, Шкуро повесил восемьдесят комиссаров, в том числе и начальника штаба северно-кавказской Красной армии – Кноппе“, – сообщала однажды „Вольная Кубань“»[291].
Протопресвитер Георгий Шавельский:
«О Шкуро все, не исключая самого ген. Деникина, открыто говорили, что он награбил несметное количество денег и драгоценных вещей, во всех городах накупил себе домов; расточительность его, с пьянством и дебоширством, перешла все границы»[292].
Макаров:
«По взятии Москвы, Деникин предполагал разжаловать Шкуро и предать суду за грабежи и самовластие»[293].
Недоброжелателям генерала Шкуро возражают его сторонники, друзья, почитатели. К ним относится, например, генерал Махров, человек правдивый:
«Его обвиняли в еврейских погромах, но на самом деле он этого не допускал. Правда, он налагал контрибуции на евреев в занятых им городах. Этими деньгами он помогал вдовам и сиротам своих казаков»[294].
Но архивы наполнены показаниями другого рода.
Из записей свидетельств о погромах и расстрелах в Харькове в 1919 году:
«21 июня, в 6 часов утра, к Айзику Брискину явились 2 казака и стали кричать: „Вставай, жидовская морда“. На требование предъявить ордер они ответили, что они шкуровцы и имеют право на обыск и что в течение 7 дней они вырежут всех жидов. <…> Через несколько часов пришел офицер из контрразведки… и предложил не возбуждать дела, так как казаки – шкуровцы; их полк находится в 7 верстах от Харькова, и их расстрел может вызвать волнения в полку».
«12 июня (по старому стилю. – А. И.-Г.) были расстреляны санитары 10-го госпиталя: Левин, Шагаль, Лаут, Берман, Фарбман и доктор Шохер и др. лица, фамилии коих не выяснены. <…> Всех бывших в поезде отвели в 3-й класс, причем „жидам, коммунистам, комиссарам и латышам“ велели отделиться. Отделившихся окружили особым кольцом. 12 июня, утром, отделенных отвели будто бы в контрразведку, помещавшуюся на вокзале в вагоне, а через час все они были расстреляны на 2-м Люботинском пути возле Холодногорского моста. Перед расстрелом у всех забрали документы и деньги, снимали с них платья, оставляя их в одном нижнем белье. <…> Расстрелянные никакого отношения к большевизму не имели».
Сообщение С. Л. Беккер о погроме в городе Черкассы:
«16 августа н. ст. утром… в город вступили разведчики добровольческих отрядов из группы генерала Шкуро. <…> В понедельник 18 августа начался погром, продолжавшийся беспрерывно днем и ночью до четверга 21 августа. Казаки и уваровцы ходили по еврейским квартирам и грабили всякое имущество, представлявшее малейшую ценность. Вначале казаки ограничивались только грабежом, но потом они начали производить насилия над жизнью и честью беззащитного еврейского населения. <…> Так, например, в доме Манусовых, [хозяин] по профессии лавочник, где была дочь-коммунистка, которая бежала из Черкасс, после обвинения в стрельбе по вступившим добровольческим частям, убито несколько чел. В одном доме было убито 19 чел. – родственников девушки-коммунистки Султан, вплоть до четвертого поколения (была убита прабабушка Султан). Эти дома были сожжены и буквально снесены с лица земли»[295].
Подобных документов десятки, сотни. Конечно, не всему в них нужно верить. Конечно, после возвращения красных выгодно было возводить на белых всяческую напраслину. Но, как мы убедились, и в белом лагере многие были убеждены в погромном энтузиазме воинов Шкуро.
Деникин терпел кубанских «волков» и их батьку, пока те приносили столь необходимые победы. Но поражения, начавшиеся в октябре 1919 года, мгновенно разрушили тот казацко-разбойничий табор, который четыре года собирал «атаман граф Шкура-Шкуранский». Удачливые в лихой атаке, бесшабашные в грабеже и разгуле, его хлопцы – терцы да кубанцы – не видели смысла в обороне и в организованном отступлении. Корпус стал рассыпаться. К декабрю от корпуса осталось всего сотен пять человек. А с севера наступала многочисленная, организованная Конная армия Буденного. Время партизанщины заканчивалось; на военные дороги возвращались регулярные армии.
Волчья стая разбежалась. Шкуро оказался вожаком лишь до первой неудачной охоты, как и его давний прообраз – Стенька Разин.
В отличие от Стеньки, Шкуро не сразу попал в руки московских палачей. Он еще пытался собрать на Кубани новые отряды, но из этого ничего не вышло. Главнокомандующий Врангель не дал ему никакого назначения. В мае 1920 года Шкуро выехал в Турцию.
До дня его казни в Москве по приговору советского суда оставалось двадцать семь лет и четыре месяца.
Советский писатель Алексей Иванович Пантелеев более всего был известен читателям из комсомольского племени двумя своими произведениями: повестью «Республика ШКИД» и рассказом «Пакет». В первом речь идет о горьком наследии Гражданской войны – беспризорщине; во втором – сама Гражданская война предстает в романтико-героическом ореоле (хотя и не без милой иронии). Булат Окуджава, наверно, вспоминал этот рассказ, когда пел:
Я все равно паду на той,
на той единственной, Гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах
склонятся молча надо мной.
В рассказе, напомню, вот о чем речь.
Гражданская война. Красноармейский отряд. Дела плохи. «Слева Шкуро теснит, справа – Мамонтов, а спереду Улагай напирает». Комиссар посылает бойца Трофимова с секретным пакетом к Буденному, передать лично в руки. Боец попадает в плен к белым, съедает пакет, потом со всевозможными приключениями добирается до красных… На последней странице рассказа перед глазами бойца появляется сам командарм Буденный.
«Ох, – думаю, – братишка наш Буденный! Какой ты, с усам…»
Пройдет время, и автор рассказа, подобно своему персонажу, повстречает Буденного.
«Помню зимний питерский вечер, заснеженный, затуманенный перрон Московского вокзала. Мы с Самуилом Яковлевичем Маршаком едем в Москву, опаздываем, ищем свой вагон. И вдруг Маршак останавливается, ставит чемодан:
– Здравствуйте, Семен Михайлович!
– Здравия желаю, товарищ Маршак. Мое почтение!
Окруженный военными, краскомами, стоит у входа в вагон пышноусый широкоскулый человек в серой бекеше и в мерлушковой темной папахе. Маршак знакомит нас, представляет меня Буденному.
– Как же… Имел удовольствие, – оживляется Буденный. И, пожимая мне руку, вглядывается в меня с таким же интересом и любопытством, с каким я гляжу на его усы, на его узкие татарские глазки».
Не только сам Буденный, но даже его усы стали легендой.
Мы много знаем о генералах и очень мало о солдатах. Биография Буденного известна до деталей с того момента, когда он возглавил 1-ю Конную армию. О нем же – командире корпуса, дивизии, полка – известно гораздо меньше; тут немало белых пятен. Что же касается его жизни до 1918 года, о жизни унтер-офицера, рядового, новобранца, батрацкого сына, то она плохо различима в полусумраке легенд, догадок, недостоверных воспоминаний, недоказуемых предположений.
Так же как и Шкуро, Буденный превратился в миф. Так же как Шкуро, он сам принял деятельное участие в сотворении своего мифа.
Буденный – выходец с Дона, но не из казаков, а из крестьян-переселенцев; как их называли станичники – иногородних. В мемуарах Буденный пишет, что он родился на хуторе Козюрин Кочетовской станицы области Войска Донского. Но современным исследователям вроде бы удалось установить, что его родители, Михаил Иванович и Меланья Никитична, перебрались в Козюрин из Бирючинского уезда Воронежской губернии с двухгодовалым сынишкой Семеном и его старшим братом Григорием в 1885 году. Семейство умножалось и в дальнейшем: еще три брата и три сестры родились в семействе Буденных. Старшим приходилось с малолетства работать, помогать родителям.
Известно, сколь упорной, жестокой и кровавой была в 1918–1920 годах Гражданская война на Дону. Семена этой смертоносной вражды вызревали задолго до революции. Одна из линий донского противостояния – казаки и иногородние.
Нам сейчас трудно представить себе, сколь могучей силой в дореволюционной России был сословный строй. Принадлежность к сословию не только фиксировалась юридически, создавая набор прав и обязанностей, но и определяла образ жизни человека, его психологию, особенности мышления, круг общения, уровень образования. Что всего важнее, сословная принадлежность изначально ставила рамки жизненного роста, предел возможных стремлений. Нижний чин из крестьян не мог надеяться дослужиться до генерала; попович – стать министром; еврей – получить орден; мещанин – жениться на дворянке из знатного рода. Исключения случались, но именно исключения. Дворянин Тухачевский женился на крестьянке, но тем самым закрыл себе путь в военную службу: офицерское собрание любого полка отказалось бы принять его в свою среду, потому что его жена недостойна на равных общаться с благородными полковыми дамами.
Моя бабушка говорила мне:
– Тебя не было бы на свете, если бы не революция.
Я терпеть не мог советскую власть, и поэтому мне хотелось опровергнуть это утверждение. Но бабушка объясняла с полной убедительностью:
– Твой дед был дворянин, сын богатого помещика, а мы из простой семьи: отец – мещанин города Пинска, родня матери – питерские рабочие. Если бы не революция, мы с твоим дедом, наверно, никогда бы не встретились. А если бы и встретились, то никогда бы не поженились. Это было невозможно до революции. Просто невозможно.
Добавлю: бабушка моя нисколько не была коммунисткой; не была и монархисткой. Одно из самых ранних ее детских воспоминаний – Кровавое воскресенье, страх за отца, ушедшего утром вместе со всеми туда, во дворец, к царю, – и вернувшегося лишь поздней ночью, без шапки, в изодранном пальто… Революцию она не любила. К большевикам относилась критически. Вспоминала аресты знакомых, расстрелы заложников, голод 1918 года, который был хуже блокадного. Но в ответ на мои подростковые попытки закрасить революционное прошлое черным цветом, всегда повторяла:
– Не было бы революции – не было бы на свете ни твоей мамы, ни тебя.
И это – правда.
Между казаками и иногородними на Дону пролегала такая же непереходимая сословная черта, как между мещанской дочерью и сыном потомственного дворянина в Петербурге. Прежде всего иногородние не могли владеть землей в пределах области Войска Донского. Стало быть, оставались в вечно зависимом положении: либо наемными работниками, батраками у казаков, либо арендаторами у них же. В казачьих войсках иногородние не служили, а несли воинскую повинность на общих основаниях. К казачьему самоуправлению, естественно, не допускались. Хуже всего было то, что природные казаки слишком часто относились к иногородним с обидным презрением.
Жизнь, конечно, брала свое. Среди иногородних попадались предприимчивые люди, которым удавалось торговлишкой сколотить капиталец, а там, смотришь, взять в аренду побольше земли да сдавать ее беднякам в субаренду. У одного из таких успешных предпринимателей, некоего Яцкина, принадлежащего к крестьянскому сословию, арендовал землю Михаил Буденный на хуторе Литвиновка. Семен работал у Яцкина лет с девяти: в лавке – мальчиком на побегушках, в кузнице – помощником кузнеца, на молотилке – кочегаром. С семейством хозяина у Семена сложились добрые отношения: дочери Яцкина научили его грамоте; он не забыл их и впоследствии, будучи маршалом и советским вельможей, помогал материально.
Но все же в такой жизни было мало радостного; главное – не было света впереди. А куда деться? Старший брат Григорий со временем нашел выход: уехал в Америку, да так там и остался навсегда. Для Семена избавлением от тяжкого кабального труда стала военная служба. В 1903 году он по жребию был призван отбывать воинскую повинность. Хоть казаком и не был, но с детства привычен к лошади, к верховой езде. Даже если верить легенде, им самим впоследствии озвученной, однажды участвовал в скачках вместе с казаками (что иногородним, вообще-то, не дозволялось). И получил наградной рубль из рук военного министра Куропаткина. Это – если верить легенде.
Семена Буденного определили в кавалерию, в драгуны. Отправили на Дальний Восток. Тут как раз началась война с Японией.
О солдатской службе Буденного сохранилось мало сведений. Его собственные рассказы, собранные в мемуарной книге «Пройденный путь» и в книге его адъютанта Александра Золототрубова «Буденный» (впрочем, и первую книгу со слов маршала писал тот же Золототрубов), не всегда достоверны, а главное, их нечем проверить. Да, собственно, ничего такого необыкновенного в его солдатском пути не было. Служил во второочередном 26-м казачьем и в Приморском драгунском полках; участвовал в Русско-японской войне, в основном в операциях против хунхузов – партизан (или разбойников), тревоживших русские тылы и коммуникации в Маньчжурии. Срок обязательной службы закончился, но Буденному нечего было искать в гражданской жизни. Он остался на сверхсрочной. Был произведен в младшие унтер-офицеры.
Унтер-офицерская стезя Буденного тоже теряется во мраке неизвестности. Спорным остается вопрос о его обучении на отделении для нижних чинов Офицерской кавалерийской школы в Петербурге. По традиции, основанной на мемуарной версии, считалось, что Семен Буденный в 1907–1908 годах проходил обучение в Северной столице, нес караульную службу в Зимнем дворце и даже однажды был пожалован высочайшим рукопожатием. Однако в списках нижних чинов, окончивших курс отдела наездников в 1908 году, фамилия Буденного не значится.
О личной и семейной жизни Буденный в своих мемуарах умолчал, поэтому она стала впоследствии предметом домыслов, похожих на сказку. В популярных биографиях красного маршала встречается утверждение о том, что он женился в 1903 году на казачке Надежде Кувиковой из Литвиновки. Версия вполне романтична, потому что позволяет развернуть повествование по классической схеме: он – бедняк и батрак, она – дочь богатого казака; любовь преодолевает все препятствия, они женятся; неравный брак, чреватый последствиями, и муж в долгом отъезде; измены жены и мужа; трагический финал. В этой схеме только одно соответствует действительности: первая жена Буденного Надежда Ивановна погибла в 1924 году, действительно трагически, – по-видимому, от случайного выстрела вследствие неосторожного обращения с револьвером (впрочем, иные версии не исключаются). Однако она была не гордая казачья дочь, а крестьянка с хутора Козюрина, по фамилии Гончарова, и в брак с унтер-офицером Буденным вступила в 1914 году, перед самой войной. С Надеждой Кувиковой у Буденного, по-видимому, и в самом деле была любовь в юности, еще до армии, но их разделила сословная пропасть, и иногороднему Семену не довелось ввести казачку Надежду в свой дом законной супругой.
Кто знает, сколько подобных драм разыгрывалось повседневно в дореволюционной России и как отозвались потом рожденные ими боль, обида и ненависть в грохоте русской революции…
В июле 1914 года Буденный был в отпуске, в родных местах, близ станицы Платовской. Тут и настигла его военная судьба – приказ о мобилизации. К началу сентября 1914 года он – взводный унтер-офицер 5-го эскадрона 18-го драгунского Северского полка. Любопытно, что взводным командиром Буденного был поручик Улагай – однофамилец или родственник будущего белогвардейского генерала, преемника Шкуро по командованию дивизией, с которым Буденному придется повоевать в Гражданскую…
Северский полк в составе Кавказской кавалерийской дивизии был выдвинут на фронт западнее Варшавы.
Кто расскажет о фронтовом житье-бытье солдата? Только сам солдат. Он, конечно, может и прихвастнуть. Есть солдаты, которые любят рассказывать и хвастать. Есть молчуны, из которых слова о войне не вытянешь. Мемуарные рассказы Буденного о его пребывании на фронтах Первой мировой фрагментарны, не богаты подробностями. Записывались они в те времена, когда вспоминать о той войне вообще не полагалось. Ну разве что какие-нибудь факты, свидетельствующие о разложении царской армии и о героизме большевиков-подпольщиков. Буденный не мог, конечно, удержаться от рассказа о том, за что получил свои награды. К этой теме мы еще вернемся. Но о своей повседневной жизни на фронте он умолчал.
Этот пробел поможет нам восполнить ровесник Буденного, младший унтер-офицер Штукатуров. Служил он в той же должности, что и Буденный, – взводным унтером, правда не в кавалерии, а в пехоте. Но на австрийском и германском фронтах кавалерии зачастую приходилось воевать как пехоте: в окопах, в пешем строю, с винтовкой в руках и с шашкой в ножнах. Так что пехотный унтер-офицер видел жизнь под тем же углом, что и его собрат в кавалерии.
Помимо службы на фронте, у Буденного со Штукатуровым не много общего. Буденный родом с вольного Дона, Штукатуров – из-под Гжатска, что на Смоленщине. Буденный до войны не успел обзавестись детьми, у Штукатурова их уже трое. Буденный – энергичный командир и рубака, Штукатуров – человек раздумчивый, лирик и немного мечтатель. Может быть, как раз поэтому ему удалось так просто и точно рассказать о своих военных буднях.
Штукатуров был мобилизован в начале войны, провоевал год, был ранен, вернулся в строй и погиб во время неудачного наступления в декабре 1915 года на реке Стрыпе. Согласно краткому сообщению генерал-майора Александра Андреевича Свечина, «на убитом в первый день атаки Штукатурове был найден дневник и открытка к жене с лаконическим текстом: „Я убит сего числа“».
Из дневника младшего унтер-офицера Штукатурова. 1915 год.
27 июня. «Утром в день моего отъезда из родного села зашла ко мне сестра Аннушка в гости. После завтрака стал прощаться с нею. Сестрица горько плакала, а я, как мог, старался успокоить ее. Потом поехали в поле убирать сено. Весь день на душе чувствовалось какое-то волнение. Хотелось все осмотреть, может быть, в последний раз. Я старался все запомнить, чтобы унести в своей душе родные поля и дом туда, куда закинет меня война. Деревья в огороде, посаженные мною еще в юности, выросли и покрылись плодами, постройки, на которые потрачено столько денег, добытых тяжелым, каторжным трудом, скот и, главное, дети – эти неунывающие, наивные созданья – все это хотелось смотреть и целовать без конца».
1 июля. «Весь день прошел в дороге. Пришлось немного поспорить с ехавшим в одном со мной вагоне сверхсрочным флотским кондуктором, который начал напевать: „За что мы воюем, что защищаем: другие блаженствуют, а нас калечат“. Я не смог стерпеть подобных разглагольствований и вступил с ним в спор. Он спросил: „Что ты защищаешь?“ Я ответил, что защищаю своих ближних, дома, поля и спокойствие жены и детей. Он ответил вопросом: „Велико ли твое поле, хорош ли твой дом“. Я сказал, что хотя и мало мое поле и неважен дом, но оно мое».
17 июля. «Вечером был свидетелем возмутительной сцены. Когда встали после проверки на песни, подпрапорщик Н. позвал стрелка и начал жестоко бить. Бил так сильно, что слышно было на некоторое расстояние; сбивал с ног и добавлял ногами. Принимался бить несколько раз. По словам солдат, этот стрелок – человек очень неразвитой и непонятливый, так что даже в запасном батальоне с ним ничего не могли поделать».
19 июля. «Меня назначили старшим в дозоре. Сидел, вспоминая свою деревню и дорогую семью, потому что сегодня в родном селе приходский праздник».
5 августа. «Проснулся поздно. Ночью видел во сне императора Вильгельма. Мне показалось, будто он пришел в нашу деревню и показывал нашим министрам порошок, которым отравился. Но министры сказали, что это не яд, а доброкачественная карамель в толченом виде. Затем он лег со мною рядом и очень тяжело дышал, и как мне казалось, несколько раз хотел заговорить о мире.
День был на удивление туманный. Сварили картофеля и попили кипятку. Наша и немецкая артиллерия немного постреляли».
9 августа. «Сегодня противник по всем направлениям обстреливал нас орудийным огнем. Сегодня меня назначили дневальным, а взвод пошел делать козырки. Через час прискакал конный разведчик и приказал немедленно идти взводу к роте. А мне было приказано остаться здесь, ожидая дозора, и держать связь с 8-м полком.
Дозоры долго не приходили, и я не знал, что делать: ожидать ли или идти. Скоро я увидел одного товарища: стали ждать вместе, но так как дозоры все еще не шли, мы решили идти вместе в роту. Но куда идти, мы не знали, так как роты уже ушли. Долго блуждали мы лесом, пока случайно не встретили конного разведчика, который сказал, что полк ушел уже далеко. Ни наших не было, ни немцев. Оглядываясь на лес, мы ожидали с минуты на минуту немецкие разъезды, но никто не показывался. Скоро мы нагнали два отделения нашей роты, служившие прикрытием артиллерии. Тут мы узнали, что полк отступил так поспешно, что не успели снять многих постов и секретов, хотя немцы не думали нас преследовать. В Вилькомире мы нагнали свою роту и пошли дальше. Шли всю ночь».
17 августа. «Когда мы шли по дороге, пули с жалобным свистом пролетали над головой. Пришлось спуститься в канаву и, пригибаясь, идти по направлению горевшего дома. Спустились к речке, перешли ее и остановились в лощине.
Батальонный командир стоящего здесь полка приказал нам вправо занять позицию и окопаться. Впереди шла частая ружейная перестрелка, и шли оттуда, опираясь на винтовки, раненые. Когда мы окопались, впереди стоящая рота в беспорядке отступила назад. Мы пропустили бежавших, и сами стали отходить назад.
Около речки мы хотели остановиться и встретить немцев, но, как обыкновенно в таких случаях бывает, команды никто не слушал, да и командовать было некому. Ротного командира с нами не было, полуротный куда-то исчез, только слышно было, как ругался подпрапорщик, но дела мало делал.
Мы все перешли на другой берег речки и остановились на опушке леса, где стояла патронная двуколка, из которой я взял одну цинку и развинтил, думая, что мы дадим отпор врагу. Здесь же собирались беглецы из другого полка. Мы рассыпались в цепь, но пришел приказ отходить назад. Отошли немного, и залегли вдоль дороги, и стали окапываться. Влево я увидел наших солдат, поспешно отходивших. Опасаясь обхода, и мы двинулись, не зная куда, так как общего руководителя не было. Остановились… Скоро подпрапорщик нашел дорогу и привел туда, где был весь полк. Если бы впереди нас стоявшая рота продержалась бы 10–15 минут, то, я думаю, немцы были бы отбиты с большим уроном»[296].
В военной жизни Буденного все это было, можно не сомневаться. И прощание с родимым домом, и непонятные маневры с приключениями, и бестолковые бои, и трудные отступления, и еще более трудные вопросы о смысле этой войны…
Буденному повезло: он остался жив. И даже был отмечен наградами. Правда, с этими наградами не все ясно.
Кресты на груди, крест на памяти
Буденновская легенда приписывает ему полный георгиевский бант: солдатские кресты и медали всех четырех степеней. Известна даже фотография: молодой красавец с лихо закрученными усами, в парадной драгунской форме, с полным набором крестов и медалей на груди. Фотография эта не может быть подлинным изображением хотя бы по причине наличия аксельбанта, который никак не был положен драгунскому унтер-офицеру или младшему вахмистру. На другой, более реалистичной фотографии, датируемой 1915 годом, перед нами стоит подбоченясь бравый кавалерист в папахе, с погонами младшего вахмистра и с одним Георгиевским крестом на гимнастерке. По собственной версии Буденного, он получал солдатского Георгия не четыре, а даже пять раз. Впервые – в 1914 году в Польше, но потом был лишен его за то, что ударил старшего по званию унтера. Правда, позднее награду ему вернули за исключительную доблесть. Еще три креста получил он в январе, марте и в июле 1916 года в Персии. Документально пока подтверждены две награды, обе получены в 1916 году. Это не значит, что другие кресты и медали Буденный себе приписал. Архив 18-го драгунского полка плохо сохранился, в газетных публикациях отражались далеко не все награждения нижних чинов.
Как бы то ни было, два или четыре крестика – надежное свидетельство храбрости и боевой предприимчивости кавалерийского унтера. Буденновская легенда ближе к истине, чем легенда о партизане Шкуро.
Мемуарные сведения о сражениях, принесших Буденному милость святого Георгия, страдают гиперболами, хотя и не такими былинными, как рассказы о подвигах кубанского «волка». В «Пройденном пути» Буденный повествует, как 8 ноября 1914 года близ деревни Бжезины он со своим взводом был направлен в разведку, обнаружил неприятельский обоз и атаковал его. Захватил повозки с оружием, медикаментами, обмундированием, ну и, конечно, пленных. Количество живой и неживой добычи в мемуарах Буденного выглядит явным преувеличением: 37 повозок и 200 пленных. Вряд ли тридцать три бойца (этим сказочным числом определяет Буденный состав своего взвода) смогли бы, почти не понеся потерь, захватить такое множество трофеев и пленных, а потом отконвоировать их в расположение своего отступающего полка. Но в целом эпизод, по-видимому, не вымышлен: крестик на гимнастерке, хорошо различимый на фотопортрете 1915 года, тому подтверждение.
В конце 1914 года Кавказская кавалерийская дивизия была переброшена из Польши в Закавказье и долгое время простояла в окрестностях Тифлиса перед наступлением на Карско-Ардаганском направлении. К этому времени в мемуарах Буденного приурочена история о лишении его Георгиевского креста. Старший унтер Хестанов хотел ударить Буденного за какую-то действительную или мнимую провинность; Буденный не стерпел и припечатал унтера кулаком так, что тот повалился с ног и потом еле очухался. Запахло военно-полевым судом и расстрелом, но ввиду известной боевой доблести виновного решили избавить от наказания. Перед строем полка с него был снят солдатский Георгий четвертой степени. Тем дело и кончилось. А через несколько месяцев в районе города Ван Буденный со взводом захватил три турецкие пушки, за что повторно был награжден таким же серебряным крестиком.
Во все это поверить трудно. Факт воинского преступления действительно перед грядущими сражениями могли замять, дабы не будоражить нижние чины. А вот лишение Георгиевского креста приказом по дивизии является вопиющим беззаконием. Вряд ли начальник дивизии генерал-лейтенант Шарпантье, образцовый службист, мог отдать такой приказ.
Сосредоточившись на этой истории, малодостоверной, но идеологически выдержанной по канонам советского времени, Буденный ничего не рассказал о боях и походах весны – лета 1915 года. А жаль. 18-й Северский драгунский полк в составе группы генерала Шарпантье в мае – июне совершил трудный рейд из Тавриза в обход озера Урмия с востока и юга, с последующим выходом через Курдистанские горы к озеру Ван в Турецкой Армении. Этот поход по горам и долинам, упомянутым в Библии и в Авесте, у Страбона, Ксенофонта и Прокопия Кесарийского, сам по себе достоин был бы подробного описания… Но такого описания нет. Кто в России знает о том, как русские кавалеристы пролагали путь в каменистых горах Курдистана? Никто или единицы.
О том, что русские войска корпуса генерал-лейтенанта Баратова немного не дошли до Багдада, тоже мало кто знает. Кавказская кавалерийская дивизия была включена в состав этого корпуса осенью 1915 года. Перед этим планировалось ее участие в наступательных операциях Юго-Западного фронта, дивизию перебросили на Днестр, но вскоре вернули обратно. Зимой – весной 1916 года Буденный со своим полком наступает через горы Загроса на Ханакин, за которым открываются равнины Месопотамии. От Ханакина вниз по реке Дияле на город Баакубе, прикрывающий дорогу на Багдад. Передовые разъезды Кавказской дивизии были уже в тридцати километрах от Багдада, когда получен был приказ отступать. Об этом походе, об отступлении и новом наступлении в мемуарах Буденного тоже нет ничего, кроме рассказа о двух боевых эпизодах, за которые последовали награждения. Такая скупость памяти объясняется просто: командир корпуса Баратов в Гражданской войне участвовал на стороне белых. Не к лицу маршалу Советского Союза вспоминать о походах недобитых белогвардейских генералов.
Буденный в этих походах воевал хорошо. В январе отличился в боях под Менделиджем. В марте, при отступлении от Баакубе, со своим взводом совершил самостоятельный рейд, захватил трофеи и пленных. В июле с четырьмя товарищами-добровольцами был послан за «языком» и привел шестерых турецких солдат и одного старшего унтер-офицера. Все это – с его собственных слов. Сведения, приводимые Буденным, не кажутся сильно преувеличенными и подтверждаются по крайней мере двумя Георгиевскими крестами.
В марте 1917 года Кавказская кавалерийская дивизия была отведена в порт Энзели на Каспии для дальнейшей переброски на Запад. Там готовилось большое наступление.
В Энзели до нижних чинов дошли первые сведения о совершившемся отречении царя.
Нижние чины не могли поверить.
Прибыли в Тифлис. Во время стоянки неподалеку от Тифлиса в 18-м драгунском полку произошел солдатский бунт. Был убит один солдат и один офицер.
Свои начали стрелять в своих.
Русская армия лишь казалась единой. Во всей своей многомиллионной толще она была разделена на нижних чинов и офицеров, казаков и крестьян, гвардейцев и армейских, богатых и бедных, православных и иноверцев, русских и инородцев; между всеми ими углублялись разломы, копились вековые обиды, перераставшие уже во взаимную ненависть.
В июле 1917 года Кавказская кавалерийская дивизия была переброшена на Западный фронт, в Минск. Здесь уже вовсю шло революционное распадение армии.
Впоследствии Буденный постарался приукрасить свой путь в революцию. Согласно мемуарной легенде, он уже летом 1917 года активно включился в политическую борьбу, был избран председателем полкового солдатского комитета, исполнял обязанности председателя дивизионного комитета. Разумеется, признал большевистскую правду благодаря авторитетному руководству минских товарищей – Фрунзе и Мясникова. К октябрю стал уже сознательным революционером.
Исследования последних лет разрушают эту легенду. Ни в каких сохранившихся документах в составе комитетов 18-го драгунского полка и Кавказской кавалерийской дивизии имя Буденного не значится. Так же точно не подтверждается документами и фактами мемуарная версия о деятельном, если не решающем участии Буденного в борьбе с Корниловским движением, в остановке эшелонов корпуса Крымова на станции Орша. Если верить данным журнала боевых действий Северского полка, эскадрон, в котором служил Буденный, не входил в непосредственное соприкосновение с корниловскими частями.
Из всего этого следует: сознательным революционером, а тем более большевиком Буденный в 1917 году не был. По всей вероятности, в политических идеологиях вовсе не разбирался. Наверно, слушал, размышлял, сомневался; наверно, побаивался наступившего безначалия. Все-таки он был исправный унтер, четырнадцать лет отслуживший в армии. Но что-то толкало его на ту сторону, где агитировали Фрунзе и Мясников. Какая-то внутренняя правда.
В мемуарах Буденного есть один эпизод, по-видимому не вымышленный, в котором можно разглядеть исконное зерно этой правды:
«Поздно вечером весь наш полк погрузился в эшелоны. <…> Возле соседнего классного вагона собрались офицеры полка. Они делились впечатлениями о событиях в России. Вокруг было тихо, и я отчетливо слышал весь их разговор.
– Да, – сказал один из них, – монархия в России канула в вечность. Толпе развязали руки. Видели, господа, что делается! Весь этот необузданный сброд с крамольными лозунгами и криками бродит по улицам, попирает все на свете… <…> Теперь солдата я должен называть господином. Да, помилуйте, какой же он, к черту, господин! Он был и останется свинопасом, не больше чем сознательной скотиной! Обратитесь к солдату на „вы“ – да он просто не поймет вас. <…>
Этот случайно услышанный мною разговор глубоко задел меня, особенно возмутили меня офицерские рассуждения о свинопасах.
Ненависть батрака вспыхнула во мне ко всем этим чванливым благородиям»[297].
Возможно, офицеры не произносили именно этих слов. Но мыслили именно так многие из них, большинство. Нельзя сказать, что они лгали, ошибались, были не правы. В этих словах заключалась их офицерская правда – такая же неодолимая, как правда батрака Буденного или казака Шкуро. Сталкиваясь, эти правды высекали из людских сердец искры ненависти.
Ненависть батрака закрывала Буденному дорогу туда, где задавали тон офицеры и образцовые казаки, туда, где зарождалось Белое движение. Унтер-офицерская привычка к строю и уставу не давала возможности влиться в море анархической вольницы, присоединиться к той залихватской массе, из которой со временем вырастут всевозможные атаманы, зеленые, Маруси, Железняковы, Махно, Григорьевы. Значит, оставался для него один путь – в Красную армию.
Но Красной армии еще не было.
Вскоре после октябрьских событий, после опубликования Декрета о земле, Буденный уехал домой, на Дон. В станицу Платовскую, по его словам, добрался в конце ноября. Как раз в это время в Новочеркасске начиналось формирование Добровольческой армии, разгоралась Гражданская война. Но Семен не спешил становиться под чьи-то знамена. Его волновало то, что было тогда предметом мечтаний всех иногородних, – передел земли.
К весне, однако, выяснилось: казаки делиться землей с иногородними не торопятся. И власть Советов понимают по-своему.
Дон созрел для Гражданской войны не тогда, когда Алексеев, Корнилов, Деникин возглавили добровольцев, и не тогда, когда застрелился Каледин, и не тогда, когда подписан был «похабный» Брестский мир, а тогда, когда в борьбе за землю сошлись голытьба и домовитые, казаки и иногородние.
Боевой путь Буденного – командира Красной армии мы описывать не будем: это многократно сделано до нас. Обозначим основные вехи.
Правда, начало пути вновь тонет в пелене буденновской легенды. Действительно ли уже в феврале 1918 года он возглавил красноармейский отряд, воевавший с формированиями донского походного атамана Попова, или это очередной революционный вымысел – сказать трудно. Не вызывает сомнений тот факт, что в мае Буденный уже был в Сальской группе войск Григория Шевкоплясова, преобразованном вскоре в 10-ю Донскую стрелковую дивизию Красной армии. Участвовал в первой обороне Царицына, был помощником командира кавалерийского полка Бориса Думенко. В сентябре полк этот вырос в бригаду, в декабре бригада была преобразована в дивизию. После ранения Думенко в мае 1919 года Буденный вступил в командование дивизией. В июне дивизия была развернута в конный корпус. До этого момента Буденный ничем не выделялся среди красных командиров.
Слава пришла к Буденному в октябре – ноябре 1919 года, и помог ему в этом Григорий Шкуро. Имя кубанского «волка» гремело после разгромного рейда его корпуса по тылам красных, после триумфального взятия Воронежа. Именно на Воронеж и был брошен кавкорпус Буденного. В середине октября на Воронежском направлении кипели встречные кавалерийские бои. 24 октября Буденный выбил Шкуро из Воронежа, в начале ноября взял Касторное. Начался неостановимый откат белых за Дон. Конница Буденного преследовала рассыпающиеся шкуровские войска.
В ноябре 1919 года корпус Буденного был преобразован в 1-ю Конную армию.
1920 год для Шкуро стал годом поражения и бегства, для Буденного – годом великой славы. Однако в сладости этой славы всегда оставался неприятный привкус. Она была замешена на крови своих соотечественников, крестьян и казаков, бывших нижних чинов и офицеров, вооруженных и безоружных.
Фронтовые будни 1-й Конной армии отразились в дневнике участника Польского похода июля – августа 1920 года Исаака Бабеля. Вот несколько кратких, наспех сделанных записей из этого дневника:
«Белев. 12.7.20. Приходит бригада, красные знамена, мощное спаянное тело, уверенные командиры, опытные, спокойные глаза чубатых бойцов, пыль, тишина, порядок, оркестр, рассасываются по квартирам, комбриг кричит мне – ничего не брать отсюда, здесь наш район. <…>
Ничего не взял, хотя и мог, плохой из меня буденновец.
Новоселки. 16.7.20. О буденновских начальниках – кондотьеры или будущие узурпаторы? Вышли из среды казаков, вот главное – описать происхождение этих отрядов, все эти Тимошенки, Буденные сами набирали отряды, главным образом – соседи из станицы, теперь отряды получили организацию от соввласти.
7.8.20. Берестечко. Ужасное событие – разграбление костела, рвут ризы, драгоценные сияющие материи разодраны, на полу, сестра милосердия утащила три тюка, рвут подкладку, свечи забраны, ящики выломаны, буллы выкинуты, деньги забраны.
10.8.20. Лашков. Наши казаки, тяжкое зрелище, тащат с заднего крыльца, глаза горят, у всех неловкость, стеснение, неискоренима эта так называемая привычка. Все хоругви, старинные Четьи-Минеи, иконы вынесены, <…>, загорится ли церковь, крестьянки в молчании ломают руки, население, испуганное и молчаливое, бегает босичком…
18.8.20. Гремит „ура“, поляки раздавлены, едем на поле битвы, маленький полячок с полированными ногтями трет себе розовую голову с редкими волосами, отвечает уклончиво, виляя, „мекая“, ну, да, Шеко воодушевленный и бледный, отвечай, кто ты – я, мнется – вроде прапорщика, мы отъезжаем, его ведут дальше, парень с хорошим лицом за его спиной заряжает, я кричу – Яков Васильевич! Он делает вид, что не слышит, едет дальше, выстрел, полячок в кальсонах падает на лицо и дергается. Жить противно, убийцы, невыносимо, подлость и преступление.
Гонят пленных, их раздевают, странная картина – они раздеваются страшно быстро, мотают головой, все это на солнце, маленькая неловкость, тут же – командный состав, неловкость, но пустяки, сквозь пальцы. Не забуду я этого „вроде“ прапорщика, предательски убитого.
Впереди – вещи ужасные. Мы перешли железную дорогу у Задвурдзе. Поляки пробиваются по линии железной дороги к Львову. Атака вечером у фермы. Побоище. Ездим с военкомом по линии, умоляем не рубить пленных, Апанасенко умывает руки. Шеко обмолвился – рубить, это сыграло ужасную роль. Я не смотрел на лица, прикалывали, пристреливали, трупы покрыты телами, одного раздевают, другого пристреливают, стоны, крики, хрипы, атаку произвел наш эскадрон, Апанасенко в стороне, эскадрон оделся, как следует, у Матусевича убили лошадь, он со страшным, грязным лицом бежит, ищет лошадь. Ад. Как мы несем свободу, ужасно. Ищут в ферме, вытаскивают, Апанасенко – не трать патронов, зарежь»[298].
Кто хороший, кто плохой – красные или белые, Буденный или Шкуро? Нет ответа. Парень с очень хорошим лицом заряжает винтовку и стреляет в спину пленному поляку. Злоба и ненависть равнодушно собирают человеческую жатву до тех пор, пока не выбьются из сил. Потом наступает мир.
Последняя победа Буденного – это победа над Русской армией Врангеля. После взятия Севастополя в ноябре 1920 года Буденный больше никаких славных воинских деяний не совершил. Он постепенно превращался в легенду.
Легенда основательно потускнела в 1941 году, после катастрофических поражений руководимых им войск на Украине и под Москвой. С начала 1943 года он был назначен на малозначащую должность командующего кавалерией Красной армии.
В 1947 году легендарный «пышноусый широкоскулый человек в серой бекеше» поучил новое назначение – замминистра сельского хозяйства по коневодству.
В этом самом году, 15–16 января, в Москве состоялся «процесс над агентами германской разведки, главарями вооруженных белогвардейских частей в период Гражданской войны». Перед Военной коллегией Верховного суда СССР предстали военные деятели, активно и добровольно сотрудничавшие с гитлеровскими властями в 1941–1945 годах и участвовавшие в создании казачьих формирований СС: Тимофей Доманов, Султан-Гией Клыч, Петр Краснов, Семен Краснов, Гельмут Паннвиц и Андрей Шкуро. Все они в 1945 году были взяты в плен англичанами и выданы советским властям. Все они были признаны виновными и повешены сразу же после вынесения приговора.
Буденный надолго пережил своего соперника по конным битвам и рейдам Гражданской войны. Он пережил и всех остальных героев этой книги. Трижды Герой Советского Союза, маршал Советского Союза, член Президиума Верховного Совета СССР, георгиевский кавалер Семен Михайлович Буденный скончался 26 октября 1973 года на девяносто первом году жизни. Похоронен на Красной площади у Кремлевской стены.
Грудь в крестах – голова в кустах, или Без права на смерть
Этот человек сам по себе явление необычайное. Кавалер ордена Святого Георгия со знаком свастики на перстне. Потомок крестоносцев, считавший себя преемником Чингисхана. Остзейский дворянин, мечтавший создать великую панмонгольскую империю от Тихого океана до Атлантического. Родился в австрийском Граце, жил в Ревеле, учился в Петербурге, прославился кровавыми подвигами в Даурии и Монголии, смерть от большевистской пули принял в Новосибирске. В сумасшедшем российском побоище, именуемом «Гражданская война», воевали не только белые, красные, чернознаменные, зеленые. В ней действовала и иная сила: знамя ее – желтое небо Майтрейи; вождь – Роман Федорович Унгерн, воплощение Махагалы, тибето-буддийского трехглазого огненного демона, с черепами вокруг головы.
Впрочем, буддистом он не был. Так же как не был истинным приверженцем шаманизма, тенгрианства, зороастризма, древней тибетской «синей веры» бон. У него была своя религия, имя которой он сам не знал; имя это стало известно миру уже после его смерти: фашизм. Зеркальное отражение немецкого фашизма; хотя по праву первородства вернее было бы считать немецкий фашизм отражением унгерновского. Очистительный поход с Востока на Запад; уничтожение сумеречного Запада в желтом восточном огне.
Унгерн был гением фашизма, его воплощением – куда более высоким и дерзновенным, чем Гитлер. На лбу фюрера немцев, даже когда лоб был спрятан под козырьком фуражки, лежала несмываемая печать обывательства, бюргерской ограниченности. Унгерн – настоящий рыцарь, воин до мозга костей, до последней капли крови. В войне, и именно в войне истребительной, он видел единственный смысл бытия и путь очищения мира.
Он был одним из тех смертоносных, самоубийственных демонов, которые томились в подземелье мирной жизни и были выпущены на свободу мировой войной и революцией.
Семьдесят лет его имя в cоветской стране предавали проклятию; белые эмигранты поминали его с удивлением и неприязнью, а иные – с ненавистью. Он был ни за красных, ни за белых и успел нагнать страху и на тех и на других. Главный источник информации о нем – воспоминания современников, написанные уже тогда, когда барон был мертв. Образ его слеплен уцелевшими врагами (друзей не осталось, да, пожалуй, и не было) или потрясенными обывателями. Мемуаристы вольно или невольно подверстывают былые впечатления под сложившееся клише; ужасаются жестокости, изумляются экстравагантности барона. В этих источниках трудно отделить правду от вымысла, объективную основу от политической предвзятости; в них все искажено. Вновь вместо реального человека и его судьбы – миф.
Он и внешне неприятен; в его облике проглядывает что-то страшное.
«Среднего роста, блондин, с длинными, опущенными по углам рта рыжеватыми усами, худой и изможденный с виду, но железного здоровья и энергии»[299], – вспоминает со сдержанной неприязнью его бывший полковой командир барон Петр Николаевич Врангель.
«На лбу рубец, полученный на востоке, на дуэли», – сообщает протокольное описание внешности пленного Унгерна, составленное во время следствия в 1921 году.
«След от этой раны остался у Унгерна на всю жизнь, постоянно вызывая сильнейшие головные боли и, несомненно, периодами отражаясь на его психике», – утверждает Врангель, поясняя, что шрам был получен в схватке с офицером, которого Унгерн ударил то ли в припадке бешенства, то ли в пьяном угаре.
«Он был поджарый, обтрепанный, неряшливый, обросший, с желтоватой растительностью на лице, с выцветшими, застывшими глазами маньяка… Военный костюм его был необычайно грязен, брюки протерты, голенища в дырах. Сбоку висела сабля, у пояса револьвер», – дополняет сибирский предприниматель Алексей Бурдуков, совершивший совместно с Унгерном поездку по Монголии в 1913 году.
Мотив маниакальности, полубезумия, переплетаясь с мифическим образом человека-зверя, постоянно звучит в воспоминаниях об Унгерне. От людей, от культуры барон-оборотень отделен стеной мизантропии и презрения к приличиям.
«Оборванный и грязный, он спит всегда на полу… Будучи воспитан в условиях культурного достатка, производит впечатление человека, совершенно от них отрешившегося» (Врангель).
«Барон вел себя так отчужденно и с такими странностями, что офицерское общество хотело даже исключить его из своего состава… Унгерн жил совершенно наособицу, ни с кем не водился, всегда пребывал в одиночестве. А вдруг, ни с того ни с сего, в иную пору и ночью, соберет казаков и через город с гиканьем мчится с ними куда-то в степь – волков гонять, что ли. Толком не поймешь. Потом вернется, запрется у себя и сидит один, как сыч» (Иван Кряжев, знакомый Унгерна по жизни в Кобдо[300]).
Люди культуры, глядя на него, начинают подозревать, что он не настоящий человек, тем более не человек их круга, а кто? Персонаж из книги, из приключенческого романа?
«Это не офицер в общепринятом значении этого слова, ибо он не только совершенно не знает самых элементарных уставов и основных правил службы, но сплошь и рядом грешит и против внешней дисциплины, и против воинского воспитания, – это тип партизана-любителя, охотника-следопыта из романов Майн Рида». Любопытно, что автор этого пассажа, барон Врангель, по своей породе близок к Унгерну: тоже остзейский барон, тоже потомок рыцарей, пришедших в землю эстов с мечом под знаком креста в XIII веке. История Унгернов многократно пересекалась с историей Врангелей на протяжении столетий. В биографиях их ближайших предков – отцов, дедов, людей вполне мирных, – много общего. Несомненно, воспитание, полученное ими в детстве и юности, схоже, если не одинаково. Но Врангель – человек общества, Унгерн – вне общества; Врангель понятен европеизированному уму, Унгерн ему недоступен; Врангель вменяем, Унгерн – нет.
Врангель далее развивает эту тему: «В нем были какие-то странные противоречия: несомненный, оригинальный и острый ум и, рядом с этим, поразительное отсутствие культуры и узкий до чрезвычайности кругозор, поразительная застенчивость и даже дикость и, рядом с этим, безумный порыв и необузданная вспыльчивость, не знающая пределов расточительность и удивительное отсутствие самых элементарных требований комфорта».
Людские радости и слабости чужды этому необыкновенному человеку (не-человеку).
«Он живет войной» (Врангель).
«Оборони Бог, не пил, всегда был трезвый. Не любил разговаривать, все больше молчал» (Кряжев).
Его не привлекают женщины: мемуаристы подчеркивают, что светски воспитанный барон мог при желании быть с дамами вежлив, но относился к слабому полу с глубоким презрением. Гомосексуальные наклонности? Ни малейшего намека! Он не знает любви. Женат, правда, был, но… Женитьба Унгерна – отдельная история, о которой мы еще расскажем.
Мрачная жестокость, беспощадность – главная черта его натуры. Неугодных и ослушников в его войсках насмерть забивают бамбуковыми палками, оставляют на съедение волкам; пленных врагов и предателей по его приказу казнят массами, без пощады. Трупы не хоронят – выбрасывают в горах, в степи, чуть ли не пирамиды складывают из обезглавленных тел и отрезанных голов. Про барона ходят страшные сказки: мол, с наступлением темноты окрестности его ставки оглашаются воем волков и одичавших собак, сбегающихся глодать трупы казненных. Все люди прячутся по домам, один Унгерн не боится своих диких братьев по крови; в одиночестве скачет он верхом в горы, гарцует среди полуобглоданных скелетов и гниющих черепов своих жертв. Волки да филины – его ночные товарищи.
Он наделен сверхъестественными способностями. Монголы и казаки верят, что его тело заговорено от пуль: после боя с китайцами близ Урги из его мундира, сшитого наподобие монгольского халата-дээла, извлекли 70 пуль, и ни одна не задела его самого. Он видит во тьме, находит дорогу в ровной монгольской степи непроглядною ночью; он, как зверь, нюхом чует других зверей, людей, жилье.
Бурдуков рассказывает: «По настоянию Унгерна мы выехали ночью. Сумасшедший барон в потемках пытался скакать карьером. Когда мы были в долине недалеко от озера, стало очень темно, и мы вскоре потеряли тропу. К тому же дорога проходила по болоту вблизи прибрежных камышей… Унгерн, спешившись, пошел вперед, скомандовав нам ехать за ним. С удивительной ловкостью отыскивая в кочках наиболее удобные места, он вел нас, кажется, около часу, часто попадая в воду выше колена, и в конце концов вывел из болота. Но тропку нам найти не удалось. Унгерн долго стоял и жадно втягивал в себя воздух, желая по запаху дыма определить близость жилья. Наконец сказал, что станция близко. Мы поехали за ним, и действительно – через некоторое время послышался вдали лай собак».
Как и положено воплощенному демону, он безумно храбр, но смертельно суеверен. Он и сам пишет о своем племени: «Мои предки принадлежали к воинственному роду рыцарей, склонных к мистике и аскетизму». Он мечтает о создании духовно-рыцарского «ордена военных буддистов». Он одержим безумной, демонической идеей – создать великую евразийскую империю на крови, стать вторым Чингисханом, новым Аттилой, силой обратить Россию и Европу в буддизм. Во время решающего боя за Ургу[301] по его приказу на горе над полем сражения местные ламы совершают моления и жертвоприношения духам войны. Он верит пророчествам и гаданиям. Журналист-авантюрист Антон Фердинанд Оссендовский, побывавший в ставке Унгерна в 1921 году, не без ходульно-мрачного колорита живописует посещение ламаистской часовни вместе с бароном: «„Бросьте кости о числе дней моих!“ – сказал он. Монахи принесли две чаши с множеством мелких костей. Барон наблюдал, как они покатились по столу, и вместе с монахами стал подсчитывать…» Не удовлетворившись предсказанием, он далее (согласно тому же источнику) зовет к себе гадалку-шаманку: она, «бросая время от времени траву в огонь, принялась шептать отрывистые малопонятные слова. Юрта понемногу наполнилась благовонием. После того как трава сгорела, она положила на жаровню кости и долго переворачивала их бронзовыми щипцами. Когда кости почернели, она принялась их внимательно рассматривать. Вдруг лицо ее выразило страх и страдание. Она забилась в судорогах, выкрикивая отрывистые фразы: „Я вижу… Я вижу бога войны… Его жизнь идет к концу… Какая-то тень, черная, как ночь… Сто тридцать шагов остается еще…“»
Конечно же, гадания сбылись: через 130 дней Унгерн был расстрелян.
Демонизированным описаниям нашего героя противоречит та серьезность, с какой относилась к Унгерну и его военно-политическим планам советская власть. К исходу 1920 года в большевистском руководстве царило мнение, что Унгерн представляет главную угрозу Красной армии к востоку от Урала. Он более опасен, чем атаман Семенов, генерал Бакич, генерал Молчанов. Он непредсказуем. Где ждать его удара? В Даурии? В Иркутске? В Урянхайском крае?[302] Или он пойдет в Маньчжурию, на Харбин, а потом к Владивостоку? Или на Пекин, чтобы восстановить маньчжурскую династию?
Врагов у советской власти в этот момент очень-очень много. Еще держатся за краешки российской земли Врангель и Семенов; не завершена война с Польшей; борьба с большевизмом кипит в Закавказье и Средней Азии; Черноземье охвачено восстанием Антонова; на Украине орудует Махно. И в это самое время Ленин и Дзержинский видят в Унгерне самого опасного врага Советской республики. Большевики демонов, как известно, не боялись. Так кем же был Унгерн на самом деле?
О рыцарском роде Унгернов существует много легенд и домыслов; надо признаться, что наш герой сам был автором генеалогических мистификаций. Якобы Унгерны происходят от гуннских вождей (Хунну – Хунгер – Унгерн); якобы кто-то из предков сражался в войске Ричарда Львиное Сердце; кто-то свирепо пиратствовал в Индийском океане… Все это – сказки. Более или менее достоверно то, что рыцари Унгерны-Штернберги появились в Лифляндии в XIII веке. В 1534 году грамотой императора Священной Римской империи Фердинанда I Георгу фон Унгерн-Штернбергу был пожалован титул барона. В 1653 году указом шведской королевы Христины Унгерны были утверждены в баронском достоинстве и во владении своими поместьями (не очень большими) в Лифляндии и Эстляндии. Со времен Петра Великого Унгерны состояли на русской службе. Служили хорошо, но никакими особо выдающимися воинскими деяниями себя не проявили. Больших чинов достиг лишь Карл Карлович Унгерн, градоначальник Петербурга в 1770-е годы; при нем был основан Сиротский воспитательный дом; при нем же столицу постигло разрушительное наводнение 1777 года. Родители Романа Федоровича были люди далекие от войны и власти: отец, Теодор Леонгард Рудольф (Федор Робертович), доктор философии и чиновник Министерства государственных имуществ; мать, София Шарлотта, урожденная фон Вимпфен, происходила из добропорядочного вюртембергского военно-служилого рода.
В гербе баронов фон Унгерн-Штернбергов на полях геральдического щита изображены розы, лилии; в центре – шестиконечная звезда, золотая или желтая. И написан девиз: «Nescit occasum», означающий, что эта звезда никогда не закатится. Можно перевести и так: «Не знает Запада».
Николай Роберт Максимилиан (Роман Федорович) фон Унгерн-Штернберг родился 29 декабря 1885 года в Граце, в Австрии, где родители его остановились во время длительного путешествия по Европе. Когда вернулись они в Российскую империю – неизвестно, но в 1891 году они осуществили свой развод в Евангелической консистории города Ревеля (ныне Таллин). Николай Роберт остался с матерью. Отец через несколько лет попал в психиатрическую клинику, но впоследствии был признан излечившимся, душевно здоровым.
Не менее десяти лет – детство и отрочество – Николай Роберт провел в тихом, благочинном Ревеле. Его первоначальное домашнее образование было, видимо, достаточно серьезным, ибо в 1900 году юный барон был принят в четвертый класс Ревельской гимназии императора Николая I. Там, однако, учился плохо. По-видимому, виноваты неуправляемые проявления его странного характера. Через два года по прошению матери он был отчислен из гимназии и в августе 1902 года принят в петербургский Морской кадетский корпус. Корпус не окончил: в феврале 1905 года был исключен, и опять причиной тому – своевольное, невозможное поведение.
Тянувшаяся уже год Русско-японская война давала молодому барону шанс поймать жар-птицу судьбу за хвост. Он поступает вольноопределяющимся в 91-й пехотный Двинский полк, надеясь попасть на фронт. Полк, однако, на сопки Маньчжурии так и не был отправлен. Пока барон добивался перевода в действующую армию, пока добирался до театра военных действий, война закончилась. Год службы в нижних чинах давал ему возможность продолжить военное образование. В 1906 году он определяется в Павловское пехотное училище. Окончив его с невысокими оценками, по второму разряду, подает прошение о направлении (редкостный выбор для «павлона»!) в казачьи войска, в Забайкалье. Приказом его императорского величества от 15 июня 1908 года хорунжий барон Унгерн-Штернберг причислен к 1-му Аргунскому казачьему полку. Места службы диковатые: селение Цурухайтуй, станица Бырка, где-то там, на маньчжурской границе. Он служит, ест и спит вместе с казаками, участвует в походах – «экспедициях для содействия гражданским властям», то есть карательных; подробности их неизвестны. Видимо, с этого времени именуется Романом Федоровичем. Интересно, что не Николаем, а Романом. Это имя он выбрал себе сам. Почему? По причине римско-имперского значения и звучания? По связи с родовым прозванием царской династии?
Служба в Забайкалье была прервана нелепым происшествием – тем самым, от которого на всю жизнь остался у Романа Федоровича сабельный след на лбу. Что и как произошло – поединок, драка или нападение в припадке бешенства – доподлинно не известно; известно, что по решению офицерского суда чести Унгерн вынужден был перейти в другой полк. В 1910–1913 годах он служит в 1-м Амурском полку, в Благовещенске. В 1912 году произведен в сотники по выслуге.
В годы службы на Аргуни, Шилке, Амуре, Зее в его душе, в его сознании уже поселились духи Востока, мечты о всемирном ордене воинов-буддистов, об очищении мира в огне, о победном наступлении желтой расы и о его, Унгерна, великом, пока еще неведомом избранничестве.
Видимо, под давлением этого невыносимого груза – сознания своей избранности и неведения того, как она осуществится, – он принимает решение оставить службу и пуститься в самостоятельное историческое плавание, вернее, броситься в бурные волны разворачивающихся событий. В 1911 году в Китае началась революция. На окраинах Поднебесной она отозвалась вспышками антикитайских движений и междоусобной борьбы. Беспокойно стало в Маньчжурии и в Монголии. Унгерна тянуло туда, где беспокойно.
Летом 1913 года сотник Унгерн уволился в запас по прошению и отправился в Монголию – на поиски высшей судьбы.
О первом монгольском периоде жизни Унгерна мало что известно; однако видно, что страну он проехал из конца в конец, от берегов Керулена до Кобдо. За предшествующие годы молодой офицер хорошо изучил географию Центральной Азии, освоился там и, что самое главное, познал быт, психологию, религиозные и культурные традиции тамошних жителей: казаков, челдонов, бурят, монголов, маньчжуров. Во время пребывания в Кобдо Унгерн предпринимал попытки поступить на службу к западномонгольскому военному вождю и авантюристу Дамбиджанцану (именуемому Джа-ламой), воевавшему как с китайскими, так и с монгольскими властями, но не получил разрешения от русского консула и от военного министра.
Судьба пока что не давалась ему.
Монгольский анабазис Унгерна был прерван мировой войной. Узнав о мобилизации, он немедленно отбыл в Россию. Его посвящение в действительные избранники войны совершилось не на возлюбленном им Востоке, а на презираемом Западе.
В жизнеописаниях Унгерна встречаются сведения о том, что уже в августе 1914 года он был на фронте, в Восточной Пруссии, в армии генерала Самсонова. Эти сведения, по-видимому, ошибочны. Приказ о мобилизации стал известен в Кобдо не раньше 19 июля; путь от Кобдо до Читы (куда Унгерн должен был явиться по мобилизации) сначала верхом, затем на пароходе и по железной дороге не мог занять меньше полутора-двух недель. В Чите выяснилось, что полки Забайкальского казачьего войска будут отправлены на фронт еще не скоро. Унгерн решил ехать самостоятельно на запад и поступить в какой-нибудь первоочередной полк, но хотя бы на два-три дня он должен был задержаться в Чите. Известно, что перед отъездом на фронт барон успел заехать к родне в Ревель; дорога от Читы до Ревеля на поезде занимает не менее шести дней; от Ревеля до фронта по забитым эшелонами железным дорогам еще дня два-три. Притом какое-то время необходимо было ему для того, чтобы определиться в полк. Таким образом, в действующих войсках Унгерн мог оказаться никак не ранее середины августа. Между тем катастрофические события, приведшие к разгрому 2-й армии Самсонова, произошли 15–16 августа.
Но в сентябрьских боях он точно участвовал. В высочайшем приказе о награждении орденом Святого Георгия четвертой степени барона Унгерна-Штернберга (на момент события – сотника 34-го Донского казачьего полка) его боевая заслуга описана так: «Находясь у ф[ольварка] Подборек, в 400–500 шагах от окопов противника, под действительным ружейным и пулеметным огнем, давал точные и верные сведения о местонахождении неприятеля и его передвижениях, вследствие чего были приняты меры, повлекшие успех последующих действий»[303]. Как видим, это не лихая атака с захватом трофеев и пленных, как у Врангеля, не Кржешовский мост Тухачевского. В первые месяцы войны Георгиевские кресты вообще раздавались щедро. Но храбрость и полное равнодушие к смерти, свойственные Унгерну, сия награда, безусловно, подтверждает.
В декабре 1914 года сотник Унгерн был прикомандирован к 1-му Нерчинскому полку. В его судьбе это назначение сыграло, пожалуй, главную роль. В Нерчинском полку он познакомился с Георгием Михайловичем Семеновым, природным забайкальцем, командиром сотни, затем полковым адъютантом, а еще позже – атаманом и правителем Забайкалья. Не будь этого знакомства, Унгерн, вероятнее всего, не оказался бы в начале Гражданской войны в далекой Даурии и главные события в его жизни не совершились бы.
О его дальнейшей фронтовой службе вплоть до осени 1915 года сохранилось очень мало сведений. Единственный известный нам факт – награждение барона орденом Святой Анны четвертой степени; ни время, ни обстоятельства награждения не известны. В сентябре 1915 года Унгерн был откомандирован в «отряд особой важности» при главнокомандующем Северным фронтом – один из тех партизанских разведывательно-диверсионных отрядов, формирование которых было развернуто осенью 1915 года. Командиром этого отряда, действовавшего между Ригой и Митавой, был молодой двадцатитрехлетний поручик Леонид Николаевич Пунин, красавец, храбрец, любимец боевого счастья. Он будет смертельно ранен в бою в сентябре 1916 года.
Высшая воля – назовем ее историей – причудливо переплетает судьбы людей. Неподалеку от отряда Пунина, в районе Двинска, весной 1916 года воевал прапорщик 5-го гусарского Александрийского полка Николай Гумилев. Он будет расстрелян в конце августа 1921 года, какого числа – неизвестно; может быть, в тот самый день, когда преданный своими, связанный Унгерн попадет в руки красных. Первая жена Гумилева Анна Ахматова выйдет замуж за Николая Николаевича Пунина, известного искусствоведа, родного брата поручика Пунина. Сын ее и Николая Гумилева, Лев Николаевич Гумилев, будет трижды арестован советской властью, около пятнадцати лет проведет в местах лишения свободы, в том числе в любимой Унгерном Центральной Азии, близ Монголии. А потом создаст теорию пассионарности, дающую высшее оправдание явлению таких странных, беспокойных людей, как Унгерн, Гумилев, Пунин, Чапаев, Шкуро, Слащев, Корнилов, Тухачевский…
В отряде Пунина Унгерн командовал 3-м эскадроном. Командиром 2-го эскадрона был поручик Балахович, в недалеком будущем – еще один enfant terrible[304] русской Гражданской войны.
Правда о боевых подвигах командиров пунинского отряда нам неизвестна, а легенды все похожи одна на другую. Унгерн провоевал в партизанах около года. Летом 1916 года большинство партизанских отрядов было расформировано. Отряд Пунина сохранился, но его действия подчинены нуждам позиционной войны. Унгерн вернулся в Нерчинский полк – должно быть, к немалой досаде командира полка полковника Врангеля. Подробные сведения о его награждениях и чинопроизводстве не сохранились, но известно, что к ноябрю 1916 года он уже имел чин есаула и получил, в дополнение к первым двум, еще три награды: Анну третьей степени, Владимира четвертой степени, Станислава третьей степени – все, разумеется, с мечами.
Казалось, судьба повернулась к нему лицом.
В конце октября 1916 года Унгерн получил трехдневный отпуск для поездки в город Черновцы. Отпуск закончился арестом и военным судом. Из материалов судебного дела можно узнать, что есаул Унгерн-Штернберг в ночь с 22 на 23 октября в Черновцах напал с оружием в руках на гостиничного швейцара, разбил шашкой стекло в гостинице, затем попытался избить офицера – адъютанта комендатуры, ударил его по голове шашкой в ножнах, при этом нецензурно ругался, оскорблял офицеров и гражданских лиц… Был арестован, на допросе вел себя спокойно, дал все требуемые показания, выразил сожаление о происшедшем. Чем была вызвана вспышка дикой ярости – неизвестно. Потерпевший швейцар предполагал, что господин офицер напился пьян, но спокойное, даже безразличное поведение Унгерна при аресте, его внятные ответы на вопросы следствия противоречат этой версии.
Скорее всего, это была судьба, карма. Свирепый демон, таившийся в нем, вырвался наружу – одним, пока еще малым языком своего разрушительного пламени.
Суд приговорил есаула Унгерна к двум месяцам тюремного заключения. По отбытии наказания, в январе 1917 года, постановлением старших офицеров полка он был отправлен в резерв чинов, то есть удален со службы. Уехал в Ревель.
Следующий год, роковой для России, в биографии Унгерна представляет собой белое пятно. Путь есаула не прослеживается в сумбуре революционных событий. Февральская революция застала его, по-видимому, в Ревеле. Конечно, усидеть дома, в тишине и покое, он никак не мог. Есть отрывочные сведения о его поездке на Дальний Восток, о возвращении на фронт в Румынию, об отбытии в корпус Баратова, в Персию. Все эти сведения приблизительны и малодостоверны. Из тьмы неизвестности худощавая фигура барона Унгерна появляется вновь лишь в конце 1917 года и, неожиданно, – в Иркутске. В конце ноября он встретился со своим бывшим однополчанином есаулом Семеновым на станции Даурия, близ маньчжурской границы. Здесь Семенов и Унгерн собрали несколько десятков офицеров и казаков, сколотили отряд. В декабре ими был захвачен и расстрелян проезжавший из Харбина в Иркутск некий комиссар Аркус. С этого расстрела началась короткая, яркая и кровавая история властвования атамана Семенова в Забайкалье.
Здесь, в Даурии, черно-желтый барон расправил крылья для своего последнего огненного полета.
К этому времени революционным пожаром охвачена не одна только Россия. Большевики были отчасти правы, говоря о надвигающейся мировой революции. Тяжелый затяжной революционный кризис переживал огромный и разнородный Китай. Свержение маньчжурской династии Цин, вторжение японцев, слабость пекинского правительства, столкновение коммунистических и националистических идей, этническая и религиозная вражда – все это, вместе взятое, создавало на огромной территории от Желтого моря до Памира и от Тибета до Саян ситуацию хаоса и политического вакуума. Унгерн увидел это, и увиденное вдохновило его. Здесь, в Даурии, его ум и воля созревают для реализации титанического плана.
Европейская цивилизация изжила себя, она лишена боевого напора, проникнута еврейским торгашеским духом, бессильна и потому достойна только презрения. Химерами социализма она увлекла в бездну и Россию. Русский народ (как и другие славянские племена) слаб и податлив, не знает упоения борьбы и смерти, он – навоз истории. Культурный Восток давно обветшал, одряхлел. Но есть сила, которая способна совершить великое дело огненного очищения вселенной. Новый мир родится в центре Азии. Его религия – воинствующий буддизм. Его средоточие – край кочевников, Великая Монголия. Политический строй – военно-теократическая монархия; закон – суровая Яса Чингисхана. Новый мир – держава без границ; Роман Унгерн, офицер, воин, рыцарь незакатной звезды, должен пробудить спящие силы, поднять их на решительный бой.
Барон набирает войско, названное им Азиатской дивизией, преимущественно из бурят, монголов, казаков. Командуя туземным контингентом, он скоро становится независим от Семенова. Последний счел за благо произвести Унгерна в генералы и дать ему в управление область Даурию, на стыке границ России, Монголии и Маньчжурии. Унгерн делает своей столицей маленький пристанционный поселок Даурия у начала Китайско-Восточной железной дороги.
Идейно-политическая программа Унгерна на фоне общего безумия XX века не должна восприниматься нами как паранойя, бред обезумевшей личности. Большевистское «мы наш, мы новый мир построим» и пангерманистские истерики Гитлера нашли путь к сердцам миллионов и воплотились на практике. А чем идея Унгерна хуже? Для многих благодетелей человечества это очень соблазнительная перспектива – разрушить и выстроить заново; выпустить старую кровь и влить новую; всех переделать, постричь под одну гребенку. К тому же начало прошлого века – это «Закат Европы» Шпенглера, повальная мода на опиум как дань увлечению Востоком, соловьевское «Панмонголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно…». Культура представляется обреченной, дикие, неуправляемые инстинкты в почете, сила и выпуклость мускулов вызывают восхищение…
Из неполных тридцати шести лет жизни Унгерн не менее пятнадцати лет провел в Ревеле и Петербурге; около десяти лет – в Забайкалье, Даурии, Монголии. Тут ключ к пониманию его личности и его идей. Ревель, с его старинными стенами и башнями, феодальными гербами на фасадах домов, баронскими надгробиями в сумраке готических соборов, пробудил в маленьком потомке рыцарей романтическое преклонение перед силой и блеском оружия. Северная Пальмира, столица огромной евразийской империи, сочетающая в своем укладе и облике европейскую жесткую упорядоченность с широтой восточного размаха, вскормила в юном кадете страстное влечение к образу всемирной империи. Величественность просторов Центральной Азии, где горы и степи являют собой равнодушную вечность, где небо слепо и прозрачно, где время течет по-иному (и есть ли оно?), где личность человеческая и жизнь теряют смысл и цену перед беспредельностью, – выковала душу хорунжего (сотника, есаула, генерала). Испытания войны и революции закалили в нем качества: бесстрашие, беспощадность, безоглядность в достижении цели. Задача поставлена. Он приступил к ее осуществлению в 1919 году.
К этому времени он создал в Даурии сплоченное государство. Основу непререкаемой власти составляли две силы. Первая – войско, Азиатская дивизия, небольшая, но беспрекословно преданная. Вторая, как ни странно, – поддержка значительной части населения. Впрочем, что ж тут странного: барон защищал и русских, и казаков, и кочевников от революционной анархии; беспощадно уничтожал воров, бандитов (по крайней мере, тех, кого считал таковыми), а заодно – большевистских комиссаров. Действовал приказ: дезертиров, саботажников, нечистых на руку торговцев, воров и коммунистов – уничтожать вместе с семьями, а имущество их конфисковывать. В Даурии чеканили свою монету, из вольфрамового сплава. Среди буддистов – бурят и монголов – мало-помалу стало распространяться мнение, что в генерале Унгерне воплотился дух очистительного разрушения и войны, карающий Махагала.
Летом 1919 года Унгерн предпринимает решительный шаг к осуществлению генерального плана: он вступает в брак.
Со своей законной женой, именуемой Еленой Павловной (подлинное маньчжурское имя неизвестно), Роман Федорович прожил менее месяца. О его личных чувствах к ней мы ничего не знаем. Знаем другое: она принадлежала к одной из ветвей того же маньчжурского ханского рода, из которого происходили богдыханы, императоры Китая династии Цин. Женитьба на ней, даже формальная, вводила Унгерна в ханский род и давала, пусть и призрачное, право на маньчжурский и китайский престол. Получив желаемое, он отправил супругу обратно в родительский дом – мирная форма развода, принятая у кочевников Центральной Азии.
Как мы не знаем ничего о его личных чувствах к женщинам, так не знаем и о его религиозных взглядах. Но с 1919 года он оказывает явное покровительство тибетско-монгольскому буддизму. Опять политический расчет: сплотить вокруг себя под желтым знаменем грядущего Будды монголов, бурят, урянхов; а в будущем – тибетцев, калмыков, буддистов Китая.
В начале 1920 года ситуация вокруг осложняется. Колчак (одновременно враг Унгерна и невольный его защитник от красных) разбит и убит. Большевики в Иркутске, Семенов готов заключить с ними союз. В Пекине – нечто вроде военной хунты, китайские войска вторгаются в Монголию и захватывают Ургу. Богдо-гэген, священный правитель буддийской Монголии, в руках оккупантов; буддийские храмы осквернены пролитием крови. Монголы ненавидят врага, но у них нет знамени, нет предводителя. События подталкивают Унгерна к действию. Осенью 1920 года он бросает Даурию навсегда и отправляется в поход на Ургу.
Взятие Урги 2–3 февраля 1921 года – самый блистательный эпизод в жизни барона. Его двухтысячное войско трижды штурмует город, обороняемый двенадцатитысячным китайским корпусом. Два штурма отбиты с немалыми потерями; Унгерн отступает, собирает новые силы – монголов, русских, бежавших из России колчаковцев – и вновь подходит к священному центру Монголии. Важен моральный фактор, и он разрабатывает отчаянную операцию по похищению Богдо-гэгена из осажденного города. Группа монголов и казаков, переодетых ламами, проникает в жилище священного правителя, уничтожает китайский караул – и наутро Богдо-гэген уже в ставке барона. «Живой Будда» отблагодарил генерала: Унгерн обретает титул «Великий батор, восстановитель улуса, командующий», получает право носить священные желтые одежды и украшать конскую сбрую желтой материей. На палец его надет рубиновый перстень со свастикой, по преданию – наследие Чингисхана. Монголы приветствуют его как национального героя, освободителя. Воодушевленное войско в третий раз идет в бой – и город взят. Три тысячи китайцев убито, остальные во главе с генералом Чу Лицзяном отошли на север.
Недолгое пребывание в Урге «Великий батор» ознаменовал двухдневным грабежом имущества китайцев, последующими казнями мародеров, установлением твердых цен на все товары, учреждением военной школы, швейных, сапожных и шорных мастерских, массовыми казнями воров, предателей, коммунистов и всех, кого считал таковыми, а также беспощадным истреблением евреев. Но на Ургу с севера двигался оправившийся от поражения корпус Чу Лицзяна. Унгерн выступил навстречу; в боях на подступах к Урге было убито не менее четырех тысяч китайских солдат. У унгерновцев не хватало патронов, и русские техники придумали отливать пули из стекла. Эти пули летели недалеко, но на близком расстоянии причиняли страшные, смертельные раны. С остатками войск Чу Лицзян бежал в Китай. А на одежде Унгерна и сбруе его лошади после боя насчитали свыше 70 следов от пуль.
Весна 1921 года. Надо немедля осуществлять великий план – воссоздавать державу Чингисхана. Духи войны не ждут. Идея унгерновской империи известна нам со слов Оссендовского: «Это государство должно состоять из отдельных автономных племенных единиц и находиться под моральным и законодательным руководством Китая, страны со старейшей и высшей культурой. В этот союз азиатских народов должны войти китайцы, монголы, тибетцы, афганцы, племена Туркестана, татары, буряты, киргизы и калмыки». Цель грандиозна. Но каковы силы для ее осуществления? Они ничтожны.
Унгерн это понимает. Но он не останавливается, не может остановиться. Отступать ему некуда. Да и что значит слабость его малочисленных войск и мощь противника, если его ведет высшая судьба и духи истребления следуют за ним и впереди него?
Унгерн готовится к походу – куда? Варианты: Сибирь, Пекин, Тибет… Но эти планы уже не вдохновляют монголов; они не багатуры Чингисхана, а честные степные обыватели; они готовы проливать кровь за родную землю под предводительством жестокого воплощения Махагалы, но не хотят дальних гибельных походов, смысл которых непонятен им. Да и содержание унгерновского войска обходится слишком дорого. Даурские соратники тоже ропщут, понимая несоразмерность сил Монголии с силами Советской России и Китая. Унгерн теряет опору; удержать власть он может только путем репрессий; но новые расправы отталкивают от него последних друзей.
Остановиться он не может: так Фаэтон, подлетев слишком близко к Солнцу, уже не в силах остановить своих коней.
Из приказа барона Унгерн фон Штернберга № 15.
(Пояснение: приказ адресован русским, в том числе сектантам и старообрядцам, которых было много в Забайкалье и Сибири, поэтому в нем звучат не буддийские, а библейские мотивы. Этим же объясняется использование имени убитого в 1918 году великого князя Михаила Александровича, в чью смерть многие тогда не верили.)
«Мая 21 дня н. ст. 1921 г. г. Урга
Я – Начальник Азиатской Конной Дивизии, Генерал-Лейтенант Барон Унгерн, – сообщаю к сведению всех русских отрядов, готовых к борьбе с красными в России, следующее:
§ 1. Россия создавалась постепенно, из малых отдельных частей, спаянных единством веры, племенным родством, а впоследствии особенностью государственных начал. <…> Революционная буря с Запада глубоко расшатала государственный механизм, оторвав интеллигенцию от общего русла народной мысли и надежд. Народ, руководимый интеллигенцией как общественно-политической, так и либерально-бюрократической, сохраняя в недрах своей души преданность Вере, Царю и Отечеству, начал сбиваться с прямого пути, указанного всем складом души и жизни народной, теряя прежнее, давнее величие и мощь страны, устои, перебрасывался от бунта с царями-самозванцами к анархической революции и потерял самого себя. Революционная мысль, льстя самолюбию народному, не научила народ созиданию и самостоятельности, но приучила его к вымогательству, разгильдяйству и грабежу. 1905 год, а затем 1916–17 годы дали отвратительный, преступный урожай революционного посева – Россия быстро распалась. Потребовалось для разрушения многовековой работы только 3 месяца революционной свободы. Попытки задержать разрушительные инстинкты худшей части народа оказались запоздавшими. Пришли большевики, носители идеи уничтожения самобытных культур народных, и дело разрушения было доведено до конца. Россию надо строить заново, по частям. <…>
Законный хозяин Земли Русской ИМПЕРАТОР ВСЕРОССИЙСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. <…>
§ 2. Силами моей дивизии совместно с монгольскими войсками свергнута в Монголии незаконная власть китайских революционеров-большевиков, уничтожены их вооруженные силы, оказана посильная помощь объединению Монголии и восстановлена власть ее законного державного главы, Богдо-Хана. Монголия по завершении указанных операций явилась естественным исходным пунктом для начавшегося выступления против Красной армии в советской Сибири. <…>
§ 5. Сомнений нет в успехе, т. к. он основан на строго продуманном и широком политическом плане. <…>
Выступление против красных в Сибири начать по следующим направлениям: а) Западное – ст. Маньчжурия; б) на Монденском направлении вдоль Яблонового хребта; в) вдоль реки Селенги; г) на Иркутск; д) вниз по р. Енисею из Урянхайского края; е) вниз по р. Иртышу. <…>
Заявить бойцам, что позорно и безумно воевать лишь за освобождение своих собственных станиц, сел и деревень, не заботясь об освобождении больших районов и областей. Считать такое поведение сохранением преступного нейтралитета перед Родиной, что является государственной изменой. Такое преступление карать по всей строгости законов военного времени. <…>
Комиссаров, коммунистов и евреев уничтожать вместе с семьями. Все имущество их конфисковывать.
Суд над виновными м. б. или дисциплинарный, или в виде применения разнородных степеней смертной казни. В борьбе с преступными разрушителями и осквернителями России помнить, что по мере совершенного упадка нравов в России и полного душевного и телесного разврата нельзя руководствоваться старой оценкой. Мера наказания может быть лишь одна – смертная казнь разных степеней. Старые основы правосудия изменились. Нет „правды и милости“. Теперь должны существовать „правда и безжалостная суровость“. Зло, пришедшее на землю, чтобы уничтожить Божественное начало в душе человеческой, должно быть вырвано с корнем. Ярости народной против руководителей, преданных слуг красных учений, не ставить преград. Помнить, что перед народом стал вопрос „быть или не быть“. Единоличным начальникам, карающим преступников, помнить об искоренении зла до конца и навсегда, и о том, что справедливость в неуклонности суда. <…>
Народами завладел социализм, лживо проповедывающий мир, злейший и вечный враг мира на земле, т. к. смысл социализма – борьба.
Нужен мир – высший дар Неба. Ждет от нас подвига в борьбе за мир и Тот, о Ком говорит Св. Пророк Даниил (гл. XII), предсказавший жестокое время гибели носителей разврата и нечестия и пришествие дней мира: „И восстанет в то время Михаил, Князь Великий, стоящий за сынов народа Твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени, но спасутся в это время из народа Твоего все, которые найдены будут записанными в книге. Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении, нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют. Со времени прекращения ежедневной жертвы и поставления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1330 дней“[305].
Твердо уповая на помощь Божию, отдаю настоящий приказ и призываю вас, офицеры и солдаты, к стойкости и подвигу.
Подлинный подписал: Начальник Азиатской Конной Дивизии. Генерал-Лейтенант Унгерн»[306].
21 мая 1921 года исполнилось 1290 дней со дня провозглашения власти Советов в Петрограде. По расчету Унгерна, блаженство настанет через сорок дней – то есть 1 июля 1921 года.
В конце мая его войска выступили в последний поход. Общая численность унгерновских войск, действующих на всех направлениях, вместе с отрядами союзных монгольских нойонов – около восьми тысяч человек, полтора десятка орудий и сорок пулеметов. Главные силы во главе с самим бароном двинулись на Троицкосавск – Селенгинск – Нижнеудинск, против Красной армии Дальневосточной республики. Численность главного отряда – около трех тысяч шестисот бойцов при двенадцати пушках и тридцати пулеметах. С такими силами завоевать Забайкалье, как предписывал Унгерн, можно было только при помощи духов.
В сущности, это был не поход, а большой партизанский рейд, сопровождавшийся палочными расправами, расстрелами пленных, уничтожением семей коммунистов, сожжениями заживо крестьян, подозреваемых в большевизме.
Унгерновцы действовали умело, смело, отчаянно. Бои были жестокие.
1 июня в бою с унгерновцами у станицы Желтуринской был ранен командир 35-го кавалерийского полка Красной армии Константин Рокоссовский. За этот бой будущий маршал и победитель германского фашизма получит орден Красного Знамени. И не зря: потери унгерновских войск оказались значительными. Главное же то, что потери эти были невосполнимы. Никакого восстания, никакого массового перехода бурят и казаков на сторону Унгерна не произошло. В самой Монголии усиливались красные отряды Сухэ-Батора. Попытка Унгерна наступать в Забайкалье закончилась поражением 13 июня у пограничного городка Троицкосавска. Главное, сам главнокомандующий был ранен.
Он не был заговорен от пуль. Похоже, судьба вновь ускользала от него и духи готовы были его оставить.
К началу июля, к тому самому времени, когда, по расчету, основанному на пророчестве Даниила, блаженство должно было снизойти на стойких героев, Унгерн, потеряв половину своих войск, оказался перед лицом полного краха. 6 июля красные вошли в Ургу.
Неудачи приводят его в бешенство. Расстрелы, непредсказуемые и дикие казни, палочные расправы по ничтожным поводам подталкивают его командиров к заговору. А он со своими полуразбитыми войсками совершает беспримерный бросок через труднодоступный Цежинский голец, врывается в станицу Цежинскую. Расправа над комиссарами. Снова вкус победы. Еще один успешный бой у Гусиного озера. Но это – в последний раз.
Он вынужден отступать. Регулярная кавалерия красных идет по пятам. Он готовится к новому броску – то ли в Тибет, то ли в Урянхай.
22 августа в лагере Унгерна вспыхнул мятеж. Заговорщики напали на барона в его палатке; ему удалось бежать под защиту монгольских всадников. Посоветовавшись, монголы связали барона и выдали его красным бойцам из преследующего отряда командира Петра Щетинкина. Событие сие представлялось коммунистам столь значимым, что в записной книжке-ежедневнике, изданной в 1927 года в Ленинграде массовым тиражом, оно под 23 августа упомянуто среди памятных дат исторического календаря.
Пленного барона привезли в Иркутск. Там началось следствие. Суд революционного трибунала состоялся в Новониколаевске (Новосибирске) 15 сентября. Приговор: «Бывшего генерал-лейтенанта барона Романа Федоровича Унгерн-фон-Штернберга (так в тексте. – А. И.-Г.), из дворян Эстляндской губернии, 35 лет, по партийности монархиста, подвергнуть высшей мере наказания – расстрелять»[307].
Роман Федорович Унгерн был расстрелян в ночь с 15 на 16 сентября 1921 года.
Эрлик-Сарыг-Хан[308]
Сквозь тувинский сентябрь медно-бурый,
мертво-белый монгольский октябрь
месяц тает оранжевой буквой,
кровь роняя, ползет на культях.
Волки воют да коршун ныряет
каплей с лиственницы – и ввысь.
Караганниковыми волдырями
лбы долин оплелись.
Вьюжный сумрак поземковым утром
иссечен, отползает к тайге.
Тень раскачивающаяся: Унгерн
спит в седле, возвращаясь к Урге.
Нездорово качается. Тает
конский след под поземкой. Знобит.
Ржавый серп очарованной стали
изготовлен для новой косьбы.
Что пугаешь меня, Роман Федорович,
жилы тянешь у жухлой степи?
Я-то знаю, тому уж за восемьдесят,
как отпел тебя Новосибирск,
как засыпал сентябрьскими листьями,
гвоздь свинцовый в затылок забил.
Что ж ты едешь, качаясь, под лиственницами,
в бурку кутаешься – знобит?
Тюркских каменных баб узкоглазие,
скулы – тени от чаш,
ус закручен, и перстень со свастикой,
и затылок в лучах.
Усмехается спящий. Под пуговицами
в ребрах ветер. Костры.
Жар вливали стеклянными пулями
в гоминьданские рты.
Как отрубленные выкладывали,
а безглавые – с кручи, скользя,
как, нахлестывая, по кладбищу,
по своим убегал Чу Лицзян,
как по скалам с волками да коршунами
твой расплясывался вороной…
Расписался свинцовыми прочерками,
Махагалой, войной.
Что-то утро уж слишком туманное.
У палатки стою.
Тает черный главнокомандующий
там, в тумане, на юг.
Гуси строем летят с Убсу-Нура,
как резервная четь.
Солнце выплеснулось над юртами
красной конницей. Чьей?
Дым расходится, утренний, пасмурный,
до небесных нетающих льдов,
над хрущевками Улан-Батора,
над барачным конвоем Кобдо.
Месяц грянулся оземь, не узнанный.
Синий иллюминатор горит.
Укорачивается тень Унгерна,
поворачивающая в Кок-Тенгри[309].
Красный начдив Чапаев не может сравниться с Унгерном ни по размаху замыслов, ни по масштабам деятельности. Но их сближает одно удивительное обстоятельство: оба они оказались неподвластны смерти – народная молва воскресила их. Легенды о чудесном спасении Чапаева и Унгерна родились сразу же после реальной гибели одного и другого и живут до сих пор. Чести быть воскрешенным не удостоился, кажется, более никто из военных вождей и героев, погибших в русской смуте, – ни Корнилов, ни Колчак, ни Дроздовский, ни Каппель, ни Щорс, ни Лазо, ни Железняков, ни Маруся Никифорова…
Слухи о том, что Унгерн спасся, что он бежал из тюрьмы, что судим и расстрелян был его двойник, что его самого видели в Даурии, в Монголии, в Забайкалье, – эти слухи стаей разлетались по русскому зарубежью, по Харбину и Шанхаю – среди тех, кто восхищался им, и среди тех, кто люто ненавидел его. Буряты и монголы через многие годы с уверенностью рассказывали, что одинокий светловолосый всадник в желтом дээле, с палкой-ташуром в руке, с перстнем Чингиса на пальце появлялся вон в той долине, близ соседнего кочевья. Когда? Недавно: год, полгода, месяц назад. Он и сейчас скитается по степям Халхи, по берегам Онона, Керулена, Селенги.
Ну, барон – понятно: он и при жизни был для одних воплощением вечного карающего духа, для других – кровопийцей и оборотнем. Но Чапаев – как он оказался в ореоле бессмертия?
Уже через несколько дней после разгрома в Лбищенске штаба чапаевской дивизии по красным полкам, да и по белому стану, пронеслись слухи, что Чапай жив, что он спасся, что он попал в плен, что он ранен и скрывается… Специальная комиссия, присланная из штаба армии, признала факт его гибели. И тем не менее через годы и десятилетия продолжала жить странная благая весть о том, что он был тяжко ранен, кем-то спасен, спрятан, выхожен; выжил, но потерял память. Что в такой-то и такой-то деревне живет плотник, как две капли воды похожий на легендарного начдива, что это он самый и есть…
Итак, почему Чапаев? Кто он такой?
Крестьянский сын, шарманщик, плотник
Как и многие другие легендарные герои русской смуты, Чапаев сам участвовал в сотворении собственной легенды. Любил порассказать о себе былей и небылиц. Красный командир, он старательно подчеркивал свое бедняцкое прошлое. В анкетах, указывая происхождение, писал: то «из крестьян», то «из рабочих»… А то вдруг, понизив голос, свой красивый баритон, и сверкая глазами, расскажет кому-нибудь из близких сослуживцев историю о том, что он – подкидыш, сын губернаторской дочки и цыгана. Мать умерла в родах, а его отдали на воспитание в бедную крестьянскую семью.
Место его рождения долго оставалось неизвестно; за право именоваться родиной Чапая спорили несколько деревень и маленьких городков – если не семь, как в древности за право именоваться родиной Гомера, то по меньшей мере три: Балаково, Николаевск (ныне Пугачев), деревня Будайка близ Чебоксар. В 1934 году в архиве Чебоксарского горсовета была обнаружена метрическая книга церкви Вознесения Христова за 1887 год, а в ней запись о крещении 30 января младенца Василия, родившегося 28 января у крестьянина деревни Будайки Чебоксарского уезда Ивана Степанова и его законной жены Екатерины Семеновой. Степанов и Семенова – не фамилии, а отчества (до Сенатского указа 1888 года крестьяне могли вовсе не иметь фамилий). Имена и отчества настолько распространенные, что, строго говоря, нельзя исключить возможности их случайного совпадения с именами и отчествами родителей Чапаева. Тем не менее этот документ решил спор: местом рождения Чапаева считается деревня Будайка, на месте которой ныне находится жилой район Чебоксар. Дата рождения – 28 января 1887 года.
Откуда взялась фамилия Чапаев (или Чепаев, как писал ее Василий Иванович) – неизвестно. Ни сам герой, ни его отец ответа на этот вопрос не знали. Версия ее происхождения от команды «Чепай!» (то есть «Цепляй!» на местном диалекте), рассказы о том, что так якобы покрикивал дед героя, когда работал на погрузке бревен, – не более чем наивная попытка осмыслить непонятное прозвание.
Семья Чапаевых была многодетная и, конечно, бедная: об этом говорит хотя бы тот факт, что из девяти детей Ивана Степановича и Екатерины Семеновны во младенчестве умерли четверо. Правда, надо иметь в виду, что практически все, что мы знаем о родителях, о семье, о детстве и ранней юности Василия Ивановича, почерпнуто из семейных преданий или из рассказов самого Чапая, пересказанных его знакомыми и сослуживцами уже тогда, когда он сам стал легендой. Достоверность этих преданий и рассказов под вопросом.
Во всяком случае, отец, Иван Степанович, жил и кормил семью не от земли, а от заработков: был плотником, каковому мастерству учил и сыновей. Ради заработка семья перебралась из-под Чебоксар в Балаково (тогда село, с 1911 года – город Самарской губернии). Там Василий ходил в церковно-приходскую школу; там же был отдан в работу. В школе учился не особенно успешно: свидетельством тому – автографы красного командира Чапаева, полные орфографических ошибок («ето», «ево», «чюствую», «прошол»). В анкетах он именовал себя самоучкой и любил немного пощеголять своей необразованностью. Однако начальную школу, по-видимому, все-таки окончил. Об этом свидетельствует факт его производства в унтер-офицеры в 1915 году: в унтер-офицерские учебные команды старались отбирать тех, кто имел хотя бы начальное образование.
Прочие сведения о жизни Василия Ивановича до Первой мировой войны очень ненадежны. В советское время его образ усиленно вычерчивался по идеологическому трафарету. Подчеркивались мотивы бедняцкой трудовой жизни и стихийного революционного бунтарства. О работе в мальчиках у купца, закончившейся конфликтом из-за нежелания обманывать покупателей, о похождениях с шарманщиком по приволжским городам и об иных сюжетах нельзя сказать определенно, что это – детали биографии или мифы. Гораздо правдоподобнее упоминания о работе в столярной мастерской и в плотницкой артели: отцовское ремесло Василий наверняка освоил в детстве.
Не вполне ясна история с призывом Чапаева в армию. В большинстве источников указывается год призыва 1908-й, в некоторых – 1910-й. Предпочтительна первая дата: в соответствии с законом призыву подлежали мужчины, достигшие 21 года. Впрочем, допускались отсрочки до двух лет для устройства имущественных и хозяйственных дел. Самое интересное, что будущий георгиевский кавалер и лихой красный командир был очень скоро отчислен с действительной службы. Причина неизвестна. Советские биографы пытались приписать Чапаеву политическую неблагонадежность, участие в каких-то беспорядках среди нижних чинов. Но по таким мотивам, разумеется, от отбывания воинской повинности не освобождали. За нарушение дисциплины, за служебный проступок, за неповиновение начальству можно было угодить в дисциплинарный батальон, а никак не домой, в объятия родных. Разгадка, скорее всего, вот в чем: Василий Чапаев был призван ошибочно. В это время в армии служил его старший брат Андрей, а по закону, «для лица, непосредственно следующего по возрасту за братом, находящимся по призыву на действительной службе», устанавливалась льгота. Можно предположить, что это обстоятельство, вследствие обычной канцелярской путаницы, выяснилось не сразу, и Василия вернули домой как незаконно призванного. Любопытно, что некая канцелярская путаница произойдет и при его втором призыве – по мобилизации в 1914 году.
Так или иначе, Чапаев вернулся к семье, к повседневной работе. А работать и зарабатывать было необходимо: в 1909 году он вступил в законный брак с Пелагеей Никаноровной Метлиной, дочерью священника (по другим сведениям – мещанкой). Уже в 1910 году у них родился сын Александр, потом дочь Клавдия, а в год начала войны – сын Аркадий. Из Балакова Чапаевы перебрались в Симбирск, затем в Мелекесс[310].
Так Василий Иванович дожил до двадцати семи лет. Как видим, ничего примечательного в его биографии до этого момента не наблюдалось. Впоследствии, по свидетельству Фурманова, комдив Чапаев будет сравнивать себя с Наполеоном. Значит, все-таки в юности читал книжки про полководцев, про военные подвиги. Но тогда, в Балакове, Саратове, Мелекессе, мечтать о славном будущем у него не было оснований.
Все изменила начавшаяся мировая война.
Унтер-офицеры – фундамент армии
Да, с призывом Чапаева в 1914 году вышла путаница.
Призыву он подлежал как «ратник ополчения первого разряда» не в самом начале мобилизации, а по мере формирования частей второй и третьей очереди.
20 сентября волостное правление Балакова обнаружило, что призывника Василия Ивановича Чапаева, долженствовавшего явиться на сборный пункт сего числа, в городе нет и что, по наведенным справкам, он проживает в посаде Мелекесс той же Самарской губернии. Полицейскому приставу Мелекесской части было направлено отношение с просьбой сообщить Балаковскому волостному правлению, пребывает ли оный Чапаев в Мелекессе, мобилизован ли, и, если уклоняется от мобилизации, принять меры для его представления к господину воинскому начальнику. На сей запрос последовал недоуменный ответ, переписка тянулась полтора года, пока не завершилась решительной нотой от 15 апреля 1916 года, отправленной из Мелекесса в Балаково: «Просимых сведений о Чапаеве дать не представляется возможности, так как последний в посаде Мелекесс не разыскан и личность его жителям посада никому не известна»[311].
В это время Чапаев уже был старшим унтер-офицером и носил на гимнастерке два Георгиевских креста и медаль.
Из сохранившихся документов известно, что 4 января 1915 года рядовой Василий Чапаев был зачислен на довольствие в 1-ю роту 326-го Белгорайского пехотного полка. Если учесть трехмесячный срок обучения в запасном батальоне, получается, что Чапаев явился на призыв, как положено, в конце сентября. Почему его потеряли в Балакове – так и осталось невыясненным.
Годом позже был призван на военную службу проживавший в Москве девятнадцатилетний крестьянин деревни Стрелковка Малоярославецкого уезда Калужской губернии Георгий Константинович Жуков.
Через полстолетия маршал Жуков так опишет первые версты своего солдатского пути:
«Нас распределили по командам, и я расстался со своими земляками-одногодками. Кругом были люди незнакомые, такие же безусые ребята, как и я.
Вечером нас погрузили в товарные вагоны и повезли к месту назначения – в город Калугу. <…>
Товарные вагоны, куда нас поместили по сорок человек в каждый, не были приспособлены для перевозки людей, поэтому пришлось всю дорогу стоять или сидеть прямо на грязном полу. Кто пел песни, кто резался в карты, кто плакал, изливая душу соседям. Некоторые сидели, стиснув зубы, неподвижно уставившись в одну точку, думая о будущей своей солдатской судьбе.
В Калугу прибыли ночью. Разгрузили нас где-то в тупике на товарной платформе. Раздалась команда: „Становись!“, „Равняйсь!“ И мы зашагали в противоположном направлении от города. Кто-то спросил у ефрейтора, куда нас ведут. Ефрейтор, видимо, был хороший человек, он нам душевно сказал:
– Вот что, ребята, никогда не задавайте таких вопросов начальству. Солдат должен безмолвно выполнять приказы и команды, а куда ведут солдата – про то знает начальство.
Как бы в подтверждение его слов в голове колонны раздался зычный голос начальника команды:
– Прекратить разговоры в строю!
Коля Сивцов, мой новый приятель, толкнул меня локтем и прошептал:
– Ну вот, начинается служба солдатская»[312].
Путь Чапаева от дома до полка был, без сомнения, точно таким же. С той только разницей, что он был старше Жукова почти на десять лет и не относился к категории безусых.
326-й Белгорайский полк входил в состав 82-й пехотной дивизии. Дивизия же, переданная 11-й армии, с ноября 1914 по март 1915 года участвовала в осаде австро-венгерской крепости Перемышль. Там, под Перемышлем, Чапаев, по всей вероятности, принял боевое крещение. Как это произошло, мы не знаем. В боях под Перемышлем, долгих и кровопролитных, Чапаев не успел себя как-нибудь особенно проявить. В скором времени (видимо, еще до конца осады) он был направлен в унтер-офицерскую учебную команду.
9 марта стопятнадцатитысячный австрийский гарнизон крепости капитулировал. Это была последняя большая победа русской армии перед чередой тяжких поражений. После того как пушки Перемышля затихли, 82-я дивизия была отведена в тыл для отдыха и пополнения. В середине апреля ее направили в 9-ю армию генерала от инфантерии Лечицкого, действовавшую на левом фланге Юго-Западного фронта.
В начале мая, после немецко-австрийского прорыва у Горлице – Тарнова и разгрома 3-й армии, весь русский фронт стал с боями подаваться на восток. 9-я армия поначалу смогла избежать тяжелых неудач и даже осуществила успешное наступление на реке Прут. 6 мая батальон Белгорайского полка форсировал Прут у деревни Княж Двор и вместе с батальонами соседнего полка два дня удерживал захваченный плацдарм. Батальон потерял половину своего состава; многие выжившие были награждены. За этот бой Чапаев получил свою первую награду – Георгиевскую медаль четвертой степени (правда, награждение состоялось не скоро: через восемь месяцев, одновременно с Георгиевским крестом).
В связи с общим неблагоприятным положением на всем Юго-Западном фронте, в конце мая 9-я армия вынуждена была начать отход. Отступление сопровождалось почти непрерывными боями. Два месяца Белгорайский полк крутился в чертовом колесе: передовая – артобстрел – атака – подсчет убитых, раненых и пропавших без вести – отвод в тыл – кратковременный отдых – прием пополнения – снова передовая… Приказом по полку от 10 июля 1915 года рядовой первой роты Василий Чапаев «за хорошее поведение и отличное знание службы» был произведен в младшие унтер-офицеры.
При слове «унтер-офицер» в нашем сознании возникает образ этакого служаки, ограниченного и туповатого, наподобие чеховского унтера Пришибеева. Между тем в русской армии унтер-офицеры составляли своего рода элиту. Их подготовка была поставлена не хуже, а, пожалуй, в целом получше, чем подготовка офицеров, да и выполняли они многие функции, которые в современной армии возложены на младших офицеров.
Свидетельствует маршал Жуков (в 1916 году он тоже был произведен в унтер-офицеры после первых же боев, тоже получил солдатские награды за храбрость):
«Основным фундаментом, на котором держалась старая армия, был унтер-офицерский состав, который обучал, воспитывал и цементировал солдатскую массу. Кандидатов на подготовку унтер-офицеров отбирали тщательно. Отобранные проходили обучение в специальных учебных командах, где, как правило, была образцово поставлена боевая подготовка. Вместе с тем… за малейшую провинность тотчас следовало дисциплинарное взыскание, связанное с рукоприкладством и моральными оскорблениями. <…>
Надо сказать, что офицеры подразделений вполне доверяли унтер-офицерскому составу в обучении и воспитании солдат. Такое доверие, несомненно, способствовало выработке у унтер-офицеров самостоятельности, инициативы, чувства ответственности и волевых качеств. В боевой обстановке унтер-офицеры, особенно кадровые, в большинстве своем являлись хорошими командирами»[313].
Итак, Чапаев оказался в числе отобранных для подготовки на унтер-офицерскую должность. Кто отбирал? Старшие, многоопытные унтер-офицеры, знающие службу насквозь, имеющие строевой, окопный и боевой опыт. Кого отбирали? Бойцов ответственных, надежных, смелых (но не бесшабашных), сообразительных, инициативных. Последнее качество очень важно.
В боевых условиях Первой мировой войны взводы, роты и даже батальоны сплошь и рядом оказывались в самом пекле сражения без офицеров. В начале войны, когда многими еще владели романтические порывы, стремление к славе и подвигу, офицеры ходили в атаку в первых рядах, разгуливали под огнем противника во весь рост – и погибали в первую очередь. Вспомним бой у Каушена, за который барон Врангель получил Георгиевский крест. В атаке эскадрона конногвардейцев выбыли из строя все офицеры, кроме Врангеля. То же самое имело место и у конногренадер, и у лейб-улан. Кто непосредственно командовал бойцами в разгар боя и на его завершающем этапе? Унтер-офицеры. Именно под их руководством Каушен в конце концов был взят.
Со временем, когда на смену героическому азарту пришли затяжные военные будни, нередкими стали явления обратного порядка. Многие офицеры, особенно старшие, во время атаки, в самый опасный начальный ее момент, предпочитали переместиться подальше в тыл, отставали от боевых порядков своих батальонов или рот порой на полверсты и больше и догоняли их только тогда, когда исход боя бывал уже решен. Кто вел бойцов за собой, кто руководил ими в ежеминутно меняющейся боевой ситуации, на кого могли нерадивые офицеры переложить свои обязанности и свою меру риска? Все это выпадало на долю унтер-офицеров.
Было и еще одно обстоятельство, придававшее унтер-офицерам качества цементирующего вещества русской армии. Они каждодневно и ежечасно управляли жизнью солдат. Рядовой боец мог по неделям не видеть офицеров своей роты; батальонного или полкового командира лицезреть два-три раза в году на общих построениях по особым случаям. А взводный унтер был его начальником от подъема до отбоя и от отбоя до подъема. Разумеется, офицеры бывали разные; встречались и такие, которые сами лично занимались своими солдатами, руководили их обучением, вникали в их проблемы. Но в подавляющем большинстве случаев все эти заботы ложились на плечи унтер-офицеров.
Российское общество было разделено труднопроходимыми сословными перегородками. Офицеры в русской армии составляли некое подобие сословия. И хотя простого армейского поручика – солдатского сына, поповича, выходца из мещан – отделяла пропасть от гвардейца-аристократа, но от нижних чинов его отделяла пропасть куда более широкая и глубокая: не пропасть, а бездна. Так было до Первой мировой войны, так обстояло дело в ее начале.
Свидетельствует маршал Жуков:
«Что было наиболее характерным для старой царской армии? Прежде всего отсутствие общности и единства между солдатской массой и офицерским составом.
В ходе войны, особенно в 1916 и начале 1917 года, когда вследствие больших потерь офицерский корпус укомплектовывался представителями трудовой интеллигенции, грамотными рабочими и крестьянами, а также отличившимися в боях солдатами и унтер-офицерами, эта разобщенность в подразделениях (до батальона или дивизиона включительно) была несколько сглажена. Однако она полностью сохранилась в соединениях и объединениях. Офицеры и генералы, не имевшие никакой близости с солдатской массой, не знавшие, чем живет и дышит солдат, были чужды солдату»[314].
Унтер-офицер – это вчерашний рядовой, который завтра может стать офицером. Выйти, по представлениям нижних чинов, в большие люди. Февральская революция ускорила это выдвижение. Поэтому унтер-офицеры в большинстве своем приняли революцию. Многие из них чувствовали себя достойными заменить чуждых по духу и настроению старших офицеров. А может быть – и генералов. На войне каждый, от обозного солдата до главнокомандующего, видит свою малую часть целого и каждый думает, что видит все великое целое, и лучше других.
Чтобы не пересказывать легенды о фронтовых подвигах Чапаева, ограничимся перечислением сведений о его наградах, ранениях и повышениях по службе.
В сентябре 1915 года за бои на реке Горыни возле деревень Цумань и Карпиловка, в тридцати пяти километрах к востоку от Луцка, младший унтер-офицер 1-й роты Василий Чапаев награжден крестом Святого Георгия четвертой степени. 27 сентября выбыл из строя по ранению. Вернулся в строй 30 ноября.
1 октября 1915 года командир 326-го полка полковник Чижевский подписал приказ о присвоении Чапаеву звания старшего унтер-офицера. (Полковник, а с осени 1916 года генерал-майор Николай Константинович Чижевский – полковой командир Чапаева с первого фронтового дня до конца войны. В сентябре 1918 года он будет убит красными в Пятигорске вместе с генералами Рузским, Радко-Дмитриевым и другими заложниками.)
Затем дивизия была переброшена на Днестр. За взятие двух пленных возле местечка Сновидов Чапаев награжден Георгиевским крестом третьей степени.
Весной 1916 года он получил отпуск и приехал к родным в Балаково. Разумеется, сфотографировался с женой на память. Кто знает, случится ли когда-нибудь еще запечатлеть вместе свой облик. На фотокарточке – крепкий, коренастый молодой воин, с небольшими усами, в сдвинутой набекрень фуражке, с погонами старшего унтера, с двумя Георгиевскими крестами и медалью на гимнастерке. Он держит за руку миловидную миниатюрную молодую женщину в длинном темном платье. Жена, конечно, гордится мужем. Но чего-то не хватает в этой фотографии. Идиллии нет.
Через год эта семья распадется. Что было причиной разлада – судить не нам. В популярных биографиях Чапаева утвердилась версия, исходящая от его дочери Клавдии: мать изменила отцу. Пелагея Никаноровна, мол, и раньше не ладила со свекром, а когда Василий Иванович ушел на войну, она не выдержала домашнего гнета, и вот… Заметим, однако, что Клавдии Васильевне в это время было четыре года. И мать, и отец, и дед с бабкой ушли из жизни, когда ей не исполнилось и десяти. Что могла она знать о семейной драме родителей? Оставим этот вопрос открытым. И вернемся вместе с Чапаевым на поля сражений.
В конце мая, в ходе общего наступления Юго-Западного фронта, 9-я армия нанесла удар противнику между Днестром и Прутом, в районе Черновиц.
22 мая ранним утром, в предрассветной мгле, бойцы химкоманды приступили к распылению ядовитых веществ из баллонов в направлении позиций противника у села Чарны Поток, над Днестровской поймой. Из-за внезапного изменения направления ветра отравлению газами подверглись около полусотни русских солдат, из которых трое погибли. В шесть утра загрохотала артиллерия. После пятичасовой артподготовки пехота XI корпуса пошла в атаку. Следующие пять дней раскачивался кровавый маятник в полосе главного удара. 28 мая перешли в наступление полки 82-й дивизии от села Шиловцы в направлении на Черновцы с севера. Австро-венгерская оборона не выдержала, противник начал откатываться назад. К первому июня части 103, 82, 32, 12-й дивизий вышли на рубеж реки Прут.
(Начальником штаба 12-й дивизии был в это время генерал-майор Снесарев. Старший унтер 82-й дивизии Чапаев и генерал Снесарев воевали по соседству. Через два года, в июне 1918 года, красный командир Чапаев и военспец Снесарев снова окажутся почти соседями на фронте Гражданской войны в Поволжье. Но – российские расстояния! На Днестре соседей разделяли считаные версты; за Волгой – десятки и сотни верст.)
Приказом по 326-му полку от 3 июня старший унтер-офицер 1-й роты Василий Чапаев «за хорошее поведение и твердое знание службы переименовывается в фельдфебели с утверждением в должности такового в названной роте»[315].
А на следующий день полк снова пошел в бой – в обход Черновиц с востока, с форсированием Прута. Наступление развивалось успешно. 15 июня подчиненные полковника Чижевского уже вели бои у местечка Куты, в пятидесяти верстах западнее Черновиц.
Из приказа по XI армейскому корпусу от 23 октября 1916 года: «Фельдфебель Василий Иванович Чапаев награждается Георгиевским крестом 2 степени. В бою 15 июня 1916 г. у г. Куты, руководя подчиненными, примером отличной храбрости и мужества, проявленным при взятии занятого неприятелем укрепленного места, ободрял и увлекал за собой своих подчиненных и, будучи опасно ранен, после сделанной ему перевязки, вернулся в строй и снова принял участие в бою»[316].
Из строк приказов складывается образ двадцатидевятилетнего Чапаева. Отважно храбр. Пуль не боится, в тыл не стремится, по лазаретам не отлеживается. Бойцов умеет увлечь за собой. Энергичен. Службу знает. Из других источников добавим штрихи к портрету. Физически крепок, неутомим. Любит командовать, бывает при этом груб по-фельдфебельски. За словом в карман не лезет. Для лучшего убеждения может употребить и кулак.
Командир полка имел все основания рекомендовать Чапаева к производству в подпрапорщики, что открывало далее путь к офицерскому чину.
Состоялось ли это производство – неизвестно, так же как невыясненной осталась история четвертого чапаевского Георгиевского креста. Мемуаристы упоминают и о том и о другом, но соответствующие документы не найдены.
В августе 1916 года Чапаев был ранен шрапнелью в ногу. Очевидно, рана оказалась тяжелой. В сентябре из полевого лазарета он перевезен в тыловой госпиталь в Херсон. С 1 января 1917 года числится в команде выздоравливающих.
Чапаев, так же как и Унгерн, встретил известие о революции и об отречении государя в вынужденном отдалении от фронта. Барон был отставлен от службы по причине невменяемого буйства своего характера, поволжский плотник – по ранению. Оба пытались вернуться в строй вскоре после Февральской революции. По-видимому, Чапаев уже не мог жить без регулярного опьянения боем, как и Унгерн. Усидеть в тыловом покое не дано человеку, заболевшему войной. В марте 1917 года фельдфебель Чапаев, «как изъявивший желание отправиться в действующую армию», был откомандирован в 138-й запасный полк с предоставлением ему двадцатипятидневного отпуска для свидания с родными.
Однако на фронт мировой войны он не вернулся.
С этого времени – с весны 1917 года – его биография на какое-то время теряет документальные контуры за дымовой завесой мемуарных домыслов и литературных вымыслов. Бурный семнадцатый год скрыл истинные факты жизни Чапаева, так же как и переломные события в судьбе Унгерна. Как будто оба они ушли в темную утробу истории, чтобы заново родиться в сиянии собственного мифа.
Определенно можно сказать, что за эти девять месяцев – с апреля по декабрь 1917 года – в жизни Чапаева произошли два поворотных события. Он расстался с женой и вступил в партию большевиков.
О первом из этих событий мы знаем только то, что сохранили семейные предания. По версии дочери Чапаева, ее мать в 1917 году окончательно ушла от мужа; детей забрал отец. В изложении внучки и правнучки Чапаева акценты смещаются: отец приехал с фронта, убедился в неверности жены, ссориться и буйствовать не стал, детей забрал с собой, в родительский дом. Из тех же источников известно, что в скором времени Василий Иванович стал жить с другой женщиной, тоже Пелагеей, – вдовой его погибшего фронтового товарища унтер-офицера Камишкерцева. Дети Чапаева сохранили о ней не особенно благоприятные воспоминания. Она вроде бы тоже в скором времени изменила Чапаю, и он застал ее с любовником, и они расстались… В общем, история в духе мыльных опер.
Однако семейные передряги не случайно совпали в жизни Чапаева с его политическим перерождением. Это время было такое: все старое шло на слом, новая жизнь утверждала себя в порывах анархической свободы.
К большевикам Чапаев пришел через увлечение анархизмом. Во всяком случае, первые биографы Чапаева, комиссар Дмитрий Фурманов и командир Иван Кутяков, согласно утверждают, что, прибыв в мае 1917 года по предписанию в Саратов в распоряжение воинского начальника, Василий Иванович сдружился с группой анархо-коммунистов. Есть сведения и о его сближении с эсерами. В это время радикально настроенные социалисты-революционеры (будущие левые эсеры) по своим взглядам и методам деятельности мало отличались от анархо-коммунистов.
1917 год был годом триумфального шествия анархизма по всей России. Боевой анархизм торжествовал среди матросов, в тыловых военных частях, в больших городах. Стихийные анархические настроения, подпитываемые эсеровской пропагандой земельного передела, охватывали массы крестьян. Анархизм привлекал простотой социальной концепции, стремительным, не знающим удержу радикализмом, а главное – пьяным воздухом воли. Все – сразу, здесь и сейчас. Всеобщее счастье немедленно. Анархические утопии овладели умами искателей светлого будущего, в том числе и многих большевиков. Четкой границы между леворадикальными партиями – левыми эсерами, большевиками, анархистами – не было.
Фельдфебель, два года оттрубивший в окопах, не мог иметь ясного представления о политических программах этих партий. Но его манил ультрареволюционный лагерь. Здесь первые становились последними и последние первыми. Здесь он, бедняцкий сын, мог вырваться на волю, расправить крылья, которые были мучительно связаны все тридцать лет предшествующей жизни. Стать во главе множеств. Выбиться если не в Наполеоны, то в Пугачевы.
«Чем век падалью питаться – лучше один раз горячей крови напиться». Пугачевский лозунг, вполне понятный и Унгерну, и Чапаеву, и всем им подобным.
Летом 1917 года Чапаев прибыл в городок Николаевск Самарской губернии, к месту дислокации своего запасного полка. Тыловые части все меньше походили на войска, все горяче́е кипели политическими страстями.
Здесь, в Николаевске, Чапаев окончательно примкнул к большевикам. Чистый анархизм с его неуправляемой раздробленностью, бесконечным брожением индивидуальных воль бесперспективен для кандидата в вожди. На переломе своей жизни Чапай уже ясно ощутил стремление и потребность идти во главе и вести за собой. Для этого годились организационные формы большевизма. Марксистская идеология его мало интересовала. Сознательный марксист Фурманов, познакомившийся с Чапаевым за полгода до его гибели, отмечал в дневнике, что легендарный красный командир крестится перед дорогой и вообще привержен религиозным и прочим предрассудкам. Вера в Бога, по-видимому остававшаяся в его душе (хотя, наверно, в каком-то странном, искаженном виде), не мешала выступать на митингах, увлекать за собой, командовать – словом, ощущать то острое, почти наркотическое блаженство, которое дает власть над массами людей тем честолюбцам, которые созданы для этой власти.
В конце октября, сразу же после большевистского переворота, в Казани состоялся Военно-окружной съезд солдатских Советов. Чапаев – среди его активных участников. По возвращении в Николаевск он вскоре становится одним из лидеров бурлящего гарнизона. 13 декабря, во исполнение декрета советской власти о выборности командиров воинских частей, собрание представителей гарнизона избирает Чапаева командиром полка. Еще через несколько дней на совместном заседании депутатов уездных крестьянских, рабочих и солдатских Советов Чапаев избран (надо набрать воздуху в грудь, прежде чем выговорить) членом Совета народных комиссаров Николаевской уездной трудовой социалистической коммуны и комиссаром внутренних дел. 20 января 1918 года он во главе отряда вооруженных солдат ликвидирует уездное земство и разгоняет пулеметными очередями антибольшевистски настроенную толпу. Это напоминает – в несколько карикатурном, правда, уездно-заволжском виде – и 18 брюмера Наполеона Бонапарта с артиллерийской стрельбой на улицах Парижа, и разгон Учредительного собрания в Петрограде, совершившийся 6 января 1918 года.
После этих грозных событий Василий Иванович Чапаев становится военным комиссаром (почти военным диктатором) Николаевского уезда. Он носится по всему уезду с верными красногвардейцами, наводит новый, социалистический порядок, подавляет вражеские выступления. По его же инициативе город Николаевск переименовывается в Пугачев. Новое имя говорит само за себя.
А кругом, как пожар сухим летом в степи, разгорается Гражданская война. Из остатков демобилизованного 138-го полка формируется 1-й Николаевский батальон Красной армии – три сотни бойцов во главе с Чапаевым. К концу марта батальон переименован в полк (он же – 2-й Николаевский партизанский отряд) численностью до тысячи штыков и сабель. В апреле Чапай ведет свой полк на войну с отрядами уральских казаков, поднявших восстание против Советов. Боем у хутора Овчинников 26 апреля 1918 года начинается история красного командира Чапаева и его войска. История такая же стремительная, как монгольская эпопея Унгерна, – всего 498 дней.
В те времена все совершалось стремительно.
Степная война летучих отрядов перерастала в войну армий и фронтов. Уже в конце июня войско Чапаева именуется Николаевской бригадой в составе Особой армии командарма Ржевского. Названия менялись, известность командира Чапая росла. Поход на Уральск, потом бои с армией Комуча[317], с чехословаками, снова с уральскими казаками, оборона Николаевска-Пугачева. Осенью 1918 года Чапай вырастает до командира дивизии. Впрочем, его дивизию называют то бригадой, то партизанским отрядом. Наступление на Симбирск, на Самару. Лихие рейды, окружение у села Покровка, прорыв и выход из окружения; неповиновение командованию армии и фронта, мобилизации и реквизиции, расстрелы пленных, расправы с населением, конфликты с начальством вплоть до председателя Реввоенсовета республики Троцкого. Воюет он со всеми: оружием – с казаками и с чехами; бумажной артиллерией – со своими командармами: Ржевским, затем Хвесиным.
Вскоре у Чапая появился еще один враг – Академия. В ноябре 1918 года решением Реввоенсовета 4-й армии он был направлен на учебу в Москву, в только что созданную Академию Генерального штаба РККА. Возможно, и даже очень вероятно, что за этим решением стояло желание командования армии и фронта избавиться от самостийного командира, поддерживаемого лично ему преданной дивизией. Перед его отъездом бойцы устроили митинг. Над шумной красноармейской толпой реял кумачовый транспарант: «Да здравствуют НАШИ ВОЖДИ – ЛЕНИН И ЧАПАЕВ!»
За учебным столом степной Бонапарт просидел недолго.
Рапорт Чапаева на имя члена Реввоенсовета 4-й армии Восточного фронта Гавриила Давыдовича Линдова от 24 декабря 1918 года (особенности орфографии сохранены):
«Прошу Вас покорно отозвать меня в штаб 4 Армии на какую-нибудь должность командиром или комисаром в любой полк, так что я преподаванье в Академии мне не приносит никакой пользы, что преподаю[т] я ето прошол на практеки, вы знаети, что я нуждаюсь в общеобразовательном цензе, которого здесь я не получаю. И томится понапрасно в стенах я не согласин, ето мне кажится тюрмой и прошу еще покорно не морить меня в такой неволи. Я хочу работать, а не лежать, и если вы меня не адзовети, я пойду к доктору, который меня освободит, и я буду лежать бесполезно, но я хочу работат и помогат вам, если вы хотите, чтобы я вам помогал, я с удовольствием буду к вашим услугам. Так будети любезны выведети меня из етих каменых стен. Уважающий вас Чепаев»[318].
В феврале 1919 года он уже в Николаевске-Пугачеве. Был ли Чапаев официально отпущен из Академии или ушел самовольно – так и осталось невыясненным.
В марте 1919 года Чапаев назначен командующим Александрово-Гайской группой войск в составе Туркестанской армии Фрунзе, а затем, очень скоро, – начальником 25-й стрелковой дивизии, основу которой составляли его родные Николаевские полки. Комиссаром в дивизию Чапая был прислан молодой коммунист и начинающий революционный писатель Дмитрий Фурманов.
Из дневника Фурманова – о Чапаеве. 1919 год. Надо, однако, учесть, что это дневники отредактированные: кое-что сглажено, кое-что изъято.
26 февраля (до назначения комиссаром в 25-ю дивизию). «Действия Чапая отличаются крайней самостоятельностью; он ненавидит всевозможные планы, комбинации, стратегию и прочую военную мудрость. У него только одна стратегия – пламенный могучий удар. Он налетает совершенно внезапно, ударяет прямо в грудь и беспощадно рубит направо и налево. <…>
Высказывались опасения, как бы он не использовал своего влияния и не повел бы красноармейцев, обожающих своего героя, на дела неподобные. Политически он малосознателен. Инстинктивно чувствует, что надо биться за бедноту, но в дальнейшем разбирается туго».
9 марта (сразу после назначения). «…Я увидел впервые Чапаева. Передо мною предстал типичный фельдфебель, с длинными усами, жидкими, прилипшими ко лбу волосами; глаза иссиня-голубые, понимающие, взгляд решительный. Росту он среднего, одет по-комиссарски, френч и синие брюки, на ногах прекрасные оленьи сапоги. <…> Он ориентируется весьма быстро и соображает моментально. Все время водит циркулем по карте, вымеривает, взвешивает, на слово не верит. Говорит уверенно, перебивая, останавливая, всегда договаривая свою мысль до конца. Противоречия не терпит. Обращение простое, а с красноармейцами даже грубоватое…
Я подметил в нем охоту побахвалиться. Себя он ценит высоко, знает, что слава о нем гремит тут по всему краю, и эту славу он приемлет как должное»[319].
Июнь: «Он может быть решительным не только на благородные, но и на подлые поступки»[320].
А вот записи в дневнике Фурманова, показывающие нам Чапаева почти в образе Унгерна (то же бесстрашие, упование на удачу; те же методы управления людьми и, оказывается, те же безграничные амбиции).
26 февраля. «В случае нужды – Чапай подымает на ноги всю деревню, забирает с собой в бой всех здоровых мужиков, снаряжает подводы».
29 марта. «Особенное же удовольствие доставляют ему воспоминания из боевой жизни, когда он подымал двести – двести пятьдесят человек в одном белье и отымал только что потерянные пулеметы, отымал почти голыми руками, благодаря исключительно смелому натиску.
Ворвался однажды в селение, где были уже чехи; те открыли пальбу – ускакал. Под Уральском был окружен превосходными силами, перепорол комиссаров и командиров за бездеятельность, поднял всех на ноги и вывел без потерь».
9 сентября (Чапай беседует с Фурмановым).
«– Наполеон командовал всего 18–20-ю тысячами, а у меня уж и по 30 тысяч бывало под рукой, так что, пожалуй, я и повыше него стою. Наполеону в то время было легко сражаться, тогда еще не было ни аэропланов, ни удушливых газов, а мне, Чапаеву, – мне теперь куда труднее. Так что моя заслуга, пожалуй что, и повыше будет наполеоновской… В честь моего имени строятся народные дома, там висят мои портреты. Да если бы мне теперь дали армию – что я, не совладею, что ли? Лучше любого командарма совладею!
– Ну, а фронт дать? – шучу я.
– И с фронтом совладею… Да все вооруженные силы Республики, и тут так накачаю, что только повертывайся…
– Ну, а во всем мире?
– Нет, тут пока не сумею, потому что надо знать все языки, а я, кроме своего, не знаю ни одного. Потом поучусь сначала на своей России, а потом сумел бы и все принять. Что я захочу – то никогда не отобьется…»[321]
В этих записях, при всей их литературности, при всей идеологической ангажированности, – живой Чапаев. Человек сложный, опасный, ярый, неповторимый.
Образ Чапаева среди героев и антигероев мировой войны и русской смуты, пожалуй, выделяется своей противоречивой человечностью. Человеческое – не только добро, но и зло, не только величие, но и жестокость. В Чапаеве эти противоположности соединены живо. Он суров к врагам, но не свиреп; он не зверствует попусту. Он не гонит толпы людей на верную смерть, не рвется по трупам к власти. Он может быть и жесток, но в меру своей храбрости. У него немало слабостей и недостатков, но эти недостатки – теплые, понятные, свойственные людям, а не богам, идолам и вождям. Он вспыльчив и отходчив; он необразован, малограмотен, у него не клеится семейная жизнь… Он может быть даже смешон. При этом в нем есть что-то отцовское. Он – из тех, кого в нынешней нашей армии прозывают «батя». Не батька-атаман, как Шкуро или Балахович, а батяня-начдив. Тот, кто своих в обиду не даст, с кем в бой идти весело и в поход не так тяжко.
Насколько этот образ соответствовал действительности, не имеет значения. Именно таким увидели, приняли и запомнили Чапаева несколько тысяч его бойцов, а вслед за ними и весь остальной народ (да, здесь уместно употребить это слово – «народ», ибо Чапаев действительно стал народным героем). Даже для врагов, для белых и казаков, он именно тем и был опасен, что разрушал сложившийся по их сторону фронта стереотип красного командира – свирепого мучителя, насильника, беспринципного демагога и узколобого доктринера.
Но ведь и большевистскому руководству, новой военно-партийной бюрократии, укрепляющейся тем быстрее, чем ближе была победа Красной армии в Гражданской войне, такой Чапаев был не нужен, неприятен, опасен.
Он должен был погибнуть.
В начале апреля Чапаев вступил в командование 25-й дивизией.
Следующие пять месяцев он идет от победы к победе.
Вокруг него все заметнее былинно-сказовое сияние. Он непобедим, он неуязвим. Рассказывают: после боя Чапаев входит в избу, снимает с себя шинель и вытрясает. Все пули, что за день в него попали, вытряхиваются. Точно так же, как барон Унгерн с семьюдесятью пулями в дээле.
Его походы, броски и атаки в эти пять месяцев, с апреля по август 1919 года, – как разбег перед взлетом.
Взятие станицы Сламихинской[322] на пути из Александрова-Гая на Лбищенск. Переброска на Бугурусланское направление, удар с юга на Бугуруслан, выход в район юго-восточнее Бугульмы с разгромом частей Западной армии Колчака; в середине мая – поворот на Белебей и Уфу. (Заметим: Бугурусланская операция осуществлялась в тесном взаимодействии с 5-й армией Тухачевского; общее руководство осуществлял главком Востфронта Каменев.) 18 мая взят Белебей. Затем – форсирование реки Белой севернее Уфы. Чапаев ранен в голову выстрелом с аэроплана. Пуля на излете не пробила череп, ее удалось сразу же извлечь. 9 июня взята Уфа. Затем – вновь переброска к югу и наступление на Уральск. Чапаев – во главе ударной группы войск (четыре бригады и два кавдивизиона). 11 июля Чапаев в Уральске. Казачья армия генерала Толстова отходит вниз по реке Урал, к Лбищенску. Группа Чапаева развивает наступление. 9 августа взят Лбищенск. Никто еще не знает, что этот городок станет последней географической точкой жизненного пути Чапаева.
16 августа в бою за форпост Мергеневский под Чапаевым ранена лошадь. Форпост взят 19 августа. 24 августа взята станица Сахарная.
31 августа из занятого войсками Толстова поселка Каленого в степь вышел отряд казаков: около двух тысяч человек с пулеметами и двумя пушками. Отряду ставилась задача: скрытно добраться до реки Кушум, по ней выйти на дорогу Сламихинская – Лбищенск и нанести внезапный удар с тыла по Лбищенску, где расположен штаб группы Чапаева. Отряд делал переходы по ночам, в светлое время скрывался в зарослях по берегам Кушума. Красная разведка не обнаружила передвижения отряда. Перед рассветом 5 сентября казаки ворвались в Лбищенск. Нападение было настолько внезапным, что красноармейцы не смогли оказать серьезного сопротивления. Что и как происходило в эти часы – установить невозможно. Штаб был полностью разгромлен, отдельные очаги сопротивления подавлены. В бою погиб один из командиров казачьего отряда, полковник Бородин.
Чапаева не удалось взять живым; тело его не было найдено среди убитых. По всей вероятности, он с несколькими бойцами сумел выбраться из полуокруженного штаба, был ранен, пытался переправиться через реку Урал, причем был ранен вторично, и на сей раз смертельно. На левом берегу Урала его, по-видимому, наскоро похоронили на том месте, где он скончался. Установить это место впоследствии так и не удалось.
Кто с кем воевал в Гражданской войне?
Вопрос прост, а простого ответа на него нет.
Цвета русского знамени разделились, закружились, окрасились кровью, забрызгались грязью, смешались в калейдоскопической круговерти.
Менялись эмблемы, принципы, лозунги. Вожди и армии появлялись мгновенно и исчезали в считаные недели. Целые полки с командирами переходили с одной стороны линии фронта на другую. Да и линии фронтов превратились в пунктиры и точки, стали такими же неуловимыми, как порывы ветра или языки пламени.
Переменчивая действительность Гражданской войны не оставляет камня на камне от традиционных репутаций многих красных и белых героев.
Главарь-братишка революционных матросов большевик Дыбенко весной восемнадцатого года участвовал в попытках антибольшевистского эсеро-анархистского переворота в Самаре. Первый красный командарм Муравьев был застрелен при попытке поднять в Симбирске мятеж против советского правительства. Забайкальский атаман Семенов вешал комиссаров и как мог боролся с Колчаком. Махно и Григорьев, люто враждуя между собой, то гордо именовались красными командирами, то беспощадно рубили красных в лапшу. А Буденному уже на исходе Гражданской войны комиссары ставили в вину, что его Конармия действует под лозунгом: «Бей жидов и коммунистов!»
Одна из многоцветных фигур того безумного времени – уланский штаб-ротмистр, красный командир, белый полковник, «зеленый генерал», «псковский батька» Булак-Балахович. Он оставил о себе долгую память в Белоруссии, на Псковщине, в Лужских и Гдовских пределах. Он орудовал и под красным, и под белым, и под черно-синим эстонским знаменем; не гнушался зеленым цветом крестьянской вольницы; закончил же войну под красно-белым флагом Речи Посполитой Польской.
Его полного послужного списка нет ни в одном архиве, ибо Станислав Никодимович Бэй-Булак-Балахович службу проходил в разных государствах, по разные стороны различных фронтов. Да и службой деятельность такого рода порой назвать затруднительно.
Его биография до Первой мировой войны известна главным образом с его же слов, и что тут правда, что ложь – установить нелегко.
Сложности начинаются с анкетных данных. В немногочисленных дореволюционных источниках его фамилия пишется просто – Балахович, и вполне возможно, что двойной и даже тройной варианты выдуманы им для звучности и аристократизма. В документах времен службы в Войске польском (после 1920 года) он сам и его родители записаны католиками. В послужном формуляре русской армии его отец Никодим Сильвестрович Балахович поименован православным. В этом же документе сословное происхождение определено: «из крестьян Ковенской губернии». Однако сам Станислав Никодимович утверждал, что его отец был шляхетского рода, из потомков татар, переселенных в Литву еще при князе Витовте. Возможно, так оно и было: шляхетский род измельчал, обеднел, его поздние представители, лишившиеся земельных владений, были записаны в крестьянское сословие. А может быть, это такая же выдумка – для придания себе весу, – как и два дефиса в фамилии. Непридуманным представляется автобиографическое указание на то, что его отец, Никодим Балахович, служил кухмейстером (проще говоря, поваром) у богатого помещика и женился на горничной. Мать, Юзефа Шафранек, была католичкой; судя по фамилии, можно предполагать как польское, так и еврейское ее происхождение. От этого брака родились сыновья Станислав и Иосиф (Юзеф). Станислав появился на свет 10 февраля 1883 года в имении Мейшты, близ местечка Видзы Новоалександровского уезда Ковенской губернии (сейчас – Белоруссия, возле литовской границы). По месту рождения Балахович – земляк Врангеля; по возрасту – ровесник Буденного.
Детство и юность крестьянина во дворянстве прошли без особо примечательных событий. Вскоре после его рождения отец уволился со службы, купил небольшое именьице-хутор. Скромный доход позволял дать сыновьям достойное образование. Где именно учился Станислав – неизвестно. Сведения о его обучении в частной гимназии при костеле Святого Станислава в Петербурге не подтверждаются документами и противоречат остальным обстоятельствам жизни семьи Балаховичей в Ковенской губернии. Скорее всего, он учился в городском училище в Новоалександровске, а затем в коммерческом училище в Бяльмонтах, окончив которое (по всей вероятности, в 1901 или в 1902 году) получил специальность агронома. По специальности работал года два-три, а в 1904 году устроился управляющим имением графа Платера, в Дисненском уезде Виленской губернии. В этой скромной должности пребывал 10 лет.
Началась мировая война. И с ней – новая жизнь Станислава Балаховича.
Попытаемся реконструировать его послужной список – тот самый, которого нет, – от первых месяцев военной службы до последних лет жизни.
Осенью 1914 года Балахович призван в армию и зачислен рядовым с правами вольноопределяющегося во 2-й лейб-уланский Курляндский полк, запасные батальоны которого формировались в Сувалкской и Виленской губерниях. Полк действовал в составе 2-й кавалерийской дивизии II армейского корпуса 1-й армии и понес большие потери в Восточной Пруссии и на Висле.
Бывший агроном неожиданно обрел себя в кавалерийском деле. Отличился в боях зимой и весной 1915 года, был награжден солдатским Георгиевским крестом четвертой степени и Георгиевской медалью.
В сентябре 1915 года за отличие был произведен в корнеты – заслужил первый офицерский чин. Тогда же, осенью 1915 года, был прикомандирован к отряду поручика Пунина, в котором быстро выдвинулся на должность командира эскадрона. В отряде Пунина не соблюдались правила старшинства и соответствия должностей чинам. Сам Пунин, под началом которого находилось десять офицеров, два десятка унтеров, более трехсот казаков и рядовых при одном артиллерийском орудии, занимал должность, соответствующую чину ротмистра или подполковника; между тем он был только поручик и исполнилось ему всего двадцать три года. Эскадронами командовали сотники, поручики, корнеты.
Балахович в этом вольном воинстве оказался, что называется, на своем месте. Поручик Пунин доносил командованию, что «корнет Балахович показал… огромную храбрость, решительность, редкую находчивость и предприимчивость. В боевой партизанской работе это лихой, незаменимый офицер»[323]. «…Несмотря на отсутствие военной школы, показал себя талантливым офицером, свободно управляющим сотней людей в любой обстановке с редким хладнокровием, глазомером и быстротой оценки обстановки»[324].
За боевыми успехами последовало производство в чины. В начале 1916 года он поручик, через год – штаб-ротмистр. После октября семнадцатого года именовал себя ротмистром, но когда был произведен в этот чин и был ли – неизвестно. Такая же неясность с наградами. По его собственной версии, был награжден семью орденами, тремя солдатскими крестами и медалью; заметим, однако, что такого обилия наград не было ни у Буденного, ни у Унгерна, ни у Слащева, ни у Шкуро, ни у Чапаева, а они в удальстве по меньшей мере не уступали Балаховичу.
Февральская революция ускорила продвижение молодых честолюбцев в чинах; революция Октябрьская сделала его бессмысленным.
Советская власть упразднила чины и награды. Наступает неразбериха и хаос. Балахович вместе со своим коннопартизанским отрядом прорывается из-под Риги к Пскову и в феврале 1918 года вступает в нестройные ряды спешно формируемой Красной армии, в войска Лужского округа завесы. Участвует в организации заслона на пути немцев к Петрограду.
После Брестского мира, с марта по октябрь 1918 года, Балахович – командир 1-го Лужского коннопартизанского полка Красной армии. Летом участвует в подавлении крестьянских волнений («кулацких мятежей») под Лугой.
В октябре 1918 года уводит часть своего полка в оккупированный немцами Псков, где в это время формируются белые войска. После бегства немцев, с ноября 1918 года, ротмистр, а затем подполковник Балахович командует отрядом в составе Северного корпуса белых (командующий – полковник Дзерожинский).
Весной 1919 года – командир «конного полка имени Балаховича», действующего на территории Эстонии в составе эстонской армии генерала Лайдонера.
В том же качестве переходит в русский Северный корпус генерала Родзянко, базировавшийся под Нарвой; произведен в полковники одновременно русской и эстонской армии; активно воюет с красными. С мая по август – фактический военный диктатор Пскова; именует себя «атаманом крестьянских и партизанских отрядов», «командующим войсками Псковского и Гдовского района». Любимый титул – батька.
В июле 1919-го приказом главнокомандующего войсками Северо-Западного фронта генерала от инфантерии Николая Николаевича Юденича произведен в генерал-майоры.
В августе приказом того же Юденича смещен с должности; при попытке ареста скрылся.
Осенью организует крестьянско-бандитские отряды зеленых в районе Печор.
В конце 1919 года – генерал-майор эстонской армии.
В январе 1920 года предпринял неудачную попытку арестовать Юденича.
В марте 1920-го с отрядом бойцов отбыл в Польшу.
Летом – осенью 1920-го, в разгар Советско-польской войны, вместе с Савинковым руководит партизанскими рейдами в тыл красных на территории Белоруссии.
Перемирия, заключенного правительством Польши с Советской Россией, не признал.
В ноябре 1920 года провозглашает себя Начальником Белорусского государства и Главнокомандующим всех вооруженных сил на территории Белоруссии.
После поражения, понесенного от красных, его армия интернирована в Польше; сам Балахович принят на польскую службу в чине генерал-майора.
С 1921 по 1939 год – инспектор кавалерии резерва Войска польского. Живет в собственном имении в Беловежье, занимается коммерцией. С 1928 года – один из руководителей белоэмигрантского Союза защитников отечества.
По некоторым сведениям, впрочем не особенно надежным, в 1936 году состоял при генерале Франко в Испании в качестве консультанта по вопросам ведения разведывательно-диверсионной войны против республиканцев.
Трижды женат; отец двоих сыновей и пяти дочерей.
Убит в 1940 году в оккупированной немцами Варшаве при невыясненных обстоятельствах.
Балахович прожил жизнь не долгую и не короткую: пятьдесят семь лет. При этом главные вехи его биографии укладываются в шесть лет – с 1914 по 1920 год. До этого – тихая, неприметная жизнь провинциального агронома. После – относительно спокойное существование обеспеченного коммерсанта, беловежского помещика, не обремененного служебными обязанностями. Посередине – нечто несусветное: феерические взлеты, авантюры, падения. Взять хотя бы рост в чинах. Осенью 1915 года – корнет, летом 1919 года – уже генерал. За неполных четыре года перескочил через шесть ступенек! Карьера молодого Бонапарта. В мирное время на это ушло бы по меньшей мере лет двадцать пять беспорочной службы.
Балахович принадлежал к породе людей, для которых Гражданская война поистине «мать родна». Только в условиях страшных тектонических взрывов и потрясений, в вихрях революционного пламени и дыма они могут найти себя; тут они – как рыба в воде; вне Гражданской войны и революции это нескладные обыватели, заурядные службисты, посредственности, неудачники, средней руки уголовная братва, а порой просто уличные драчуны да забубенные пьяницы. Степной бандит Котовский, полуграмотная судомойка с уголовными наклонностями Маруся Никифорова, дебошир и картежник, младший офицер «на льготе» Шкура, работник плотницкой артели Чапаев, вечный сотник Унгерн, выгнанный из полка после суда офицерской чести… Подлинные герои своего стремительного и краткого времени. Их объединяет еще одно обстоятельство: помимо ярких легенд, обо всех них сохранились отрывочные и очень противоречивые сведения. Их образы тонут в мифологическом тумане, оценки их личностей и действий варьируют от апологетически-восторженных до инфернально-мрачных.
Все это в полной мере относится к Балаховичу. О его жизни до революции мало что известно; фамилия, национальность и вероисповедание – под вопросом. Под большим вопросом даже его боевая доблесть и личная честность. По словам одних, на германском фронте он «показал себя с самой выдающейся стороны» (поручик Пунин); по мнению других – «ничем не отличился на войне» (член Северо-Западного правительства Маргулиес). Для журналиста издаваемой в Пскове в 1919 году газеты «Новая Россия освобождаемая» он «легендарный Народный Витязь, освободитель Северо-Западной России», «излюбленный вождь народный», который «поднял и лично ведет рати на освобождение белокаменной Москвы». Для бывшего гласного Псковской городской думы, члена белого Северо-Западного правительства Василия Горна – омерзительный тип, фальшивомонетчик, вымогатель и палач, растлевающий души людские зрелищем публичных казней. В одном сходятся все: Балахович – авантюрист, шествующий в ногу с несентиментальным временем.
Борис Викторович Савинков, знаменитый эсер-террорист: «Балахович – лучшая бомба, которая когда-либо была у меня в руках».
Павел Иванович Олейников, красный командир и бывший офицер, перешедший к белым: «Ему нужна война, нужен противник – и только… Война для него поэзия».
Николай Николаевич Юденич, генерал от инфантерии, главнокомандующий войсками Северо-Запада России: «С военной точки зрения Балахович не более как преступник, но все же молодчина и полезен в теперешней обстановке».
Александр Павлович Родзянко, генерал, командующий Северо-Западной армией белых: «Балаховича я сам расстреляю, он не военный человек, он ксендз-расстрига, он разбойник!»[325]
Наиболее объемную характеристику и даже словесный портрет нашего многоцветного героя дает в своем дневнике Мануил Сергеевич Маргулиес, министр снабжения в Северо-Западном правительстве (при Юдениче):
«Завтракал с генералом Булак-Балаховичем. Рассмотрел его подробнее: человек лет 35, среднего роста, сухая военная выправка, стройный, лицо незначительное, широкие скулы, нижняя часть узкая, со слегка прогнотическою челюстью. Уши большие, оттопыренные, глаза темно-серые, лоб правильный, довольно хорошо развитый, ногти плохие, руки грязные. Казацкого покроя военный сюртук, желтые генеральские лампасы (ленточки двух Станиславов, двух Анн, Владимира и двух Георгиев); говорит с польским акцентом, житейски умен, крайне осторожен, говорит без конца о себе в приемлемо-хвастливом тоне… Пьет мало…»[326]
Обратите внимание: оттопыренные уши и грязные руки. Черты внешности литературного подонка, Урии Гипа. В то же время – военная выправка, семь боевых орденов (правда, настоящих ли?). Лицо незначительное. Образ, в котором соединены черты героя и ничтожества. В другом месте Маргулиес пересказывает чьи-то разговоры, в которых ирония смешана с восторгом и страхом: «Балахович – герой: начал наступление с 300 солдатами, теперь у него 12 000… правда, любит подвешивать: „да, любит, любит этак подвешивать, есть грех, но герой“»[327].
Что было, то было. Публичные казни, трупы повешенных на фонарях. Средневековая непосредственность и средневековый размах. То отечески сечет крестьян розгами, то восстанавливает древнюю Псковскую республику, то носится с идеей создания (естественно, под его диктатурой) независимой белорусско-прибалтийской конфедерации.
На путь сих деяний встает весной восемнадцатого – сразу же после подписания Брестского мира.
Принято считать, что главным чаяньем народным в семнадцатом году был мир. События года восемнадцатого заставляют внести коррективы в эти представления. Большинство, конечно, хотело мира; но многие уже не могли жить без войны. В стране и армии накопилось столько людей, привыкших к смертельному риску и к убийству, столько жаждущих «упоения в бою», что их хватило не на одну, а на несколько десятков армий. Правда, армии, составленные из смутьянов, были разительно не похожи на регулярные войска дореволюционной России. Там основой всего были обязательность службы для одних, чины и сословно-корпоративные связи для других, дисциплина и порядок для всех – то есть начала обезличивающие. В вооруженных формированиях, рожденных революцией, на первый план вырвались яркие индивидуальности, люди героические и часто беспринципные, проникнутые духом удалого налета, приносящие кровавые жертвы идолам успеха. Этой братии не война была в тягость, а государственный порядок и обусловленная им армейская косность. Мирный строй не дает возможности талантливым авантюристам реализовать честолюбивые мечты. В 1918 году эти авантюристы превратились в кондотьеров, собиравших вокруг себя отряды (полки, дивизии, шайки, банды) фанатиков, героев, удальцов и подонков. И шли воевать – с кем угодно, под знаменами всех цветов ради ненасытной жажды приключений.
Интересный пример зигзагообразного пути героя «той единственной, Гражданской» – судьба ближайшего соратника Балаховича, боевого офицера, аристократа, палача, бандита и провокатора барона Энгельгардта.
Энгельгардт Борис, из дворян, год рождения 1889-й. Род Энгельгардтов – знаменитый. Остзейцы, потомки крестоносцев, эстляндские бароны, а с XVIII века – смоленские помещики, родня самого Потемкина, они обладали широчайшими связями в светском обществе Петербурга. Один из Энгельгардтов, Егор Антонович, был директором Царскосельского лицея и наставлял шалуна Пушкина на путь истинный. В роскошном особняке другого Энгельгардта, Василия Васильевича, расположенном на углу Невского проспекта и Екатерининского канала, во времена Николая I устраивались многолюдные и блистательные маскарады. Могущественный Константин Петрович Победоносцев в немолодые уже годы женился на юной красавице Екатерине Александровне, урожденной Энгельгардт. И так далее. В общем, славный род.
Нет ничего удивительного в том, что молодой небогатый отпрыск баронской династии был принят на службу в лейб-гвардии Семеновский полк. В начале XX века этот полк считался в гвардии самым демократичным, хотя и благородным. Здесь служили и титулованные выпускники Пажеского корпуса, и бедные провинциальные дворяне. Среди последних – Михаил Тухачевский. Так эстляндский барон Энгельгардт оказался с сыном помещика и крестьянки Тухачевским под одной крышей – в казармах на Загородном проспекте.
К началу войны они оба подпоручики. Отношения не то чтобы дружеские, но приятельские. Оба – участники тесного и весьма вольнодумного офицерского кружка. О Тухачевском в этом кружке шепотом рассказывали, что еще юнкером, удостоенный на смотре царского рукопожатия, красавец Миша, рисуясь, говорил товарищам: «А здорово было бы его, государя, тут же и убить!» Но началась война. Близ Ломжи, в том самом бою, в коем Тухачевский попал в плен, младший офицер 5-й роты Энгельгардт был тяжело ранен.
Он вернулся в строй. Воевал. И вот – революция, советская власть, перемирие, грядущая демобилизация. Но идти домой, коротать век тихим обывателем – не хотелось. Энгельгардт, имевший уже к тому времени чин капитана, остался в полку. Надо заметить, что Семеновский полк проявил среди всей гвардии наибольшую лояльность к новой власти. В начале 1918 года он почти в полном составе влился в Красную армию, охранял Наркомфин и Госбанк и позднее был преобразован в Полк охраны имени товарища Урицкого. И оставался таковым, пока весной 1919 года, тоже в полном составе (как говорится, под фанфары), не перешел возле поселка Выра под трехцветные знамена Северного корпуса генерала Родзянко…
Между тем в охваченную революционным сумбуром Россию вернулся бежавший из немецкого плена Тухачевский. Летом восемнадцатого он – командир красных соединений на Восточном фронте. Энгельгардт решил напомнить о себе старому другу. Он пробирается через бушующую страну из голодного Петрограда в Поволжье, находит однополчанина. Стремительно растущий «красный Бонапарт» Тухачевский в это время уже командир 1-й Революционной армии, ведет операции против Народной армии Комуча, против Чехословацкого корпуса. Энгельгардта он охотно берет под свое крыло, назначает командиром дивизии. Осенью 1918 года бывший барон участвует в боях на Сызрано-Самарском направлении. Его дивизия вносит решающий вклад в ход операции, закончившейся разгромом антибольшевистских сил. Командарм Тухачевский шлет в Реввоенсовет республики донесения, где расписывает воинские таланты и преданность делу революции красного комдива товарища Энгельгардта. Его даже вроде бы собирается наградить именным оружием сам Троцкий. И тут – красный комдив исчезает.
В то время положение Советской республики было крайне неустойчивым. Однопартийная диктатура установлена… Но где? В Москве, Питере, в нескольких городах и губерниях Центральной России. На всем остальном пространстве развалившейся империи уже вовсю полыхала всеобщая война. По стране из конца в конец носились никем не управляемые и не контролируемые «повстанческие» и «добровольческие» «армии», «дивизии», «отряды», возглавляемые удачливыми атаманами. Им было все равно, под каким знаменем убивать и грабить. Больше нравились, конечно, те знамена, под которыми можно было начисто забыть о дисциплине и ответственности. Пока самым вольным было красное знамя, пока оно пламенело символом разрушения старого мира, эти авантюристы и честолюбцы, пассионарии и отморозки охотно вливались в Красную армию – целыми отрядами, во главе с атаманами. Когда с осени восемнадцатого Реввоенсовет республики, руководимый Троцким, начал наводить в армии порядок, восстанавливать дисциплину, добиваться хоть какой-то управляемости – они так же, строем, под звуки маршей, стали уходить к белым. Надо сказать, что Белое движение осенью того года было дезорганизовано страшно. Между его руководителями, лидерами партий, генералами, этническими вождями и денежными тузами шла неостановимая грызня. Порядка по ту сторону дырявого фронта было еще меньше, чем по эту. Искателям приключений, безумцам и уголовникам становилось тем вольготнее у белых, чем опаснее у красных.
Через несколько недель после исчезновения из ставки Тухачевского Энгельгардт появляется – но где! В ставке Деникина! Большевики скрежещут зубами, но ничего поделать не могут. (Кстати, в окружении Деникина имелся свой Энгельгардт, тоже Борис, по отчеству Александрович, полковник, офицер Осведомительного агентства.) Нашему Энгельгардту тут нет доверия: в деникинском штабе хорошо знают, что пару месяцев назад он лихо воевал под красным знаменем на Сызранском направлении. Энгельгардт покидает негостеприимный кров и кружным путем пробирается в Эстонию. Там на деньги англичан и французов идет формирование белых войск. Много офицеров, но еще больше перебежчиков с красной стороны. Недавно к белым перебежал со своим полком Балахович. Барона Энгельгардта крестьянский сын Балахович радостно принимает к себе, производит в подполковники и назначает начальником контрразведки.
В Пскове Энгельгардт – правая рука батьки и главный его помощник по части заплечных дел. Он ведет допросы всех подозрительных личностей – воров, жидов и коммунистов. Но самыми подозрительными, с точки зрения его и Балаховича, личностями являются те, у кого есть что взять. Аресты, допросы и розги – до тех пор, пока не откупятся деньгами или иным добром. Особенно широко такого рода меры применялись по отношению к небедному псковскому еврейству. Впрочем, не меньше интересовали псковскую контрразведку зажиточные крестьяне окрестных деревень. Барон, потомок разбойных рыцарей-меченосцев, на пару с потомком литовского татарина орудуют теми же методами, что их предки в далеком XIII веке. Правда, оформлен разбой вполне в буржуазном духе: «Г[ражданину] (такому-то). По приказанию командующего войсками Псковско-Гдовского района предлагаю прибыть в штаб, помещающийся в здании Земского банка, к 5 часам вечера. Офицер для поручений подполковник Энгельгардт». На этой же бумажке снизу красноречивая приписка: «От гражданина… (того же самого) 20 000 (двадцать тысяч) рублей получил»[328]. Дата. Подпись.
Но денег и ценностей, награбленных у псковичей, не хватает. Энгельгардт участвует еще в одной прекрасной авантюре Балаховича. В глубокой тайне, в надежно охраняемых подвалах бывшего Земского банка они начинают печатать фальшивые деньги, старые «керенки», имевшие тогда еще хождение по обе стороны линии фронта, и купюры Северо-Западного правительства, обеспечиваемые поддержкой Антанты (так называемые крылатки). Если в делах застеночных еще можно усмотреть возрождение благородного разбойного промысла рыцарственных предков, то теперь перед нами обыкновенная уголовщина. Лейб-гвардеец и красный командир превращается в фальшивомонетчика.
За все эти деяния новый главнокомандующий Северо-Западной армией Юденич производит Балаховича в генерал-майоры, а Энгельгардту достаются полковничьи погоны. Но судьба – индейка. Готовясь к решающему наступлению на Петроград, Юденич начинает наводить порядок в тылу. Терпеть самостоятельного псковского диктатора и его буйную команду он более не намерен. В Псков врывается отряд бронемашин, посланный для того, чтобы установить здесь власть главнокомандующего. Балахович бежит к эстонцам, офицеры его штаба, в том числе Энгельгардт, арестованы. Им грозит суд… Проходит еще два месяца. Наступление, поражение и гибель армии Юденича совершаются с поразительной быстротой. Барон снова на свободе.
Но в Эстонии ему не сидится. Он мчится в Польшу. Там в 1920 году он вступает в вооруженные формирования «Народного союза защитников Родины и свободы», создаваемые для борьбы против красных войск Тухачевского (старый знакомый!) эсером Савинковым и «русским витязем» Балаховичем. Уже Польша заключила мир с большевиками, но Савинкову, Балаховичу и Энгельгардту никакие мирные договоры не указ. Ранней весной 1921 года их войска небольшими партизанскими группами вторгаются на территорию Советской Белоруссии. Тут даже Савинков ужаснулся. Балахович и Энгельгардт действуют дерзко, смело, жестоко. Обходя города, нападают на села, грабят крестьян без зазрения совести, жгут сельсоветы; совработников, коммунистов, учителей, комсомольцев вешают на деревьях, режут, топят в болотах. Несколько месяцев отряд Энгельгардта был ужасом Белоруссии.
Но красные и тут победили. Бросив остатки отряда, Энгельгардт едет на историческую родину, в Эстонию. Живет в Таллине. Другой потомок рыцарей, барон Врангель, назначает Энгельгардта руководителем эстонского отделения Российского общевоинского союза (РОВС). Союз этот ставит перед собой одну задачу – непримиримую борьбу с большевизмом. Диверсии в Совдепии, теракты против руководителей Красной армии и Советского государства – его основные методы. Для этого необходимо создавать белогвардейское подполье на территории СССР. Эстония – удобнейший плацдарм для переброски через границу, в Совдепию, своих людей. Энгельгардт принимает в этой работе активное участие. Но агентов РОВС в Советском Союзе преследуют провалы. Ни Врангель, ни сменивший его Кутепов так и не разгадали одной из существенных причин краха своих начинаний. Их представитель в Эстонии полковник Энгельгардт с 1923 года тайно и тесно сотрудничает с ВЧК – ОГПУ. Высокородный барон, ко всему прочему, становится двойным агентом и провокатором.
Вся эта история закончилась закономерно. В сентябре 1939 года немцы и коммунисты поделили между собой Польшу; летом 1940 года советские войска вошли в Эстонию. Энгельгардт был арестован и расстрелян, невзирая на агентурные связи с ВЧК – ОГПУ – НКВД. Впрочем, к этому времени та же участь постигла всех тех, с кем он контактировал в этой организации. В те же дни Балахович был убит в оккупированной немцами Варшаве. Нелишне напомнить, что бывший однополчанин и покровитель, а впоследствии боевой противник Энгельгардта Тухачевский был расстрелян тремя годами раньше по обвинению в военном заговоре и шпионаже в пользу Германии.
Энгельгардтова эпопея – дубль истории Балаховича. Только начальные условия у них разные, а развитие и финал близки, как две колеи одной дороги.
В 1917 году, во время подъема революционной волны, Балахович стремится к тому берегу, где ярче горят огни грядущих возможностей. Осенью, после захвата немцами Риги и развала фронта, он уводит часть своего эскадрона к Пскову и Луге. Заключено перемирие; Балахович со своими бойцами, спаянными двухлетней партизанщиной, переходит на службу к Советам. В феврале 1918 года объявлена демобилизация, но Балахович не складывает оружия. Через две недели, в дни немецкого наступления на Петроград, он со своим отрядом, вняв ленинскому воззванию: «Социалистическое отечество в опасности!» – присоединяется к частям завесы. Мир подписан – он с тем же отрядом, увеличившимся за счет сотен бродячих искателей «фарта», вступает в формирующуюся Красную армию. Он выслуживается перед новой, еще не устоявшейся властью, надеясь, надо полагать, на блистательную карьеру. Сделался же прапорщик Крыленко Верховным главнокомандующим – чем штаб-ротмистр Балахович хуже?
И дела его пошли в гору. В марте, по личному решению Троцкого, он командир 1-го коннопартизанского Лужского полка. Под его началом – 1121 боец. Сила! (Впрочем, по словам недоброжелателей, людей у него втрое меньше, но довольствие от народных комиссаров он получает на тысячу с лишним.) О военных подвигах полка и красного командира Балаховича сведений ничтожно мало. Если таковые и были, то впоследствии их постарались стереть: советским командармам и военным историкам было неудобно вспоминать, как белобандит Балахович восемь месяцев воевал под красным знаменем. Мы уже упоминали о том, как он участвовал в осуществлении продовольственной диктатуры и подавлял кулацкие мятежи в Лужском уезде. В докладе военного комиссариата Петроградской губернии за август 1918 года говорится, что «отрядниками Балаховича вырубались шашками целые селения». Лихо работали. Но для нашего героя это была только проба сил. Звездный час его был впереди.
В 1918 году политическая ситуация менялась еще стремительнее, чем в 1917-м. К осени положение большевиков представлялось катастрофическим. Их разношерстные враги наступают со всех сторон. Внутри кольца фронтов – хаос, голод, мятежи, теракты. Убиты Урицкий и Володарский, ранен Ленин. Большевистское руководство на грани раскола; цепляясь за власть, оно делает террор главным инструментом своей политики. Командиры разбегаются из Красной армии, уводя с собой целые полки. С командной должности уходит надежда военспецов Бонч-Бруевич, а его генеральскую квартиру в Чернигове со всей обстановкой экспроприирует местный Совдеп. На границах Советской республики набирают войска генералы, атаманы и полковники, именующие себя белыми. При благожелательном нейтралитете германских властей, доживающих последний час, в Пскове формирует добровольческую Северную армию генерал-майор Вандам (Едрихин[329]).
Решение созрело. 26 октября Балахович в своем штабе под Лугой устроил пир по случаю приезда приятеля – комиссара ВЧК Петерса. Пили все – и командиры, и бойцы. Ночью после попойки Балахович разоружил ненадежную часть похмельного полка, а с остальной, надежной частью (четыре с половиной сотни) ушел по направлению к Пскову. 2 ноября отряд Балаховича уже отдыхал в древнем городе, готовясь влиться в армию Вандама-Едрихина.
Примечательный факт, характеризующий особенности русской смуты. Контакты Балаховича с красными и с ЧК не прервались, и сам себя он никогда не называл белым. Маргулиес уверенно пишет, что он «все время поддерживает связь с тылом большевиков, где имеет эмиссаров». По словам Горна, выступая перед обывателями в Пскове, Балахович кричал: «Я командую красными еще больше, чем белыми!»
Но при этом: «Коммунистов и убийц повешу до единого человека!» – таково продолжение речи Балаховича, цитируемой Горном[330]. Осуществить эту программу Станиславу Никодимовичу удалось не сразу. 15 ноября поверженные собственной революцией германцы бежали из Пскова, вслед за ними по направлению к эстонской границе ушли добровольцы Северной армии. 25-го в город вступили красные.
Добровольцы прогнали Едрихина, но и Балаховичу не удалось встать во главе собранной полуармии. С малым своим отрядом он самостоятельно действует в окрестностях Печор: коммунистов вешает, кулаков раскулачивает. По льду Чудского озера совершает разбойничий налет на Гдов, где захватывает заготовленное красными снаряжение, продукты и кучу денег. (Где-то здесь, на Печорском или Гдовском направлении, в составе красных частей против балаховцев воюет бывший штабс-капитан и кавалер пяти орденов Михаил Зощенко.) К весне «полк» Балаховича, уже в составе армии Эстонской республики (главнокомандующий – бывший подполковник Лайдонер), хозяйничает на восточном берегу Чудского озера, проделывая те же операции с эстонцами. В апреле – наступление красных; вместе с эстонскими войсками Лайдонера в его отражении участвует бывшая Северная армия, преобразованная в корпус (по численному составу полк: 3 тысячи штыков и сабель, 83 пулемета, 15 орудий). В районе Васкнарвы успешно воюет Балахович. В мае белые переходят в наступление. Главные силы Северного корпуса под командованием генерала Родзянко (племянника бывшего председателя Государственной думы) берут Ямбург (ныне Кингисепп) и Волосово. 15 мая полковник Балахович (опять сам по себе) стремительно врывается в Гдов; красноармейцы бегут, сдаются, сотнями вступают в его полк. Комиссары повешены на деревьях, кого-то балаховцы расстреливают в пригородном лесу. Чудская флотилия, стоящая поблизости от Гдова, в селе Раскопель, почти в полном составе, вместе с красным командиром Нелидовым, переходит на сторону Балаховича. Он мчится дальше. С одним неполным эскадроном – к Пскову. Не успел: 25 мая, преследуя бегущих красных, в Псков вошли эстонцы. Он все же въехал в город на белом коне – 29 мая. Через два дня Лайдонер официально и торжественно передал Балаховичу власть над Псковом и всем Псковско-Гдовским районом.
Утро следующего дня красочно живописует Горн:
«– Там, – говорит мне какая-то женщина, – идите на площадь, и на Великолуцкую…
Я пошел и увидел. Среди массы глазеющего народа высоко на фонаре качался труп полураздетого мужчины. Около самого фонаря, видимо с жгучим любопытством, вертелась разная детвора, поодаль стояли и смотрели взрослые… В тот день еще висело четыре трупа на Великолуцкой улице, около здания государственного банка, тоже на фонарях один за другим в линию по тротуару» [331].
Далее Горн резюмирует: «Вешали людей во все время управления „белых“ псковским краем».
О том же, правда не как очевидец, а со слов других лиц, рассказывает Маргулиес:
«Когда Булак-Балахович взял Псков, он задержал всю большевистскую Чрезвычайную комиссию – 34 человека. Вывел их на площадь, куда повалили и псковичи. Булак сказал чекистам речь: „Вы так провинились, что вам больше нет места на земле, считайте себя мертвыми; но если о ком-нибудь из вас кто-нибудь из собравшегося здесь народа скажет доброе слово, что вы кого-нибудь пожалели, с кем-нибудь были милосердны, – того я пощажу“.
Из народа крики: „Всех их казнить!“
– Вы слышите, – сказал Балахович, – приходится вам всем умереть. Пуль у меня нет, они все на учете, и вешать вас у меня некому – все заняты делом. Даю вам полчаса времени – вешайтесь сами.
Все через полчаса повесились»[332].
Именно развешивание граждан на фонарях стало главным символом «балаховщины» в Пскове. Батька (так теперь его требовалось называть) не стеснял себя в этом плане. Если верить многочисленным, как будто написанным под копирку свидетельствам очевидцев, командующий войсками Псковского и Гдовского районов полковник Балахович не без своеобразного юмора осуществлял свою политическую программу.
Пример балаховской революционно-сардонической иронии приводит в воспоминаниях красный боец Н. А. Порозов со слов балаховца-перебежчика:
«Батька Балахович проводил смотр одного из своих полков. Под конец вышли из строя 5 солдат и заявили, что воевать ни с кем не хотят.
– Стало быть, воевать не хотите?
– Не хотим.
– Правильно, – говорит Балахович, – белые насильно в бой никого не посылают.
И отдает приказ повесить всех пятерых перед строем»[333].
Горн, Маргулиес, Гессен, Кирдецов и прочие со сладострастным содроганием описывают ужасы правления Балаховича в Пскове. По его приказу были вырыты из могил и выброшены тела похороненных красноармейцев. Провинившихся обывателей, в том числе девушек, подвергали публичной порке розгами и шомполами. Жертвы батьки – наряду с «ворами, жидами и коммунистами» – богачи, с которых было что взять, и бедняки, за которых некому заступиться. Балахович окружил себя садистами-авантюристами вроде Энгельгардта и жуликоватыми дельцами, подобными полковнику Стоякину. Под страхом наказаний и казней эта шайка вымогала деньги и ценности у зажиточных граждан, в особенности у евреев. Штаб Балаховича и его «ушкуйники» гуляли напропалую, проматывая награбленные денежки. «Над Псковом стоял дым коромыслом… улицы, особенно по вечерам, были полны компаниями балаховских молодцов, пьяными голосами дико оравших на улицах песни», – добавляет подполковник Смирнов.
Свидетельства красочны, правда у них есть один недостаток: они все принадлежат заклятым врагам псковского батьки. Тут не обходится без противоречий; Маргулиес, к примеру, записывает (и опять-таки с чужих слов): «Отношение крестьян к нему – любовное; верят в батьку». Правда, вот Маргулиесу в этом случае поверить трудно, особенно если вспомнить про кавалерийские расправы над лужскими крестьянами во время прошлогодней продкампании… Выяснить, что и как было на самом деле, теперь уже невозможно. Но образ сложился. А вот отношения чрезмерно самостоятельного псковского кондотьера с руководством белых – не сложились.
Руки вверх, гражданин Юденич!
В ночь на 23 августа в Псков вступил посланный Юденичем для «восстановления порядка» полковник Пермикин с войсками. Штаб Балаховича был захвачен, Стоякин, правая рука батьки, то ли застрелен, то ли удавлен.
Свидетельствует Николай Никитич Иванов, министр общественных работ эфемерного Северо-Западного правительства и ярый сторонник псковского батьки:
«В ночь на 23-е августа в Псков ворвался с людьми полк[овник] Б. С. Пермикин, после сего дела генерал, и арестовал нескольких чинов штаба Балаховича, из которых был задушен после ареста один полковник Стоякин, особенно ненавистный штабу, остальные потом были отпущены без какого-либо суда и наказания»[334].
Балахович бежал из Пскова (или, по версии Иванова, тоже авантюриста каких мало, «спокойно проехал с несколькими своими всадниками сквозь кольцо расступившихся перед батько пермикинских солдат»). Защиту ему дали эстонцы. Через пару недель он уже, по свидетельству очевидцев, «в полной генеральской форме разгуливал у всех на виду в Ревеле»; через месяц его крестьянско-партизанские зеленые отряды снова буянили под Печорами. Позднее их видели близ Пыталово и Себежа, где они громили красные тылы уже под эстонским знаменем.
Юденич устранил «самостийника» и партизана из своей армии накануне решающих битв. Но октябрьское генеральное наступление белых на Петроград закончилось катастрофой. Армия Юденича, дойдя до окраин города, мгновенно развалилась. Описание ее жалкой и трагической гибели – за рамками нашего рассказа. В январе Юденич, генерал без войск, но с остатками (и немалыми) собранных на военные нужды денежных средств, поселился под охраной нескольких офицеров в Ревеле (теперь уже Таллине), в гостинице «Коммерс».
В январе 1920 года в ревельской газете «Верный Путь», считавшейся рупором Балаховича и его сторонников, было напечатано открытое письмо к Юденичу. Главный вопрос, торчавший из этого текста, как дуло пистолета: куда делись деньги? На что израсходовано золото, присланное Колчаком, и средства, выделенные союзниками? Когда генерал Юденич даст отчет о деньгах?
Ответа от бывшего главнокомандующего не последовало.
Поздно вечером 27 января в дверь его номера постучали. Отворил дежурный офицер; в сумраке коридора темнело несколько молодцеватых фигур в военных френчах. «Письмо его высокопревосходительству». Офицер принял листок, отнес в кабинет. Надев очки, генерал от инфантерии Юденич прочитал следующий текст: «Так как Ваше высокопревосходительство, не произведя расчета, решили оставить нас, согласно решения Временного управления делами бывшей Северо-Западной армии, приглашаетесь следовать на место Вашего временного пребывания до урегулирования расчета. Где Вы будете находиться в полной безопасности под моей охраной. Генерал-майор Булак-Балахович».
Дочитав, Юденич потянулся за револьвером, но было поздно. Разоружив охрану, Балахович и его спутники вошли в кабинет. Под их конвоем Юденич был выведен на улицу, доставлен на вокзал, где уже разводил пары́ паровоз с прицепленным к нему единственным вагоном. Через полчаса крохотный состав мчал пленного главнокомандующего в сторону Тарту.
В Таллине поднялся страшный переполох. Министры и генералы несуществующего Северо-Западного правительства кинулись в резиденции английских и французских военных представителей. По требованию интервентов эстонская полиция остановила разбойничий поезд на станции Тапа, где разветвляются пути на Нарву и Тарту. Юденич был освобожден. Впрочем, и Балаховича отпустили. Последняя авантюра красно-бело-зеленого генерала на эстонской земле закончилась неудачей.
Ничего: через пару месяцев он заварит очередную кровавую кашу на границе Белоруссии и Польши. В сентябре – октябре 1920-го вместе с Савинковым совершит погромно-разбойничьи рейды на Овруч, Мозырь и Пинск, во время которых прославится такими художествами, по сравнению с коими «развешивание гирлянд» из воров и коммунистов в Пскове покажется детской шалостью. Видавший виды Савинков скажет потом на суде в Москве: «В моей борьбе с вами я был смертельно ранен душевно этим последним балаховским походом». Это – потом. А сейчас человек лет тридцати пяти, сероглазый, среднего роста, с военной выправкой, с оттопыренными ушами по сторонам незначительного лица, мчится в эшелоне из Эстонии через Лифляндию в Брест…
Закон истории осуществляется в броуновском движении огромного количества людей и обстоятельств, через случайное переплетение и взаимодействие бесчисленных причинно-следственных цепочек. Случайность и неизбежность – два лика истории, или два узора, перетекающие друг в друга, как фигуры на рисунках Эшера.
Вечно соблазнительный вопрос и всегда остающийся без ответа: что было бы, если бы.
Что было бы, если бы эрцгерцог Франц Фердинанд отменил свой визит в Сараево, как советовали ему многие доброжелатели? Если бы уехал из злополучного города после первой, неудачной попытки покушения? Если бы шофер его машины не замешкался на повороте, дав Гавриле Принципу возможность достать револьвер и прицелиться? Если бы Принцип промахнулся, стреляя в эрцгерцога, или если бы его револьвер дал осечку? Что было бы тогда? Случилась бы мировая война или нет? А если бы не случилась, произошла бы в России революция? И если нет, то как сложились бы судьбы десятков миллионов людей, всей той необозримой людской пустыни, с поверхности которой мы подняли восемнадцать крохотных песчинок – героев этой книги?
Жизнь Григория Котовского дает множество поводов (да и в целом является поводом) задать этот самый вопрос: что было бы, если бы? Ее фантастические перегибы, ее этапы, несовместные, как гений и злодейство, многократно заставляют задуматься: почему случившееся с ним случилось так, а не иначе? И по какому руслу потекла бы эта жизнь, если бы не случайные сцепления обстоятельств, определившие ее главные повороты?
Поздним вечером 8 октября 1916 года супруга главнокомандующего Юго-Западным фронтом Надежда Владимировна Брусилова, немолодая уже дама с сединой в волосах, аккуратно собранных в узел на макушке, сидела в своем кабинете за рабочим столом. Перед ней были разложены бесчисленные бумаги – отчеты, счета, прошения, ведомости и письма по делам благотворительным, санитарным, газетным и прочим, коими она деятельно занималась последний год. Настольная электрическая лампа высвечивала неровный круг посреди этого делового хаоса. За окнами чернела непроглядная одесская ночь; шум листьев на Приморском бульваре смешивался с шумом беспокойного моря. Людской говор и стук колес на бульваре совсем стих, уныло плыли в темном воздухе фонари. Надежда Владимировна утомилась за день: три деловых визита, светский прием с лотереей в пользу раненых, беседа с газетчиками, разговоры с просителями, которые шли к ней, потому что она жена главнокомандующего. Теперь еще надо было успеть разобрать накопившиеся за день бумаги. Хотелось спать.
Тихонько скрипнула половица: вошла горничная. В руке она держала помятый конверт. Надежда Владимировна подняла голову от бумаг, вопросительно глянула на горничную поверх очков:
– Что еще, дорогая?
– Да вам вот. Простите за беспокойство. – Горничная протянула конверт. – Это принес какой-то мальчишка; говорит, из тюрьмы. Швейцар и дворники его гнали, а я гуляла с собачатами и согласилась взять: уж очень он просил. Жизнь человека, говорит, от этого зависит.
– Хорошо сделали, что взяли.
Конверт не был запечатан. Собственно, это были сложенные листки. Развернув их, госпожа Брусилова увидела ровные беглые строчки, скачущие поперек страниц, как кавалеристы на маневрах.
«Ваше Высокопревосходительство!
Коленопреклоненно умоляю Вас прочесть до конца настоящее письмо. Приговором Одесского военно-окружного суда от 4-го числа сего октября я приговорен к смертной казни через повешение за два совершенных мною разбойных нападения, без физического насилия, пролития крови и убийства. Приговор этот подлежит конфирмации Его Высокопревосходительства господина главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. Ваше Высокопревосходительство! Сознавая всю степень виновности своей перед Отечеством и обществом за совершенные преступления, принеся публично в суде полную повинную за них и полное искреннее и чистосердечное раскаяние и признавая справедливость вынесенного мне судом приговора, я все-таки решаюсь обратиться к Вашему Высокопревосходительству с мольбой о высоком и великодушном заступничестве пред господином главнокомандующим – Вашим высоким супругом – о смягчении моей участи и о даровании мне жизни…»
Письмо было длинное. Перевернув последний листок, Надежда Владимировна увидела подпись: «Коленопреклоненно умоляющий Ваше Высокопревосходительство Григорий Иванов Котовский»[335].
Надежду Владимировну нелегко было чем-нибудь удивить. И людей на своем веку она, племянница премьер-министра Витте и оккультистки Блаватской, повидала всяких. Но это письмо и подпись под ним вызвали все-таки легкое дрожание ее руки.
Котовский! Имя, памятное с 1906-го, кажущегося теперь таким далеким года. Тогда много писали в газетах, а еще больше рассказывали историй, похожих на сказки, об этом невесть откуда взявшемся герое – благородном разбойнике, соблазнителе честных жен, неуловимом мстителе, мастере великолепных побегов из тюрем. Тогдашняя обывательская публика любила читать романы про разбойников – и вот он явился, настоящий герой такого романа. Надежда Владимировна, конечно, была слишком умна и образованна, чтобы верить кухаркиным сказкам и увлекаться образом бульварного героя. Но она кое-что знала о нем из куда более основательного источника – из разговоров господ, причастных к судебной и полицейской власти Одессы, Херсона, Бессарабии. И почему-то сочувственно относилась к этому незаурядному преступнику. Он вызвал интерес уж во всяком случае больший, чем благовоспитанные и безликие охранители общественных устоев в генеральских и полковничьих мундирах с орденами.
Теперь она читала странные фразы, никак не вязавшиеся с образом степного джентльмена удачи, находчивого и бесстрашного: «Ступив на путь преступления в силу несчастно сложившейся своей жизни, но, обладая душой мягкой, доброй и гуманной, способной также на высшие и лучшие побуждения человеческой души, я, совершая преступления, никогда не произвел ни над кем физического насилия, не пролил ни одной капли крови, не совершил ни одного убийства. Я высоко ценил человеческую жизнь и с любовью относился к ней, как к высшему благу, данному человеку Богом. <…>
И вот теперь, поставленный своими преступлениями перед лицом позорной смерти, потрясенный сознанием, что, уходя из этой жизни, оставляю после себя такой ужасный нравственный багаж, такую позорную память, и испытывая страстную, жгучую потребность и жажду исправить и загладить содеянное зло, и черпая нравственную силу для нового возрождения и исправления в этой потребности и жажде души, чувствуя в себе силы, которые помогут мне снова возродиться и стать снова в полном и абсолютном смысле честным человеком и полезным для своего Великого Отечества, которое я так всегда горячо, страстно и беззаветно любил, я осмеливаюсь обратиться к Вашему Высокопревосходительству и коленопреклоненно умоляю – заступитесь за меня и спасите мне жизнь…»
Весь тон и стиль письма был искусствен и фальшив, и именно это особенно остро заставляло почувствовать отчаяние человека, которого через несколько дней – а может быть, часов – сунут головой в петлю и бросят болтаться на виселице…
Надежда Владимировна, не выпуская из рук письма, закрутила вертушку телефонного аппарата. Час был поздний, ответили не сразу.
– У аппарата Эбелов, – послышался наконец в трубке хрипловатый недовольный голос начальника военного округа.
– Михаил Исаевич, дорогой, ради бога, извините, вас беспокоит Брусилова.
– Надежда Владимировна! Боже мой! Доброго вам вечера… Вернее, доброй ночи. Что случилось?
– Послушайте, Михаил Исаевич, вам, может быть, покажется странным, но это очень важно… Речь идет о жизни человека. Нельзя ли задержать казнь одного приговоренного преступника, именно Котовского…
На том конце провода почувствовалось неприятное замешательство.
– Гм… Простите, не понимаю. Не извольте гневаться, Надежда Владимировна, вы же знаете порядок…
– Знаю, ваше высокопревосходительство, потому и беспокою. Мой муж утверждает эти приговоры по представлению военно-судебных властей, обычно доверяя им. Но тут особый случай. Мне нужно хотя бы немного времени, хотя бы день, чтобы успеть связаться с ним.
На том конце провода оценили обращение «ваше высокопревосходительство» и легкое ударение, поставленное на словосочетании «мой муж». Голос Эбелова зазвучал мягче.
– Надежда Владимировна, вы знаете, ваша просьба для меня закон. Но в сем случае… Я не вполне властен. Нужно предписание военного прокурора… Да и мнение градоначальника… Переговорите с ними. Со своей стороны, я не возражаю. Хотя, искренне скажу, удивляюсь. Да. Удивляюсь. Ведь он, кажется, обыкновенный уголовный преступник? И весьма опасный?
– Опасный – да, но обыкновенный – едва ли. Так я могу сослаться на вас, сказать, что вы не возражаете?
– Ах, разумеется, Надежда Владимировна, для вас – все. Но удивляюсь.
Попрощавшись, Брусилова снова принялась накручивать ручку телефона. Следующим был поднят с постели градоначальник Сосновский.
– Ради бога, простите, милый Иван Васильевич, это Брусилова…
Сосновский тоже вначале недовольно молчал, ссылался на порядок, потом выражал недоумение, но соглашался. Он, в сущности, был добрый человек, как и Эбелов. С семейством Брусиловых он был знаком в бытность архангельским губернатором: тогда племянник нынешнего главкоюза Георгий Львович Брусилов участвовал в северной экспедиции на ледоколе «Вайгач»; потом снарядил свою собственную экспедицию, на шхуне «Святая Анна» отправился к Северному полюсу и пропал без вести в Ледовитом океане. Отчего же не помочь этому славному семейству? Если Надежда Владимировна просит за какого-то уголовника, то, значит, это зачем-то ей нужно. А может быть, нужно самому Алексею Алексеевичу?
Последним был звонок прокурору военно-окружного суда Ивану Платоновичу Огонь-Догановскому. Он еще не спал, в настроении был приподнятом и даже позволил себе подтрунить над внезапной милостью высокородной дамы к знаменитому каторжнику:
– Охота вам беспокоить Алексея Алексеевича! На рассвете вздернут эту собаку Котовского – и баста!
– Послушайте, Иван Платонович, я не шутки с вами шучу, право. Мы христиане и не можем радоваться смерти грешника…
– Ну полно, полно, Надежда Владимировна. Ежели до христианства дошло, то я умолкаю. Пошутил, пошутил. Извольте, не будем утром казнить – казним вечером… Ну простите, Надежда Владимировна, с языка сорвалось.
Соглашение об отсрочке было достигнуто. Теперь оставалось передать мужу прошение о помиловании, и как можно скорее. В текучке дел он может конфирмовать приговор не глядя. До его ставки в Каменец-Подольске добрых четыреста пятьдесят верст, и прямой телефонной связи нет.
Вновь скрипнула половица – вошла горничная:
– Надежда Владимировна, тут жандарм пришел, говорит, едет курьером в штаб генерала. Спешит очень, поезд, говорит, уходит. Обещал, говорит, к генеральше заглянуть перед отъездом, нет ли у вас чего генералу передать.
«Перст Божий», – подумалось Брусиловой.
– Пусть войдет поскорее.
Она быстро набросала несколько строк на листе бумаги, положила в конверт вместе с письмом Котовского, запечатала. Усатый рослый жандарм уже стоял у письменного стола:
– Здравия желаю, ваше высокопревосходительство! Не прикажете ли чего передать его высокопревосходительству?
– Вот, возьмите. Отдайте в руки генералу, как только приедете. Скажите там, чтобы доложили о вас ему сразу. Скажите: это очень важно, я приказала как можно скорей в руки передать генералу. – Секунду помолчала. – И благодарю очень, что не забыли заехать.
– Рад стараться, ваше высокопревосходительство! Будет исполнено, не извольте беспокоиться.
Через десять дней на стол председателя Одесского военно-окружного суда лег лист бумаги с машинописным текстом из штаба главнокомандующего Брусилова: «Возвращая дело, сообщаю, что Главнокомандующий приговор суда о лишенном всех прав состояния Григории Котовском утвердил, заменив смертную казнь каторгой без срока».
Что было бы, если бы?..
Если бы мальчишка не донес письмо до губернаторского дворца? Если бы горничная не вышла именно в это время гулять «с собачатами»? Если бы курьер не ехал в эту ночь в штаб Юго-Западного фронта или забыл бы зайти «к генеральше»?
Главнокомандующий утвердил бы без изменений отправленный телеграфом приговор, и на рассвете следующего дня тело Котовского в самом деле болталось бы уже в петле…
О нем поговорили бы да и забыли.
Жизнь Котовского начиналась и долгое время текла самым заурядным образом – можно сказать, шла параллельным курсом с жизнью Балаховича, хотя ни тот, ни другой, ни кто-либо из их близких не подозревали об этом.
Начальный этап этой жизни можно назвать так: «мальчик из приличной семьи».
Родился Григорий Иванович Котовский 12 июня 1881 года в местечке Ганчешты[336], в Бессарабии. (В автобиографии, написанной после Гражданской войны, он омолодил себя на шесть лет, подогнав события молодости под фальсифицированную дату рождения.) Его родители – люди ничем не примечательные. О них, как и о братьях и сестрах Григория, почти ничего не известно. Впоследствии Котовский, как и Балахович, будет утверждать, что его отец происходил из знатного, но обедневшего шляхетского рода. Что род этот издревле обитал в Подолии, что дед Григория Ивановича был полковником и впал в немилость после того, как отказался подавлять польское восстание. Это – вымысел, как и многое другое в автобиографии Котовского и его рассказах о своем прошлом. Хотя род Котовских значится в VI части «Списка дворян Подольской губернии 1897 года», однако эти потомственные дворяне не имели, по-видимому, никакого отношения к Ивану Николаевичу Котовскому, числившемуся в мещанском сословии и ко времени рождения старшего сына служившему механиком на винокуренном заводе Манук-Бея в Ганчештах. Его жена, Акулина Романовна, происходила из крестьянской, возможно старообрядческой, семьи.
Куда более заметной личностью был владелец винокурни, земель и усадьбы в Ганчештах Манук-Бей, тоже Григорий Иванович, богач, меценат и потомок славных предков. Его дед, драгоман султанского двора и признанный лидер армянской общины Молдовалахии, в 1812 году помогал Кутузову заключить с турками Бухарестский мир, а затем выехал из подвластных султану румынских земель в пределы Российской империи. При нем, при его сыне и внуке в Ганчештах был отстроен большой и прекрасный усадебный дом в помпейском стиле, разбит парк, заведены кукурузные поля и виноградники, начато производство кукурузного спирта и крепких напитков из винограда, ныне известных в России под именем молдавских коньяков. Вот на этом-то производстве у Манук-Бея-внука работал мещанин города Балты Иван Николаевич Котовский.
Механик, бесспорно, работал хорошо и пользовался расположением хозяина. Когда в семействе Котовских родился первый сын (до этого явились на свет три дочери), Манук-Бей стал его восприемником, крестным отцом. Видимо, и наречен младенец был в честь крестного – Григорием.
О детских годах Гриши Котовского ничего не известно, кроме разве того, что рос он ребенком подвижным и нервным, страдал заиканием и был подвержен судорожным припадкам, заставлявшим подозревать эпилепсию. Кроме того, был левшой и, как многие таковые, отличался живым воображением и артистическими наклонностями.
Иван Николаевич получал неплохое жалованье; семья казалась обеспеченной и вполне благополучной. Но пришла беда: от последствий тяжелых родов умерла Акулина Романовна. Грише не исполнилось еще и восьми лет. Потом стал прихварывать отец семейства. У него обнаружили чахотку – туберкулез легких. В 1895 году он умер. Григорий и младшие дети остались на попечении старшей сестры и ее мужа, инженера. Помогал и крестный. На средства Манук-Бея Григорий был отправлен учиться: сначала в Кишиневское реальное училище, где, однако, не прижился, а потом в Кукурузенское коммерческое сельскохозяйственное училище. Его и окончил, получив специальность агронома, – точь-в-точь как Балахович, только годом или двумя раньше.
В прекрасную пору юности Григорий Котовский вступил при вполне благоприятных обстоятельствах. В школе учился он хорошо, агрономическую науку усваивал успешно и охотно, а если, бывало, дерзил учителям, ссорился или даже дрался с ровесниками – так с кем же из юнцов такого не бывает? Добрый крестный был вполне доволен своим питомцем и при случае говаривал ему:
– Хорошо окончишь училище – отправлю в Германию, в университет, какой сам выберешь. Все оплачу.
И поглядывал на крестника с невольной гордостью. Не красавец, но приятен. Умен. Роста среднего, телосложения крепкого. Во всех отношениях молодец.
У Манук-Бея не было детей. Чем ближе он подходил к смертной черте, тем, наверно, явственнее ощущал в крестнике своего продолжателя на земле, даже, может быть, дарованного ему вместо сына.
Григорий не обманывал ожиданий богатого крестного. И в ожидании светлого будущего не только успешно шел к окончанию училищного курса, но как мог развивал душу и тело: учил языки, музицировал на скрипке, гармони и духовых инструментах, пел в хоре, занимался гимнастикой и боксом, играл в новомодную игру футбол. Он уже явственно нравился барышням. И жизнь представлялась ему прекрасной.
Для получения диплома оставалось пройти практику в чьем-нибудь имении – и можно было паковать чемодан для отъезда в Германию, в Гейдельберг, или Йену, или Галле, или куда-нибудь еще. В январе 1901 года он начинает работать помощником управляющего в Валя-Корбуна, имении помещика Скоповского. По-видимому, крестный помог в этом трудоустройстве: его имя открывало в Бессарабии многие двери. И тут – неожиданное преткновение. Не отбыв и двух месяцев в должности, молодой Котовский уходит из Валя-Корбуны. Причины неясны. Случился какой-то конфликт с хозяином, и, судя по всему, не из-за работы. Впоследствии получила распространение романтическая версия – о соблазнении жены хозяина и о ревности последнего. Однако через год Котовский был вновь принят Скоповским на службу, что как-то не вяжется с психологической картиной любовного треугольника.
Он вернулся, но жизнь готовила ему роковой подвох. В начале 1902 года его благодетель неожиданно скончался. В завещании Григория Ивановича Манук-Бея упоминались различные научные и благотворительные организации; имя Котовского не значилось.
Все планы полетели кувырком.
Двадцатилетний Котовский остался один на один с житейским морем.
Зарабатывать на жизнь однообразным трудом, тянуть скучную лямку барского управляющего, играть роль вечно ответственного и вечно зависимого маленького человека – и это вместо туманно-манящей Германии, вместо блестящих университетских перспектив…
И вот Григорий уходит вновь от помещика, на сей раз совсем уже не по-хорошему. Через некоторое время в полицию поступило заявление Скоповского о похищении у него бывшим помощником управляющего денежной суммы в размере семидесяти семи рублей.
С этого момента начинается новый этап жизни Котовского, который можно назвать так:
А что было бы, если бы Манук-Бей умер несколькими годами позже?
Уехал бы Котовский в благоустроенную Германию, окончил бы университет, обрел бы знакомых – ученых и писателей, вернулся бы в Россию европеизированным интеллигентом и, как подавляющее большинство таковых, при наступлении революции примкнул бы к кадетам, к Белому движению… А может быть, эмигрировал бы. А может быть, случилось бы с ним что-нибудь еще. Во всяком случае, не было бы знаменитого бандита, атамана приднестровских степей. Скорее всего, не было бы и красного командира с шашкой на коне. Хотя – кто знает…
Заявлению Скоповского в полиции не придали большого значения. Семьдесят рублей – мелочь, не стоит того, чтобы гоняться за преступником. Попадется на чем-нибудь другом – получит по заслугам; не попадется – пусть себе гуляет. Попался Котовский скоро, в декабре того же 1902 года, – на сей раз по причине подделки документа. Намеревался устроиться на службу к другому помещику, господину Семиградову, предъявил поддельную рекомендацию. Бессарабские помещики неплохо знали друг друга. Семиградов навел справки – и неудачливый кандидат в управляющие был арестован. Четыре месяца тюрьмы за подлог – первый приговор, вынесенный императорской Фемидой Григорию Ивановичу Котовскому, двадцати одного года, мещанину города Балты.
По отбытии наказания Котовский некоторое время работал у разных хозяев. Детально восстановить обстоятельства его жизни в это время и в последующие годы невозможно. Документы из судебно-полицейских архивов проливают свет только на криминальную составляющую его биографии; автобиография и мемуары советского времени мифологизированы по канонам классовой борьбы и местами совершенно недостоверны. Факт тот, что жил он до 1905 года легально; очевидно также, что в это время крепли его связи с криминальным миром. Вскоре после первого тюремного сидения он получил второй срок: два месяца тюрьмы за те самые рубли, похищенные у Скоповского. Месяцы, проведенные в Кишиневском тюремном замке, стали школой сознательной борьбы против законности, правопорядка и прочих устоев буржуазно-обывательского бытия.
Незаметно и тайно надвигалась первая русская революция. Оковы сословно-самодержавных традиций и вековечного общественного порядка мучили и тяготили многих, особенно молодых. Анархический бунт против прошлого, против законов отцов, созревал в тысячах, десятках тысяч горячих сердец.
3 апреля 1902 года участник Боевой организации социалистов-революционеров Степан Балмашев застрелил министра внутренних дел Российской империи, егермейстера двора его императорского величества Дмитрия Сергеевича Сипягина. Балмашев был ровесник Котовского; свой выстрел он произвел в тот день, когда ему исполнился двадцать один год – по российским законам порог совершеннолетия. В этом же самом возрасте Котовский начал свой бунт против старого общества. Начал с кражи. Но это не была обыкновенная уголовщина. Сама эпоха не хотела видеть в краже обыкновенную уголовщину. Русская революция искала в преступлении способ осуществления великой мечты о всеобщем человеческом братстве. Кумир тогдашней интеллигенции Максим Горький вложил в уста своего юного и обаятельного персонажа формулу революционно-анархического отношения к собственности и к преступлению против собственности: «Когда от многого берут немножко, это не кража, а просто дележка!»
Кража – способ восстановления справедливости в несправедливом обществе.
Котовский встает на путь борьбы с неправедным правопорядком. Можно назвать это так. Конечно, деньги у Скоповского он взял не корысти ради (или, во всяком случае, не только ради корысти), а с целью восстановления справедливости. Так думал и действовал не один он. Через три-четыре года по всей России прокатятся волны революционных экспроприаций, по внешним признакам неотличимых от обыкновенных грабежей. В сущности, отличие одно: убежденность действующих лиц в том, что они совершают деяние во благо человекам; что они не грабители, а идейные борцы за справедливость; что преступны не они, а само общество.
В толпе влюбленных в сладкое слово «революция» (а таковых в России становилось все больше и больше) распространялось убеждение, что преступления не существует вовсе, что оно есть неосознанная форма протеста против социальной несправедливости и государственного гнета. Преступник – стихийный революционер. Эту концепцию развивали приверженцы радикальных движений: эсеры, анархисты, большевики. Многие добропорядочные члены общества, от нижних его слоев до самого верха, готовы были принять такой взгляд на вещи, потому что обретали в нем идейное оружие против гнетущей косности сословного строя, против тяжеловесного имперского бюрократизма. И потому общественные симпатии принадлежали тем, кого закон называл преступниками, а не тем, кто по долгу службы боролся с криминалитетом.
Котовский, надо полагать, первые свои криминальные подвиги совершил не из идейно-революционных соображений, а под влиянием безотчетного порыва. Не революционер, а бунтарь, для сознательной политической деятельности он был еще слишком молод и несведущ. Но государственная машина сама перешла против него в наступление: по достижении двадцати одного года Котовский подлежал призыву на военную службу. Казарменная дисциплина была не по его вольной натуре. Два года ему удавалось уклоняться от призывной жеребьевки. В 1904 году началась Русско-японская война. Беглецов, скрывающихся от службы, стали усиленно разыскивать. В январе 1905 года Котовский был сыскан и арестован в третий раз – теперь за злостное уклонение от отбывания воинской повинности. Через месяц он был под конвоем отправлен в Житомир, в запасной батальон 19-го Костромского пехотного полка.
На поля сражений в Маньчжурию он так и не попал. Но Русско-японская война сыграла в его жизни роль немалую. И опять: если бы… Если бы его разыскали на полгода раньше, если бы успели отправить в действующую армию, если бы ему довелось принять участие в боях, то, может быть, в нем уже тогда открылись бы качества натуры, превратившие его в боевого командира тринадцатью годами позже. Может быть, он остался бы на военной службе, как Врангель или как Буденный. Но этого не случилось. На долю Котовского выпали лишь тоска запасных казарм и унизительная неволя новобранца.
31 мая он бежал из Житомирского гарнизона. Говоря языком военно-юридических терминов, дезертировал. В военное время сие преступление карается сурово – вплоть до смертной казни. Обратного пути в легальную жизнь для Котовского более не существовало.
Летом 1905 года по огромной России от балтийских шхер до Владивостокского рейда гулял красный петух первой русской революции. В Причерноморье отдельные очаги забастовок, митингов и крестьянских волнений готовы были слиться в единый пожар всеобщего бунта. В Одессе стачка переросла в восстание; в морской дали виднелся силуэт мятежного броненосца «Потемкин». Кишинев еще не успел забыть страшный еврейский погром; неспокойно было по всей Бессарабии. Беглецу Котовскому было к кому примкнуть, было с кем объединиться в поисках бунтарской воли. На короткое время он сошелся с эсерами, затем стал действовать сам по себе.
В его личности было нечто привлекающее и подчиняющее людей. Удаль. Артистизм. Обаяние. Харизма.
Уже осенью 1905 года вокруг Котовского собирается группа: человек семь-десять верных последователей. Можно называть ее шайкой или бандой. Можно – партизанским отрядом. Так или иначе, это было настоящее сообщество равных – в отличие от всех социальных структур старой России, где царила ненарушимая иерархия. Старая Россия была Отечеством – и в смысле отеческой власти, и в смысле сыновнего бесправия. Враждебные ей молодые силы стали объединяться по принципу братства, в котором равные выбирают предводителем того, кому верят; того, чья звезда вдохновляет на смелое действие, такое, чтобы душа веселилась и кровь играла. Подобным образом будут формироваться в годы мировой войны партизанские отряды Шкуро, Пунина и прочих; в семнадцатом году – ударные батальоны смерти; в восемнадцатом – всевозможные добровольческие армии, белые, красные и иных цветов. Все они состояли из людей, ненавидящих государственный порядок и строй, не приемлющих дисциплину и субординацию, неспособных медленно и упорно двигаться снизу вверх по лестнице чинов. Среди них были люди чести и отъявленные негодяи, благородные герои и прирожденные палачи, дураки и умные, образованные и неучи. Но выдвинуться на первые роли в их среде могли только личности яркие, вдохновенные, рисковые, харизматичные. Способные породить легенду.
Таким, несомненно, был Котовский.
Первый период действия его «отряда» – или «банды» (кому как нравится) – был непродолжительным, всего около полугода, но очень насыщенным, остросюжетным и ярким. По данным полиции, за период с 1 декабря 1905 года до ареста Котовского, 16 февраля 1906 года, его удальцы совершили сорок налетов, грабежей, нападений. Грабили только богатых. Первоначально местом их деятельности был лес между Кишиневом и Оргеевом. Там грабили проезжающих помещиков и коммерсантов по классическому разбойничьему сценарию. Но вскоре по всей Бессарабии стали разлетаться рассказы о налетах «атамана Котовского» на богатые помещичьи усадьбы, на городские дома и квартиры богачей, на ювелирные магазины и на казенные экипажи, перевозящие денежные суммы.
Полиция занялась Котовским всерьез. В донесениях отмечалось, что налетчиками руководит опытный и ловкий начальник. Насчет ловкости – спорить не станем. А вот опыта подобных, почти боевых действий у атамана Гриши не было: вместо того – смелость и организаторский талант.
Недостаток опыта привел к тому, что котовцы довольно скоро оказались в жестких полицейских тисках. 5 января атаман едва спасся от сыщиков, примчавшихся на крики одной из жертв ограбления. 6 января весь его отряд попал в засаду, но вырвался из окружения после перестрелки. Удивительно, что обошлось без жертв. Вплоть до последнего своего ареста в 1916 году Котовскому удавалось избегать кровопролития, о чем писал он в письме Надежде Владимировне Брусиловой.
16 февраля 1906 года молодой атаман был наконец схвачен. Его тайное прибежище выдал полиции кто-то из своих. Котовский был доставлен в знакомый ему Кишиневский тюремный замок, но до суда не досидел. Две попытки побега были неудачными, на третий раз все получилось наилучшим образом. 31 августа 1906 года заключенный опасный преступник Григорий Котовский выломал скобы у дверей камеры, проник в коридор, из коридора на чердак, оттуда по веревке спустился во внутренний двор замка. Затем прошел в другой двор, где располагались мастерские. Там по приставленной доске перелез через стену и был таков.
Вслед ему полетели телеграммы с требованием сыскать и вернуть и с описанием внешности. Рост: два аршина семь вершков с четвертью (174 сантиметра). Телосложения плотного, несколько сутуловат. Голова круглая, с залысинами, волосы черные, редкие, глаза карие, усы маленькие. Слегка заикается. Походка характерная, как бы «боязливая», во время ходьбы покачивается. Левша, но стреляет одинаково хорошо с обеих рук. Физически очень силен. Чрезвычайно опасен.
В другой полицейской ориентировке говорится, что оный преступник хорошо говорит по-румынски, по-еврейски (имеется в виду идиш), по-немецки и может объясняться по-французски. Умен, энергичен, производит впечатление интеллигентного человека. В обращении приятен и даже изящен. Умеет произвести хорошее впечатление на тех, с кем имеет дело.
Через месяц после побега Котовский был выслежен на улицах Кишинева, от преследования убежал, причем был ранен в ногу; на следующий день вновь попал в засаду, был еще раз ранен и на сей раз задержан. Его имя уже было широко известно в Бессарабии, о его аресте писали все местные газеты. Сообщали подробности его побега и задержания, пересказывали его ответы на первых допросах. В атмосфере всеобщего заинтересованного внимания готовился судебный процесс. Революционная буря к этому времени поутихла; казалось, имперский порядок восстановлен. Котовскому уже не так сочувствовали, как год тому назад, – скорее, боялись. В апреле 1907 года состоялся первый суд, а в ноябре, по протесту прокурора в связи с мягким приговором, – второй. Котовский произносил на судебном заседании анархические речи, которые, впрочем, уже выглядели несколько анахронизмом. Но личность подсудимого привлекла симпатии публики. Свидетели подтвердили: он благороден, он не грабил малоимущих, не свирепствовал, не унижал. В его образе виделось что-то рыцарское. Вопреки настроениям зала приговор, вынесенный на втором суде, был достаточно суров: двенадцать лет каторги.
Три года Котовский провел в тюрьмах Кишинева, Николаева, Смоленска. Лишь в декабре 1910 года его отправили по этапу в Забайкалье, в Александровскую каторжную тюрьму, оттуда – в Горный Зерентуй Нерчинского округа. В 1912 году вместе с другими каторжниками он был переведен на строительство Амурского участка Транссибирской железной дороги. В 1913 году ожидалась амнистия по случаю трехсотлетия царствования династии Романовых. 19 февраля стало известно, что осужденный Котовский под амнистию не подпадает. Через неделю он бежал из каторжной тюрьмы.
Бежать с каторги – не такое уж сложное дело; главное – выжить после побега. Кругом места безлюдные, тайга непролазная, просторы необъятные, звери дикие. Еще полдела – бежать летом. Ну а зимой… Морозы до пятидесяти градусов, а бывает, и за пятьдесят. От тюрьмы до ближайшего жилья, до места, где можно искать человеческой помощи, – более семидесяти верст по снежной целине, по тайге. Бежавших не очень даже искали. Во-первых, искать – это значит переносить те же тяготы, что и беглец. Во-вторых, считалось, что беглец и так погибнет, если не вернется.
Котовский выжил, потому что был силен, упорен и еще потому, что побег свой тщательно подготовил. Запас еды, теплые вещи, деньги и, главное, паспорт на имя мещанина Рудковского – неведомо как все это ему доставили с воли, но – доставили. Дошел до Благовещенска, оттуда уехал поездом на запад. С приключениями, арестами, побегами к осени добрался до Бессарабии. На исходе 1913 года в Кишиневе, Тирасполе и Одессе вновь заговорили о дерзких налетах шайки Котовского.
Второй период его бандитско-партизанской деятельности – более длительный, два с половиной года, – все заметнее уводит героя от идейного романтизма экспроприаций в сторону классической уголовщины. Впрочем, и таковая в предреволюционные годы была окружена романтическим ореолом. Литературный персонаж Беня Крик из «Одесских рассказов» Бабеля и реальный Мишка Япончик – если не друг, то хороший знакомый Котовского – становились героями времени в преддверии надвигающейся смуты. Особую остроту похождениям великих бандитов придавал фактор войны. С августа 1914 года Бессарабия, а позднее и Одесса стали прифронтовой зоной, в которой распоряжалась военная администрация и действовали законы военного времени. Это означало, что за налеты и грабежи можно было заслужить не какой-нибудь там каторжный срок, а самую что ни на есть настоящую виселицу.
Котовский гулял по веселым городам Бессарабии и Черноморья – гулял тем бесшабашнее, чем опаснее становились его похождения. То он с вооруженными до зубов «братишками» является на квартиру к одесскому скотопромышленнику Арону Гольштейну и «предлагает» хозяину пожертвовать деньги «в фонд обездоленных», а когда тот дрожащими руками вынимает из бумажника пятьсот рублей, читает ему возмущенную нотацию о вреде скупости и отнимает все имеющиеся в доме деньги – девять тысяч. То, попав в дом скромного врача Бродовского, приносит ему витиеватые извинения, объясняя, что в ошибке виноваты наводчики, которые будут наказаны, и что он, Котовский, никогда не грабит людей, живущих трудовыми доходами. То дерзким нападением отбивает у полиции несколько десятков арестантов, из коих некоторые присоединяются к его «отряду». При этом живет открыто, под мирной фамилией Ромашкин, служит управляющим в имениях помещика Стаматова, крутит романы с дамами полусвета, посиживает в ресторанах, посещает театры и концерты, и как-то раз, увидев в партере Кишиневского театра директора Кукурузенского училища, подходит к нему в антракте и говорит с искренней радостью:
– Иосиф Григорьевич, вы меня не узнаете? Я ваш бывший ученик Гриша Котовский!
Но такая жизнь на острие ножа не может продолжаться долго. Удачи перемежаются с провалами. За его выдачу назначена премия в две тысячи рублей. В туманном будущем все назойливее маячит арест и смертный приговор. И главное, уходит время жизни: ему уже тридцать пять. Неужели жизненные вершины уже пройдены и от него ничего не останется, кроме ветхих газетных листов с колонками криминальной хроники?
Неудача подстерегла его в июне 1916 года. Продал кто-то из соратников – польстился на две тысячи плюс амнистия. Кто – неизвестно. 25 июня Котовский был арестован на хуторе Кайнары под Бендерами, где работал по агрономической части. При задержании Ромашкин-Котовский пытался бежать, оказал сопротивление, был ранен. Участники задержания получили денежные премии.
Котовский был доставлен в Одессу. Попытки побега из одесской тюрьмы не удались. Бунтарско-разбойный этап его биографии неумолимо стремился к концу. 4 октября Военный суд Одесского округа вынес приговор – смертная казнь через повешение. 7 октября материалы судебного дела были отосланы в штаб главнокомандующего фронтом для утверждения приговора. На исходе следующих суток Надежда Брусилова получила то самое письмо из камеры смертника.
«Если же Вы, Ваше Высокопревосходительство, не найдете возможным ходатайствовать перед господином главнокомандующим, Вашим высоким супругом, о даровании мне жизни, то, как потомок военных, дед которого, полковник артиллерии, сражался и проливал кровь за Отечество, умоляю как о высшей милости и чести ходатайства Вашего Высокопревосходительства пред Его Высокопревосходительством господином главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта о замене им смертной казни через повешение смертной казнью через расстрел. Я знаю, что как отверженный я лишен права чести умереть от благородной пули, но как потомок военных, как искренний и глубокий патриот, стремившийся попасть в ряды нашей героической армии, чтобы умереть смертью храбрых, смертью чести, но не имевший возможность это сделать в силу своего нелегального положения, умоляю об этой высшей милости, и последним моим возгласом при уходе из этой жизни будет возглас: „Да здравствует армия!“»
Все, высказанное Котовским в этих строках, сбудется самым удивительным образом (на увлекательную выдумку о деде-полковнике не обращаем внимания). Ему будет дарован новый этап жизни; он получит возможность вступить в ряды армии, сделается одним из самых славных ее командиров («Да здравствует армия!»). И в конце концов погибнет «от благородной пули»… Как будто высший суд заменил ему казнь через повешение военным расстрелом с отсрочкой приговора на девять лет…
…В начале марта 1917 года в одесской тюрьме узнали о совершившейся революции. Политические заключенные были освобождены сразу, уголовных начали выпускать постепенно, после декрета Временного правительства от 17 марта «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления». Котовский с его бессрочной каторгой под декрет не подпадал. Но воздух воли ворвался в тюремные стены. Режим был смягчен до крайности, до того, что можно стало заключенным гулять по улицам города, возвращаясь в камеру к вечерней поверке. Бежать из такой неволи было проще пареной репы. Но Котовский не бежал. Он теперь хотел настоящего освобождения именем революции. В Одессе он и ранее был личностью известной, теперь стал знаменит. Его кандалы ушли с аукциона, говорят, за несколько тысяч рублей. Он появлялся в общественных местах, вызывая восхищенный шепот и всеобщее движение. Барышни и артисты приветствовали его в театре.
Мир перевернулся. Кто был ничем, тот стремительно становился всем. И Котовский вышел в новую свою жизнь другим человеком. Его облик стал обретать очертания народного вождя.
5 мая, по многочисленным ходатайствам общественных организаций, под давлением Исполнительного комитета Советов Румынского фронта, Черноморского флота и Одесской области (на революционном языке – Румчерода), Одесский военно-окружной суд постановил: Григория Котовского условно освободить от наказания и передать его в ведение военных властей. То есть отправить на фронт.
Начался новый этап его жизни – военный.
Он был направлен в 136-й Таганрогский пехотный полк, находившийся на Румынском фронте в составе 34-й дивизии VII корпуса 6-й армии. Армией командовал генерал от кавалерии Афанасий Андреевич Цуриков, тот самый, под чьим началом когда-то служили Муравьев, Корнилов и Каледин.
Но повоевать по-настоящему на фронте Первой мировой ему не довелось, хотя его включили в команду пеших разведчиков. Позднее, в советское время, распространилась легенда о совершенных Котовским на Румынском фронте боевых подвигах, о его награждении Георгиевским крестом и производстве в прапорщики. Документальных подтверждений этому нет, да вряд ли что-либо подобное могло иметь место: в полк Котовский прибыл только в августе, а с середины июля до ноябрьского перемирия разлагающаяся русская армия активных военных действий не вела. Котовский действительно сразу же отличился, но не в боях с австрийцами, а на митинговом фронте. Уже в сентябре имя Котовского числится в составе полкового комитета. Доверие солдат и авторитет в их среде он завоевал так же быстро и уверенно, как когда-то в тюрьме среди заключенных.
В октябре месяце, в нарастающей революционной сумятице, плотная, коренастая фигура Котовского исчезает из поля нашего зрения. Обо всем, что он делал в это время, о том, как относился к разворачивающимся событиям, как встретил известие об Октябрьском перевороте, мы узнаем только с его слов, а это источник ненадежный. Когда он примкнул к большевикам – неизвестно. В феврале 1918 года он уже воевал на стороне красных во главе собранного им отряда. Но в партию вступил только на исходе Гражданской войны.
В феврале – марте 1918 года он – командир кавалерийской группы в Тираспольском отряде вооруженных сил Одесской советской республики. Название громкое и длинное, а суть простая: несколько сотен, а может быть, десятков удальцов под предводительством славного атамана рубятся как могут с румынами и немцами. Иногда атаман получает приказы от главнокомандующего – Михаила Муравьева. В этих приказах, в телеграфных строчках Муравьев именует его красным командиром. Наверно, в это время на бритой голове атамана появилась фуражка с красной звездой, а на коренастом торсе – кожаная куртка, перекрещенная ремнем и портупеей. Такие куртки до революции носили военные шоферы и летчики. Теперь они стали символом вольного полета командиров красных отрядов.
Немецко-австрийские войска оккупируют Украину, вступают в Одессу; румыны занимают Бессарабию. Следы Котовского вновь теряются. В мае 1918 года его вроде бы видели в Москве. В июле он замечен в Одессе. Поддельный паспорт, вымышленная фамилия. Нападения на гетманские обозы и австрийские военные склады, грабежи богатых, диверсии на железнодорожных станциях, подрыв мостов… Где тут действовал Котовский, где Мишка Япончик, где красные партизаны, где одесские бандиты – разобраться невозможно. Но у Котовского теперь есть знамя – и оно красное. Используя богатый криминальный опыт, он ведет целенаправленную борьбу против знамен всех остальных цветов.
А цвета эти сменяли друг друга как в калейдоскопе. Черно-желтое австрийское и «жовто-блакитное» гетманское (оно же и петлюровское) знамя; русский триколор белогвардейцев и тех же цветов знамя французов; сине-желто-красный румынский флаг и черные полотнища анархистских отрядов. Весной 1919 года, после ухода французских войск, над Одессой замаячили красные знамена Советов. Котовский – военный комиссар, а с июля месяца – командир 2-й бригады 45-й стрелковой дивизии Красной армии. Комбриг.
Во время летне-осеннего наступления Деникина он совершает рейд по тылам петлюровцев и белых, прорывается к Житомиру на соединение с красными. В феврале 1920 года наступает на Одессу и врывается в любимый город со стороны Пересыпи. Потом бросок на Тирасполь, потом Польский фронт: оборона, отступление, наступление. Потом – Петлюра и Тютюнник. Потом – подавление антоновского восстания на Тамбовщине. С декабря 1920 года Котовский комдив, с октября 1922 года – комкор.
Окончена Гражданская война. Из уголовника-висельника он превратился в красного генерала. Если равнять по дореволюционным чинам – генерал от кавалерии. В этом же чине был Брусилов, когда росчерком генеральского пера выписал Котовскому девять лет жизни.
Точнее, восемь лет, девять месяцев и двадцать восемь дней.
6 августа 1925 года комкор Котовский был убит при не вполне ясных обстоятельствах – застрелен в доме отдыха Чабанка, близ Одессы. В совершенном убийстве признался некий Мейер Зайдер, но мотивы преступления так и остались невыясненными.
Просто истек отпущенный срок. Закономерность остановила игру случайностей.
Тело Котовского было подвергнуто бальзамированию и помещено в мавзолее в городке Бирзула. Городок переименовали в Котовск. В шестнадцатую годовщину смерти, 6 августа 1941 года, вступившие в Котовск румынские солдаты разгромили мавзолей и выбросили тело. Местные рабочие тайком извлекли останки комкора из общей могилы и хранили их в мешке три года, до возвращения Красной армии. Мавзолей был восстановлен, и то, что осталось от атамана-командира, было вновь помещено в это смертехранилище.
Странная, необыкновенная посмертная судьба!
Впрочем, и жизнь была необыкновенной.
А если бы не эта пуля в Чабанке – что бы сталось с Котовским? Сделался бы он ходячей мумией собственной славы, как Буденный? Или получил бы свои девять граммов свинца в безвыходном подземелье, как Тухачевский? Или оказался бы в числе тех, кто подписывал смертные приговоры таким же, как он сам, бесшабашным героям веселого и кровавого прошлого?
Нет ответов на эти вопросы.
Револьверная пуля догнала Котовского вовремя. Впрочем, смерть ко всем приходит не рано и не поздно, а вовремя.
Творец истории ведет нас, людей, всех вместе и каждого человека в отдельности, трудными и опасными путями-дорогами к цели, Ему одному ведомой.
Смысл истории ускользает от нашего понимания.
Зачем была Первая мировая война, зачем революция, зачем война Гражданская?
Неизвестно.
Наверно, затем, чтобы такие люди, как Балахович и Котовский, Унгерн и Чапаев, Тухачевский и Слащев, и прочая, и прочая, и прочая, смогли вспыхнуть ярким огнем – и сгореть, оставив по себе подобие пепла: странную и противоречивую память.
И еще затем, чтобы не было нам покоя. Чтобы болела в нас совесть, чтобы мучила память: каждый из миллионов убитых и искалеченных в той войне – мой брат, такой же, как я, человек. Чтобы не оставлял нас страх перед всеобщей погибелью – залог спасения.
Начало премудрости – страх Господень.

Первая мировая война. Военнослужащие русской армии в окопах. Восточный и Западный фронты. 1916 г.

Командир XII армейского корпуса генерал от кавалерии А. М. Каледин. 1915 г.

А. М. Каледин с супругой Марией Петровной
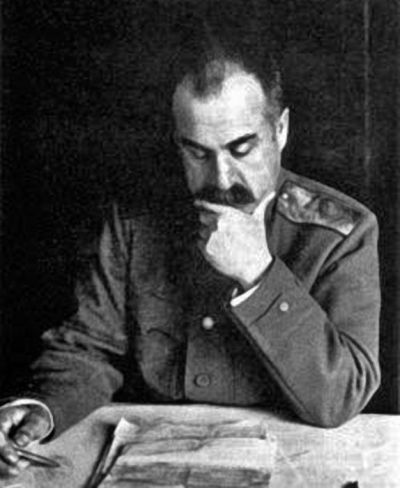
Генерал Каледин. Новочеркасск. 1918 г.

Главнокомандующий армиями Юго-Западного фронта генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов с сыном и офицерами штаба фронта. 1916 г. Сидит: А. А. Брусилов. Стоят, слева направо: подполковник Д. В. Хабаев (адъютант А. А. Брусилова), полковник Р. Н. Яхонтов (штаб-офицер для поручений при А. А. Брусилове), штабс-ротмистр А. А. Брусилов (сын А. А. Брусилова), капитан Е. Н. Байдак (адъютант А. А. Брусилова).

Брусиловский прорыв. В окопах русской армии. 1916 г.

А. А. Брусилов – генерал от кавалерии. 1912 г.

Генерал-майор А. И. Деникин. 1914 г.

Парад после освобождения Харькова Добровольческой армией 15(28) июня 1919 г. В центре (третий слева) главнокомандующий А. И. Деникин, за ним по его левую руку начальник штаба ВСЮР И. П. Романовский и генерал Ю. И. Плющевский-Плющик.

Главком Красной армии С. С. Каменев. Начало 1920-х гг.

Красная армия в Польше. 1920 г.

Л. Г. Корнилов – участник московского Государственного совещания. Август 1917 г.

Чины корниловского ударного полка. 1918 г.

Генералы В. З. Май-Маевский (впереди) и А. П. Кутепов (сзади него) в Харькове на панихиде по погибшим во время взятия города солдатам и офицерам Добровольческой армии. 1919 г.

М. Д. Бонч-Бруевич

П. Н. Врангель – командующий Кавказской Добровольческой армией. 1919 г.

Чета Врангель в эмиграции. Константинополь. 1921 г.

Генерал Врангель – командир 1-й бригады Уссурийской конной дивизии. 1916 г.

Русские эмигранты в Сербии. В первом ряду (второй слева) барон П. Н. Врангель. В том же ряду (третья справа) баронесса О. М. Врангель. 1926 г.

Барон Врангель среди кубанских казаков. Бельгия. Сентябрь 1926 г.

А. Е. Снесарев – капитан Генерального штаба русской императорской армии. 1900-е гг.

Кокарда Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). 1920-е гг.

А. Е. Снесарев с группой офицеров штаба в годы Первой мировой войны

Пехота РККА на марше. 1920 г.


Агитационные плакаты белых (вверху) и красных (внизу) времен Гражданской войны. 1920-е гг.

Полковник Я. А. Слащев. Лето 1917 г.

Кубанские казаки-пластуны со знаменем отряда. 1914 г.

Нина Нечволодова – ординарец, фронтовая подруга и впоследствии жена Я. А. Слащева

Я. А. Слащев – командир Кубанской бригады в составе 2-й дивизии Добровольческой армии. 1918 г.

Командир Крымского корпуса Добровольческой армии генерал-лейтенант Я. А. Слащев (3-й справа) с чинами своего штаба: начальник штаба корпуса генерал-майор Г. А. Дубяго (4-й справа), ординарец Слащева Н. Н. Нечволодова (справа на переднем плане). Крым. Апрель-май 1920 г.

М. Н. Тухачевский, Г. К. Орджоникидзе, И. Т. Смилга – члены Революционного военного совета Кавказского фронта. 1920 г.

Пять первых маршалов РККА: М. Н. Тухачевский (крайний слева в первом ряду), К. Е. Ворошилов, А. И. Егоров. Второй ряд: С. М. Буденный, В. К. Блюхер. 1935 г.

А. Г. Шкуро – генерал Добровольческой армии. До 1920 г.

Казак «волчьей сотни» со знаменем отряда. 1918–1919 гг.

Шеврон «волчьей сотни» генерала Шкуро. 1919-1920 гг.

С. М. Буденный после победной операции 1-й Конной в Севастополе. 1920 г.

Буденный – вахмистр 18-го Северского драгунского полка. 1915 г.

Командиры 1-й Конной армии С. М. Буденный и К. Е. Ворошилов. 1919 г.

Унтер-офицер русской императорской армии С. М. Буденный. 1915 г.

С. М. Буденный – командующий 1-й Конной армией. 1919 г.

Генерал-лейтенант барон Р. Ф. фон Унгерн-Штернберг в Иркутске на допросе в штабе 5-й красной армии. Сентябрь 1921 г.

Знамя Азиатской конной дивизии. 1921 г.

Конная дивизия барона Унгерна в Даурии. 1918–1920 гг.

В. И. Чапаев и Д. А. Фурманов среди командиров и политработников 25-й стрелковой дивизии после взятия Уфы. 1919 г.

В. И. Чапаев и его командиры полков: А. В. Бубенец (слева) и И. С. Кутяков. 1918 г.
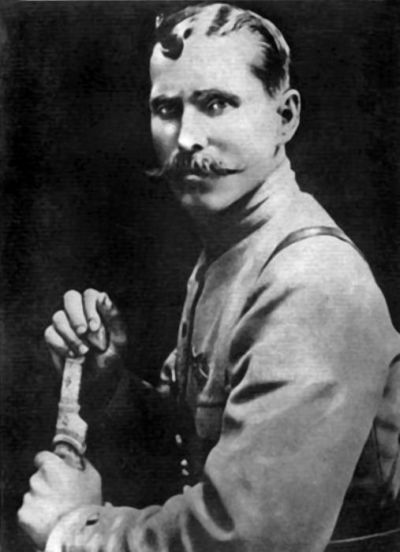
Чапаев – член исполкома Николаевского Совета, военный комиссар уезда. 1918 г.

Аркадий, Клавдия и Александр – дети В. И. Чапаева. 1922 г.

Чета Чапаевых: Василий Иванович и Пелагея Никаноровна. 1916 г.

С. Н. Булак-Балахович. 1919 г.

Булак-Балахович и его конный полк в Пскове. 1919 г.

Армия Булак-Балаховича в Белоруссии. 1920 г.

Г. И. Котовский с сыном Григорием на отдыхе. 1925 г.
© Григорий Шмерлинг, из архива В. Г. Шмерлинга

Котовский – командир 17-й кавалерийской дивизии РККА. 1920 г.
© Григорий Шмерлинг, из архива В. Г. Шмерлинга

На физзарядке в штабе дивизии Котовского. 1920 г.
© Григорий Шмерлинг, из архива В. Г. Шмерлинга

О. П. Котовская у гроба мужа. Август 1925 г.
© Григорий Шмерлинг, из архива В. Г. Шмерлинга
1
Совр. Тернополь.
2
Валь Э. Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина. 1914–1915. Таллин, 1933. С. 9–10; http://www.grwar.ru/library/Val_KaledinMove/VC_01.html. Здесь и далее в цитатах из дневников и документов сохранены особенности орфографии и пунктуации оригинала.
3
Там же. С. 3, 61.
4
Соколов В. И. Заметки о впечатлениях участника войны 1914–1917 гг. Опубликованы на сайте «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/Sokoloff-Impression/SI_01.html.
5
Брусилов А. А. Воспоминания. М., 1963. С. 175–176; http://militera.lib.ru/memo/russian/brusilov/10.html.
6
Оберучев К. М. В дни революции (Воспоминания участника великой русской революции 1917-го года). Нью-Йорк, 1919; http://ru.wikisource.org/wiki/В_дни_революции_(Оберучев)#.
7
Смирнов А. А. Вожди белого казачества. Атаман Каледин. СПб., 2003. С. 3.
8
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. М., 1924. Т. 1. С. 51.
9
В дореволюционное время имело место относительное единообразие в обозначении соединений и объединений русской армии. В частности, номера полков, дивизий и армий писались арабскими цифрами, а номера корпусов, как правило, римскими. После Октябрьской революции, в период Гражданской войны единообразие было утрачено, что отразилось в первоисточниках и исторической литературе.
10
Совр. Хмельницкий.
11
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 54; 04.html.
12
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М., 1957. С. 11–12.
13
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 54; 04.html.
14
В данном случае даты по григорианскому календарю (новому стилю) даются в начале и без скобок. В остальных случаях (кроме специально оговоренных) даты событий, имеющих преимущественное отношение к российской истории и произошедших по 31 января 1918 года включительно, даются по юлианскому календарю (старому стилю). Даты, имеющие преимущественное отношение к истории зарубежных стран, и даты всех событий, произошедших после 31 января 1918 года, даются по григорианскому календарю. (Отметим, что в источниках белогвардейского происхождения старый стиль широко использовался и после перехода Советской России на григорианский календарь.)
15
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 16: Период от объявления войны до начала сентября 1914 г. Первое вторжение русских армий в Восточную Пруссию и Галицийская битва / Сост. Я. К. Цихович. М., 1922. С. 133–134; http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_1/SE_01_03.html.
16
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 92; 06.html.
17
Верховский А. И. Россия на Голгофе. Пг., 1918. С. 20.
18
Валь Э. Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина. С. 10, 56–59; 01.html, 10.html, 11.html.
19
Совр. Ивано-Франковск.
20
Валь Э. Г. Кавалерийские обходы генерала Каледина. С. 60; 11.html.
21
Высочайший приказ от 3 ноября 1915 года. Цит. по: сайт «Русская императорская армия. Каледин Алексей Максимович»: http://www.regiment.ru/bio/K/23.htm.
22
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 176–177; 10.html.
23
Сергеев-Ценский С. Н. Преображение России. Горячее лето. Гл. VI, III: http://www.classic-book.ru/lib/al/book/1092.
24
Ветошников Л. В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940. С. 74.
25
Нелипович С. Г. Виновных в трагедии не искали. Почему? Материалы расследования боя 4-го Сибирского корпуса 14 (27) сентября 1916 года // Военно-исторический журнал. 1998. № 6. С. 44.
26
Соколов В. И. Заметки…
27
Геруа Б. В. Воспоминания о моей жизни. Т. 2. Париж, 1969. С. 164–165.
28
Указом Николая II в августе 1914 г. Санкт-Петербург был переименован в Петроград.
29
Гиацинтов Э. Н. Записки белого офицера. СПб., 1992. С. 96–97.
30
Максимов М. М. Выдержки из воспоминаний Максимова Маркела Михайловича (1893–1986). Рукопись: сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/Maximov-Memories/MM_07.html.
31
Попов К. Воспоминания кавказского гренадера. 1914–1920 гг. Белград, 1925. С. 194; http://www.grwar.ru/library/CaucasusGrenadeer/CO_09.html.
32
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 271; 15.html.
33
Гиацинтов Э. Н. Записки белого офицера. С. 114.
34
Попов К. Воспоминания кавказского гренадера. С. 194–195.
35
Оберучев К. М. В дни революции…
36
Русское слово. 1917. 15 (28) августа.
37
Антонов-Овсеенко В. А. Записки о Гражданской войне. С. 24.
38
Цит. по: А. А. Данцев. Атаман со свинцом в сердце. Сайт «Казачий стан»: http://www.kazakdona.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&page=1&cat_id=66&nums=66.
39
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 72–73; 05.html.
40
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2003. № 11. С. 56.
41
VIII армейский корпус был включен в состав 8-й армии в самом начале войны; непосредственно этим корпусом Брусилов не командовал.
42
Соколов В. И. Заметки…
43
Месснер Е. Э. Луцкий прорыв: К 50-летию Великой победы. Нью-Йорк, 1968. Цит. по: сайт «Русская императорская армия»: http://www.regiment.ru/Lib/A/14/2.htm.
44
Оберучев К. М. В дни революции…
45
Об этом же эпизоде – отступлении 8-й армии в декабре 1914 г. – упоминает и А. И. Деникин, объясняя его «психологическим надрывом» Брусилова: Деникин А. И. Очерки русской смуты. Ч. 1. Гл. 2; сайт «Военная литература». http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_02.html.
46
Совр. Томашув-Любельский.
47
Совр. Пшемысль, Польша.
48
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 210–211: 12.html.
49
Цит. по: Ветошников Л. В. Брусиловский прорыв. Оперативно-стратегический очерк. М., 1940. С. 6.
50
Месснер Е. Э. Луцкий прорыв…
51
Белькович Л. Н. Заметки о майском прорыве 1916 года // Военно-исторический сборник. Труды Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. Вып. 3. М., 1920. С. 68.
52
Месснер Е. Э. Луцкий прорыв…
53
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 5. Период с октября 1915 г. по сентябрь 1916 г. Позиционная война и прорыв австрийцев Юго-Западным фронтом / Сост. В. Н. Клембовский. М., 1920. С. 47–48; сайт «Русская армия в Великой войне»; http://www.grwar.ru/library/Strateg_Essay_5/SE_05_04.html.
54
Соколов В. И. Заметки…
55
Совр. Живачов.
56
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2003. № 8. С. 38–39.
57
Данные по: Нелипович С. Г. Наступление русского Юго-Западного фронта летом – осенью 1916 года: война на самоистощение? // Отечественная история. 1998. № 3. С. 47.
58
Спиридович А. И. Великая война и Февральская революция: 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1962. Кн. 3. С. 63.
59
Там же. С. 21.
60
Там же. С. 277–279, 291.
61
Цит. по: Семанов С. Н. Брусилов. М., 1980; http://www.litmir.net/br/?b=162228&p=64.
62
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 263; 15.html.
63
Стратегический очерк войны 1914–1918 гг. Ч. 7: Кампания 1917 г. / Сост. А. М. Зайончковский. М., 1923. С. 66, 70.
64
Там же. С. 84.
65
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 280.
66
Цит. по: Семанов С. Н. Брусилов; http://www.litmir.net/br/?b= 162228&p=73.
67
Декреты Советской власти. М., 1964. Т. 3. С. 291–292.
68
Цит. по: Семанов С. Н. Брусилов; http://www.litmir.net/br/?b=162228&p=75.
69
Совр. Влоцлавек, Польша.
70
Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1991. С. 45–46.
71
Совр. Бяла-Подляска, Польша.
72
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 58.
73
Цит. по: Теребов О. В. А. И. Деникин против канцелярщины, показухи и произвола // Военно-исторический журнал. 1994. № 2. С. 90–94.
74
Соколов К. Н. Правление генерала Деникина (из воспоминаний). София, 1921. С. 39–40.
75
Соколов В. И. Заметки…; сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/Sokoloff-Impression/SI_01.html.
76
Врангель П. Н. Записки. Кн. 1. Гл. 2; сайт «Русская императорская армия»: http://www.regiment.ru/Lib/B/41/2.htm, 3.htm.
77
Шавельский Г. И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. Т. 2. Нью-Йорк, 1954. С. 326–327.
78
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. М., 1957. С. 29.
79
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 81–82.
80
Там же. С. 188.
81
Там же. С. 240–242.
82
Там же. С. 255.
83
Совр. Верхний Лужок, Старосамборский район, Львовская область, Украина.
84
Совр. Медзилаборце, Польша.
85
Совр. Лютовиска, Польша.
86
Месснер Е. Э. Луцкий прорыв: К 50-летию Великой победы. Нью-Йорк, 1968; http://www.regiment.ru/Lib/A/14/1.htm.
87
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 274.
88
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 185–186.
89
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 285–286.
90
Соколов В. И. Заметки…
91
Месснер Е. Э. Луцкий прорыв; http://www.regiment.ru/Lib/A/14/2.htm.
92
Маннергейм К. Г. Э. Мемуары. М., 1999. С. 62.
93
Цит. по: Семанов С. Н. Брусилов; http://www.litmir.net/br/?b= 162228&p=66, 67.
94
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 279–280.
95
Цит. по: Кожемякин М., Раскина Е. Венчанные под канонаду. Семья и карьера генерала Деникина: http://samlib.ru/m/mihail_kozhemjakin/denikin.shtml.
96
Цит. по: Венков А. В. Донская армия. Сайт «Казакия. Инфо»: http://forum.kazakia.info/viewtopic.php?f=44&t=570&p=1400#p1394.
97
Роман Гуль имеет в виду большевистских лидеров, известных под революционными псевдонимами (Ленин – Ульянов, Троцкий – Бронштейн, Антонов – Овсеенко и т. д.).
98
Гуль Р. Я унес Россию. Т. 1. Ч. 1: http://www.dk1868.ru/history/gul1_1.htm.
99
Совр. Днепропетровск.
100
Совр. Волгоград.
101
Деникин А. И. Поход на Москву. Киев, 1990. С. 15.
102
Ганин А. В. Каменев Сергей Сергеевич: сайт «100 великих полководцев. Герой дня»: http://100.histrf.ru/commanders/kamenev-sergey-sergeevich/.
103
Там же.
104
Махров П. С. В Белой армии генерала Деникина. Записки начальника штаба Главнокомандующего Вооруженными Силами Юга России. СПб., 1994. С. 56.
105
Носович А. Л. Красный Царицын: взгляд изнутри. Записки белого разведчика. М., 2010. С. 53–54.
106
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 353.
107
Махров П. С. В Белой армии…
108
Совр. Гусев, Калининградская область.
109
Новицкий Ф. Ф. Лодзинская операция в ноябре 1914 г. (из личных воспоминаний участника) // Война и Революция. 1930. № 6. С. 111.
110
Там же. С. 112–113.
111
Цит. по: Ганин А. В. Каменев Сергей Сергеевич // Там же.
112
Там же.
113
Завесой именовалась система обороны, организованная советской властью в период германского наступления в феврале – марте 1918 года.
114
Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства в СССР. 1930–1931 годы. М., 2000: http://www.xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd1-1.html#3ruk.
115
Тухачевский М. Н. На Восточном фронте // Красная звезда. 1935. № 14. 16 янв.
116
В некоторых источниках мемуарного характера встречаются другие имя и отчество матери Корнилова – Мария Ивановна.
117
В мемуарах генерал-лейтенанта Самойло есть упоминание о Корнилове как об однокашнике автора по Московскому Алексеевскому училищу: Самойло А. А. Две жизни. М., 1958. С. 36. Одно из двух: либо память подвела мемуариста, либо Корнилов на какое-то время был переведен в Алексеевское училище – факт, насколько нам известно, не отмеченный его биографами.
118
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 57; http://www.dk1868.ru/statii/kornilov1.htm (более полный текст).
119
Цит. по: Белоголовый Б. Г. Кашгарские письма Лавра Корнилова // Московский журнал. 1995. № 11.
120
Данные о походах Корнилова в районе Кашгара в статье: «По следам Богдановича и генерала Корнилова. Загадка перевала Старый Караташ» (без указания автора): http://www.risk.ru/users/leb/192008/.
121
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов // Вопросы истории. 2006. № 1. С. 60–61; http://www.dk1868.ru/statii/kornilov1.htm.
122
Там же. С 61.
123
Оберучев К. М. В дни революции. Нью-Йорк, 1919; http://ru.wikisource.org/wiki/В_дни_революции_(Оберучев).
124
Цит. по: Скрылов А. И. Исторические данные к побегу генерала Л. Г. Корнилова из австро-венгерского плена // Вестник первопоходника. 1962. № 10, июль; http://vepepe.ru/publ/7-1-0-32.
125
Гуль Р. Ледяной поход (с Корниловым). Ч. 1: С фронта до Ростова; http://militera.lib.ru/memo/russian/gul_rb/01.html.
126
Гуссак Г. Перед походом // Вестник первопоходника. 1961. № 2, октябрь; http://vepepe.ru/news/2010-09-17-2.
127
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Крушение власти и армии, февраль – сентябрь 1917. Париж, 1921. С. 145–146; http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/1_07.html.
128
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 282.
129
Шихлинский А. А. Мои воспоминания. Баку, 1984. С. 158.
130
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 156.
131
В подписи под текстом указаны инициалы автора: «Е. Л.», но это, по-видимому, опечатка.
132
Мартынов Е. Л. Гибель дивизии Корнилова // Военно-исторический сборник. Труды Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. Вып. 1. М., 1919. С. 33, 50.
133
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 105–107.
134
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 259.
135
Гонвед – во время Первой мировой войны войска венгерского формирования и подчинения в составе австро-венгерских вооруженных сил.
136
Брусилов А. А. Воспоминания. С. 131.
137
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 265–267.
138
Соколов В. И. Заметки…
139
Цит. по: Мартынов Е. Л. Гибель дивизии Корнилова. С. 47.
140
Деникин А. И. Путь русского офицера. С. 278.
141
Шихлинский А. А. Мои воспоминания. С. 157–158.
142
Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 65.
143
Мрняк был вначале осужден на смертную казнь, в результате повторного рассмотрения дела получил 10 лет тюремного заключения. После распада Австро-Венгрии в 1918 г. был освобожден и жил в Чехословакии.
144
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов: http://www.dk1868.ru/statii/kornilov1.htm.
145
Красный архив. Т. 2 (21). М.; Пг., 1927. С. 4–16.
146
Цит. по: Цветков В. Ж. Лавр Георгиевич Корнилов. С. 66; http://www.dk1868.ru/statii/kornilov2.htm.
147
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 2: Борьба генерала Корнилова. Август 1917 г. – апрель 1918 г. Париж, 1921. С. 54; http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/2_05.html.
148
Дело генерала Л. Г. Корнилова. Август 1917 – июнь 1918. Документы и материалы. Т. 2. М., 2003. С. 493.
149
Родионов И. Ночь с 28 на 29 августа // Вестник первопоходника. 1964. № 30, мaрт; http://vepepe.ru/publ/28-1-0-217.
150
Относительно чина Плющевского-Плющика существует неясность. В августе 1917 г. он занимал генеральскую должность в Ставке (2-й генерал-квартирмейстер), но сведений о его производстве в генерал-майоры нет. В Добровольческой армии он участвовал в генеральском чине.
151
Цит. по: Рид Дж. Десять дней, которые потрясли мир. М., 1958. С. 185.
152
Троцкий Л. Д. Петроград (октябрь 1917–1919 гг.) // Правда. 1919. № 250. 30 окт.
153
Цит. по: Соколов Б. В. Михаил Тухачевский: жизнь и смерть «Красного маршала». Смоленск, 1999. С. 64.
154
ВВС – Высший военный совет, орган руководства Красной армией в период с марта по сентябрь 1918 г.
155
Бонч-Бруевич М. Д. Указ. соч. С. 295.
156
Сейчас город Ветлуга относится к Нижегородской области.
157
Совр. Димитровград.
158
Совр. Ольштын, Польша.
159
Восточно-прусская операция. Август 1914 г. (без указания автора). Сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/EastPrussiaVIII/EPO_63.html.
160
Там же. 64.html.
161
Совр. Ольштынек, Польша.
162
Восточно-прусская операция. Август 1914 г. (без указания автора). Сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/library/EastPrussiaVIII/EPO_85.html.
163
Там же. 811.html.
164
Там же. 824.html.
165
Цит. по: Солнцева С. А. Ударные формирования русской армии в 1917 году // Отечественная история. 2007. № 2. С. 48–49.
166
В некоторых публикациях «проходными казармами» называют комплекс казарм Московского полка между Фонтанкой и Загородным проспектом. Вряд ли мог ошибаться генерал Бонч-Бруевич, когда совершенно определенно помещал их на Мойке; см.: Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 100.
167
Там же. С. 52.
168
Троцкий Л. Д. Петроград…
169
Директивы командования фронтов Красной армии (1917–1922 гг.): Сб. документов. Т. 1. М., 1971. С. 22–23.
170
Там же. С. 43–44.
171
Там же. С. 45.
172
В белогвардейских и эмигрантских источниках дата гибели Корнилова указывается по старому стилю – 31 марта.
173
Цит. по: Комаровский Е. А. Генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов // Белое движение. Исторические портреты. М., 2006. С. 42.
174
Цит. по: Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 300.
175
Там же. С. 301–302.
176
Юткевич С. И. Из ненаписанных мемуаров // Панорама искусств. Вып. 11. М., 1988. С. 83.
177
Список полковникам по старшинству. Сост. на 1-е ноября 1906 г. СПб., 1907. С. 977.
178
Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 93.
179
Врангель П. Н. Записки. Кн. 1. Гл. III; http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/03.html.
180
Штейфон Б. А. Кризис добровольчества. Белград, 1928. С. 8–10.
181
Макаров П. В. Адъютант генерала Май-Маевского. Л., [1927?]. С. 18; http://lib.rus.cc/b/425835/read.
182
Критский М. А. Корниловский ударный полк. Париж, 1936. С. 116–117.
183
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. Гл. 11; http://militera.lib.ru/h/denikin_ai2/5_11.html.
184
Белой А. С. Галицийская битва. М.; Л., 1929. С. 171.
185
Верховский А. И. На трудном перевале. М., 1959. С. 43–44.
186
Базаревский А. Наступательный бой 11-й русской пехотной дивизии 6–7 сентября 1915 г. западнее г. Трембовля // Война и Революция. 1930. № 2.
187
Туркул А. В. Дроздовцы в огне. Картины Гражданской войны 1918–1920. Мюнхен, 1947; http://militera.lib.ru/memo/russian/turkul_av/01.html.
188
Деникин А. И. Очерки… Т. 5. Гл. 11; http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/5_11.html.
189
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 12–13.
190
Там же. С. 13.
191
Там же. С. 20.
192
Спиридович А. И. Великая Война и Февральская Революция 1914–1917 гг. Нью-Йорк, 1960. Кн. 1. С. 103.
193
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 69.
194
Там же. С. 100.
195
Там же. С. 101.
196
Там же. С. 94–95, 98.
197
Там же. С. 129–130.
198
Там же. С. 130.
199
Там же. С. 226, 232.
200
Там же. С. 245.
201
Там же. С. 317.
202
Директивы командования фронтов Красной армии. Т. 1. С. 91–93.
203
Бонч-Бруевич М. Д. Вся власть Советам. С. 237.
204
Там же. С. 343.
205
Цит. по: Тинченко Я. Ю. Голгофа русского офицерства…: http://www.xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd1-1.html#3ruk.
206
Врангель Н. Е. Воспоминания: от крепостного права до большевиков; http://www.dk1868.ru/history/VRANG4.htm.
207
Там же.
208
Прошение и прилагаемые к нему документы цит. по: Ковригина И. А., Костров А. В. П. Н. Врангель в Иркутске (1902–1906 гг.): «документальные жизнеописания» и архивные документы. // Новый исторический вестник. 2012. № 32 (2); http://www.nivestnik.ru/2012_2/10.shtml.
209
Там же.
210
Там же.
211
Совр. Шэньян и Чанчунь.
212
Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 1; http://www.regiment.ru/Lib/B/41/1.htm#Книга_1.
213
Совр. названия: Гумбиннен – Гусев, Инстербург – Черняховск, Кёнигсберг – Калининград (Калининградская область, Россия); Ковно – Каунас, Вильковишки – Вилкавишкис (Литва).
214
Совр. Вирбалис, Литва.
215
Совр. поселок Междуречье, Калининградская область.
216
Совр. Нестеров, Калининградская область.
217
Цит. по: Соколов Б. В. Врангель. М., 2009; http://lib.rus.ec/b/389478/read. К сожалению, в книге нет указания на первоисточник.
218
Свечин М. А. Записки старого генерала о былом. Ницца, 1964; http:// ilitera.lib.ru/memo/russian/svechin_ma01/index.html.
219
Макаров П. В. Адъютант генерала Май-Маевского. Л., [б. г.]. С. 23.
220
Лехович Д. В. Белые против красных. М., 1992; http://militera.lib.ru/bio/lehovich_dv/25.html.
221
Махров П. С. В Белой армии генерала Деникина. СПб., 1994. С. 64, 101.
222
Деникин А. И. Очерки русской смуты. Т. 5. Гл. 3; http://militera.lib.ru/memo/russian/denikin_ai2/5_03.html.
223
Цит. по: Соколов Б. В. Врангель; http://lib.rus.ec/b/389478/read.
224
Цит. по: Квакин А. В. Белый рыцарь. Письма генерала П. Н. Врангеля жене, баронессе О. М. Врангель // The New Review (Новый журнал). Нью-Йорк, 2005. № 238. С. 76–120.
225
Врангель П. Н. Записки…
226
Там же.
227
Дочь барона Врангеля: «Отец умер не своей смертью» / Подгот. И. Изгаршев // Аргументы и факты. 2003. № 7. С. 8.
228
Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 2. http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/02.html.
229
Буденный С. М. Слово о старшем друге // Андрей Евгеньевич Снесарев. Жизнь и научная деятельность. М., 1973. С. 5.
230
Цит. по: Примечания А. Воронцова к Царицынскому дневнику Снесарева. Сайт «Андрей Евгеньевич Снесарев»: http://a-e-snesarev.narod.ru/primechaniya1.pdf.
231
В дореволюционном российском университетском образовании диссертации писались при окончании полного учебного курса (то есть соответствовали дипломным работам советского времени). Защитившие диссертацию именовались кандидатами; незащитившие или неписавшие – действительными студентами.
232
Фотокопия послужного списка на сайте «Андрей Евгеньевич Снесарев»: http://a-e-snesarev.narod.ru/posluzhnoy_spisok.pdf.
233
Евангелие от Луки, 11: 40.
234
Цит. по: И один в поле воин. Жизнь и творчество А. Е. Снесарева / Сост. А. Е. Савинкин // Афганские уроки. Российский военный сборник. Вып. 20. М., 2003. С. 372.
235
Фотокопия послужного списка на сайте «Андрей Евгеньевич Снесарев»: http://a-e-snesarev.narod.ru/posluzhnoy_spisok.pdf.
236
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева // Военно-исторический журнал. 2003. № 8. С. 35.
237
Материал на сайте «Андрей Евгеньевич Снесарев»: http://a-e-snesarev.narod.ru/nagrady.html.
238
Фронтовые дневники генерала А. Е. Снесарева. № 9. С. 33.
239
На сайте «Андрей Евгеньевич Снесарев». Там же.
240
Там же. № 8. С. 40.
241
Там же. № 8–11; 2004. № 3, 4, 6.
242
Цит. по: И один в поле воин. С. 399.
243
Цит. по: Снесарев А. Е. Наследие Мировой войны // И один в поле воин… С. 285.
244
Цит. по: «Гроза тыла и любимец фронта»: генерал Я. А. Слащов в 1920–1921 гг. / Вступ. статья, подгот. текста и ком. Л. И. Петрушевой // Новый исторический вестник. 2004. № (1) 10.
245
Там же.
246
Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 5; http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/05.html.
247
Там же. Т. 2. Гл. 7; 12.html.
248
Ходнев Д. И. Лейб-Гвардии Финляндский полк в великой и гражданской войнах. Париж, 1932. С. 33.
249
Цит. по: Слащов (Слащев) Яков Александрович. Сайт «Русская армия в Великой войне»: http://www.grwar.ru/persons/persons.html?id=655.
250
Там же.
251
К. Р. Т. Фронт // Военная быль. Париж, 1974. № 127. С. 38–40; http://www.regiment.ru/Lib/C/245.htm.
252
Ходнев Д. И. Лейб-гвардии Финляндский полк. С. 32–34.
253
Цит. по: «Гроза тыла и любимец фронта»…
254
Слащов-Крымский Я. А. Оборона Крыма // Гражданская война в России: Оборона Крыма. М.; Л., 2003. С. 40.
255
Долгополов А. Добровольческие десанты в Азовском и Черном морях // Вестник первопоходника. 1967. № 67/68, апрель – май.
256
Цит. по: «Гроза тыла и любимец фронта»…
257
После 1921 г. – Запорожье.
258
Долгополов А. Добровольческие десанты…
259
Цит. по: «Гроза тыла и любимец фронта»…
260
Снесарев А. Е. Царицынский дневник. Сайт «Андрей Евгеньевич Снесарев»: http://a-e-snesarev.narod.ru/tsaritsinskiy_dnevnik.pdf.
261
Цит. по: Тинченко Я. Голгофа русского офицерства…; http://www.xxl3.ru/krasnie/tinchenko/razd1-2.html.
262
Батов П. И. В походах и боях. М., 1974. С. 21–22.
263
Минаков С. Т. Сталин и его маршал. М., 2004. С. 122.
264
Сабанеев Л. Л. Воспоминания о России. М., 2005; http://www.belousenko.com/books/memoirs/sabaneev_vosp_o_rossii.htm.
265
Родословная Тухачевских подробно рассмотрена в работах: Минаков С. Т. Сталин и его маршал (М., 2004) и 1937. Заговор был! (М., 2010).
266
Гуль Р. Б. «Красные маршалы»: Тухачевский, Ворошилов, Блюхер, Котовский. М., 1990; http://militera.lib.ru/bio/gul2/01.html.
267
Цит. по: Кантор Ю. З. Война и мир Михаила Тухачевского. М., 2005. С. 75–76. Реми Рур под псевдонимом Пьер Фервак опубликовал книгу о Тухачевском: Fervacque P. Le chef de l’Armйe rouge Miсhail Toukhatchevski. Paris, 1928.
268
Иванов-Дивов 2-й, капитан. 7-я рота Лейб-гвардии Семеновского полка в Галиции // Военная быль. 1968. № 91, май.
269
Совр. Кшешув, Польша.
270
Журнал боевых действий 1-й гвардейской пехотной дивизии 1914 г. Париж, б/г. С. 9; http://www.grwar.ru/library/FD_1_1914/FD_1_1914.html.
271
Касаткин-Ростовский Ф. Н. Воспоминания о Тухачевском. Цит. по: Кантор Ю. З. Война и мир Михаила Тухачевского. С. 49.
272
Типольт А. А. Такое не забывается // Маршал Тухачевский: воспоминания друзей и соратников. М., 1965. С. 19.
273
Цит. по: В свой полк из плена через шесть границ. Новые документы о М. Н. Тухачевском / Подгот. В. М. Шабанов // Военно-исторический журнал. 1996. № 5. С. 90–91.
274
Там же. С. 91–92.
275
Цит. по: Кантор Ю. З. Война и мир Михаила Тухачевского. С. 116.
276
Цит. по: Минаков С. Т. Сталин и его маршал. С. 25.
277
Макаров П. В. Адъютант генерала Май-Маевского.
278
Самутин Л. А. Не сотвори кумира // Военно-исторический журнал. 1990. № 11. С. 68.
279
Макаров П. В. Адъютант генерала…
280
Махров П. С. В Белой армии… С. 115.
281
Там же. С. 126.
282
Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 5; http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/05.html.
283
Там же. Т. 1. Гл. 2; http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/02.html.
284
Елисеев Ф. И. С Корниловским конным: http://www.dk1868.ru/history/s_korn_konn4.htm.
285
Краснов П. Н. Всевеликое войско Донское // Архив русской революции. Т. 5. Берлин, 1922. Гл. 13; http://militera.lib.ru/memo/russian/krasnov_pn2/01.html.
286
Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 2; http://militera.lib.ru/memo/russian/vrangel1/02.html.
287
Шкуро А. Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М., 2004. Гл. 2; http://militera.lib.ru/memo/russian/shkuro_ag/02.html.
288
Цит. по: Бардадым В. Жизнь генерала Шкуро. Краснодар, 1998. С. 14; испр. по: Дерябин А. И. Крестный путь казака Андрея Шкуро // Шкуро А. Г. Гражданская война в России: Записки белого партизана. М., 2004. С. 7–8.
289
Гумилев Н. С. Записки кавалериста. Глава IV // Биржевые ведомости. № 14881 от 3 июня 1915 г.
290
Мензелинцев Н. Н. Партизаны 1915 года // Военная быль. 1967. № 86, июль.
291
Калинин И. М. Русская Вандея. М.; Л., 1926. Гл. 10; http://profismart.ru/web/bookreader-115366-14.php.
292
Шавельский Г. И. Воспоминания. Т. 2. Гл. 12; http://militera.lib.ru/memo/russian/shavelsky_gi/32.html.
293
Макаров П. В. Адъютант генерала…
294
Махров П. С. В белой армии. С. 126–127.
295
Материал на сайте «Научно-просветительский журнал Скепсис»: Запись представителями Харьковской еврейской общины свидетельств жертв насилия со стороны военнослужащих Вооруженных сил Юга России (ВСЮР) в июне – июле 1919 г. в г. Харькове // Государственный архив РФ. Ф. Р-1339. Оп. 1. Д. 445. Л. 47–54 об. (копия): http://scepsis.net/library/id_1866.html; Запись представителями Харьковской еврейской общины свидетельств очевидцев о расстрелах подразделениями ВСЮР в июне – июле 1919 г. в г. Харькове // Государственный архив РФ. Ф. Р-1339. Оп. 1. Д. 445. Л. 8 об. – 10 (копия): 1867.html; Запись сообщения свидетельницы С. Л. Беккер уполномоченным Редакционной коллегии о погроме частями ВСЮР в г. Черкассы Киевской губ. 16–21 августа 1919 г. // Государственный архив РФ. Ф. Р-1339. Оп. 1 Д. 438. Л. 74–75 об. (копия):1874.html.
296
Дневник Штукатурова // Военно-исторический сборник. Труды Комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914–1918 гг. Вып. 1. М., 1919. С. 135–156.
297
Буденный С. М. Пройденный путь. Кн. 1. М., 1958. С. 28.
298
Бабель И. Э. Конармейский дневник 1920 года. М., 1990: http://militera.lib.ru/db/babel/index.html.
299
В очерке об Унгерне цитаты из Врангеля даются по: Врангель П. Н. Записки. Т. 1. Гл. 1; http://www.regiment.ru/Lib/B/41/1.htm#Книга_1. Остальные цитаты, кроме специально оговоренных случаев, – по изданию: Юзефович Л. А. Самодержец пустыни (Феномен судьбы барона Р. Ф. Унгерн-Штернберга). М., 1993; http://militera.lib.ru/bio/yuzefovich/index.html.
300
Совр. Ховд, Западная Монголия.
301
Совр. Улан-Батор.
302
Урянхайским краем, или Урянхаем, именовалась Тува.
303
Цит. по: Кузьмин С. Л. История барона Унгерна: опыт реконструкции. М., 2011. С. 65.
304
Ужасное дитя (фр.).
305
Унгерн неточен в цифрах: в Книге пророка Даниила 1290 и 1335 дней (Дан. 12: 11–12).
306
Государственный архив РФ. Ф. Varia. Д. 392. Л. 1–6; http://www.vojnik.org/civilwar/docs/2.
307
Цит. по: Кузьмин С. Л. История барона Унгерна. С. 302.
308
Эрлик-Сарыг-Хан – Желтый Князь Бездны (тувин., монгол.) – подземное божество смерти у некоторых центральноазиатских народов; один из восьми докшитов у буддистов-ламаистов.
309
Кок-Тенгри – Синее (голубое, зеленое) Небо – высшее божество ряда древних центральноазиатских культов.
310
Совр. Димитровград.
311
Цит. по: Чапаева Е. А. Мой неизвестный Чапаев. [Б. м.], 2005. С. 24; http://chapaev.ru/3/Glava-2-Kresty-i-porokh/. К сожалению, правнучка Василия Ивановича, цитируя документы, не дает ссылок на источники.
312
Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1969. С. 30–31.
313
Там же. С. 37.
314
Там же. С. 36–37.
315
Цит. по: Дайнес В. О. Чапаев. М., 2010. С. 29.
316
Там же. С. 34.
317
Комуч – Комитет членов Учредительного собрания – антибольшевистское правительство, организованное в 1918 г. в Поволжье.
318
Цит. по: Ганин А. В. Чапай в академии. Василий Иванович и высшее военное образование // Родина. 2008. № 4. С. 97.
319
Фурманов Д. А. Из дневников (извлечения): http://militera.lib.ru/db/furmanov_da01/furmanov_da01.html.
320
Цит. по: Ганин А. Е. «Чапай настроен слишком нежно» // Родина. 2011. № 2. С. 75.
321
Фурманов Д. А. Из дневников…
322
Совр. поселок Жалпактал, Западно-Казахстанская область, Казахстан.
323
Цит. по: Беленкин Б. И. Авантюристы великой смуты. М., 2001. С. 373.
324
Цит. по: Машко В. В. Булак-Балахович Станислав Никодимович // Новый исторический журнал. 2002. № 2 (7).
325
Последние четыре цитаты приводятся по изданию: Беленкин Б. И. Авантюристы… С. 371–401.
326
Маргулиес М. С. Год интервенции. Берлин, 1923. Кн. 2. С. 229–230.
327
Там же. С. 111.
328
Горн В. Л. Гражданская война в Северо-Западной России // Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров. Л., 1927. С. 17.
329
Вандам – псевдоним, которым подписывал свои статьи офицер Генерального штаба Алексей Ефимович Едрихин. В 1907 г. он официально сменил неблагозвучную фамилию, доставшуюся ему от отца-солдата на «генеральскую» – Вандам. Под этой фамилией дослужился до генерал-майора.
330
Горн В. Л. Гражданская война… С. 11.
331
Там же. С. 11–12.
332
Маргулиес М. С. Год интервенции. С. 120.
333
Порозов Н. А. Бойцы держались стойко // В те боевые годы. Л., 1978. С. 93.
334
Иванов Н. Н. О событиях под Петроградом в 1919 году // Юденич под Петроградом. Из белых мемуаров. Л., 1927. С. 253.
335
Письмо Котовского к Брусиловой здесь и далее цит. по: Шабанов В. М. Из дневника Н. В. Брусиловой // Военно-исторический журнал. 1990. № 8.
336
Совр. Хынчешты, Молдавия. С 1944 г. – поселок Котовское, с 1965 по 1990 г. – город Котовск.