Книга: Бабур-Тигр. Великий завоеватель Востока
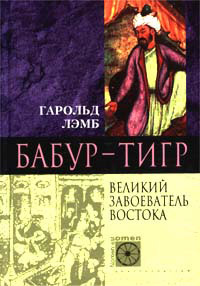
Бабур – Тигр. Великий завоеватель Востока
По христианскому летосчислению Бабур родился в 1483 году, в одной из долин, расположенных в горных районах Центральной Азии. Кроме этой долины, у его семьи не было другого достояния, если не считать двойной традиции власти. По линии матери род мальчика восходил к самому Чингисхану – повелителю монгольского улуса, едва не ставшему покорителем вселенной в ее известных тогда пределах, а по линии отца его предком был Тимур-и-Лэнг – Железный Хромец, воинственный тюрок, которого европейцы именовали Тамерланом. Таким образом, военный опыт и необузданность монголов смешались в его крови с напористостью тюрков. Двойное наследство имело и более глубокие корни – общее происхождение от кочевых народов.
С незапамятных времен кочевые племена Северной и Центральной Азии существовали за счет скотоводства и охоты, в которой проявляли исключительную сноровку. Дорогами им служили пересохшие русла ручьев, земельными наделами – пастбища среди пустынь, а убежищем – поросшие лесом горы. В поисках безопасных мест обитания и лучших пастбищ они мигрировали через заснеженные перевалы со всем своим имуществом – овечьими отарами, табунами лошадей и крытыми войлоком шаткими юртами. Время от времени, вдохновляемые каким-нибудь влиятельным главой рода, кочевые племена объединялись в захватнические орды, включающие в себя всех способных держать в руках оружие мужчин. Воины на выносливых, хоть и низкорослых степных конях были вооружены луками-сагайдаками и носили кольчуги либо безрукавки из толстой кожи для защиты от вражеских стрел. Покидать свои богом забытые уделы их вынуждала засуха, или более сильные племенные союзы, или алчная зависть к роскоши далеких городов. Грабительские набеги кочевников повторялись с привычной регулярностью природного явления. В отдаленной Западной Европе появление первых волн гуннов, аваров, булгар, тюрков и монголов порождало слухи о гневе Господнем и выходе из заточения племен Гога и Магога.
Что касается Бабура, то образ жизни его предков был для него в значительной степени лишь воспоминанием. Впрочем, кочевнические инстинкты были в нем все еще сильны, несмотря на то что именно кочевников он считал своими заклятыми врагами.
Мигрирующие племена Центральной Азии развили в себе особые способности. Непрерывная борьба с суровым климатом способствовала выносливости и предприимчивости; необходимость защищать свое жилье, стада и более слабых домочадцев превратила их в опытных организаторов. Утверждение о том, что во время военных действий свирепые конники не раз доказывали свое превосходство над изнеженными горожанами, давно превратилось в избитую истину. И лишь изредка можно встретить суждение, что их превосходство объяснялось острым умом и способностью приспосабливаться к обстоятельствам. Один из первых миссионеров-римлян заметил, что в ходе военных действий «татары» проявляли себя куда меньшими варварами, чем воины христианской Европы. Почти за поколение до Бабура кочевые племена турков-османов захватили практически неприступный Константинополь, и это объяснялось не столько превосходством в силе, сколько великолепной организацией переправы через Босфор, а также использованием новейшей осадной артиллерии.
Завоевания древних победителей – ханов и султанов из Центральной Азии – подтверждают их незаурядные способности к стратегии. В течение двух поколений широкомасштабные военные действия под знаменами Чингисхана стерли с лица земли множество городов, освободив место для нового строительства. Хубилай-хан, правитель Китая, который монголы называли Великим Юртом, вряд ли мог распорядиться о возведении «величественного прекрасного дворца», однако построил резиденцию в охотничьих угодьях и отремонтировал торговые дороги, как свидетельствовал мессир Марко Поло. При своем организаторском таланте монгольские ханы обладали чувством ответственности за весь мир. Их китайская династия Юань стояла во главе обширной империи; ильханы в Персии, обосновавшись в культурном Тебризе, взяли под свое начало крайне дезорганизованные территории и применяли научные методы руководства. Позднее османы основали крупное государство – Османскую империю (в Европе ее именовали Оттоманской) – и сделали своей столицей Константинополь, в котором до их прихода царил глубокий застой. Именно в это время Камбалу, Тебриз и Константинополь, прежде не поддерживавшие между собой никаких отношений, установили дипломатические и торговые связи. Установившийся мир, часто называемый монгольским, был в большей степени результатом умелого правления, чем возросшей военной мощи. Таким же был и pax Romano [1] за тысячу лет до пришествия монголов.
В то время как железная рука Рима поддерживала порядок, основанный на жесткой системе законов, монгольские ханы исходили из правил, предписанных Ясой – кодексом жизни кочевников, составленным по приказу и при участии Чингисхана. Великий завоеватель предугадал возвышение кочевой знати – «всех тех, кто живет в войлочных юртах», – над подвластным ей земледельческим людом. Сила степной знати должна была, по его убеждению, основываться на непобедимом войске орды; контроль за армией поручался лишь его собственным потомкам – Алтын Уруку [2] . Единственными советниками правящего Золотого рода могли быть нойоны – умудренные в боях полководцы. Однако великий завоеватель не мог предвидеть, что его потомки получат совсем иное воспитание.
За два поколения многие из них совершили свой последний переход – в чужие богатые города. Уместно заметить, что раньше, чем внук Чингисхана Хубилай окончательно завоевал Китай, одержав победу над вымирающей династией Сун, Китай покорил самого Хубилая. Важную роль в расколе Золотого рода сыграли и вопросы религии. В эпоху своих завоеваний тюрки и монголы были язычниками, терпимыми – или безразличными – к религиям других народов. Постепенно монархи династии Юань склонились к буддизму, а ильханы Персии – к исламу. В действительности при жизни Бабура на обширных территориях, простиравшихся от скованных льдами плато Тибета до далеких берегов Волги, традиции Ясы оказались вытеснены строгими законами ислама. В этом сражении Чингисхан потерпел поражение от Мухаммеда.
Таким образом, слившись с чуждыми цивилизациями, потомки завоевателя отдалились друг от друга, а степная знать – монгольские нойоны и тюркские тарханы – постепенно рассеялись среди культурного общества оседлых землевладельцев, торговцев, а также их философских и религиозных наставников. И снова, повинуясь естественным законам, начал разгораться конфликт между уцелевшими кочевыми племенами и оседлым населением. Две области из тех, что Чингисхан пожаловал во владение своим сыновьям, не изменили кочевому образу жизни и в большей или меньшей степени придерживались законов Ясы.
Распространение тюрко-монгольских завоеваний породило значительные перемены в примыкающих государствах – вплоть до берегов Дуная, затронув
Киевскую Русь и граничащие с ней польско-литовские княжества. Однако на родине самих монголов и тюрков мало что изменилось. По-прежнему кочевые племена разрушали городские поселения, щадя, однако, центры караванной торговли, и, борясь за господство, раздували очаги вспыхивавших, как эпидемии чумы, столкновений между разными племенными союзами.
Скудные степи, лежащие между реками Урал и Иртыш, на северо-западе Ферганы, родины Бабура, относились к вотчине Джучи – старшего и наиболее непоседливого из сыновей завоевателя. Во время правления Бату, сына Джучи, кочевая орда стала известна в Европе под названием Золотая Орда, – возможно, такое название объяснялось великолепием построек, установленных вдоль восточного берега Волги. Это о них Чосер писал:
В татарском граде Сарра проживал
Царь, что нередко с Русью воевал [3] .
Ханы из рода Джучи, живущие вдали от всех цивилизаций, не считая той, что существовала за стенами городов Руси, не искали сближения с остальными ханствами. Распространение ислама в этих мрачных степях происходило очень медленно. После того как центробежная сила расколола Золотую Орду, часть ее осколков, отброшенная к востоку от Волги, стала называться кипчаками или народом пустыни. Однако приблизительно в то же время, когда османы захватили Константинополь, начал образовываться новый стержень и среди кипчаков, называвших себя узбеками, что, как предполагали некоторые этимологи, происходило от тюркского словосочетания «ozu bek» – «сам себе голова» (точная этимология этого слова неизвестна). Вооруженные луками узбекские всадники повели активное наступление на земли, принадлежавшие роду Чагатая.
Чагатай был вторым сыном Чингисхана. Его владения находились в самом сердце Центральной Азии и охватывали часть плато Тибета. Они включали в себя степи и пустыни, простирающиеся до горной гряды, где Тянь-Шань встречается с Гиндукушем и облачными вершинами Памира. Весьма вероятно, что эти земли также были населены кочевниками, как и степи, принадлежащие узбекам. Однако кое-где островкам цивилизации все же удавалось устоять, в особенности там, где пересекались торговые пути, или неподалеку от святилищ – несторианских христиан или мусульманских, не имело значения. Такие центры, как Кашгар, Алмалык и Бишбалык, выстояли во время первого монгольского нашествия, а затем перешли к потомкам Чагатая. При них-то и пошатнулись древние законы Ясы. Храня свои сокровища за крепостными стенами городов, они, вместе со своими племенами, продолжали кочевать с зимних пастбищ, расположенных по берегам рек, на горные летние пастбища и обратно. Эти потомки Чагатая превратились в довольно неотесанную знать, престолом которой служила конская спина. Они пребывали в глубоком невежестве и не имели собственной письменности, однако вели между собой постоянные распри. Их главным городом был Кашгар, лежащий к востоку от горной гряды и в то время находившийся в зоне китайского влияния. Эта страна была известна под названием Моголистан – Страна монголов, которые, по свидетельству китайцев, ничем не отличались от разбойников.
Ханы, проживавшие к западу от горного барьера, старались оправдать звание потомков Чагатая. Их цитаделью стал обнесенный крепкими стенами Ташкент, расположенный в стороне от изъезженных степей, где проходил Великий Северный путь, которым следовали караваны, привозящие из Китая шелк. Они с трудом обороняли свои пастбища от вторжения язычников-киргизов и кочевых казахских племен, к тому же их земли лежали прямо на пути переселения узбеков, перемещавшихся на юг. К этой ветви Чагатаев и принадлежал Бабур – потомок сурового властителя Ташкента – Каменного города, который не мог правильно произнести имя своего внука.
Юго-западные окраины вотчины Чагатаев разительно отличались от остальной территории. Между двумя реками, несущими свои воды к Аральскому морю, плоскогорье прорезали плодородные долины. Здесь два древних города образовывали некие островки культуры среди полноводного океана кочевников. Бухара обязана своим расцветом многочисленным святыням и мусульманским учебным заведениям; Самарканд прославился благодаря торговле и роскоши своих дворцов. Вокруг них, на орошаемых полях развивалось земледелие. Вдоль этой цепи долин, протянувшейся между
Амударьей и Сырдарьей, ислам практически вытеснил древнюю Ясу. И именно отсюда в конце четырнадцатого века начал свое восхождение единственный великий тюрок, Тимур-и-Лэнг. Тимур сделал Самарканд своей цитаделью и превратил его в богатый город, свозя сюда добычу после набегов. Железный Хромец высоко держал знамена ислама и водил свои войска против орд кочевников, рассеяв остатки Золотой Орды Батыя и Чага-тая, включая и ханов Моголистана. В последние годы своей жизни Тимур возвеличил Самарканд, разграбил земли Северной Индии, разгромил армию султанов Османской империи и добился того, что имя Тамерлан сеяло ужас в далекой Европе. Он умер в 1405 году, направляясь в Китай, где восходила звезда новой династии Мин, сменившей старую династию Юань.
Несмотря на то что столицей этого недолговечного государства был Самарканд, оно ориентировалось на западную персидскую культуру. Персидские ремесленники изготовляли изразцы для его дворцов, возвышавшихся в окружении садов, персидские поэты увековечивали подвиги великого завоевателя, который довольствовался титулом «эмир». Однако Тимур не был истинным потомком Чингисхана, имя которого он распорядился высечь на своем надгробии лишь для того, чтобы возвеличить собственные достоинства.
Войны Тимура закончились, и началась эпоха Возрождения Тимуридов – самый славный период в искусстве Центральной Азии. Правление его сына в Самарканде и внука – в Герате ознаменовалось расцветом просвещения и искусства, уподобившим эти города западной Флоренции. В течение ближайших сорока лет длился мир и все нити политической жизни государства находились в руках наследников Тимура. В 1465 году Абу Саид, принадлежавший к роду Тимуридов, провозгласил себя правителем земель, простиравшихся от Кавказских гор до Кашгара. Тогда же узбеки, наследники улуса Джучи, начали свое восхождение к власти, опираясь на законы Ясы, забытые наследниками Тимура.
После 1465 года между Тимуридами разгорелось соперничество, и тот из них, кому достался самаркандский престол, не стал прилагать особые усилия для справедливого раздела владений между своими братьями. Одному из них достался расположенный на юго-западе Герат, где царило искусство; другой брат завладел вершинами Гиндукуша, откуда брали свое начало великие реки Амударья и Сырдарья; третий брат захватил южные области и Кабул, лежащие у подножия Гиндукуша и населенные афганцами. Самому слабому из братьев досталась Ферганская долина, расположенная в восточных областях владений. Это и был отец Бабура.
Можно сказать, что судьба обошлась с Бабуром довольно бесцеремонно, когда в результате падения Тимуридов забросила его в эту забытую богом долину, лежащую у подножия заснеженных вершин, – пусть даже и неподалеку от Каменного города, оплота монгольских Чагатаев. Ферганскую долину, на протяжении долгих месяцев отрезанную от внешнего мира снегами, питал единственный ручеек – караванная дорога, идущая из Самарканда к пограничным постам Китайской империи. По сути дела, долина служила границей между землями кочевников и по-прежнему великолепным Самаркандом – между земледельцами и охотниками, наукой и варварством. Далекая и ничем не примечательная, она, казалось, была обречена на безвестность.
Однако в ее судьбу вмешалось перо Бабура. На малоизвестном чагатайском наречии [4] он составил и записал историю Ферганы и своей собственной жизни (в книге цитируется по «Бабур-наме», Ташкент, 1958, в пер. С. Азимджановой. – Примеч. ред.). В молчании той эпохи Бабур заставил услышать свой голос.
Читая эти записи, сделанные пять столетий назад, мы как будто внимаем рассказу, поведанному нам у вечернего костра, когда, спешившись с коня, Бабур устраивался у входа в свой шатер, закончив преследование или, что случалось значительно чаще, ускользнув от преследования врагов. День за днем Бабур рисует перед нами картины эпохи, предшествовавшей приходу европейцев, явившихся, чтобы прибрать к рукам сокровища Востока.
В тогдашней Европе, на малоизвестном острове Англия, могущественный дворянин замышлял сместить юного короля Эдуарда и взойти на престол под именем Ричарда III; на противоположных берегах бурного Ла-Манша десятилетний Байяр проходил период своего ученичества, прислуживая на турнирах и мечтая о звании кавалера, чтобы совершать подвиги во славу французской лилии. Дальше к востоку монах Савонарола проповедовал о спасении души, запугивая собравшиеся толпы неотвратимостью кары Господней. В тот период Европой можно было считать лишь территории до восточных замков тевтонских рыцарей, посвятивших себя крестовым походам против язычников, населявших берега Балтики. Португальские эскадры рыскали вдоль западного побережья Африки в поисках пути в восточные страны. Среди участников одной из таких экспедиций нашелся особенно упрямый морской волк, заявивший по возвращении в Лиссабон, что до Азии можно добраться, держа курс на запад, – через океан. Однако требование Христофора Колумба дать ему каравеллы, чтобы повести их в этот поход, осталось в те годы без ответа.
Бабур родился в 1483 году, в самый разгар зимы, когда снег завалил горные склоны до самых вишневых садов и перекрыл перевалы, так что в долину можно было добраться лишь по вьющейся вдоль реки самаркандской дороге. Долина оказалась практически отрезанной от внешнего мира. В эти дни среди женщин, вывесивших ковры из окон ветхого дворца, поднялось ликование – родившийся младенец был первым мальчиком в семье. Его сестре уже исполнилось пять – достаточно, чтобы взять новорожденного под свое покровительство.
Со всех концов долины съезжались преданные Омар Шейху старейшины племен и правители городов, рассчитывавшие в обмен на поздравления получить от счастливого отца достойное угощение. Дела у Омар Шейха, человека более великодушного, нежели прозорливого, в последнее время шли не блестяще. Выпив запретного вина вместе с пожелавшими присоединиться к нему гостями, он велел позвать прорицателя, чтобы услышать счастливое предсказание судьбы Бабура, после чего продолжил пирушку, поминая пророчества «Шахнаме» [5] чаще, чем суры ортодоксального Корана. В воображении Омар Шейха вставали тени его великих предков. До сих пор его любимым коньком было разведение голубей: он души не чаял в своих птицах, разносивших его послания, и терпеливо обучал их выполнению разнообразных трюков, зорко следя за тем, чтобы поблизости не появлялся сокол. С рождением Бабура Омар Шейх всем сердцем привязался к мальчику.
Когда Бабур подрос и начал делать собственные выводы, за суетливой добротой отца он распознал бессилие.
Омар Шейх «отличался большой щедростью, и нрав его соответствовал его щедрости. Он был государь с высокими помыслами и великими притязаниями и всегда имел стремление к захвату чужих владений. Он неоднократно водил войска на Самарканд, иногда терпел поражение, иногда возвращался против своей воли. Он был четвертым сыном султана Абу Саида-мирзы (последнего, кто сумел собрать воедино осколки империи Тамерлана). Он был невысокого роста, тучный, с круглой бородой. Халат он носил очень узкий и, стягивая пояс, убирал живот внутрь; если же, стянув пояс, он давал себе волю, то завязки часто лопались. В одежде и пище он был неприхотлив; чалму обвертывал, опуская концы вниз. Летом везде ходил в монгольской шапке. Омар Шейх-мирза был человек чистой веры; он не пренебрегал пятикратной молитвой и часто читал Коран; чаще всего он читан «Шахнаме». Это был добродушный… человек, смелый и отважный муж это был. Стрелял из лука он посредственно, но здорово бился на кулаках; ни один йигит не мог устоять под ударом его кулака… В прежние времена он много пил, но позднее устраивал попойки раз или два в неделю. Он был человек влюбчивый… а также постоянно играл в нарды, а иногда и в кости».
В отличие от отца мать Бабура всецело посвящала себя заботам о хозяйстве, вынужденном жить плодами собственного труда. При дворе она получила прозвище Моголка, поскольку ее отцом был Юнус-хан, монгольский правитель Каменного города. (Слово «монгол» произносилось в долине «могол».) Хотя она умела читать и наслаждение поэзией было ей не чуждо, времени на подобные удовольствия у нее почти не оставалось: она следила за детьми и, как могла, поддерживала пышность своего маленького двора – такого жалкого в сравнении с Каменным городом, где она провела свое детство, пока не стала женой импульсивного толстяка, одержимого голубями, вином и призрачными мечтами о победах.
Только через год ее родители приехали с севера, чтобы лично поздравить ее с рождением сына, —
Юнус-хана задержал отъезд родственников – монголов из рода Чагатаев, которые упорно держались за привычный для них образ жизни и кочевали вместе со своими стадами, захватывая добычу во время набегов. Юнус-хан не менее упорно держался за новый образ жизни, надеясь привить основы торговли и религии своему воинственному народу и, с удобством расположившись в яблоневых садах, стремился подражать мудрости Хафиза. Будучи человеком хитрым, Юнус-хан объединял своих соплеменников, готовя их к новым завоеваниям. Он был привычен к превратностям судьбы и без колебаний переселился из тюрьмы во дворец, едва лишь великий Абу Саид призвал его – прямого потомка Чингисхана – из узилищ Персии на ханский престол, отдав ему во власть осколки империи Чагатаев.
Юнус-хан, везущий подарки своему внуку, вступил в долину в полном блеске своего величия, – он ехал во главе вооруженного отряда, под завывания труб и грохот барабанов, осеняемый конскими хвостами монгольских штандартов. Тучный Омар Шейх поспешил к нему навстречу на расстояние одного дня пути, – такая поспешность объяснялась отчасти уважением к царствующему хану, отчасти сомнениями, может ли он рассчитывать на помощь опытного старого монгола или же тот, напротив, отнимет у него еще часть земель. «Несколько раз, – вспоминал впоследствии Бабур, – он призывал к себе своего тестя Юнус-хана. Призвав его, Омар Шейх-мирза всякий раз давал ему какую-нибудь область, и даже Ташкент [Каменный город], который одно время был во власти Омар Шейха-мирзы».
На этот раз Юнус-хан прибыл в мягком расположении духа, и, присутствуя в качестве главы семьи при первом бритье головы Бабура, наградил его этим прозвищем после безуспешных попыток выговорить данное ребенку при рождении имя Захиреддин (в переводе с арабского «хранитель веры») Мухаммед. Старый монгол воскликнул, что мальчик напоминает ему тигренка. Прозвище сохранилось за будущим завоевателем на всю жизнь [6] .
Во время этого визита ребенок сумел завоевать и сердце своей бабушки, Исан. Она носила тонкий белый платок без наличного покрывала и дорожный халат, отделанный темным соболем, и все женщины молча склонялись при ее появлении. Имя Исан было окутано легендами, восхваляющими ее женскую доблесть. Юнус-хану исполнился сорок один год, когда он сделал ее своей женой, взяв из отдаленного племени, – уже тридцать лет молодая женщина разделяла с ним злоключения и триумфы и сама кормила его из своих рук из-за усиливающегося паралича. Однажды, когда Юнус-хану пришлось выехать за восточные пределы Моголистана, чтобы раздобыть зерна у своих родственников, Исан попала в руки его кровного врага, который отдал ее одному из своих приближенных. Исан подобающим образом встретила своего нового повелителя, а затем, помогая ему раздеваться, убила его, о чем и велела сообщить своему захватчику, объяснив, что он может лишить ее жизни, но не заставит принадлежать никому, кроме Юнус-хана. Ее с почестями отправили обратно к мужу. Исан не имела никакого образования, кроме сурового жизненного опыта, но обладала присущим кочевникам чутьем на всякую опасность и умением ловко ее избегать. Ее бдительность впоследствии не раз сослужила Бабуру хорошую службу.
Сам же Юнус-хан предстал перед Всевышним за год до того, как Тигра, как все называли мальчика, взяли в его первое путешествие в Самарканд. В свои пять лет он уже был в состоянии оценить чудесные дворцы, стоящие среди величественных садов, и многочисленные усыпальницы под куполами, голубые изразцы которых горели на ослепительном солнце. Неизвестно, что поразило его больше – Гур Эмир, гробница легендарного Тимура, выточенные из слоновой кости фигурки животных на китайской пагоде или загадочный бестелесный голос, откликавшийся ему в «Мечети с эхом». В саду, называвшемся Усладой сердца, зал для отдыха украшали картины, на которых был запечатлен индийский поход Тимура, и мальчик, должно быть, не сводил глаз с нарисованных всадников, – так похожих на тех, что он видел в родной долине, – которые обращали в бегство удивительных боевых слонов.
Вряд ли Тигр пришел в восторг, когда в Самарканде его познакомили с будущей женой. Пятилетнюю царевну Айшу, закутанную в покрывало, вывели к нему для совершения церемонии обручения, по окончании которой она убежала прочь.
Бабур решил, что Айша – заносчивая девчонка, и остался при своем мнении. Видимо, куда более сильное впечатление мог произвести на него другой случай, – в те дни султан Ахмед, его дядя, готовился ко второй свадебной церемонии. Ахмед, в то время занимавший самаркандский престол, предпринял очередную попытку добиться примирения между своими братьями, втайне вынашивая планы их свержения; он и пригласил маленького Бабура завершить взрослую свадьбу, сняв покрывало с лица невесты. Мальчик, добросовестно старавшийся справиться с поручением, слышал смех знатных гостей, в котором явственно звучала ирония.
Он уже научился распознавать скрытые чувства женщин, составлявших его окружение, – неприязнь Айши; покровительственную опеку своей сестры Ханзаде, которая страстно мечтала о взрослых украшениях; ласковые упреки своей заботливой матери и неусыпную опеку Исан, – все это не могло пройти для него незамеченным. На следующий год его взяли с женской половины, чтобы передать на попечение отца.
Со смертью Юнус-хана – грабителя, бывшего одновременно и защитником, – отец с сыном лишились последнего союзника среди многочисленной родни. Трех старших братьев объединяло желание выдворить Омар Шейха из его владений, и только взаимное недоверие удерживало их от воплощения этого замысла сразу после заключения перемирия в Самарканде. Поэтому, хотя тучный Омар Шейх не обладал значительными богатствами, вследствие чего испытывал недостаток в хорошо вооруженном окружении, в его руках по-прежнему оставалась густо населенная долина с плодородной землей. Она и стала первой любовью Бабура – с тех самых пор, как он смог сопровождать отца в поездках по Ферганской долине.«Фергана, – позднее пояснил Тигр, – находится на границе возделанных земель. На востоке от нее – Кашгар, на западе – Самарканд, на юге – горы Бадахшанской границы. На севере хотя раньше и были такие города, как Алмалык и Алма-Ата, как пишут в исторических книгах, но теперь из-за нашествий моголов и узбеков они разрушены, и там совсем не осталось населенных мест.
Фергана – небольшая область, хлеба и плодов там много. Вокруг Ферганы находятся горы; с западной окраины, где Самарканд и Ходжент, гор нет; зимой ни с какой стороны, кроме этой, враг не может пройти. Река Сейхун приходит в Фергану с северо-восточной стороны, проходит севернее Ходжента, потом снова уклоняется на север и течет в сторону Туркестана; значительно ниже… эта река, не сливаясь ни с какой другой рекой, вся впитывается в песок и исчезает».
В этих северных степях Юнус-хан выставлял конные дозоры. Теперь, на глазах у мальчика, они превратились во враждебную территорию, со стороны которой на горизонте возникали темные тучи варварских орд. Горные гряды, будучи природной границей, не могли служить защитной стеной, поскольку всадники легко преодолевали их, продвигаясь вдоль стекавших с вершин ручьев, питавшихся талыми снегами. Именно таким маршрутом пользовались караваны, прибывавшие с востока и привозившие на рынки Самарканда товары из
Киты (Китая). В те времена караваны останавливались на привал в заросших клевером лугах возле родного города Тигра, чтобы отдохнуть после дороги, которую приходилось прокладывать сквозь глубокие снега, и перегрузить свою поклажу с длинношерстных яков и пони на лошадей. Красную пустыню возле Самарканда груз пересекал уже на верблюдах.
На время зимних холодов верхние перевалы становились непроходимыми. Однажды караван был погребен на перевале под снегом, и в долину спустились только два человека, оставшиеся в живых.«Получив об этом известие, мой отец послал сборщиков и задержал все товары каравана. Хотя наследников налицо не было, Омар Шейх-мирза сберег товары, несмотря на то, что сам нуждался. Год или два спустя он вызвал наследников из Самарканда и Хорасана и вручил им их товары в целости… Справедливость его достигала высокой степени».
Омар Шейх был заботлив по отношению к другим, но не к себе. Он любил приглашать гостей в Андижан, но пренебрегал его укреплением.
Вскоре Бабур обнаружил, что в его долине существует два отдельных царства: равнина с селениями, расположенными вдоль рек, и дикая горная страна. Начав с девяти арыков, отводивших в город воду небольшой речки, – несколько лет его поражало, как вода исчезает среди домов, – он распространил свои исследования дальше, к зарослям калины и узкому ущелью, известному под названием Прыжок козы, а затем и до обзорного пункта, находящегося на заснеженной горе Бара.
Под ним расстилался зеленый ковер лугов, усеянный пасущимися стадами и домиками отдаленных селений. Вокруг его наблюдательного пункта тянулись голые склоны летних пастбищ, где в непродуваемых ветром кожаных шатрах селились горные племена, окруженные скудными стадами овец и черных коз. Горцы приветствовали мальчика подношениями – миндалем или жирными фазанами. По наблюдениям Бабура, которого всегда сопровождала вооруженная стража, из одной такой птицы можно было приготовить хороший обед. Во время прогулок по горным пастбищам Бабур поражался чудесам природы, – он видел гранитный утес, похожий на гробницу, и отвесно стоящий камень, такой темный и гладкий, что в нем можно было разглядеть свое отражение, за что камень и прозвали «зеркальным». Горы хранили свои тайны, недоступные жителям города, – тропы, обозначенные кучками камней, предназначались для тех, кто хотел уйти в другую долину, скрываясь от преследования закона. Быстро взрослевший Тигр изучил эти тайные тропы; в обществе своих юных товарищей он охотился на белых кийиков.
В селениях случались праздники, обычно совпадавшие с приходом весны или сбором урожая; люди постарше вместе с Омар Шейхом частенько прикладывались к запретному вину и играли в нарды или кости. Весной, когда зацветали розы и тюльпаны, молодежь прикрепляла зажженные свечи к спинам больших черепах, чтобы побродить по саду после захода солнца. Когда поспевали дыни, все съезжались на конские состязания.
Казалось, города запомнились беззаботному Тигру в основном своими вкусными плодами и спортивными состязаниями. В древнем Ходженте, там, где караванный путь подходил к реке Сыр, собирали самые сочные гранаты, а на кишащих змеями холмах добывали превосходную бирюзу. Бабур наслаждался начиненными миндалем сушеными абрикосами из Маргилана, который также славился лучшими кулачными бойцами. В этом городе что ни день случались шумные уличные сражения, и не случайно сложилась поговорка: «Все драчуны – из Маргилана». Над рекой возвышался город, которому предстояло стать для Тигра домом. Ахси была самой старой и неприступной крепостью в долине; сначала Омар Шейх поселился здесь, но затем передумал, оставив в крепости только голубятню. Ветры пустыни гуляли среди голых камней крепости, защищающей город.
«Река Сейхун течет под крепостью. Крепость стоит на высоком яру. Вместо рва там служат глубокие овраги. Пригороды тянутся на расстояние более одного шери от крепости. Поговорку «Где деревня, а где деревья?», вероятно, сказали про Ахси. Дичь в Ахси очень хороша, там много белых кийиков. Дыни там бывают очень хорошие; неизвестно, существуют ли еще где-нибудь в мире такие дыни».
Бабур никогда не забывал этих тяжелых желто-вато-коричневых дынь, таких вкусных, что их назвали в честь Тимура-повелителя. Однако Омар Шейх решил перевезти свою семью в Андижан, расположенный на восточном краю долины, и, судя по всему, Бабур не был в восторге от такого решения. Он сообщает, что Андижан был со всех сторон стиснут крепостными стенами, а его улицы стекались к дороге, шедшей вокруг крепости. Роль крепостного рва выполнял обыкновенный ручей, – обстоятельство, которое вскоре едва не оказалось для Бабура фатальным.
Здесь, расположившись во фруктовом саду, Бабур получал образование при содействии своего наставника. Зимой они занимались в зале, отапливаемом жаровнями. Мальчику следовало много читать, – когда ему исполнится одиннадцать, у него не будет времени на чтение. Тот же учитель наставлял и его младших братьев во всем, что касалось чисел, расположения небесных светил, традиций ислама и истории его семьи, поколения которой восходили к Тимуру и Чагатаям. В памяти Бабура, обладавшего живым любознательным умом, откладывались любопытные подробности. Он замечал, как его наставник, такой требовательный во время занятий, в другое время был распутен и лестью завлекал в свою постель красивых мальчиков. Другой же наставник, сообщает он, был «распутный, вероломный и недостойный лицемер».
С ранних лет вокруг мальчика звучали по меньшей мере три языка, и он легко освоил старый тюркский язык его родины, а также персидский диалект городских улиц и литературные персидский и арабский языки, свойственные образованным людям. Игра слов зачаровывала его. Глубоко интересуясь всем, что происходило вокруг, он стремился донести до жителей родной долины сказания религиозных мудрецов, ходжей, и красноречивые творения поэтов. Он декламировал строки из великой «Шахнаме», – ему казалось, что она воспевает совсем недавние события: победы и поражения героических царевичей, так же, как и он сам, живших в маленьких долинах.
Юный Тигр обладал практическим умом и стремился познать все загадки, с которыми ему приходилось сталкиваться. Среди книг, хранившихся в крепости Андижана, лишь немногие были недоступны его пониманию. Стихи провидца Руми намекали на то, что под звездным небом все находится во власти таинственных существ, – Они, Не имеющие имени, являлись человеку во сне. Его отец умел чудесно декламировать Руми, но обливался потом, когда пытался объяснить эти тайны. Бабур сумел выяснить у своего отца единственное – все тайны бытия известны некоему Ахрари, Учителю святых людей. Но Ахрари никогда не заглядывал в далекий Андижан, в крепость с обвалившимися стенами. Лишь странствующие звездочеты приходили туда, чтобы получить еду и несколько серебряных монет за свои предсказания.
Прислушиваясь к вечерним разговорам, мальчик заключил, что домашний уклад его далеких дядей во многом схож с укладом его семьи. Несмотря на всю свою сноровку в играх и любовь к дорогим винам и коврам, ни один из четырех сыновей Абу Саида не мог похвастаться богатствами; а поэтов, слагавших в их честь хвалебные оды, нельзя было даже сравнивать с Руми; великодушные и беспечные, они грелись в лучах заимствованной славы, – обычные искатели удачи, снедаемые желанием превзойти и ограбить один другого.
Свои надежды, связанные с Самаркандом и наследным престолом, Омар Шейх возложил на сына, рассчитывая впоследствии захватить и сам Ташкент. Хотя Омар Шейх был плохим стрелком и неуклюжим наездником, именно он настоял на том, чтобы Бабура начиная с десятилетнего возраста обучали владению оружием. Однако, отданный в руки наиболее искусных воинов, Бабур все равно не расставался со своими книгами. Тренировками для него служили регулярные выезды на охоту, а также эпизодические военные рейды за реку. Распри с горцами не ограничивались отдельными стычками; нападения следовало опасаться в любую минуту, и наставники Бабура внушали ему, что он должен быть готов к нему постоянно, особенно в самый неподходящий для себя момент – когда спит или собирает яблоки. Воин по прозвищу Живодер, отличавшийся замечательной храбростью, но недалекий умом, учил мальчика облачаться в свободную кольчугу и легкий стальной шлем сидя на спине лошади, поскольку пеший человек ни на что не годится. Живодер показывал Бабуру, как управляться с короткой изогнутой саблей, как пользоваться круглым щитом и делать обманные движения в седле; он учил его стрелять из короткого тюркского лука по цели, движущейся впереди или позади него. Перед тем как попасть к Омар Шейху, опытный Живодер состоял на службе у Юнус-хана.
Седеющий Касим, полновластный вельможа, не придавал большого значения искусству поединка, говоря, что в голове у овечьего пастуха Давида было больше здравого смысла, чем у вооруженного мечом Голиафа, и что Бабур должен первым наносить врагу сокрушительный удар с помощью стрел. Этих слов Бабур не забыл, но не был уверен, заслуживает ли Касим такого же доверия, как скудоумный, но испытанный Живодер. Для него было очевидно, что на господ высокого ранга, поглощенных собственными амбициями, нельзя полагаться в той же степени, как на обычных слуг. Еще один вельможа, Ибн-Якуб, обучил его приемам, позволяющим управлять лошадью с помощью коленей. Двигаясь быстро, говорил Якуб, ты становишься неуязвимой целью. Якуб был храбрым и воинственным; он принимал участие в спортивных развлечениях мальчиков, подбадривая их во время игры в конное поло или чехарду. Если царственный орел, говорил он Бабуру, не расправит над тобой свои крылья, то твои кости достанутся черному ворону. Этим он хотел сказать, что без надлежащей протекции и царевич может погибнуть, как обычный бродячий попрошайка. Якуб был склонен к иносказаниям.
Неграмотный Касим выражался без околичностей. Несмотря на то что летом 1494 года пастбища были тучными, а в полях созревал хороший урожай, опасения Касима вызывало то, что было скрыто от их глаз. Он сообщил, что султан Ахмед, старший из дядьев Бабура, добился взаимопонимания с Махмуд-ханом, первым сыном Юнус-хана, и что кони этой парочки пасутся на подступах к Фергане. Это, заявил Касим, означает войну, а Омар Шейх, правитель Ферганы, которому следует призвать своих подданных к оружию, просто уехал полюбоваться своим урожаем и голубями, бросив Андижан на попечение судьи – достойнейшего человека, но отнюдь не воина.
Преподобный кади, род которого славился своей праведностью даже в Самарканде, не соглашался ни с весельчаком Якубом, ни с опытным Касимом. Судья утверждал, что не существует лучшей защиты, чем помощь Всевышнего; нет никаких законов, кроме священных заповедей. Рано или поздно Тигр сам в этом убедится, заверял он. Бабур недоумевал: возможно ли, что его отцу, человеку широкой души и обаятельному в общении, по-прежнему тешившему себя запретным одуряющим напитком, нардами и костями, тоже было доступно нечто подобное?
Однажды, ясным летним днем, когда Омар Шейх отбыл в скальную крепость Ахси для инспекции голубятни, Бабур, прихватив своих соколов и веселых приятелей, отправился в сад, расположенный на холмах в предместьях Андижана, где собирался отдохнуть в прохладном павильоне после соколиной охоты. (Омар Шейх не позволял заниматься этим поблизости от своих голубей.) В этом саду и застал его гонец. Все произошло в понедельник.«Случилось удивительное происшествие, – рассказывает Бабур. – Голубятня упала со скалы вместе с голубями и Омар Шейхом, который совершил таким образом перелет в мир иной… В месяце рамазане года 899 [7] я стал государем области Ферганы на двенадцатом году жизни».
«Как галька, выброшенная на берег»
Поддавшись первому побуждению, Бабур помчался во дворец. Он всегда был порывист и обычно не тратил времени на размышления. Поручив своего сокола одному из спутников, он вскочил на коня и пустил его галопом; остальные устремились следом. На первой же улице города его перехватил полновластный вельможа и, схватив коня за узду, отговорил Бабура от возвращения во дворец, где его могла ждать засада. Ферганская долина осталась без защитника; со смертью Омар Шейха любой высокородный бек, имевший при себе надежное войско, мог забыть о своей преданности его роду. Всадники промчались по городу, направляясь к Воротам Молитв, обращенным к террасам южных склонов. Скрывшись в этом направлении, Бабур мог бы выждать некоторое время, наблюдая за развитием событий с безопасного расстояния.
Однако возле самых ворот их перехватил пожилой слуга с поручением от судьи, в котором тот просил Бабура немедленно прибыть во дворец. Бабур не стал медлить и застал почтенного кади и горстку преданных вельмож в момент жаркого спора о том, что следует сделать для мальчика, поскольку тот не способен взять на себя управление страной. «В те дни, – как позднее написал индийский историк, – он был как галька, выброшенная на берег».
Оставалось надеяться лишь на то, что беки, получившие земли из рук Омар Шейха, не изменят своей клятве верности. В противном случае ситуация складывалась настолько скверно, что хуже и представить себе невозможно. Слабовольный отец Бабура оставил ему в наследство все свои междоусобные распри с более могущественными родственниками. Один из них, Ахмед, уже выступил из Самарканда, и западные области открыли перед ним ворота своих городов. Войско Ахмеда приближалось к городу, в то время как старший сын Юнус-хана, бывший на тот момент его союзником, пересек реку Сыр и продвигался к Ахси, грозя отрезать находившуюся там мать Бабура и его младшего брата. На перевалах восточных гор, где проходил караванный путь, ведущий в Китай, были замечены и другие враги.
Судья отверг довольно бессвязные предложения относительно организации обороны. Единственный выход для царевича, объявил он, в том, чтобы воззвать к самому доброму и могущественному из завоевателей, к его дяде Ахмеду, повелителю Самарканда, который по счастливому совпадению является отцом его будущей жены, и, кроме того, верен заветам Господа.
Бабур немедленно согласился. Позднее он набросал красноречивый портрет султана Ахмеда, которому в то время было около сорока лет.
«Он был прост и неотесан и не обладал никакими дарованиями. Тюрбан навертывал по обычаю того времени: в четыре оборота, неизменно совершал пятикратную молитву, и даже во время винопития, которое длилось порой двадцать – тридцать дней подряд, не пренебрегал молитвой; иногда, воздерживаясь от чаши, он не пил тоже по двадцать – тридцать дней, но ел много возбуждающих средств. Хотя султан Ахмед-мирза вырос в городе, он ничего не читал. Однако он был человеком чистой веры и большинство важных дел решал согласно пути закона. Будучи человеком очень вежливым, он никогда не скрещивал ноги, не считая того случая, когда в том месте, где он сидел, нашли торчащую из земли кость. Стрелял из лука он очень хорошо и, проносясь с одного конца ристалища до другого, в большинстве случаев по нескольку раз сбивал укрепленную на шесте мишень. В более позднее время, когда он сильно растолстел, Ахмед охотился на фазанов и перепелов с ловчими ястребами. По природе это был человек простой, немногословный и отличавшийся скупостью; воля его была в руках беков».
Следуя советам судьи, Бабур поспешил отправить гонца к султану Ахмеду, чтобы выразить ему свою покорность как «сын и слуга» и попросить у него разрешения остаться в городе. Замысел провалился; Ахмед, человек по натуре беззлобный, был склонен принять предложение, но пошел на поводу у беков, которые сочли бессмысленным уступать мальчишке то, что само плыло им в руки. Не давая коням передышки, они гнали их по направлению к Андижану.
Андижан, в те времена благословенное местечко, получившее в подарок от судьбы плодородные поля и близость оживленных торговых путей, совсем не напоминал крепость. Невысокая цитадель стояла на берегу реки; канаву, служившую крепостным рвом, засыпали, и на ее месте образовалась улица. К тому же городское население не имело ни малейшего желания отстаивать интересы царевича с оружием в руках. Основную массу населения, будь то торговцы, крестьяне или ремесленники, составляли таджики, исконные обитатели этих земель, предпочитавшие не вмешиваться в распри своих повелителей – воинственных монголов и тюрков, вторгшихся в их горную страну несколько веков назад.
Беки с той частью армии, что встала на сторону Тигра, – среди них был и Якуб, – предприняли попытку залатать бреши в крепостных стенах и запастись провизией на городском рынке. Тем временем Живодер убедил вельмож выехать из города вместе с царевичем, чтобы по крайней мере выяснить, каковы планы неприятеля. Небольшой отряд тайно покинул город, и судья заметил, что им следует вверить свою судьбу в руки Аллаха…
Дойдя до обмелевшей реки, беглецы заметили на противоположном берегу темную массу – это были всадники султана Ахмеда. Дальнейшее поразило Бабура, который испытал в тот день настоящее потрясение.
Самаркандское войско неслось во весь опор. Увидев на другом берегу андижанцев, всадники резко свернули к воде. Через глинистую жижу и топкие берега был перекинут единственный мост, у въезда на который и сгрудились атакующие, пока лошади под ними не начали падать в трясину, а охваченные паникой верблюды – разбегаться в разные стороны. Никто из военачальников так и не появился, чтобы навести порядок. Так продолжалось до темноты, под покровом которой самаркандцы унесли своих раненых и скрылись в неизвестном направлении. Больше они не появлялись. Бывалые полководцы объяснили Бабуру, что однажды самаркандское войско уже потерпело поражение на этом самом мосту и теперь суеверные испугались, что на них восстали призраки погибших. Добродушного султана Ахмеда и многих его приближенных внезапно сразила болезнь. Судя по всему, он внял своим советникам и отвел войско.
Однако впечатлительный Бабур, нервы которого были взвинчены до предела, не сомневался, что в этой первой встрече с врагом сам Аллах выступал на его стороне.
Удивительный поворот судьбы, вызванный происшествием на мосту, сказался и на судьбе крепости Ахси. В отличие от Андижана древняя столица долины, укрывшаяся среди скал, представляла собой мощное укрепление. Находившиеся здесь беки из свиты Омар Шейха успешно отразили атаки сына Юнус-хана, который тоже предпочел отступить, услышав об отходе султана Ахмеда. Итак, в июне этого года отчаянная храбрость горстки решительно настроенных людей спасла восточные области долины для Бабура, который никогда не забывал о проявлении высшей силы, которому был свидетелем.
Только теперь он поспешил в Ахси, к недавно построенной усыпальнице Омар Шейха. Она была возведена на скале, и по ее стенам неустанно расхаживали ручные голуби, лишившиеся своего хозяина и голубятни. Омар Шейх при жизни кормил их ежедневно. «Его щедрость не знала границ, – размышлял Бабур, – и такой же была его душа». Он неторопливо обошел вокруг усыпальницы, прочитал соответствующие молитвы, затем, как предписывал обычай, раздал подаяние толпившимся в ожидании нищим. Перед уходом он приказал одному из доезжачих ежедневно насыпать голубям корм.
Большая часть его спутников выступила в поход, чтобы выбить вражеских всадников с восточных перевалов. Тем временем Тигр перевез свою семью обратно в Андижан. В знак траура его мать дала обет молчания. Моголка была из тех женщин, что всецело посвящают себя домашним заботам; она могла лишь беспокоиться за своих легко возбудимых детей, но была бессильна помочь им советом. Совсем другой была бдительная бабушка Бабура. «Среди женщин по уму и рассудительности мало найдется таких, как моя бабка Исан Даулат-биким, – комментирован Бабур, – она была очень умная и рассудительная женщина».Исан обосновалась в башне над воротами цитадели, откуда могла наблюдать за входящими и выходящими посетителями и немедленно объявила войну привязанности, которую Тигр питал к своим близким товарищам. Она приводила старую поговорку о том, что цари не знают родства, и была категорически против назначения Якуба, остроумного собеседника и опытного игрока в поло, на должность министра. Судя по всему, Якуб замышлял в одиночку заключить перемирие с правителями Самарканда, которые прислали за ним, чтобы пригласить в свой город на свадебные торжества. Исан вызвала в свое орлиное гнездо почтенного кади, а затем и сурового Касима. Затем она пригласила Тигра и разбранила его. Она заявила, что он всегда был упрям и никогда не допускал, чтобы кто-нибудь влиял на него и вынуждал делать что-то вопреки его желанию. Такой властолюбивый министр, каким был Хасан Якуб, мог бы без труда справиться с его сводным братом Джахангиром (это имя, означающее «повелитель вселенной», было излюбленное в роду у Тимуридов), которому исполнилось всего десять лет.
Ее внук, настаивала Исан, должен, не теряя времени, решить первоочередную задачу, стоящую перед любым правителем: следует раздать земли своим приближенным, не забыв ни знатных, ни простых, одновременно определив каждому его обязанности. Поступив так, он заручится преданностью своих беков. Поскольку он медлит, Якуб уже распределяет должности среди собственных приближенных.
Бабур напомнил, что Якуб сумел добиться так необходимого им перемирия и отказался от поездки в Самарканд. Почему даже после этого он не заслуживает доверия? Исан догадывалась, что доверие ее внука новому министру основано на личной привязанности. Оставшись в Андижане, Якуб не прерывал связи с Самаркандом. Он был достаточно изворотлив и понимал, что, заручившись вооруженной поддержкой самаркандских беков, сможет дождаться удобного момента, чтобы сместить старшего сына Омар Шейха и провозгласить формальным правителем Джахангира.В последующие несколько недель Бабур ничего не подозревал, заметив только высокомерие полновластного Якуба по отношению к ветеранам, которые вследствие этого старались держаться подальше от дворца. Исан, однако, замечала гораздо больше и созвала в свою башню обиженных беков, а также Касима и судью. Не ставя юного повелителя в известность, они в сопровождении вооруженных стражников отправились за Якубом в его апартаменты. И не нашли его. Сообразительный министр Бабура сбежал за реку через Ворота Молитв и удалился по дороге к Самарканду. Касим снарядил погоню, но преследователям удалось лишь выяснить, что Якуб, прихватив с собой вооруженный отряд, свернул в сторону Ахси, очевидно рассчитывая захватить крепость, чтобы заручиться милостью предполагаемых самаркандских союзников. Последовавший за этим инцидент произвел на юного Тигра неизгладимое впечатление. Якубу удалось перехитрить методичного Касима, и однажды ночью он со своим отрядом мятежников атаковал походный лагерь последнего, в результате чего сам был ранен в темноте своими же людьми. Стрела, попавшая Якубу в ягодицу, мешала ему как следует держаться в седле, он соскользнул на землю и был убит в схватке. «Такая расплата ждала его за предательство», – сделал вывод Бабур.
В результате он принял вполне мальчишеское решение подчинить свою жизнь строгим правилам. Начал воздерживаться от мяса животных, запретных для мусульман, следил за чистотой скатерти и столовых приборов и поднимался на полуночную молитву. Назначил Касима управителем дворцового хозяйства и повелителем Андижана. Исан не возражала против этого назначения.
В ту осень снег перекрыл дороги в Ферганскую долину, дав юному монарху короткую передышку.
Но в следующем, 1495 году из внешнего мира пришли зловещие известия.
Умер благодушный и нерешительный султан Ахмед. Он был последним олицетворением мощи Тимура. Горные районы, где и в дни правления Омар Шейха и его братьев царил хаос, оказались втянутыми в распрю между двоюродными братьями, каждый из которых мог похвастаться собственным крошечным войском и унаследованной от Тимуридов дерзостью. Из-за реки стали появляться отряды монголов, ищущих новых земель или иной добычи. Сам Самарканд превратился в арену, где заговорщики боролись с предателями, а горожане поднимались на защиту своего имущества от грабителей, кичившихся новомодными пороками. Солдаты, ставшие истинными хозяевами города, подстрекали шутов к непристойным выступлениям и расхаживали по улицам об руки со своими мальчиками. «Сыновей своих беков, беков своих сыновей и даже сыновей своих сводных братьев они брали в бачи [8] , – сообщает Бабур. – Не осталось ни одного богатого человека без бачи».
Верный своей манере подвергать жестокой критике все то, что вызывало у него отвращение, Бабур нарисовал мрачную картину творившихся в Самарканде бесчинств, – однако на этот раз в его душе зрело новое решение. Смерть Ахмеда, так быстро последовавшего за Омар Шейхом, казалась ему предзнаменованием. Еще не имея опыта заговорщика, он не стремился к нему, пока это не противоречило его целям. Он обладал несомненным даром завоевывать симпатии и, вопреки Исан, во многом рассчитывал на него. Обе женщины – Исан и Ханзаде – сокрушались о прежних временах, когда Омар Шейху подчинялись и те города, что были расположены вдали от Ферганы, и смаковали подробности жизни при не существующих теперь пышных дворах. Хотя изолированность Ферганы обеспечивала им защиту, но ее надежность вызывала у женщин скептическое отношение.
Под впечатлением от их разговоров у Бабура постепенно созрела мысль, которая со временем превратилась в его собственную: ради того, чтобы заполучить Самарканд, он готов был поставить на карту все, что имел. Бессмысленно сидеть в Андижане и бездействовать, решил он. Если ему суждено занять престол, то это должен быть престол Тимура.
Учитывая обстоятельства, этот замысел казался безнадежным. Но мальчик не оставлял его, и он превратился в непоколебимую уверенность. За два года его приближенные не добились ничего, не считая захвата одного-двух приграничных городов. В то же время кое-кто из беков и грабителей-монголов искал с ним встречи, чтобы предложить ему свою службу – в обмен на должное внимание к своим усилиям. Юный Тигр устроил своим новым подданным довольно церемонный прием. «Я принял их на разложенных на возвышении подушках, в полном соответствии с обычаями государей из рода Тимура». К нему приблизились трое мелкопоместных султанов, и он «поднялся, чтобы оказать им честь, и усадил на ковер по правую руку».
Монголы проявляли полную необузданность, и Бабур приказал Касиму казнить несколько человек в назидание остальным. Касим выполнил приказ, хотя через несколько лет это вынудило полновластного вельможу расстаться со своим государем, поскольку он опасался мести со стороны монголов, ставших его кровными врагами.
Пока Самарканд сотрясали внутренние конфликты, сменявшиеся как в калейдоскопе, державшийся поодаль Тигр мог воспользоваться создавшимся преимуществом. Большая часть побежденных переходила в его команду, в которой, по крайней мере, не было внутренних разногласий. Султан Али, один из его двоюродных братьев, чудом избежавший ослепления раскаленным клинком, дал нерушимую клятву быть верным союзником Бабура.
Они с Султан Али условились, что в мае 1497 года, когда трава нальется соком, Бабур выступит на запад и двинется на Самарканд во главе своего мизерного войска, состоящего из беков, солдат и прислуги. Ему не пришло в голову, что таким образом он лишит всякой защиты Андижан, где остается Исан вместе с его младшим братом Джахангиром. Позднее станет ясно, что он совершил ошибку.
Полный решимости Тигр двинулся к Самарканду, захватывая по пути города и пополняя армию. Возле развалин очаровательной горной деревушки в Ширазе он с удовольствием принял на службу несколько сотен хорошо вооруженных воинов, среди которых был некий Тощий бек. Гораздо позже Бабур выяснил, что этих людей послали из Самарканда, чтобы помешать ему захватить Шираз! Поэтому, когда Султан Али, поклявшийся быть его верным союзником, не соизволил появиться с восточной стороны, Бабур не испытал никаких сожалений. Истинная его суть заключалась в том, что он родился искателем приключений, а вовсе не основателем империи. Ему приходилось учиться управлять страной, основываясь на собственном горьком опыте.
После молитвы, прочитанной в честь появления на небе молодой луны, означающей окончание поста месяца Рамазана, его противник разбил свой лагерь в садах, расположенных на склонах гор, в виду серых стен и ослепительных куполов цитадели Тимура. Бабур с восторгом следил за схваткой своих отчаянных молодцов с воинами гарнизона. И тщательно отмечал любую мелочь, которую можно было истолковать как счастливое предзнаменование.
В один из последующих дней было совершено нападение на двух самаркандских вельмож, решивших насладиться прогулкой по саду и выехавших за пределы городских стен. Первый, султан Танбал, был ранен копьем, но остался в седле; второй, городской судья, погиб на месте. «Он был достойным человеком и очень образованным, – писал Бабур в своем дневнике. – Мой отец однажды выказал ему свое расположение и назначил его хранителем печати. Он превосходил многих других в соколиной охоте и умел предсказывать по погодному камню».
Юный Тигр становился все более суеверным. Однако при этом он обладал практической жилкой, которая не подвела его в случае с ограблением торговцев. Как только вражеское войско захватило предместья Самарканда, оно туг же разграбило все продовольственные запасы, какие только можно было найти в этой плодородной долине и нехватка которых так удручающе ощущалась в гарнизоне. Торговцы и горожане, словом, все, кто не принимал участия в военных действиях, приноровились заглядывать на базар в лагере Бабура, чтобы раздобыть съестного. Однако солдаты Бабура не смогли удержаться от искушения и в один прекрасный день напали на торговцев и дочиста их обобрали. Узнав об этом происшествии, Касим-бек, а также и сам Бабур потребовали восстановить справедливость, для чего приказали принести все украденные товары, чтобы возвратить их населению. «Прежде чем закончилась первая стража на следующий день, не осталось ни одного лоскута или даже сломанной иголки, не возвращенной своему владельцу». (А у монгольских стрелков, которые участвовали в грабеже, появился еще один повод отомстить Касиму.)
Единственная попытка андижанцев взять штурмом хорошо укрепленный город кончилась неудачей. Кое-кто из горожан предложил свои услуги, чтобы ночью провести осаждающих в город через Пещеру Влюбленных; однако те, кто последовал за проводниками, наткнулись на засаду, и некоторые из приближенных Бабура погибли.На исходе лета, когда солнце переместилось в знак Весов, полководцы Бабура начали задумываться о приближающихся зимних холодах и приняли решение перевести войско из открытого лагеря в заброшенные укрепления, расположенные на севере в горах, чтобы люди могли устроить для себя крытые жилища. Во время этих перемещений случилось нечто такое, что могло положить конец осаде.
Прибывшие фуражиры доложили, что на восточной дороге появились неизвестные всадники. Бабур понадеялся, что это гонцы союзников, но над темной массой развевался незнакомый штандарт, украшенный конским хвостом; всадники в грубой одежде передвигались без обоза или прислуги и не выслали вперед гонца, чтобы сообщить о своем приближении. Монголы, состоявшие на службе у Тигра, быстро узнали в них узбекских воинов из-за реки. Распространился слух о том, что кочевников призвал на помощь юный султан Байсункар, осажденный Бабуром в Самарканде.
Бабур, слабо разбиравшийся в военных хитростях, отреагировал достаточно быстро. Возможно, в этот затруднительный момент именно его неведение и сыграло ему на руку. Возможно также, что, вспомнив о стойкости своих немногочисленных товарищей, которые сумели отстоять Андижан, он созвал находившихся поблизости всадников и повел их на молча надвигающихся узбеков. То, что произошло дальше, не было похоже на обыкновенную стычку между противниками, участвующими в междоусобной распре, – перед его войсками стоял их извечный враг; все андижанцы устремились на холм, чтобы встать под знамя Бабура.
Очевидно опасаясь ловушки в неясной для него ситуации, Шейбани-хан, предводитель узбеков, остановил свое войско. Весь день две армии стояли друг против друга, лицом к лицу; всадники Бабура противостояли кочевникам, искавшим повода вмешаться в столичные неурядицы. Шейбани-хан был старше Бабура и считал, что вина за смерть его отца лежит на Юнус-хане. К вечеру узбеки отошли на безопасное расстояние и стали лагерем, а на следующий день, увидев, что самаркандский гарнизон не делает ни малейших попыток выйти из города, чтобы соединиться с ними, они снова исчезли, двинувшись к северу.
Так закончилась первая встреча Бабура с Узбеком, которому на ближайшее десятилетие суждено было стать его самым проницательным и победоносным противником.В конце концов Бабуру удалось взять осажденный город штурмом. Запасы продовольствия были на исходе, а между тем приближалась зима. За время правления султана Байсункара горожане натерпелись достаточно лишений – и великодушие Бабура по отношению к торговцам только укрепило их в этом убеждении. Им внушали страх узбеки, так и не пришедшие Байсункару на помощь; правящая верхушка разбежалась по своим уделам, и сам Байсункар с несколькими сотнями приближенных бежал в южные области, рассчитывая на покровительство давних союзников своей семьи. Но еще до его бегства к зимним укреплениям Бабура потянулись горожане и юноши из знатных семей. Сопровождаемый этой свитой, Тигр въехал в цитадель и сошел с коня в дворцовом саду.
Он стал повелителем столицы Тимура и всей долины, что, несомненно, не могло случиться без помощи Всевышнего. Счастливый сын Омар Шейха составил краткий обзор города, который он видел десять лет назад, будучи ребенком. «Самарканд построен Искандером [9] , – сообщает он. – В обитаемой части земли мало городов таких благоприятных, как Самарканд. Так как ни один враг не захватил Самарканд силой и победой, его называют «город, хранимый Аллахом». Я приказал обмерить шагами поверху внутреннюю стену крепости, – вышло десять тысяч шестьсот шагов».
Приступая к изучению какого-либо места, Бабур брался за дело основательно, перечисляя обычаи и описывая все привлекательные особенности. Самарканд славился богатыми собраниями произведений просвещенных философов и толкователей закона; его население придерживалось ортодоксальных религиозных взглядов ханафитского толка [10] . Река, бравшая свое начало на горе Кухак, орошала своими каналами всю долину, и на богатой почве произрастали самые сочные яблоки и черный виноград, называемый сахиб.
В крепости «Тимур-бек воздвиг большое строение в четыре яруса, Кёк-Сараем [11] называется. Очень высокая постройка. Еще, близ ворот Аханин, внутри крепости, он поставил соборную мечеть, каменную. На переднем своде мечети стих Корана: «И вот воздвигает Ибрахим основы…» Это тоже очень высокое здание».
В одном месте, возле городских ворот, находились руины медресе и монастыря аскетов, внутри которого находилась усыпальница Тимура и гробницы его потомков, которые «царствовали в Самарканде».
Окрыленный Бабур и себя причислял к этому славному обществу. Разве не прославился Улугбек, то есть Великий Бек, внук завоевателя, как один из самых образованных людей на свете? Улугбек истолковал «Альмагест» Птолемея, «…высокая постройка Улугбека-мирзы – обсерватория у подножия холма Кухак, где находится инструмент для составления звездных таблиц. В ней три яруса. Улугбек-мирза написал в этой обсерватории «Гургановы таблицы», которыми теперь пользуются во всем мире».
(В результате современных археологических раскопок в основании этого круглого здания обнаружен громадный мраморный секстан с радиусом более 130 футов, правильно сориентированный на меридиан.)
Бабур – в меру своих возможностей – был в состоянии оценить математический подвиг по составлению звездных таблиц, охватывающих многие годы, как в прошлом, так и в будущем. Ему был известен случай, который подтверждал поразительную память Улугбека. Охота доставляла царевичу не меньшее удовольствие, чем его научные занятия. По вечерам он делал подробные записи в особой книжке о поимке животных самых разных видов. Прошло чуть больше года, и книжка пропала. Тогда скрупулезный Улугбек по памяти продиктовал все ее содержание. Позже пропавшая книжка нашлась. Все записи в ней, кроме трех или четырех, совпали с тем, что было продиктовано Улугбеком.
К западу, «у подножия холма Кухак, Улугбек-мирза разбил сад, известный под названием Баг-и-Майдан. Посреди этого сада он воздвиг высокое здание, называемое Чил-Сутун, в два яруса. По четырем углам этого здания пристроили четыре башенки в виде минаретов; в других местах там всюду стоят каменные колонны; некоторые из них витые, многогранные. В верхнем ярусе со всех сторон террасы на каменных столбах, а посреди террасы беседка о четырех дверях; приподнятый пол этого здания весь выстлан камнем».Так юный победитель описал великолепный дворец, продолжением которого служил двор, затененный платанами. Застывшие, словно в почетном карауле, деревья, сияющий мрамор, отраженный в неподвижной воде, и выложенный изразцами купол, возвышающийся в окружении стройных минаретов, – создав этот шедевр, народ предвосхитил легендарный Тадж-Махал.
Зрелище могущественного престола вызвало у Бабура желание произвести более тщательный осмотр. Трон находился в павильоне из резного камня и был установлен на цельном каменном блоке площадью пятнадцать на тридцать футов и высотой около двух футов. «Такой огромный камень привезли из очень отдаленных мест. Посредине его – трещина; говорят, что эта трещина появилась уже на месте, после того как камень привезли».
Эта трещина встревожила Бабура. К знамениям, предвещавшим закат Тимуридов, добавилось еще одно. Он подсчитал, что за неполные четыре поколения на троне Самарканда сменилось девять государей. Султан Али, несостоявшийся союзник Бабура, царствовал всего день или два, а Байсункар, брат Али, – всего лишь несколько месяцев.
Стены другого павильона в том же саду были когда-то отделаны китайским фарфором, который потом безжалостно сбили узбекские варвары. Выбоины в стенах «Мечети с эхом» тоже остались незаделанными. В детстве, любуясь этими чудесами, Бабур не замечал следов разрушения. Теперь он снова ступал по мощеному полу маленькой мечети и снова слышал загадочное эхо. «Это удивительное дело, и никто не знает, в чем тут тайна».
Желая поддержать свой дух, Тигр продолжал вести учет торговых ресурсов города, в котором каждому ремеслу отведен был свой базар; там продавали превосходный хлеб и самую тонкую в мире бумагу, малинового цвета ткань под названием кермези (на европейских рынках этот бархат называли крамуази, отсюда и английское слово crimson – «малиновый, темно-красный»). Он совершал экспедиции в отдаленные луга, летние и зимние загородные поместья, где любили отдыхать самаркандские вельможи. В этих так называемых курухах их семьи неделями жили в уединении, надежно скрытые от посторонних глаз, – в те времена тюрко-монгольская аристократия не имела обыкновения сидеть в четырех стенах своих городских резиденций. Как обычно, Бабур осматривал эти красоты придирчивым взглядом, отметив, что при всем великолепии Четырех Садов с их правильными аллеями вязов, тополей и кипарисов там нет хорошей проточной воды. Признав, что местные крапчатые дыни хороши в своем роде, он заметил, что они, однако, не так ароматны, как те, что растут в его родной Фергане.
Восторг первых дней сменился жгучей тревогой. Бабур готовился устроить сердечный прием для покорившихся ему самаркандских беков. Среди них он особо выделял султана Ахмеда Танбала, который оправился от нанесенной копьем раны, но, конечно, не забыл о ней. Между тем разношерстное войско Бабура стало причиной многих проблем. Во-первых, солдаты не прекращали грабительских налетов на горожан, а город и без того пострадал во время осады и не мог выдержать нашествия мародеров. Бабур решительно запретил подобные действия, – приближалась зима, а в близлежащей долине не осталось никаких запасов продовольствия, и он был вынужден выдать семена для следующего урожая из собственных скудных запасов. «Город был до того разорен, что жители нуждались в семенах и денежных ссудах. Как получить оттуда что-нибудь? По этим причинам воины терпели большие лишения, а мы ничего не могли им доставить». Зимние холода ухудшили ситуацию. «Стосковавшись по своим домам, они начали убегать по одному, по двое. Монголы сбежали все до одного, потом султан Ахмед Танбал тоже убежал».
В тревоге бродя по опустевшим залам дворца, Бабур решил послать за достопочтенным кади. В ответ тот сообщил, что к Андижану стягиваются войска. Посланцы Султан Али, предполагаемого союзника Бабура, вступили в переговоры с Танба-лом; они условились собрать войско и склонить на свою сторону всех недовольных, включая обиженных монголов, а затем улестить младшего брата Бабура Джахангира и убедить его примкнуть к ним. С этой целью заговорщики окружили Андижан, утверждая, что собираются захватить его в пользу Джахангира.
Письма, пришедшие от Исан и судьи, призывали Бабура немедленно выступить на помощь родному городу. Однако заговор поставил юного Тигра в затруднительное положение – в Самарканде с ним оставалось не больше тысячи воинов. Касим откровенно признал, что они не располагают достаточными силами, чтобы послать в Андижан войско.
В этот критический момент Бабур заболел; лихорадка усугублялась тревогой, и целых четыре дня он пролежал, заточенный в пышных дворцовых покоях, не в силах ни говорить, ни читать письма или отдавать приказы своему войску. В течение нескольких самых тяжелых дней он принимал лишь немного воды – ему смачивали язык с помощью влажной ткани. Поползли слухи, что он не выживет.
К несчастью, именно в этот момент и прибыл гонец от мятежников; он настаивал на немедленной встрече с Бабуром. Беки испугались совершить ошибку, позволив гонцу увидеть царевича в таком состоянии. В результате гонец вернулся в Андижан с известием, что сын Омар Шейха при смерти. Услышав об этом, начальник гарнизона сдал город заговорщикам, выступавшим под знаменем Джахангира. Танбал безжалостно повесил праведного ходжу Кази – судью.«У меня нет никаких сомнений, – писал Бабур в своем дневнике, – что ходжа кади был святым; какое обстоятельство лучше доказывает его святость, чем то, что от всех, кто умышлял против него, вскоре не осталось ни следа, ни признака? Ходжа Мауляна-и-кади был удивительный человек: страха в нем совершенно не было; другого столь смелого человека и не видывали. Это качество тоже доказывает святость. Всякий человек, какой бы он ни был богатырь, все же испытывал небольшое волнение и опасение, а ходжа никогда не чувствовал волнения или опасения».
К тому времени Бабур поправился и прочитал последнее призывное письмо своей бабушки. («Если вы не откликнетесь на наш отчаянный призыв, все рухнет».) Повинуясь порыву, он устремился на помощь. Войско продвигалось к Андижану со всей скоростью, на какую было способно.
Пройдя лишь первую половину пути, Бабур узнал о захвате Андижана. Одновременно ему сообщили, что его двоюродный брат, Султан Али, воспользовался его отсутствием и захватил Самарканд. «Во имя спасения Андижана я упустил Самарканд и обнаружил, что, потеряв одно, не удержал и другое».
Несмотря ни на что, Бабур проникся убеждением, которому оставался верен всю жизнь. В самые тяжелые дни своей болезни он неустанно молился Учителю Ахрари – он умер, когда Бабуру исполнилось семь лет, – и верил, что именно вмешательство Ахрари спасло ему жизнь.Бабур становится воинственным изгоем
Сын Омар Шейха не удержал в руках бразды правления своим маленьким государством и был пренебрежительно оттеснен превосходящими его силой заговорщиками. Вскоре он осознал, насколько незавидно его положение. «Никогда ранее я не расставался таким образом со своими приближенными и родной страной». Он предавался горьким размышлениям и плакал, когда его никто не видел. В то время он находился в самом опасном возрасте – ему было почти пятнадцать. Его младшего брата Джахангира оберегали как полезную марионетку – в полном соответствии с предсказаниями Исан. Сам же Бабур, – бывший властелин Самарканда и полководец, – стал для своих недругов препятствием и был обречен на уничтожение. (Два его двоюродных брата, искавшие убежища в южных областях, были приняты со всеми почестями, а затем устранены: одного из них ослепили, вырвав ему глаза; второй, царевич Байсункар, «такой милый и красивый царевич», вскоре был зарезан по приказу предателя-хозяина.) Кольцо вокруг Тигра сжималось, и два последующих года он скитался по стране в поисках безопасного убежища.
Он и думать не хотел о том, чтобы оставить долину. Касим-бек отправился на север, чтобы попросить помощи у дяди Бабура, Махмуд-хана, – старшего сына Юнус-хана. В это время мать Бабура, сестра хана, находилась в руках мятежников. Махмуд-хан довольно охотно выступил в поход, но вскоре понял, что обстоятельства складываются не в пользу его оптимистически настроенного племянника; оценив положение, его приближенные удовольствовались подношениями от военачальников Танбала и посоветовали своему повелителю отказаться от напрасного риска. Маневры Бабура, имевшие целью соединение обеих армий, окончились ничем, к его горькому разочарованию.
Отступление дяди привело к тому, что он лишился и собственного войска. Настали тяжелые зимние месяцы, и из лагеря начали разбегаться воины, почуявшие беспомощность Тигра. Их семьи остались в Андижане, к тому же беглецы не верили в возможность захватить хорошо укрепленный город. «Тех, что остались со мной и избрани для себя тяготы и пребывание на чужбине, насчитывалось, вероятно, около двух или трех сотен, и знатных и простых. Мне пришлось очень тяжело, и я поневоле плакал».
Однако именно тогда заговорщики отпустили из Андижана его семью. По возвращении несгибаемая Исан дала внуку мудрый совет. Практически в тот же час Бабур поспешил в Ташкент – но не вымаливать помощь у Махмуда, а якобы для того, чтобы навестить теток и собрать войско для освобождения своей матери. Заполучив внушительное количество воинов с севера, он целеустремленно повел их, чтобы осадить, а затем и захватить пограничный город в родной долине, но его новые военачальники вполне разумно считали, что у него не хватит сил удержать эту крепость. Волей-неволей ему пришлось отказаться от своей добычи, захватив с собой лишь несколько отборных дынь особого сорта: «это дыни шейхи , кожура у них в пупырышках и потому похожа на шагрень; это очень нежные дыни… мякоть у них толщиной в четыре пальца; удивительно сладкие это дыни».
Вернувшись в свой единственный город, он обнаружил, что больше не может оставаться там, в Ходженте. Возле реки Сыр, на караванной дороге, связывающей Самарканд с Ахси, произошла небольшая стычка; местные жители зарабатывали себе на жизнь переправой через реку и сбором миндаля и не намеревались снабжать продовольствием войско из нескольких сотен человек. Бабур, верный своему обыкновению, не хотел сидеть сложа руки и бездействовать. Объединив вокруг себя костяк своего отряда, он теперь пытался найти для него убежище – в горах, среди зерновых полей и пастбищ. По дороге туда его перехватил гонец от султана Али, несостоявшегося союзника по осаде Самарканда. Преследователи царевича-изгнанника приближались. Не имея возможности укрыться за городскими стенами, Бабур, как и прежде, решил найти приют у горцев, живущих на самых вершинах, где его люди могли рассчитывать на пойманную дичь и сушеные фрукты.
Оказавшись в этих местах, его спутники начали настаивать на том, чтобы, перейдя через горный хребет, спуститься в отдаленные города, которыми правил Хосров-шах, кипчак по происхождению, бывший в Самарканде министром. Однако Бабур отверг это предложение. «Хосров-шах совершал все ежедневные молитвы, – отмечал он, – но был человек нечистый, развратный, тупой, без понятия, вероломный и неблагодарный». К тому времени до Бабура уже дошли слухи о том, как Хосров-шах поступил с сыновьями своего прежнего повелителя – одного из царевичей он ослепил, а остальных приказал убить. «Сто тысяч раз проклят до дня воскресения тот, кто совершил столь гнусный поступок. Всякий, кто услышит о подобных делах, пусть проклинает его».
Немногие люди вызывали у Тигра подобный гнев, но Хосров-шах занимал в этом списке первое место. Многие современники находили Хосров-шаха человеком добродушным, но в глазах Тигра его бывший первый министр оставался негодяем, взошедшим на престол по трупам детей своего повелителя. Кроме того, невзирая на солидное войско и богатство Хосров-шаха, Бабур был убежден, что тот «не набрался бы смелости сразиться с петухом в курятнике».
Отказавшись от поддержки одного из наиболее сильных правителей, который мог оказать ему помощь, преследуя свои политические цели, Бабур повел своих спутников к хребтам Белых гор, чтобы укрыться в хижинах гостеприимных горцев. Здесь, среди голых вершин, он чувствовал себя в безопасности и не боялся быть застигнутым врасплох. Однако во время одиноких прогулок он много размышлял над своим положением, приходя к выводу, что надеяться ему не на что. Возвращаться в Ходжент по караванной дороге стало опасно; учитывая это, он вряд ли сумеет позаботиться о своей семье и удержать вооруженных вассалов в таких местах, где обитают лишь дикие племена.
Однажды, предаваясь подобным размышлениям, он получил знамение, – во всяком случае, так он истолковал то, что с ним произошло. Во время одной из прогулок Бабур встретил отшельника, такого же изгнанника, как и он сам, который был последователем мученически погибшего ходжи Кази.
Они предались общей скорби и сообща помолились, жалея друг друга. Ничего не может случиться без божьей воли, напутствовал его отшельник.
В тот же день в лагерь Бабура прибыл гонец из долины. Он привез письмо от бывшего правителя Андижана, который сдал город мятежникам. Этот бек, по имени Али Дост, в награду от Танбала получил Маргилан, третий по значению город Ферганской долины. Теперь Али Дост раскаялся в своем злодеянии и, признав Бабура своим истинным повелителем, умолял его прибыть в Маргилан, обещая открыть перед ним ворота этого города, чтобы искупить свое преступление. Это событие показалось взволнованному изгнаннику ответом на молитву отшельника. Он даже не задумался о том, что Али Дост получил свою награду, в то время как ходжа Кази был повешен своими врагами.
«Едва пришла эта весть… как мы, нисколько не задумываясь и не задерживаясь, в тот самый час, когда солнце близилось к закату, быстро двинулись в Маргилан. Между тем местом, где мы находились, и Маргиланом будет примерно двадцать четыре – двадцать пять йигачей. Всю ночь, пока не взошла заря, и все утро до полуденной молитвы мы шли, нигде не останавливаясь. В час полуденной молитвы мы стали лагерем в селении Тангаб близ Ходжента. Дав коням остыть и покормив их, мы в сумерках выехали из Тангаба под бой сигнальных барабанов. Проехав всю ночь до утра и весь день до заката солнца и еще одну ночь, мы перед рассветом находились в одном йигаче от Маргилана. Тощий бек и еще кое-кто, почувствовав сомнение, доложили мне: «Али Дост – человек, совершивший многие дурные дела. Ни один из нас не был посредником в переговорах между ним и вами. На что же нам рассчитывать, направляясь туда?»
Для сомнений у них были основания. Остановившись на некоторое время, мы посоветовались. В конце концов порешили на том, что сомневаться следовало раньше. Трое суток, не отдыхая и не останавливаясь, мы мчались вперед, так что ни у коней не осталось сил, ни у людей. Как же мы можем вернуться отсюда, а если бы и вернулись, куда мы пойдем? Раз уж мы столько проехали, надо двигаться дальше. Ничего не случится без божьей воли.
В предрассветный час мы подъехали к воротам крепости Маргилана. Али Дост Тагай стоял по ту сторону запертых ворот, пока мы не договорились об условиях. Тогда он отворил ворота и выразил мне почтение. Оставив Али Доста, мы спешились внутри крепости возле подходящего дома. Со мной было людей знатных и простых двести сорок человек».Вскоре преданный Касим-бек привел из горных убежищ еще сотню воинов; приближенные раскаявшегося Али Доста принесли Тигру клятву верности, и он обнаружил, что снова возглавляет внушительное войско и находится под защитой крепких городских стен. Поверив в удачу и чувствуя себя победителем, он решил испытать свою счастливую судьбу, отправив Касима и нескольких преданных военачальников за новыми рекрутами. Бдительные горцы откликнулись на призыв сына своего государя и начали прибывать в город. По долине распространилась весть, что Бабур снова в силе. Когда трава налилась соком, с северных перевалов спустились войска его дяди, учуяв в воздухе запах добычи. В Ахси и Андижане простой народ брался за оружие. Великодушный Бабур приобрел популярность на базарах и улицах, – по сравнению с ним Танбал и остальные руководители мятежа были жестокими правителями. Флюгер народных симпатий повернулся в сторону сына Омар Шейха, и скальная крепость Ахси вновь оказалась в самом круговороте набегов и сражений, предел которому положила монгольская конница Бабура: когда войско Танбала подошло к городу на лодках, всадники на неоседланных конях отразили их атаку, ведя бой прямо в реке.
В вихре побед, отступлений и буйных набегов, в которых Тигр принимал самое деятельное участие, столица долины – Андижан – признала его своим государем. Предводитель монгольских наемников бежал из долины, а его всадники перешли на сторону Бабура, когда он пообещал им полное прощение за все прошлые грехи. Таким образом, после двух лет изгнания, в июне 1499 года, Бабур снова стал повелителем Ферганы. По крайней мере, так ему казалось.
Первое решение, которое он принял в этом качестве, оказалось крайне неудачным. Его верные приближенные питали вполне обоснованную неприязнь к монголам, о чем неустанно нашептывали государю. «Эти люди учинили беззакония, – воззвали к нему беки, – они схватили и обобрали близких к нам правоверных мусульман, а также ходжу Кази и его близких. Были ли они настолько верны своим бекам, чтобы быть верными нам? Что будет плохого, если мы велим их взять, тем более что они у нас на глазах разъезжают на наших лошадях, носят нашу одежду и едят наших овец? Кто может это стерпеть?»
Когда к этим увещеваниям добавились голоса его товарищей, разделявших с ним нелегкие дни изгнания, Бабур пошел на уступку и приказал молчаливым монголам вернуть хозяевам всю собственность, которую те смогут опознать.
«Хотя это было разумно и правильно, – рассуждает он, – но мы немного поторопились. При завоевании стран и управлении государством, – заключает он с сожалением, – некоторые действия внешне кажутся разумными и правильными, но внутреннюю суть каждого дела необходимо и обязательно сообразить сто раз».
Опыт Тигра возрастал, но он еще не умел применять его на практике. Четыре тысячи монголов, подданных его матери, составлявших костяк его армии, отказались подчиниться его приказу. Вместе со своей добычей они покинули лагерь, объявив о своем переходе на сторону Танбала через одноухого военачальника, лично обязанного Тигру. Бабур был бессилен что-либо изменить. С этого времени он стал с ненавистью относиться ко всему, что связано с монголами, хотя они и были его предками, вплоть до самого их названия, которое он произносил «могол».
Невольно уступив главному противнику основные силы своей степной армии, юный монарх поспешил собрать все вооружение, а также людей и животных, которых сумел найти, и даже велел изготовить ручные щиты из кожи для защиты своих пеших воинов, и установить засеки-баррикады из валежника, чтобы защитить лагерь от конных набегов. Лишившись всадников, он мог, по крайней мере, обезопасить себя от их нападения.
Узнав о том, что Танбал с монголами выступил на Андижан, Бабур повел свое наспех сколоченное войско ему навстречу. Торопливо совершая маневры по окрестным деревням, он забыл о недавней предусмотрительности и оставил в тылу прикрытую щитами пехоту. Наутро конница обеих армий вступила в бой, во время которого перевес оказался на стороне опытных беков Бабура – они обратили противника в бегство и захватили несколько ковровых шатров, однако воздержавшись от преследования бежавших монголов, что было, по их мнению, небезопасно. Выигранную стычку нельзя было назвать серьезным сражением, но и впоследствии большинство из них Бабур выиграл, поскольку после них не забывал благодарить и награждать своих подчиненных. «Это была первая битва, в которой я сражался. Великий Господь по своей милости и благости сделал тот день днем победы и торжества. Мы сочли это счастливым предзнаменованием». (И он снова не захотел поразмыслить, почему Али Дост отказался от преследования неприятеля.)
Между тем наступила зима, и обоим претендентам на престол пришлось позаботиться о крыше над головой для своих вассалов. Бабур остановил свой выбор на селениях, расположенных в центре долины, где можно было решить проблему продовольствия за счет охоты. Он был горячим поклонником этой забавы. «Возле реки Айламыш водится много маралов и кабанов, мелкие заросли изобилуют фазанами и зайцами. На холмах таится масса лисиц; эти лисицы бегают быстрее, чем лисицы из других мест. Мы охотились на маралов или разъезжали в мелких зарослях, устраивая облавы и пуская соколов на фазанов. Этой зимой я каждые два-три дня выезжал на охоту. Мы обнаружили, что фазаны стали очень жирными, и фазаньего мяса было у нас вдоволь».
Его подданных не прельщала перспектива провести зиму, предаваясь охоте и сражениям. Пришлось применить силу, чтобы удержать в лагере скудоумного Живодера, – «этот изворотливый человечек» и его сородичи уже седлали коней, чтобы вернуться домой в Андижан. Али Дост, первый вельможа, вызвавший Бабура из горного убежища, с возрастающей настойчивостью требовал разрешения вернуться в Андижан на время самых сильных холодов. Инстинкт подсказывал Бабуру, что, согласившись на это требование, он совершит ошибку, но удержать Али Доста силой он не мог. «Да будет так!»
Закончившийся 1499 год был полон зловещих предзнаменований. Бабур потерял Самарканд и своего сводного брата Джахангира, превратившегося в марионетку в руках могущественных врагов, замысливших уничтожить Бабура.
И вместо перемирия Али Дост выпросил у Танбала мирный договор, предусматривавший обмен пленными и формальное обещание дружбы. По условиям этого договора за Бабуром оставался только Андижан и левый берег реки Сыр. Ахси и правый берег переходили под власть коалиции: Султан Али – Танбал – Джахангир. Не в силах противостоять попустительству Али Доста, Тигр был вынужден наблюдать за тем, как его враги разбивают свой лагерь на противоположном берегу реки.
В довершение всего юного соискателя престола склоняли к тому, чтобы он оставил свою законную вотчину – долину Ферганы – и попытался вернуть себе Самарканд. Во время перемирия к нему прибыли гонцы от самаркандских беков, предложивших ему свою помощь в захвате города. Юный оптимист принял этот тайный визит за счастливое предзнаменование. Заветная мечта занять самаркандский престол подкреплялась нерушимой верой в свою счастливую звезду и убеждением, что все пути человека предопределены Всевышним. Итак, Али Дост, подстрекаемый Танбалом, снова подготовил сдачу родного Андижана, но на этот раз все произошло с ведома его легковерного государя. Бабуру и в голову не приходило, что шансов вернуться на престол Тимура у него не осталось.Тем временем европейцы, повстречаться с которыми Бабуру было не суждено, шли своим путем, сознавая, что конец пятнадцатого века принес с собой значительные перемены. Пьер де Байяр, наконец посвященный в рыцари за особую воинскую доблесть, проявленную в битве при Форново в Италии, продолжал вести себя так, будто по-прежнему жил в отошедшую в небытие эпоху Средневековья, и стремился служить своему королю без страха и упрека и с верой в Господа. Однако Никколо Макиавелли, никому не известный молодой посол республики Флоренция, состоявший при французском дворе, уже осознал всю тщетность междоусобных стычек. Во время своих путешествий Макиавелли стал свидетелем крушения княжеств в Италии, пытающейся, подобно Лаокоону, сбросить с себя оковы священной христианской церкви и империи. Острый парадоксальный ум Макиавелли не оставлял права на существование ни церкви, ни империи. Каждое явление объяснялось естественными причинами или чистой удачей. Изучение исторических наук подтверждало его мысль о том, что только беспощадное проявление воли может привести к власти. Эпоха помазанников божьих закончилась; на смену ей пришло время деспотов, создававших свою судьбу собственными руками.
В то же время в морских портах Португалии, оставшихся за пределами интересов Макиавелли, царило оживление. Вернулся Васко да Гама – ему удалось остаться в живых, его корабли привезли богатые грузы из далекой восточной страны Калькутты, расположенной на Малабарском побережье Индии; подписанный несколько лет назад декрет папы римского отдавал эту новую область земного шара во власть португальской короны. В 1500 году по григорианскому летосчислению да Гама, подданный Педро Альвареса Кабраля, вывел в море дюжину галеонов с лучшими мореплавателями, чтобы открыть для своего короля новые торговые порты и расширить индийские владения португальской короны.
Все эти события происходили за двадцать шесть лет до завоевания Северной Индии человеком, известным современной истории как первый из династии Великих Моголов.Глава 2 Изгнание из Самарканда
Пока Тигр был вынужденно ограничен стенами Андижана, три женщины, неотступно следовавшие за ним из одной ставки в другую, получили короткую передышку и возможность провести зиму в родном доме среди привычной прислуги. В отличие от остальных родственников женщины, за единственным исключением, хранили Бабуру верность. Его бдительная бабушка, водворившаяся в свою башню, чувствовала приближающуюся старость и донимала его своими подозрениями относительно Али Доста, считая, что он, так же как и покойный сын Якуба, опутал ее внука золотыми сетями, позволяя ему лишь формально числиться государем. Ханзаде, которая еще не имела собственной семьи, вместе с Бабуром мечтала о возвращении в Самарканд. В то же время мать непрерывно ворчала, что Тигру вот-вот исполнится девятнадцать и что настало время привести в дом жену.
Судя по всему, в этот период Бабур был полностью захвачен чтением. Со своими любимыми книгами он не расставался даже во время прогулок в горах. Там, на горных склонах, он встречался с праведниками, учениками Ахрари, которые возлагали на него большие надежды. Юный правитель пытался изложить свои незрелые философские идеи в стихах, составленных, в зависимости от настроения, то на тюркском языке, которым объяснялся простой народ, то на ученом персидском.
Однако он ни с кем не обсуждал женщин и отношений между полами.
Его мать задалась целью ввести в дом ту самую невесту, с которой его обручили еще в детстве. Принцесса Айша прибыла из Самарканда в сопровождении кормилицы и прислуги, привезя с собой сундук приданого, – теперь это была взрослая женщина, чужая и неизвестная до тех пор, пока Бабур, в качестве супруга, не откинул покрывало с ее лица. Это произошло в Ходженте, на главной дороге. По прошествии некоторого времени его первоначальная страсть утихла, и между супругами установились довольно прохладные отношения, – его излишняя сдержанность порождала обиду с ее стороны. Возможно, из-за тесной дружбы с Ханзаде он не нуждался в обществе другой женщины. «Я входил к ней один раз в десять или двадцать дней. Моя застенчивость возрастала, и моя мать, то и дело понуждая меня, заставляла посещать ее раз в месяц или сорок дней».
Его невнимание к Айше имело свои причины. В то время, как он признавался, в его сердце зародилась страсть к юноше из обоза по имени Бабури, так похожему на его собственное. Не в силах избавиться от этого наваждения, Бабур написал стихи, в которых попытался рассказать об овладевшем им любовном безумии.
«До этого я ни к кому не чувствовал склонности и даже не слушал и не говорил о любви и страсти. Среди стихов, написанных мною тогда, были строки, в которых я говорил о себе как о неопытном и робком любовнике. Когда Бабури пришел ко мне в покои, я от стыда и смущения не мог даже взглянуть в его сторону.
Я смущаюсь, едва увижу перед собой любимого,
Другие смотрят на меня, а я отворачиваюсь.
Где уж мне было общаться или разговаривать с ним! От волнения и опьянения страстью я не мог даже поблагодарить его за посещение или умолять, чтобы он не покидал меня.
Однажды в пору такой влюбленности и страсти со мной находилось несколько человек, я проходил по какой-то улице. Внезапно мне встретился Бабури. От смущения я не мог посмотреть ему в лицо или завязать разговор. В великом беспокойстве и волнении я прошел мимо.
От волнения, любви и страсти, от кипения и безумия молодости я ходил с обнаженной головой и босой по улицам и переулкам, по садам и виноградникам. Иногда я, словно юродивый, бродил один по холмам. Бродил я не по своей воле; не выбирал я, куда идти и где оставаться. Я не обращал внимания ни на друзей, ни на посетителей, не заботился об уважении к себе.Желание лишило меня власти над собой,
Не знал я, что это происходит от любви к прекрасному лицу».
В конце концов Бабуру удалось преодолеть свою страсть к этому юноше. Видимо, больше ничего подобного с ним не случалось. Однако Айши он лишился – после рождения дочери, прожившей всего несколько месяцев, она оставила Бабура. В его отношениях с женщинами, искренне привязанными к нему, прослеживалась необъяснимая фатальность, которая распространяюсь и на рожденных от них детей.
Однако юный монарх, озабоченный натянутыми отношениями с Айшой и болезненным ослеплением мальчиком Бабури, убедился, что его полновластный вельможа готовит заговор. Бабур больше не нуждался в непрестанных предостережениях Исан, призывавшей его смотреть на происходящее открытыми глазами. К этому времени у него сложилось исчерпывающее представление о характере Али Доста. «Али Дост Тагай, из беков тумана Сагаричи, родич моей бабушки по матери, Исан Даулатбиким. Он был деспотом по натуре. Я оказывал ему большие милости, чем те, которыми он пользовался во времена Омар Шейха-мирзы. Говорили, что он человек деловой, но за те несколько лет, что он был при мне, он не сделал ни одного дела, о котором стоило бы говорить. Служа султану Абу Саиду-мирзе, он притязал на умение вызвать дождь посредством камня «яда». Это был сокольничий, человек с негодными свойствами и повадками, скряга, смутьян, тупица, лицемер, самодовольный, грубый, жестокосердый».
Бабур мог рассчитывать на преданность лишь одного человека; и за махинациями Али Доста при их скромном дворе они с Исан наблюдали вместе.«После нашего возвращения в Андижан повадки Али Доста стали совсем иные. Он начал дурно обращаться с людьми, которые были при мне в дни скитаний и испытаний. Кого-то он прогнал; Тощего бека заточил и лишил имущества; избавился от Касим-бека. Объявил, что Халифа, близкий друг ходжи Кази, замышляет убить его в отместку за кровь ходжи. Сын Али Доста вел себя как претендент на престол, собирал вокруг себя людей знатных и угощал за своим столом по-царски. Отец и сын совершали подобные дела, рассчитывая на поддержку Танбала».
Воспользовавшись условиями мирного договора, Танбал держан свое войско наготове, расположив его на противоположном берегу реки; учитывая близость противника, Тигр не мог помышлять о том, чтобы поднять своих преданных сторонников против придворной клики Али Доста. Думать об отъезде из Андижана тем более не приходилось. «К чему? Мое положение было исключительно сложным; ни одно слово не произносилось открыто, но я был вынужден выносить оскорбления со стороны отца и сына».
Терпение Тигра имело пределы, – заговорщики не могли этого не понимать. Понаблюдав за сыном Али Доста, который через несколько недель собирался занять престол Андижана, он непременно предпримет попытку сопротивления, чем бы она ни закончилась. На этом строился их расчет, и надо сказать, вполне обоснованный.
Однако Бабур бездействовал. Этот ловкий ход объясняется, вероятно, искушенностью Исан, – он сделал вид, что проглотил предложенную наживку. Тигр объявил о своем намерении захватить Самарканд и собрал войско, чтобы возглавить поход.
Обстановка в Самарканде очень напоминала ту, что сложилась в Андижане. Стоявшая у власти клика Султан Али лишила городских вельмож всех источников дохода. Положение осложняли знатные семьи, владевшие обширными поместьями в округе и считавшиеся привилегированным классом – так называемыми тарханами; свой титул они получили еще в дни правления Тимура и не собирались терпеть унижения, усугубленные утратой земель и состояния. Некоторые из молодых наследников взялись за оружие и сели на коней, присоединившись к монгольскому контингенту армии. Полководцам Султан Али удалось одержать верх над восставшими тарханами. («Султан Али-мирза хоть бы одно дело довел до конца».) Помня о великодушии, проявленном Бабуром во время его стодневного правления, непокорные тарханы настойчиво предлагали ему вернуть престол, опираясь на их поддержку.
В подобном клубке интриг на роль посланца нужно было выбрать человека, вызывающего к себе доверие. Именно такой человек и доставил последнее письмо из Самарканда – это был монгол по происхождению, который проявил себя при обороне Андижана, защищая ходжу Кази. Ему Бабур поверил. Больше того, он спешно отправил монгольского гонца в Ахси, к своему брату Джахангиру, чтобы заверить его в строгом следовании условиям договора, по которому вся Ферганская долина отходила Джахангиру, а Бабур возвращал себе Самарканд.
«Я сам выступил в поход на Самарканд во главе своего войска. То было в месяце зу-ль-када [12] ».До сих пор Тигр во всем полагался на советы своей бабушки. Но он никогда не мог воздержаться от искушения выступить на врага, почти не имея военной поддержки.
Если говорить о Европе, подобные поступки были вполне в духе юного шевалье де Байяра. Однако Байяром руководил незамысловатый кодекс западного рыцарства, предписывавший обнажать меч в интересах своего короля и во славу Бога. Ответственность уроженца Азии была неизмеримо большей. Традиции обязывали Бабура заботиться о каждом, кто находился у него в подчинении, – о воинах его армии и таджиках, населявших города долины. Наследие монгольских предков предписывало ему управлять страной, придерживаясь Ясы великого Чингисхана, хотя самого Бабура в большей степени привлекали законы шариата – основы ислама. Безжалостный эмир Тимур раз и навсегда разрешил противоречие между двумя традициями – монгольскими законами и исламом, – допуская лишь формальное выполнение их требований на время воплощения своего грандиозного замысла по созданию в Самарканде нового центра среднеазиатской культуры. Тимур замыслил основать в Азии новый Рим, который был призван служить оплотом против кочевых племен и ограничить влияние Китайского Дракона, чей престол он надеялся позднее подчинить себе. Теперь китайское присутствие распространилось до Кашгара и Тибета, находившихся всего в нескольких днях пути от родной долины Бабура.
Итак, стремясь воплотить волю Аллаха и чувствуя на себе ответственность за «нашу страну и наш народ», которые еще не были нацией в полном смысле слова, Бабур чувствовал себя призванным восстановить распавшийся доминион Тимура – культурное государство, сосредоточенное вокруг Самарканда. Стремясь овладеть этим городом, Тигр не просто искал безопасного убежища, но пытался выполнить своего рода долг и осуществить мечту Тимура. И не задумывался о том, возможно ли это.
В июне на Самарканд двинулись узбеки – самые опасные из кочевников.
В те времена в Центральной Азии титулы отражали скорее историю рода, чем существующее положение вещей; слово «султан» происходило из арабского языка; «шах» и «мирза» – из персидского; «хан» – из тюркского и монгольского. Обычно эти слова являлись не более чем почетными титулами или создавали видимость благородного происхождения, иногда же просто самовольно присваивались, – именно так поступил никому не известный кипчак тюркского происхождения, который стал правителем Кундуза и назвал себя Хосров-шахом, то есть в буквальном переводе – повелителем царей. Однако слово «хан» после монгольского имени указывало на царское происхождение – так же, как слово «мирза» обозначало принадлежность к роду Тимуридов. Бег или бек в Европе назывался бы сеньором. Бабур обычно указывал вместе с именами и все титулы, например Султан Али-мирза, называемый в книге Султан Али. Если говорить о женщинах, ханум и биким указывали на принадлежность к царской фамилии. Слово «монгол» приводится в соответствии с орфографией Бабура – «могол», «могул», «мугал». В последующих главах книги используется все больше и больше цитат, поэтому титулы и оригинальная орфография будут встречаться довольно часто.Уходя из Андижана, Тигр предусмотрительно оставил там семью, чтобы не возбудить подозрений своего стража, Али Доста. С собой он взял лишь «наиболее преданных слуг», среди них своего библиотекаря Ходжу и Лази, личного слугу. Только среди людей, чья преданность не вызывала сомнения, он мог ложиться спать, сняв с себя кольчугу и сложив оружие на пол возле постели. Он не имел права ошибиться в оценке верности своих людей. Однако один из воинов Бабура бежал в Самарканд, чтобы предупредить Султан Али о его приближении.
Скрытно стать лагерем на караванной дороге было невозможно. В каждом ущелье, на каждом мосту за Бабуром следили зоркие глаза, оценивая его силы, и впереди его войска бежала весть о том, что сын Омар Шейха набирает себе воинов. Каждую ночь в лагерь прибывали свежие воины или гонцы с дружественными приветствиями от беков, считавших более благоразумным держаться от него на расстоянии. Касим-бек привел своих приближенных, а также захватил с собой товарищей по изгнанию, пострадавших от Али Доста. Неожиданно появился и сам Али Дост в сопровождении своего сына и придворных – он сказал, что их встреча произошла благодаря счастливому совпадению. «Как будто сошлись в заранее назначенном месте», – любезно согласился Бабур, зная, что о совпадении говорить не приходится. Однако даже теперь соотношение сил было между ними почти равным.
Бабура позабавило прибытие самонадеянного Живодера, который явился полный раскаяния, «с непокрытой головой и босыми ногами». Живодер решился лично отправиться к Танбану в Ахси и добился лишь того, что его схватили и отобрали все имущество. В утешение ему Бабур, в присутствии Али Доста, прочитан сочиненные туг же стихотворные строки:
Поверь другу, и он сдерет с тебя кожу.
Друг твой набьет твою шкуру соломой.
Совместное путешествие завершилось в караван-сарае близ Самарканда, где Али Дост пал жертвой собственной хитрости. Тарханы и городские беки объединились со своими последователями. В городе они оставили некоего праведника, сообщили они, который должен склонить на их сторону простой народ. Всем было ясно, что прочные стены столицы Тимура устоят перед любым натиском, и только предательство может открыть им городские ворота.
Напоследок Али Дост показал себя решительным человеком. Испуганный и, возможно, пристыженный, он явился к Бабуру в его новый лагерь, чтобы попросить разрешения покинуть свой пост при дворе. Тигр тотчас же удовлетворил его просьбу. В результате Али Дост и его сын удалились, чтобы немедленно перейти на службу к Танбалу, – отец вскоре умер от рака, а сын стал изгнанником. Впоследствии он был выслежен в горах узбеками, захвачен в плен и ослеплен. «Соль выела ему глаза», – заметил Бабур.
Однако на этот раз Самарканда он не получил. Положение менялось со скоростью калейдоскопа, узоры которого складывались в новые пугающие сочетания…
С запада стремительно надвигались узбеки. Над страной, подобно тени ястреба, витала угроза. Как только раздался клич «Шейбани-хан идет!», клубок распрей и союзов распался. Мать Султан Али, сгорая от желания войти в шатер знаменитого вождя, пообещала открыть для него ворота города. После недолгих колебаний Султан Али с упрямством малодушного человека выехал из города, чтобы встретить Узбека в Садах на Равнине. Шейбани-хан держался с ним как с низшим и не оказал ему никаких почестей, и это при том, что ввел в свой шатер его мать-предательницу. Опасаясь за свою жизнь, сын попытался бежать от хана. Его сопровождали до лугов, где и убили. Ходжа Яхья, праведник, что служил тарханам, был отведен подальше на дорогу и предан смерти двумя приближенными Шейбани-хана, отрицавшего свою причастность к убийству. Тем не менее преподобный ходжа был мертв, царевича из рода Тимуридов также больше не было в живых, и теперь решающий голос принадлежал Шейбани-хану.
Эти известия распространялись от селения к селению и наконец достигли Бабура, направлявшегося на юг. Узнав о случившемся, вожди тарханов попытались уговорить Бабура отправиться ко двору единственного человека, который мог предоставить им защиту, – Хосров-шаха, правителя Хисара и Кундуза, лежащих за горной грядой. Идти к нему Бабур отказался. Он повернул обратно, решив вернуться в свою родную долину, но ему сообщили, что ее захватил Танбал. Ведя своих приближенных в обход, Тигр достиг отрогов Темных гор и по ущельям поднялся к вершинам, продвигаясь по горным тропам, где люди и животные погибали, срываясь вниз. Дойдя до сияющей глади озера, раскинувшегося на территории племен, которые и в прежние времена предоставляли ему убежище, он укрылся в уединенной крепости. Здесь он снова произвел подсчет своих приближенных и обнаружил, что их двести сорок человек, включая Живодера. Тигр вновь лишился семьи и родного дома, к тому же в этих местах он был единственным оставшимся в живых потомком Тимура. Внизу по дорогам долины наступали узбеки, численность которых достигала трех-четырех тысяч. Вскоре явившийся из-за реки Шейбани утвердится в стенах Самарканда; но пока – об этом сообщили из Садов на Равнине – осторожный Узбек остается в своем лагере за пределами городских стен. Нет сомнений в том, что пройдет всего несколько дней, и он войдет в город. Ради этой ничтожной отсрочки горожане не захотят вступать в бой с узбеками. Окажись с ними Бабур, возможно, они стали бы сражаться ради него.
Беки Бабура препирались друг с другом в горном убежище. Слушая их, Бабур сказал: «Как бы то ни было, когда-нибудь мы с божьей помощью возьмем Самарканд».
Попытка Бабура с налета захватить город окончилась полным унижением. Мощные стены оборонял бдительный отряд, и участники нападения отхлынули не менее проворно, чем шли в бой. Укрывшись в безопасных горах, юный Тигр довольно трезво оценивал свое положение. Сознавая собственную неопытность, он понимал, что его противник – одаренный полководец с большим опытом. Из страха перед узбеками местное население не решалось поддержать Бабура. К тому же теперь городской гарнизон готов к отражению следующей попытки нападения. В довершение всего продовольственные запасы были на исходе. Беки, праздно сидя в своих шатрах, не могли предложить никакого плана и лишь вели нескончаемые споры, пока однажды Бабур не прервал их пререкания.
«А ну-ка, пусть каждый из вас хорошенько подумает и скажет, когда мы с божьей помощью возьмем Самарканд?» Некоторые ответили: «Возьмем в следующие жаркие месяцы». А на дворе стояла поздняя осень. Другие говорили: кто – «через месяц», кто – «через сорок дней», кто – «через двадцать». Военачальник Кукулдаш заявил: «Через четырнадцать дней возьмем». Бог указан, что тот был прав: ровно через четырнадцать дней мы взяли город.
В это время я видел удивительный сон: мне приснилось, будто ко мне пришел досточтимый ходжа Убайд Аллах [Ахрари], руководитель святых. Я вышел ему навстречу, ходжа вошел и сел. Перед ходжой расстелили достархан [13] , быть может, слишком простой. По этой причине в сердце досточтимого ходжи запала некоторая обида. Я сделал знак, что это не моя вина. Ходжа понял, и извинение было принято. Он встал, я вышел его проводить. Он взял меня за правую руку и так приподнял, что одна моя нога отделилась от земли. Ходжа сказал по-тюркски: «Шейх дал тебе Самарканд».
После этого, хотя замысел наш был известен, мы положились на Бога. Мы двинулись на Самарканд вторично. Ходжа Абд-аль-Макарам сопутствовал нам. [Возможно, чтобы подкрепить знамение, данное Бабуру во сне.] В полночь мы достигли моста через Пул-и-Магак [Глубокий ров] в общественном саду. Оттуда мы отрядили семьдесят или восемьдесят надежных людей с лестницами, чтобы они приставили лестницы к стенам крепости против Пещеры Влюбленных, поднялись, вошли, двинулись на людей, поставленных у Бирюзовых ворот, захватили ворота и послали к нам вестника. Эти йигиты приставили лестницы, поднялись по ним, и никто не проведал об этом. Зарубив тархана и нескольких стражников, они сбили топорами замок с ворот и открыли их. Как раз в это время я подоспел и вошел в Бирюзовые ворота. Когда мы вошли в город и расположились в ханаке [14] , туда явился Ахмед-тархан с несколькими воинами.
Жители города еще спали. Но некоторые владельцы лавок, выглянув, догадались, в чем дело, и возносили благодарственные молитвы. Через некоторое время обитатели города все узнали. Наших людей и горожан охватила необыкновенная радость и возбуждение; они убивали узбеков на улицах камнями и палками, словно бешеных собак; около четырехсот или пятисот узбеков было убито таким образом. Городской даруга [15] Джан Вафа жил в доме ходжи Яхьи. Он бежал и ушел к Шейбани-хану.
Я находился у входа в ханаку. До рассвета всюду слышались шум и громкие крики. Некоторые знатные жители и купцы, узнав о случившемся, с радостью и восторгом подходили со мной поздороваться, приносили приготовленное угощение и возносили за меня молитвы. Когда наступило утро, пришло известие, что у Железных ворот узбеки укрепили пространство между двумя входами и сопротивляются. Я тотчас сел на коня и отправился к воротам. Со мной было человек пятнадцать; но еще до того, как я туда прибыл, городская чернь, обыскивая каждый угол в поисках добычи, прогнала узбеков. Шейбани-хан, узнав об этом, поспешно подъехал после восхода солнца с сотней или полутора сотней людей. Это предоставляло прекрасную возможность, но со мной было слишком мало людей. Шейбани-хан увидел, что ничего нельзя поделать, и быстро отступил. От Железных ворот я двинулся в крепость и далее в Бустан-Сарай [16] . Знатные и богатые горожане пришли приветствовать меня и поблагодарить.
Почти сто сорок лет Самарканд был столицей нашей династии. Неизвестно откуда взявшийся Узбек, чужак и враг, пришел и захватил его. Бог снова отдал нам владения, ушедшие из наших рук – опустошенная, разграбленная область опять подчинилась нашей власти… Цель этих слов не в том, чтобы бросить в кого-нибудь камень умаления, и дело происходило именно так, как сказано.
По случаю этой победы поэты сочиняли стихи; один из них остался у меня в памяти:Скажи мне, о мудрец, что это за событие?
Знай – оно победа Бабура-воителя».
Бабур, как обычно, не скрывал своего ликования и проникся убеждением, что на горизонте засияла его счастливая звезда. Жители окрестных селений брались за оружие, чтобы вышвырнуть узбеков из долины. В то время как Бабур ревниво подсчитывал свой реванш, воинственный Шейбани-хан предпочел покинуть этот растревоженный улей и увел свое войско на запад. Тигр вновь воссоединился со своим семейством, и маленькая Айша родила ему дочь. Девочке, которая прожила совсем недолго, дали имя Фахр ан-Ниса (Слава женщин). Счастливая Ханзаде, вновь занявшая свои покои во дворце, сопровождала Бабура в поездках, как бы стремясь заменить непокорного младшего брата.
В те дни Бабур получил известие, что в дальнюю ставку Узбека пришел большой караван с севера. К хану и его полководцам прибыли их жены и домочадцы. Это свидетельствовало о том, что узбеки не собираются отказываться от своих намерений.
Бабур и его приближенные понимали, что о безопасности говорить еще рано. Дождавшись зимы, они поспешно разослали письма всем дальним родственникам и тем, кто в свое время поддерживал дружественные отношения с Омар Шейхом, призывая их объединить свои силы и, сплотившись под началом Бабура, подняться на борьбу с узбекскими захватчиками. Мысль была вполне своевременной.
Шейбани-хан был чужаком, как говорил Бабур, но отнюдь не личностью неизвестного происхождения. Он носил имя Шейбани, сына Джучи-хана, старшего из сыновей Чингисхана. Его предок, Батый Великолепный, был повелителем Золотой Орды, впоследствии распавшейся на враждующие между собой уделы, рассеянные по берегам Волги и Черного моря – между русскими городами, еще недавно находившимися во власти татаро-монголов, и горными барьерами Центральной Азии. В восточных областях узбеки все еще поддерживали уцелевшие остатки Золотой Орды. За время своего правления дед Шейбани укрепил мощь узбеков, создав кочевое государство, захватившее территории от пограничных постов Китая до Москвы – столицы будущей Российской империи. В восточных областях этих территорий обособленно проживали кочевые казахские племена. Юнус-хану хватило одного сражения, в котором он наголову разбил дикие орды узбеков и убил отца Шейбани. В юности Шейбани-хан был не более чем искателем приключений, авантюристом, как и Бабур. С востока на узбеков наседали еще более дикие казахи и язычники-киргизы. Стремясь избежать их натиска, Шейбани решил увести подчинявшиеся ему воинственные племена с пастбищ, раскинувшихся по берегам Аральского моря, и двинуться на юг. Совершив ряд пробных набегов на плодородные долины, где царствовали Тимуриды, Шейбани нащупал их слабые места и повел свой народ на завоевание южных земель – сердцевину основанной Тимуром империи. К тому времени священная Бухара уже находилась в его власти. Прибытие семей узбекских захватчиков ясно говорило о том, что Самарканд также значится в их планах.
Оставалось лишь ждать, когда Шейбани-хан предпримет решающее наступление.Хайдар, что значит Лев, двоюродный брат Бабура, высказал об узбекском хане любопытное суждение: «Он был большой человек, но не купец и не придворный». Шейбани-хан назначал одних заместителей, чтобы управлять двором, и других – чтобы следить за торговлей, сам же был всецело поглощен своим войском и новыми завоеваниями. Его образованием занимались муллы, придерживавшиеся ортодоксального направления ислама; он владел тремя языками и возбуждал несомненное восхищение женщин города. Бабур называл его варваром, но это не соответствовало действительности. Истинное положение вещей было куда серьезнее – во главе варваров стоял образованный человек, жестокий и решительный, умеющий искусно скрывать свои истинные намерения; он с полным равнодушием наблюдал за тем, как его соплеменники стирают с лица земли целые города, чтобы создать на их месте свои кочевые уделы. Шейбани претендовал на роль истинного продолжателя Чингисхана. Иногда историки называют его владения последней империей кочевников.
Ранней весной, в апреле 1501 года, Бабур повел свою немногочисленную армию в поход, рассчитывая разгромить лагерь узбеков. Так или иначе, но пойти на это было необходимо, поскольку войско не могло бесконечно отсиживаться за прочными стенами Самарканда, в то время как неприятель хозяйничал в стране, разоряя жизненно важные земледельческие угодья. Многое говорило за то, что обстоятельства складываются не в пользу Бабура, но он не внял предостережениям. Помощь родственников носила чисто символический характер: дядя Бабура, Махмуд-хан, правивший в те дни Ташкентом, прислал четыре или пять сотен всадников с двумя полководцами; Джахангир, клятвенно пообещавший ему свою помощь, – так же, как и правитель Ферганы, – с благословения Танбала расщедрился на сотню. Царевичи из дома Тимура, занимавшие престол великого Герата, расположенного далеко на западе, не прислали даже ободряющего письма. С юга, где правил Хосров-шах, поддерживавший тарханов, также не пришло ничего: шах опасался, что Бабур захочет отомстить ему за убийство царевича Байсункара.
Однако кое-кто из тарханов вернулся к Бабуру, приведя с собой и своих приближенных. Собралось довольно внушительное войско, которое не теряло веры в счастливую звезду своего предводителя. Он ясно, но слишком поздно осознал, что совершил ошибку, – ему следовало дождаться подкрепления. Он выступил из города, соблюдая все предосторожности, миновал его окрестности и двинулся вдоль реки, протекавшей через Самарканд и Бухару. Обнаружив узбеков на противоположном берегу, Бабур приказал соорудить укрепления, обнесенные рвами и поваленными деревьями.
Здесь Тигр допустил еще один просчет. Камбар Али (Живодер) подговаривал его отложить сражение, к тому же и астрологи указывали на то, что все восемь звезд Большой Медведицы видны в небе точно между двумя армиями, а через несколько дней передвинутся на сторону узбеков. «Это была совершенная глупость», – позднее признал Бабур.
Итак, он отдал своему войску приказ выйти из укрепленного лагеря и атаковать державшихся настороже узбеков у переправы через реку.
Сам Тигр с близкого расстояния следил за ходом сражения. Вскоре он понял, что происходящее вышло из-под его контроля, и он, как в кошмарном сне, может лишь беспомощно наблюдать за надвигающейся катастрофой.
Касим-бек с отборными самаркандскими воинами вышел на передний край, намереваясь нанести удар по центру узбекского войска, чтобы затем, соединившись с Бабуром и остальными силами, прорвать оборону противника. Казалось, успех на их стороне. В самый разгар битвы, после того как силы нападающих соединились, самаркандцы отчаянно устремились в атаку, выдвинув вперед правое крыло. По их мнению, именно здесь находилось слабое звено противника.
Битва, разгоревшаяся вокруг самаркандских рядов, переместилась на левый фланг, создав угрозу окружения. Находящемуся в тылу войска Бабуру приходилось отбивать атаки прорвавшихся к нему вражеских всадников. Свой авангард, отрезанный от основных сил и продолжавший прорубаться вперед, он уже потерял из виду.
Он понимал, что происходит, и даже указал название этого старинного монгольского приема: тулугма — «развернутое наступление», – когда специально отобранные воины правого фланга на полном скаку заходят неприятелю в тыл, осыпая врага тучами стрел. Шейбани-хан применил этот маневр, чтобы прорвать оборону Бабура на левом фланге и окружить его войско.
Прежде чем авангард во главе с Касим-беком успел осознать происходящее, стремительные всадники сделали свое дело, и самаркандцы пробивали себе путь к отступлению вдоль берега.
«Со мной оставалось десять или двенадцать человек; река Кухак была недалеко. Мы потянулись прямо к реке; достигнув реки, мы вошли в воду как были – в кольчугах и в латах. Больше половины реки мы прошли прямо по дну, дальше было глубокое место. На протяжении полета стрелы лошади двигались вплавь, нагруженные нашим боевым снаряжением и оружием. Выйдя из воды, мы освободили лошадей от тяжести. Перебравшись на северный берег реки, мы ушли от врага. Монгольские войска, пришедшие мне на помощь, уже не вели сражение. Они занимались тем, что стаскивали с лошадей моих воинов и грабили их, раздевая до нитки. Таков уж обычай этих язычников-монголов. Подобное бывало не раз; победив, они хватают добычу, а если их побеждают, они грабят своих союзников, сшибают их с коней и тоже хватают добычу. Ибрахим-тархан и множество лучших наших йигитов лишились коней и были убиты монголами».
Позднее чья-то рука, – возможно, рука самого Бабура, – добавила к этой записи стихи:
Будь монголы племенем ангелов, они не стали бы лучше.
Даже выбитое на золоте имя их внушает отвращение.
Заклеймив такими словами племя своих предков, Бабур привел афоризм, комментирующий его поражение у переправы: «Кто действует слишком поспешно, живет, держа во рту палец раскаяния».
Его раскаяние было глубоким и неутешным. Всего несколько дней назад он взошел на престол могущественной крепости под ликующие возгласы народа, а на помощь к нему направлялось сильное войско. Если бы он только дождался его прибытия в укрепленном лагере, чтобы с удвоенными силами встретить атаку узбеков!
Больше Тигр никогда не полагался на наемников и не позволял астрологам влиять на свои решения. И никогда не забывал ужасных всадников, кружащих рядом с ним в тылу войска. Против этого маневра было бессильно самое лучшее вооружение, отличные боевые кони и личная храбрость. В итоге множество его проверенных товарищей и великолепных воинов осталось лежать бездыханными на поле сражения.
Безудержно отступавшая к воротам Самарканда армия Бабура прекратила свое существование. Разумеется, первыми сбежали монголы, прихватив все свое снаряжение, а также награбленную добычу; кое-кто из могущественных беков, почуяв надвигающуюся опасность, тоже решил не возвращаться в город. Камбар Али – Бабур не мог не вспомнить о том, что в жилах безответственного Живодера течет монгольская кровь, – последовал их примеру, после того как перевез свою семью и имущество ко двору Хосрова. Другие внешне соблюдали лояльность и вернулись к Бабуру, заняв рядом с ним свое место в совете, – но сначала увезли свои семьи подальше. Все это не укрылось от внимания Бабура.
Нисколько не удивило его и то, что разосланный ко дворам родственников призыв о помощи остался без ответа. Получив ничтожную поддержку в тот момент, когда казалось, что победа на его стороне, он едва ли мог рассчитывать на нее в час своего поражения. С яростью воспринял он известие о том, что в город прибыл гонец от султана далекого Герата, – но не к нему, а к Шейбани-хану.
Несмотря ни на что, Бабур решил стоять за Самарканд насмерть. Верные ему Касим-бек и ходжа Макарам решили привлечь к обороне оставшиеся силы и создать мобильный резерв из безусловно преданных людей, направляя его в наиболее опасные точки на городских стенах, наблюдение за которыми, – об их обороне говорить не приходилось, – следовало поручить горожанам. Сами стены были достаточно крепкими, чтобы некоторое время сдерживать атаки врага.
Тем временем новорожденная дочь Бабура умерла, а жена, Айша, оставила его. Ханзаде, чувствуя свою беспомощность в разгар военных действий, не выходила из своих покоев, предаваясь скорби.«Беглецы думают только о бегстве»
После допущенного промаха Тигр проявил немалое мужество. Его двоюродный брат Хайдар отмечает, что «Бабур обладал большим мужеством, чем остальные члены его рода. И ни один из его соплеменников не переживал таких необыкновенных приключений».
К тому времени узбеки заняли пригороды, и после нескольких вражеских попыток пробить брешь в обороне города Бабур уяснил, что основная проблема заключается в городском населении, которое, не слишком пострадав, проявляло неуместную храбрость.
«…посреди города, под аркой медресе Улугбека поставили шатер, и я находился там. Простолюдины из каждого предместья и с каждой улицы Самарканда, собираясь толпами и возглашая за меня свои простодушные молитвы, приходили к воротам медресе. Шейбани-хан не решался начать сражение. Несколько дней прошло таким образом. Чернь, не знавшая ран от стрел или мечей, осмелела. Если видавшие виды йигиты удерживали этих людей от бесполезных вылазок, их принимались ругать. Однажды Шейбани-хан начал бой у Железных ворот. Расхрабрившиеся простолюдины смело и далеко рванулись вперед. Я приказал конным йигитам под командой Кукулдаша следовать за ними, чтобы прикрыть их отступление. Узбеки спешились и потеснили простолюдинов, прижав к воротам… Беглецы думают только о бегстве; время пускать стрелы или сражаться для них миновало. Я стрелял из арбалета, стоя над воротами. Я поразил стрелой коня узбекского военачальника конной сотни. Враги наседали и дошли до подножия вала. Занятые сражением в этом месте, мы совсем забыли о другой части города. Там находилось в засаде около восьмисот отборных воинов, а при них – двадцать пять широких лестниц. Шейбани-хан тем временем совершал нападения с нашей стороны.
Кучбек с тремя смелыми йигитами напали на врагов, поднимавшихся по лестницам, сбросили их вниз и обратили в бегство. Лучше всех действовал сам Кучбек, и это был один из его достохвальных подвигов.
В другой раз Касим-бек во главе своих молодцов выехал из ворот Сузангаран, сшиб с коней нескольких узбеков и вернулся с их головами».Личная храбрость была необходима при обороне городских стен, но не могла облегчить тяготы осажденных. Опытные узбеки прекратили попытки взять город штурмом и отошли на исходные позиции, совершая по ночам вылазки, сопровождаемые грохотом литавр – для того, чтобы лишить сна обессиленных защитников. К тому же в городе начинался голод.
«Пришла пора созревания хлебов, но никто не привозил в город нового зерна. Люди терпели большие лишения; дошло до того, что бедные и нуждающиеся стали есть собачье и ослиное мясо. Обычный корм для коней сделался редкостью, их кормили листьями с деревьев. По опыту оказалось, что лучше всего для этого подходят листья тута и карагача. Многие давали коням размоченные в воде стружки.
В старину говорили: «Чтобы удержать крепость, надобна голова, две руки и надобны две ноги. Голова – это полководец, две руки – подкрепление и помощь, две ноги – вода и припасы в крепости». Мы рассчитывали на помощь и поддержку соседних властителей, но у них были свои планы. Воины и горожане, утратив надежду, начали по двое, по трое убегать из крепости… Даже близкие мне люди и мужи, достойные уважения, перелезали через стену и убегали. В помощи со стороны мы совершенно отчаялись, продовольствия и припасов было мало, а то, что оставалось, приходило к концу.
Шейбани-хан, проведав о страданиях моих людей, пришел и стал лагерем возле Ворот Влюбленных. Я, со своей стороны, перешел на Нижнюю улицу и встал напротив Шейбани-хана.
В эти дни Узун Хасан [бывший командир монголов] вступил в город с десятком нукеров. Это он был подстрекателем мятежа Джахангира-мирзы и виновником нашего ухода из Самарканда. Его приход был очень смелым поступком. Через него Шейбани-хан повел разговор о мире. Будь у нас надежда на помощь, будь у нас припасы, кто стал бы слушать слова о мире? Нужда заставила! Заключив нечто вроде перемирия, мы ночью покинули город через ворота Шейхзаде. Я увез с собой Ханум, мою матушку. Моя старшая сестра, Ханзаде-биким, попала в руки Шейбани-хана».
(Так утверждает Бабур. Хайдар сообщает, что Ханзаде была отдана узбекам. Скорее всего, истина заключается в том, что честолюбивая старшая сестра Бабура явилась к Шейбани-хану добровольно, поскольку всегда старалась по мере сил служить интересам своего брата. Его самоотверженная бабушка также предпочла остаться в Самарканде.)
Понятно, что сам Бабур вряд ли мог рассчитывать на обещанную Шейбани безопасность. Горстка его приближенных не решилась идти по главной улице и, дождавшись ночи, покинула город, держась вдоль оросительных каналов, ведущих к берегу реки.«Темной ночью, кружа между большими арыками Сугуда, мы сбились с дороги и ко времени предрассветной молитвы поднялись на холм Карбук… По дороге мы с Камбар Али и Касим-беком затеяли скачки наперегонки. Мой конь пришел первым. Желая взглянуть, насколько отстали те двое, я обернулся; подпруга у моего седла, вероятно, ослабла, седло перевернулось, и я упал, ударившись головой о землю. Хотя я тотчас поднялся и сел на коня, разум мой мутился до самого вечера. События тех дней мелькали у меня перед глазами, точно сновидения или призраки. Вечером, во время предзакатной молитвы, мы остановились в Илан-Уты. Зарезав лошадь, изжарили мясо, поели и двинулись дальше… …Мы прибыли в Джизак. Там были белые лепешки и жирное мясо, сладкие дыни и прекрасный виноград. После великой нужды мы увидели изобилие, после стольких испытаний оказались в безопасном месте.
Страх смерти покинул нас,
Страдания и голод остались позади.
Никогда в жизни мы так не отдыхали – ведь наслаждение после нужды и безопасность вслед за тревогой кажутся вдвойне сладкими. Четыре или пять раз приходилось нам переходить от беды к радости и от трудностей к благоденствию, и это был первый раз. Избавившись от врага, мы три или четыре дня отдыхали в Джизаке».
Тигр снова оказался в горах, среди пастухов.
До наступления зимы он успел подготовиться к очередному изгнанию и увез мать, которая в то время болела, под защиту Каменного города, – его дядя Махмуд-хан предоставил им глинобитный дом в одном из окрестных селений. Селение представляло собой обычную пастушью деревню. Деревня называлась Дехкат – Десять Холмов – и находилась у основания высокой горы, с которой была видна дорога, ведущая в Ходжент. Многие из полководцев, включая неугомонного Камбара Али, не пожелали жить среди овечьих отар, не имея возможности ходить в набеги, поэтому они выпросили у Бабура разрешение провести зиму в родном Андижане. Он не стал их удерживать.
К счастью или к несчастью, Бабур обладал даром жить настоящей минутой. Пережив полное поражение в Самарканде, который им с матерью пришлось покинуть тайком, среди ночи, украдкой пробираясь по берегам арыков, он был способен наслаждаться возможностью пустить коня в галоп, едва дорога стана различима при свете наступающего дня. Теперь, в изгнании, он занимал себя, разъезжая по окрестным горам.«Хотя жители Дехката – сарты, оседлые, но они, как и тюрки, разводят овец и коней. В этом селении мы расположились в домах крестьян; я стоял в доме тамошнего старосты. Пожилой это был человек, лет восьмидесяти, но его мать была еще жива; очень долговечная женщина, ста одиннадцати лет. Когда Тимур-бек ходил походом в Хиндустан, кое-кто из родичей этой женщины ушел в его войско. Это сохранилось у нее в памяти, она сама рассказывала».
Питая склонность ко всякого рода математическим подсчетам, Бабур пришел к выводу, что жительнице горных пастбищ было около пяти лет, когда состоялся индийский поход Тимура, – столько же, сколько было и ему, когда он впервые увидел на стенах самаркандского дворца картины, повествующие о Тимуровых победах. Это совпадение могло показаться призрачным намеком на славу, которой он лишился, но Тигр ни на минуту не задумывался об этом. На тот момент у него не было никаких планов на будущее. Поэтому он с увлечением занялся подсчетом потомков столетней женщины.
«В одном только Дехкате жило детей этой женщины, ее внуков, правнуков и праправнуков девяносто шесть человек; вместе с умершими ее потомков считали почти двести человек. Внук ее внука был молодым человеком двадцати пяти или двадцати шести лет с большой черной бородой».Как всегда, Бабур с удовольствием бродил по горным тропам, частенько заводя беседы с отшельниками.
«Чаще всего я гулял босой. От долгого хождения босиком ноги у меня так загрубели, что ни скалы, ни камни на них не действовали. Однажды во время такой прогулки, между полдневной и вечерней молитвой, мы встретили на узкой тропе человека, который гнал перед собой корову. Я спросил крестьянина: «Как пройти к большой дороге?» – «Следите, куда пойдет эта корова, не упускайте ее из вида, она как раз и дойдет до большой дороги». Ходжа Асадулла, который был при мне, сострил: «А вдруг корова заблудится?»
В ту зиму некоторые из наших воинов попросили разрешения уйти в Андижан. Касим-бек настоятельно убеждал меня: «Раз уж эти люди едут в Андижан, пошлите Джахангиру-мирзе в подарок что-нибудь из ваших вещей». Я послал свою горностаевую шапку. Касим-бек снова начал меня уговаривать: «А что плохого, если послать что-нибудь также и Танбалу?» Я не соглашался, но после повторных настояний Касим-бека Танбалу был послан закаленный широкий меч, который Кукулдаш велел выковать в Самарканде, а я взял себе. Это был тот самый меч, который опустился мне на голову, как будет упомянуто далее.
Спустя несколько дней моя бабушка Исан Даулат-биким, которая после нашего ухода из Самарканда осталась там, прибыла вместе с находившимися при ней домочадцами и родичами, отощавшими и голодными».
Прибытие престарелой бабушки говорит о том, что Бабур услышал самаркандские новости.«Шейбани-хан, перейдя по льду через реку возле Ходжента, разграбил окрестности Шахрухии и Бишкента. Как только пришли об этом известия, мы тотчас выступили в поход, невзирая на малочисленность наших людей, и направились к селениям, находящимся ниже Ходжента по течению реки… Было очень холодно. В этих местах постоянно, не ослабевая, дует сильный ветер из Хай-Дервиша [по легенде, этот ветер дует на караванной дороге в пустыне, где однажды заблудилась группа бродячих дервишей, которые кричали «Хай!», окликая друг друга]; стужа стояла такая, что за эти два или три дня погибли от холода два или три человека.
Мне понадобилось совершить омовение. В одном арыке вода у берегов покрылась льдом, но посередине из-за быстрого течения не замерзла. Я вошел в арык и совершил омовение и окунулся шестнадцать раз. Холодная вода сильно на меня подействовала.
На рассвете мы переправились по льду через реку возле Ходжента. Оказалось, что Шейбани-хан, разграбив окрестности Шахрухии, ушел».Во время обратного перехода через заснеженные вершины Бабуру пришлось пережить боль утраты. Нойон Кукулдаш, один из его ближайших друзей, отстал от своих товарищей, чтобы принять участие в местном празднике, на котором состоялся пир в его честь. Во время него он погиб при загадочных обстоятельствах. Опечаленный Бабур подозревал, что к смерти его друга был причастен изворотливый молодой катамит, затаивший смертельную обиду на Кукулдаша. Как бы то ни было, теперь его друг лежал под мерзлой землей, и Бабур с трудом заставил себя произнести свое обычное «Так было суждено!».
С приходом весны холода пошли на убыль. Однажды утром, когда Тигр развлекался, наблюдая за работой каменщиков, высекавших на скале у истока ручья строки философских стихов, ему донесли, что на дороге снова видели узбеков, направлявшихся в сторону деревни. После бессмысленной гибели Кукулдаша это известие вызвало в его душе целую бурю чувств. «Мне пришло на ум: «Жить так, скитаясь с горы на гору, без дома и крова, не имея ни земель, ни владений, не годится. Пойдем лучше к хану в Ташкент». Так говорил я себе. Касим-бек очень возражал против этого. Он предал казни трех или четырех моголов, как уже упоминалось. По этой причине он не решался идти к их товарищам. Я долго его уговаривал. В конце концов он покинул меня и направился со своими братьями и приближенными в Хисар… Я же отправился в Каменный город к хану».
Начиналось лето 1502 года. Бабур отложил свой отъезд до окончания ритуальных празднований, завершающих месяц поста Рамазан. Лишь немногие из приближенных выразили желание сопровождать его в пути. Не имея достойного подарка, который он мог бы преподнести своему дяде, Бабур написал и тщательно отделал рубаи [17] , начинающееся словами: «Никто не вспоминает о человеке в беде…» Он и сам не знал, какой помощи ждать от хана.
Махмуд-хан проявил подобающее своему положению гостеприимство и устроил племяннику самый сердечный прием. Хотя номинальный предводитель монголов и сам баловался стихосложением, однако на поднесенное Бабуром четверостишие он из осторожности не ответил. «Его владение поэтическими образами кажется довольно убогим», – записал униженный Бабур.
Такую же осторожность дядя проявил и в обсуждении нового плана Бабура, который предложил сообща возглавить армию монголов, чтобы наказать и уничтожить непокорного Танбала – гораздо более легкого противника по сравнению с прославленным Узбеком. Это предложение Махмуд-хан вроде бы одобрил, однако истинные причины своего согласия оставил при себе. По случаю выступления в поход хан организовал настоящую церемонию. Бабур невольно стал участником старинного ритуала благословения военных знамен.
«Между Бишкеком и Самсираком произвели смотр войску. По монгольскому обычаю распустили знамена. Перед ханом водрузили девять знамен со свисающими с них конскими хвостами. Один из моголов привязал к бедренной кости быка, которую держал в руке, длинное белое полотнище, другой привязал еще три длинных полотнища к верхним концам трех знамен чуть ниже конских хвостов и расстелил их по земле. На конец одного полотнища ступил ногой хан, на конец другого его сын, а на конец третьего я. Первый могол, держа в руках бычью кость с привязанным к ней полотнищем, что-то сказал по-могольски, глядя на знамена, и подал знак. Хан и все те, кто стоял подле него, взяли чаши с кумысом и выплеснули понемногу в сторону знамен. Заревели трубы, ударили барабаны, воины в строю все как один трижды испустили боевой клич, потом сели в седла и трижды проскакали галопом вокруг знамен.
Как установил Чингисхан свои правила, так моголы до сих пор их соблюдают. Каждый занимает то место, которое занимал его предок, – на правом крыле, на левом крыле или посередине…
На следующее утро великий круг снова был выстроен – на этот раз для охоты».Бабур не испытывал интереса к старозаветным обычаям степного воинства. На ритуале он присутствовал в качестве почетного гостя, так как был внуком Юнус-хана. Первый раз в жизни он отстал от мчавшихся по степи охотников и занимался сочинением газели [18] , начинавшейся двустишием:
Не нашел я верного друга, кроме собственной души,
Не нашел я поверенного тайн, кроме собственного сердца.
Непонятно, почему его так огорчила пропажа золотой пряжки от пояса, которая была украдена у него на стоянке. Когда на следующий день после пропажи обнаружилось, что из лагеря убежали два монгола, он не сомневался, что именно они и были ворами, но никому не сказан об этом происшествии. Он начал понимать, что поход был всего лишь парадом, затеянным ему в угоду. «Хан, – записал он, – крепости не взял, врага не разбил: как пошел, так и вернулся».
Возвратившись в Каменный город, Тигр уже не восхищался его благоустроенностью. Крупнейший из городов равнины раскинулся между рукавами рек; пришельцы из чужих стран толпились в просторной Джума-мечети. Однако город этот больше ничего не значил для Бабура. Услышанное издали пение погонщиков караванов, пришедших сюда из Самарканда, звучало для него насмешкой. Покинув Каменный город, тяжело груженные караваны направлялись дальше – на восток, где голубела горная гряда и начинался Великий северный путь в Китай. В Каменном городе не было и следов грабежей; в него не съезжались ученые, которые стали бы сердцевиной его существования. Пригородные пастбища для лошадей и рогатого скота изобиловали животными; горожане питались хорошим мясом, сушеными фруктами и свежеиспеченными мучными лепешками; вместо поэтов, во всеуслышание воспевающих радости жизни, на улицах города завывали нищие, но у Тигра не было монет, чтобы бросить им. Когда он направлялся в ежедневный диван [19] к хану, его сопровождало всего двое или трое приближенных. Он пребывал в ничтожестве.
Как обычно, он жаждал вскочить в седло и бежать от этого унижения. Он не мог перенести, что его бедность стала для всех очевидной. Ему хотелось уехать куда-нибудь в захолустье, где никто не знал бы, кто он такой. Наблюдая за гружеными караванами, отправляющимися в Китай, он всей душой рвался уйти вместе с ними. И, как обычно, вел сам с собой нескончаемые споры, чтобы прийти к какому-то решению. Разве он не мечтал всю жизнь о путешествиях, от которых его удерживал только сан правителя Ферганы, сына Омар Шейха? Теперь это уже позади; его мать, вместе со своей матерью и его младшим братом находятся в безопасности, так же как и его младшие сестры. А старшая сестра, – к счастью или к несчастью, – в руках Шейбани-хана.
Воспоминания о Шейбани подсказали ему предлог, позволяющий расстаться с дядей, – что было совсем непросто, поскольку считалось, что Бабур стал членом ханской семьи. Он не мешкая отправился к своему правоверному религиозному наставнику, ходже Макараму, чтобы вместе с ним подобрать веские основания для отъезда. Узбек Шейбани был врагом тюрку Бабуру в той же степени, как и монголу Махмуду; необходимо было немедленно принять решительные меры, чтобы не дать ему времени укрепить свою власть. Разве не разумнее затушить огонь, не дожидаясь, пока пожар разгорится? Бабур поспешил сложить стихи, доступные для дядиного понимания. Они заканчивались двустишием:Не жди, пока враг нацелит стрелу в тебя,
Если сам можешь пустить в него стрелу.
Все шло как надо. Что же до мнимой цели поездки, то Бабур собирался сказать, будто направляется ко двору другого дяди – младшего из ханов, жившего в восточных областях. Бабур никогда с ним не встречался и – согласно своей легенде – хотел пригласить его в Каменный город и попросить помощи в борьбе с узбеками. Земли младшего дяди лежали на пути в Китай. О своем намерении отправиться в эту страну Бабур не сообщил никому, – кажется, даже ходжа Макарам ничего не знал об этой затее. Мать Бабура не стала бы даже слушать его, а последние приближенные немедля разбежались бы, посвяти он их в свои планы.
Усилия, затраченные Тигром на эту запутанную интригу, особым успехом не увенчались. Ходжа Макарам почтительно сообщил о замысле Бабура уехать из Ташкента матери Махмуда, сообразившей, что хану тоже будет интересно об этом услышать. Тот услышал и призвал ходжу, чтобы спросить у него: неужели Бабура приняли настолько негостеприимно, что он намеревается уехать таким образом? Не на шутку разобиженный хан отказался дать своему племяннику разрешение на отъезд.
Побег в Китай был на неопределенное время отложен. Дальнейшие события вынудили Бабура отказаться от этого замысла. «Мой план ни к чему не привел», – откровенно признается Бабур в своей книге. Но тут с Великого северного пути прибыл гонец с сообщением о том, что младший хан Алаша – по прозванию Смертоносный – направляется в Каменный город. В соответствии с принятыми установлениями вслед за первым явился второй гонец, пояснивший, что в настоящий момент Алаша-хан находится в непосредственной близости от города.
Вряд ли это можно объяснить простым совпадением. Скорее всего, старший хан обдумал предложения Бабура насчет узбеков и пришел к тем же выводам, которые Бабур использовал в качестве предлога для своей поездки: было ясно, что братьям следует встретиться и совместными силами принять меры к непредсказуемому Танбалу, не забывая при этом о собственной выгоде.
Вероятно, Бабур и на этот раз не задумался об истинных причинах вышеупомянутых событий. В те годы он не был склонен к подобным размышлениям. Судя по всему, прибытие младшего хана он воспринял как счастливую случайность и, как обычно, поспешил на этом сыграть.
В Каменном городе царило невероятное оживление. Уже двадцать пять лет Алаша не удостаивал его своим появлением и пропадал в своих богом забытых владениях, расположенных в отрогах величайших гор, – там, где Гиндукуш соединялся с простирающимися на восток плато Тибета и Тянь-Шаня, который в Китае называли Небесными горами. Принадлежащие Алаше степи считались страной монголов, а свое прозвище Смертоносный получил после того, как в хорошо продуманных сражениях разгромил темных казахов, отделившихся от узбекской орды. Несомненно, он был представителем истинного Востока – родины их великого предка, находящейся в той части земли, где восходит солнце. Именно Алаша стал подлинным наследником Чагатая, тогда как Махмуд только числился им, пользуясь возрастным преимуществом. Какова свита Анаши и на каком расстоянии от города он находится? Мать обоих ханов развила бурную деятельность и приказала начать приготовления к празднествам и позаботиться о покоях для прибывающих и о прислуге для них, после чего сама собралась в дорогу в сопровождении своих дочерей и сестер. Согласно монгольскому обычаю, почет, оказываемый гостю, измерялся расстоянием, на которое хозяин удалялся от дома, чтобы приветствовать прибывшего.
Высокопоставленные женщины двинулись в путь, но Бабур опередил их. Инстинкт подсказывал ему, что он должен успеть и первым встретиться со своим незнакомым родственником. Он пишет, что оставил женщин в деревне, а сам якобы отправился посетить некие гробницы и осмотреть окрестности.«Не зная наверное, что мой дядя, младший хан, сейчас прибудет, я быстро выехал на коне, и вдруг встречаю хана; они только что стали лагерем. Я подъехал к ним. Когда я сошел с коня, младший хан, мой дядя, сразу все понял и очень взволновался: вероятно, он думал разбить где-нибудь лагерь, усесться и торжественно со мной поздороваться… но… обстоятельства этого не позволили. Поклонившись, я подошел и поздоровался. Хан, взволнованный и смущенный, тотчас приказал своим сыновьям Султан Саид-хану и Баба-хан-султану сойти с коней и поздороваться со мной, преклонив колени. Из сыновей хана прибыли только эти двое, им было лет по тринадцать– четырнадцать. Поздоровавшись с ними, я сел на коня, и мы отправились к Шах-биким [матери]. После того как младший хан поприветствовал своих сестер, все они сидели до полуночи, беседуя о былых делах и минувших событиях. Младший хан был сильный и смелый человек, его излюбленным оружием был меч. «Булава или боевой топор, раз ударив, поражают одно место, а меч рассекает с головы до ног», – говаривал он. Он полагался на свой меч и никогда не расставался с ним, тот либо висел у него на поясе, либо находился в руке. Выросши на далекой окраине, он был несколько неотесан и грубоват в речах».
Однако этот любитель монгольских традиций не мог смириться с тем, что встреча с племянником не носила торжественного характера. На следующий день Бабур получил от него подарки в сугубо монгольском духе, на которые ему нечем было ответить.
«Он пожаловал мне свое личное оружие, платье, кушак и оседланного коня из своей личной конюшни, а также полный наряд монгольского образца – монгольскую шапку, халат из китайского шелка, весь украшенный вышивкой, и китайский пояс со старинного образца сумкой для кремня и кошелька. Сумка висела с левой стороны, а справа повесили мешочек с женскими побрякушками вроде коробочки для благовоний».
Тем временем старший хан преодолел разделявшие их двенадцать миль и позаботился о том, чтобы встретить брата со всеми полагающимися церемониями, чтобы вернувшийся в родные края монгол остался доволен. Махмуд с достоинством устроился на коврах в беседке, установленной возле дороги.
«Младший хан подъехал к старшему спереди, потом сделал возле него круг, двигаясь справа налево, и спешился перед ним; подойдя на должное расстояние, девять раз преклонил колени, а после этого встал и подошел, чтобы обняться с братом. Старший хан тотчас встал: они поздоровались и долго стояли обнявшись. Отступая назад, младший хан снова девятикратно преклонил колени; поднося подарки, он тоже много кланялся. Затем он подошел к старшему хану, и оба сели… В упомянутом выше могольском наряде я вернулся вместе с моим дядей, младшим ханом, в Каменный город. Ходжа Макарам не узнал меня и спросил: «Они какой султан будут?» Он узнал меня, лишь когда я заговорил».
По правде говоря, Тигр плохо разбирался в традициях своих предков, и судя по всему, его дяди позаботились о том, чтобы он остался в таком же неведении относительно их совместных планов. Его позабавил праздник по монгольскому обычаю, который они устроили по поводу своего воссоединения, проведя смотр войскам. Во время парада Тигр заметил, что младший хан привел только две тысячи воинов, в то время как общая численность участников смотра превышала тридцать тысяч вооруженных всадников. Это свидетельствовало, что силы старшего хана полностью соответствовали его власти; объединив усилия, братья легко могли сокрушить любое сопротивление со стороны Танбана, и они пообещали вышвырнуть мятежного бека из Ферганской долины. Польщенный Бабур получил под свое начало передовой отряд войска. Ему не пришло в голову, что подчиняющиеся ему всадники выполняют его приказы лишь по распоряжению обоих ханов, которых больше не было рядом с ним.
Очевидно, Тигр не стал терять времени и переправился через реку Сыр, воды которой отделили его от не в меру осторожных родственников, продвигавшихся вдоль северного берега к хорошо укрепленному лагерю Танбала. Тот ожидал их появления и принял соответствующие меры предосторожности. Оба хана, похвалявшиеся наголову разбить Танбана, заняли выжидательную позицию.
Чего нельзя сказать о Бабуре. Получив полную свободу действий, он со своим летучим отрядом пронесся по южному берегу реки и на рассвете занял ближайший город, захватив врасплох его гарнизон, – к полному восхищению горожан. Население долины скорбело о его отсутствии, и теперь – уже не в первый раз – по караван-сараям, мечетям и городам начало распространяться известие о его приближении; крепости открывали перед ним ворота, а кочевники седлали коней, чтобы присоединиться к его войску, и даже прежние вассалы решались привести к нему своих приближенных. В конце долины его ждал Андижан, оставленный Танбалом. Естественно, Бабур стремился без промедления вступить в свой родной город, не задумываясь о том, что его смешанное войско укомплектовано не только жителями Ферганы, но и чужестранцами-монголами.
«Мне пришло на ум, что если как-нибудь ночью мы подойдем к Андижану, пошлем туда человека и сговоримся с Ходжой и знатными людьми города, они, может быть, впустят нас с какой-нибудь стороны. С таким намерением мы выехали из Оша и в полночь пришли на стоянку напротив Чил-Духта-рана, в одном курухе от Андижана.
Камбар Али-бека и еще некоторых беков отрядили вперед, чтобы они осторожно послали в крепость человека и сговорились с Ходжой и знатными горожанами. Ожидая посланных беков, мы сидели на конях; некоторые дремали, другие погрузились в сон. Внезапно раздался грохот барабанов и крики. Не зная, много ли врагов и где они, мои люди, разомлевшие и сонные, вместо того чтобы подпустить неприятеля поближе, в страхе обратились в бегство, каждый сам по себе. У меня не было времени возвращать их, я поскакал навстречу врагам в сопровождении всего трех всадников. Я проехал небольшое расстояние, и тут нападающие ринулись на меня, крича и пуская стрелы. Какой-то человек на коне с белой отметиной на лбу подскакал ко мне вплотную; я пустил стрелу в коня, конь рухнул на землю. Те трое, что были со мной, сказали: «Ночь темная, много ли, мало ли врагов – неведомо. Все наши воины убежали, а от нас четверых какой может быть вред врагу? Надо нагнать беглецов, а потом драться».
Мы вскачь настигли наших людей и принялись их лупить и хлестать, но что мы ни делали, люди не собирались. Мы четверо снова вернулись и стали пускать стрелы; враги немного приостановились. Увидев раз или два, что нас трое-четверо, не больше, они снова начали гнать наших, сбивая их с коней. Таким образом я три или четыре раза пытался удержать наших людей, но они не останавливались и я снова возвращался с теми тремя, пуская стрелы и отгоняя врагов.
Наших людей гнали два или три куруха, до холмов, что напротив Харабука и Пашамуна. Достигнув этих холмов, мы встретили Мухаммеда Али Мубашира. Я сказал: «Их немного, остановимся и пустим на них коней». Мы пустили коней вскачь; когда мы подскакали, враги остановились.
Мои беглецы стали возвращаться с разных сторон; однако некоторые вояки проскакали, убегая, до самого Оша.
Вот как это произошло: несколько моголов из тумана Айюб Бекчика, покинув нас в Оше, отправились в окрестности Андижана, чтобы пограбить. Услышав топот коней нашего войска, они осторожно пробрались вперед и выкрикнули свой уран. В этом походе условными словами урана были «Ташкент» и «Сайрам». Во время свалки впереди был ходжа Мухаммед Али [вероятно, библиотекарь Бабура]. Моголы подходили, крича: «Ташкент, Ташкент!» Ходжа Мухаммед Али, человек из сартов, был сильно возбужден и тоже закричал: «Ташкент, Ташкент!» Моголы подумали, что это враг, подняли крик, забили в барабаны и стали пускать стрелы.
Задуманный план не удался, мы повернули назад и воротились в Ош».
Так ложная тревога сбила Бабура с толку, и его первая попытка прорваться к столице, где он не бывал уже несколько лет, потерпела неудачу. Вскоре ему пришлось пережить настоящую тревогу. И это снова вывело его из равновесия. Услышав о том, что к Андижану приближается войско монголов, мятежный Танбал конечно же устремился обратно, чтобы подготовить оборону города. По дороге его армия была сильно ослаблена дезертирами, – солдаты переходили на сторону монголов, чтобы присоединиться к Бабуру, популярность которого по-прежнему росла. Сам Бабур настаивал на немедленном штурме, надеясь, что все это скопище беглецов и дезертиров сумеет прорваться в какие-нибудь из городских ворот; его смогли остановить только возражения опытных военачальников, которые были против ночного штурма укреплений. Бабур не был согласен с ними, но, как обычно, подчинился требованиям старших. В характерной для себя манере он отметил, что отводить монгольских всадников из пригородов, чтобы разместить их на ночлег, было ошибкой.
«Было время вечерней молитвы. Мы двинулись вперед, перешли арык Хакана и стали лагерем возле деревни Рабат-и-Рузек. Хотя имелись сведения, что Танбал в беспорядке отступает и идет к Андижану, но вследствие нашей неопытности случилась ошибка: вместо того, чтобы утвердиться в таком укрепленном месте, как арык Хакана, мы стали на равнине. Без караула, без охраны мы беспечно лежали и отдыхали.
На рассвете люди сладко спали, как вдруг подскакал Камбар Али-бек и закричал: «Враг подошел, вставайте!»
Я постоянно, даже в спокойное время, ложился, не снимая платья и шапки. Поднявшись, я тотчас подвязал меч и колчан и вскочил на коня; знаменосец не успел даже прикрепить знамя к древку; держа знамя в руке, он вскочил в седло. Мы направились прямо в ту сторону, откуда шел враг; меня сопровождало человек десять – пятнадцать.
Подойдя к врагам на полет стрелы, мы столкнулись с разъездами неприятеля; в это время при мне было человек десять воинов. Мы быстро поскакали, пуская стрелы и забирая передовых воинов врага в плен. Мы прогнали их еще на полет стрелы и подошли к центру их войска. Султан Ахмед Танбал и с ним человек сто воинов стояли, ожидая нас, сам Танбал и еще один воин немного выступили из рядов; Танбал стоял и кричал: «Бей, бей!», но большинство его людей развернулось боком и как будто раздумывало: «Бежать или нет?»
В это время при мне оставалось трое: Насир Дост, Мирза Али Кукулдаш и Каримдад, сын Худайдад Туркмена. Я пустил стрелу с уже натянутой тетивы в шлем Танбала и сунул руку в колчан за следующей стрелой. Хан, мой дядя, подарил мне новенький «гушагир»; он попался мне под руку. Мне стало жалко его выбросить; пока я снова вкладывал его в колчан, можно было бы метнуть две стрелы. Я наложил на тетиву другую стрелу и двинулся вперед; три моих воина остались позади. Один из двоих, что стояли напротив меня – это был Танбал – тоже двинулся вперед; между нами была широкая дорога. Я выехал на дорогу с одной стороны, он – с другой, и мы оказались лицом к лицу, так что я стоял правым боком к врагу, а Танбал стоял правым боком к нам. При Танбале было все его оружие, кроме конских лат; у меня кроме меча и лука не было никакого оружия. Я пустил стрелу в щит Танбала. В это время мне насквозь пробили стрелой правое бедро. На голове у меня был только подшлемник; Танбал рубанул меня по голове; от удара у меня помутилось в голове; подшлемник остался совершенно целым, но на голове у меня появилась большая рана. Я не позаботился заранее вычистить меч, он заржавел и не выходил из ножен. Стоять на месте было нельзя, и я повернул коня; еще один удар меча пришелся по моему колчану.
Я проехал несколько шагов, и ко мне присоединились три моих человека. После меня Танбал успел ударить мечом Насира Доста, нас преследовали на протяжении полета стрелы.
Арык Хакан – большой и глубокий канал. Перейти его можно не везде, но Бог помог, и мы вышли прямехонько к одной из переправ через арык. Перейдя арык, ослабевшая лошадь Насира Доста упала. Мы остановились и пересадили его на одного из наших коней, а дальше поехали к Ошу мимо Харабука. Когда мы поднялись на эту возвышенность, к нам присоединился Мазид Тагай. Ему тоже попала в правую ногу стрела. Хотя она не прошла насквозь, Мазид Тагай добрался до Оша с большим трудом. В этот день погибло немало моих лучших воинов».В те дни, когда Бабур лечил покалеченную ногу, пришли тревожные вести. Оба его дяди вслед за Танбалом переправились через реку Сыр и с большим удовлетворением наблюдали за событиями на другом берегу. Младший хан стал лагерем у стен богадельни в пригороде Андижана, старший же раскинул свои шатры в саду под названием «Птичья мельница», принадлежащем Исан Даулат, и немедленно послал за Бабуром.
«Через два дня я прибыл из Оша и повидался со старшим ханом в Куш-Тигирмане [20] . В то самое время, когда я с ним свиделся, хан передал младшему хану те земли, что перешли ко мне. Оправдываясь передо мной, он говорил: «Враг, подобный Шейбани-хану, захватил такой город, как Самарканд, и могущество его все растет. [Именно это и послужило Бабуру предлогом для отъезда, когда он собирался бежать в Китай.] Ради этого дела младшего хана привезли бог весть откуда. Здесь у него земли нет, те его владения – далеко. Следует отдать младшему хану области к югу от реки [Сыр], а также и Андижан, чтобы он там водворился». Области к северу от реки, начиная с Ахси, хан обещал мне и говорил, что, утвердившись здесь, ханы направятся в земли Самарканда, возьмут их и отдадут мне, а после этого всю Фергану передадут младшему хану. Вероятно, эти слова были хитростью, чтобы меня обмануть; неизвестно, что бы произошло, если бы все это осуществилось. Делать было нечего, хочешь не хочешь, пришлось согласиться.
Когда, покинув старшего хана, я направлялся к младшему хану, чтобы повидаться с ним, Камбар Али, известный под прозвищем Живодер, поравнялся со мной и сказал: «Видели? Они немедля отобрали у вас все ваши земли! У вас с ними ничего не выйдет; ступайте в Ош, укрепите крепости, пошлите к Султан Ахмед Танбалу человека и помиритесь с ним, потом разбейте и прогоните могола и разделите по-братски ваши владения с Танбалом».
Я сказал: «Пристойно ли это будет? Ханы – мои родичи; быть им слугой лучше, чем властвовать над Танбалом». Камбар Али увидел, что его слова не произвели впечатления, и вернулся [на свое место], раскаиваясь в сказанном… Через три-четыре дня Камбар Али, беспокоясь из-за сказанных им слов, бежал в Андижан.
Я поехал и повидался с моим дядей, младшим ханом. При предыдущем свидании я явился внезапно, так что младший хан не успел сойти с коня и встретил меня без всякого почета. На этот раз, хотя я подошел еще ближе, младший хан добежал до конца ограды шатра. Так как нога у меня была ранена стрелой, я шел с трудом, опираясь на палку. Подойдя и поздоровавшись, младший хан сказал: «Брат мой, вы, говорят, богатырь» – и, взяв меня за руку, ввел в шатер. Шатер ему поставили очень маленький. Так как хан вырос в окраинных землях, то шатер, в котором он жил, был скромный, не слишком удобный. Дыни, виноград, принадлежности конской сбруи – все лежало тут же в шатре, где он жил.
Покинув младшего хана, я направился в свою ставку. Чтобы лечить мою рану, ко мне прислали могольского костоправа по имени Атиге-бахши – моголы называют костоправов бахши… В искусстве править кости он очень сведущ. Если даже у человека вываливался из костей мозг, этот костоправ и то давал лекарство. Он рассказывал множество таких удивительных и небывалых вещей. В нашей земле костоправы не способны так лечить. К ране на моем бедре он велел прикладывать жженую шерсть, а фитиля не вставлял. Кроме того, он один раз дал мне съесть какой-то корешок».Неизвестно, какую роль в исцелении несчастного Тигра сыграла чудодейственная повязка, но уже через несколько дней он снова сидел в седле и чувствовал себя так, как будто его поход не прерывался. Дяди выделили ему новый отряд и послали на штурм Ахси, сами же остались в Андижане. И снова старшие военачальники удержали его от решительной атаки. Так всегда, записал он, поэтому человеку, у которого есть свой план, следует придерживаться его, несмотря ни на что. Нет ничего хуже, чем сожалеть об утраченной возможности. После этого случился ряд непредвиденных событий. Обороной Ахси командовал шейх Баязид, младший брат Танбала, когда-то возглавлявший символическое войско, направленное в помощь Тигру к стенам осажденного узбеками Самарканда. Теперь Баязид прислал к Бабуру лазутчика, настойчиво предлагая ему тайно явиться в крепость с надежной охраной, чтобы снова принять Баязида к себе на службу. Такое предложение означало победу над хорошо укрепленной Ахси. Бабур серьезно задумался над ним.
«Цель этих призывов заключалась в том, чтобы любой хитростью разлучить меня с ханами; ведь если я расстанусь с ними, ханы не смогут более стоять под Андижаном. Эти приглашения делались с согласия его старшего брата, Танбала. Расстаться с ханами и заключить союз с этими людьми мы считали невозможным. Я намекнул ханам об этих приглашениях. Ханы говорили про меня: «Пусть идет! Пусть любым способом захватит Баязида!» Подобное коварство и хитрость не соответствовали нашим правилам и обычаям, тем более что у меня с Баязидом был заключен договор. Как же можно столь вероломно его нарушить? Мне пришло на ум, что нам следует каким-нибудь образом проникнуть в Ахси: или мы отторгнем Баязида от Танбала и он перейдет на нашу сторону, или дело обернется как-нибудь иначе, благоприятно для нас».
Горький опыт не научил сына Омар Шейха полагаться в интригах только на собственный рассудок. Как обычно, пытаясь сформулировать свои истинные желания, Бабур начал спорить с собой. Приняв решение, он больше не пытался обнаружить расставленные для него ловушки.
«Мы послали к Баязиду человека и заключили договор и условие. Шейх Баязид позвал нас в Ахси, мы пошли. Шейх Баязид, выйдя навстречу и приведя с собой также моего младшего брата Назира-мирзу, впустил нас в крепость Ахси. Мне назначили стоянку и жительство в наружных укреплениях, в домах моего отца. Я пошел и водворился там».
Это был тот самый дом, встроенный в каменную стену замка, над скалой, с которой Омар Шейх совершил свой смертельный полет вместе с голубятней. Бабура не насторожило то обстоятельство, что покои самого Баязида находились во внутренних пределах крепости, – забыв обо всем, он принялся с интересом изучать свое жилище, полное воспоминаний о тех днях, когда он был двенадцатилетним мальчиком. Усыпальница его отца была установлена в миниатюрном садике; в амбразурах крепостной стены все так же важно расхаживали голуби. Старые слуги радостно бросились к его ногам; к тому же он должен был столько всего обсудить с мальчиком – своим братом.
Теперь совершенно ясно, что Бабур жил настоящим моментом; очевидна также его натянутость в отношениях с ближайшим окружением. Оказавшись на дороге, он мог неожиданно затеять скачки; завидев тенистую лужайку с бегущим по ней ручьем, он хотел спешиться, чтобы полюбоваться видом. Ни один монарх в истории не был способен так детально описать, что происходило вокруг него во время неожиданной ночной атаки конницы. Но теперь, вернувшись в дом своего детства, когда рядом с ним был Назир, он больше не пытался связаться с ханами и вообще не слишком задумывался о судьбе своей долины. Находясь под защитой приветливого Баязида, своего ровесника, Бабур не тревожил себя размышлениями о том, что Баязид занимал охраняемую крепость и городской мост, в то время как его собственные приближенные скучились на рыночной площади и в лагере за городской чертой, а сам он взгромоздился на шаткий насест на самой вершине скалы. Ловушка, в которую он угодил, была готова захлопнуться.
Танбал, неудержимо рвавшийся к Андижану, попросил помощи у узбеков, и из Самарканда в долину двинулось войско Шейбани-хана.
С известием о приближении узбеков жизнь в долине изменилась, как узор в калейдоскопе. Оба хана – не имевшие возможности связаться с Бабуром – с сугубо монгольской предусмотрительностью проворно снялись с места. Вместо того чтобы переправиться через реку Сыр и пройти мимо Ахси, они направились вдоль реки к переправе у Ходжента. Младший хан был справедливым и благочестивым правителем, но его войско, как обычно, грешило мародерством, и во время отступления монголов встречали разъяренные местные жители, с оружием в руках требовавшие вернуть им имущество. Как всегда, умудренные опытом узбеки делали ставку на то, что Тимуриды и монголы расстанутся, перессорившись между собой.
Даже когда Бабур услышал о приближении узбеков, хитроумный Баязид сообразил, какую следует разыгрывать карту. (Спешивший к Ахси Танбал вел за собой несколько тысяч воинов.) Баязид доставил к Бабуру раскаявшегося ренегата Джахангира. Это наложило на Бабура серьезную ответственность. Теперь все трое сыновей Омар Шейха оказались загнанными в дом на скале. Достаточно было трех взмахов меча, чтобы жизнь трех его наследников оборвалась, как оборвалась жизнь их двоюродных братьев. Бабур, однако, не скрывал своей радости от неожиданной встречи с братьями.«Однажды утром из Маргилана, покинув Танбана, явился Джахангир-мирза. Когда он прибыл, я находился в бане. Мы поздоровались. В это время пришел также и шейх Баязид, взволнованный, в полной растерянности. Мирза и Ибрахим-бек [один из военачальников Джахангира] говорили: «Шейха Баязида надо схватить, надо овладеть арком». И действительно, здравый расчет подсказывал это. Я сказал: «Мы заключили договор, как же мы его нарушим?» Шейх Баязид ушел в арк. На мосту следовало поставить человека, но мы не поставили на мост никого. Такая небрежность произошла вследствие неопытности. На рассвете явился Танбал с двумя или тремя тысячами вооруженных людей, перешел через мост и вступил в арк.
У меня и сначала было мало людей, а придя в Ахси, я к тому же разослал некоторых по крепостям, других отправил кого куда… В Ахси со мной было всего сто человек с небольшим. Выехав с этими людьми на конях, мы расставляли йигитов на концах улиц и собирали боевое снаряжение, когда шейх Баязид, Камбар Али и Мухаммед Дост прискакали от Танбала ради примирения. Поставив людей, назначенных для боя, на указанные им места, я отправился к усыпальнице моего отца и сел там, чтобы держать совет. Джахангира-мирзу я тоже позвал; Мухаммед Дост вернулся, шейх Баязид и Камбар Али-бек пришли. Усевшись на южном ай-ване [21] гробницы, мы советовались между собой, и вдруг оказалось, что Джахангир-мирза и Ибрахим
Чапук сговорились схватить этих людей. Джахангир-мирза сказал мне на ухо: «Их надо схватить», но я отвечал: «Не спеши! Дело сейчас зашло дальше того, чтобы их задерживать. Посмотрим, может быть, выйдет что-нибудь хорошее миром. Их ведь очень много, а нас так мало. К тому же они с такими силами находятся в арке, а мы, при нашей слабости, – в наружных укреплениях». Шейх Баязид и Камбар Али тоже присутствовали на этом совете. Джахангир-мирза сделал Ибрахим-беку знак головой, приказывая ему воздержаться от задуманного дела. Не знаю, понял ли его Ибрахим-бек наоборот или поступил так нарочно, однако он тотчас схватил шейха Баязида. Стоявшие там йигиты со всех сторон бросились на тех двоих и поволокли их. Говорить о мире и соглашении было уже поздно. Отдав обоих под стражу, мы выехали в бой.
Одну сторону города поручили Джахангиру-мирзе. Людей у мирзы было мало; я назначил часть своих молодцов ему в помощь. Сначала я поехал туда и расставил людей по местам для боя, потом отправился в другую часть города. Посреди города была ровная площадь. Оставив там отряд йигитов, я поехал дальше. На этих людей напал большой отряд конных и пеших, их согнали с площади и оттеснили в переулок. Я тотчас же погнал своего коня на врагов; они не могли устоять и опрометью побежали. Когда мы вытеснили их с улицы, пригнали на площадь и взялись за сабли, мою лошадь ранили в ногу стрелой. Лошадь упала на колени и сбросила меня на землю посреди врагов. Под Кахилем, моим оруженосцем, был довольно плохой конь. Спешившись, он подвел его ко мне. Я сел на его коня. Поставив там людей, я направился к другой улице. Султан Мухаммед Ваис, увидев, какая плохая у меня лошадь, спешился и подвел мне своего коня. Я сел на его коня. В это время Камбар Али, сын Касим-бека, раненый, прибыл от Джахангир-мирзы. Он сказал: «Некоторое время тому назад на Джахангира-мирзу напали и потеснили его. Джахангир-мирза ушел. Мы не знаем, что делать».
Тут явился Саид Касим, который находился в крепости Пап. Удивительно некстати он оттуда ушел! Будь в такое время у нас в руках столь неприступная крепость, было бы хорошо. Я сказал Ибрахим-беку: «Что же теперь делать?» У него была небольшая рана. Из-за этого ли, или от растерянности, он не мог дать толкового ответа. Я решил перейти мост, сломать его и направиться в сторону Андижана. Баба Ширзад проявил себя тут очень хорошо. Он сказал: «Прорвемся силой в ворота». Следуя словам Баба Ширзада, мы направились к воротам. Когда мы проезжали по улице, Саид Касим и Насир Дост рубились с Баки Хизом. Мы с Ибрахим-беком и Мирза Кули Кукулдашем были впереди других. Оказавшись у ворот, я увидел, что шейх Баязид в фарджии, надетой поверх рубахи, въезжает в ворота с тремя или четырьмя всадниками. Я натянул лук, пустил стрелу, лежавшую у меня на тетиве, и едва не попал ему в шею. Очень хорошо выстрелил! Шейх Баязид поспешно въехал в ворота, и, повернув направо, помчался по улице. Мы бросились ему вслед. Мирза Кули Кукулдаш хватил одного пешего воина палицей; другой воин, когда Мирза Кули проезжал мимо, нацелил на Ибрахим-бека стрелу. Ибрахим-бек крикнул: «Хай! Хай!» – и проехал мимо; тот пехотинец почти в упор пустил мне стрелу под мышку. Стрела пробила двойной слой моей калмыцкой кольчуги; стрелок бросился бежать, я пустил стрелу ему в спину. В это время другой пеший воин бежал по валу; я выстрелил, целясь пригвоздить его шапку к зубцу стены. Шапка повисла, прибитая к зубцу; тюрбан обвился вокруг его руки, он пробежал дальше. Еще один боец, конный, проскакан мимо меня, направляясь к той улице, куда убежал шейх Баязид. Я кольнул его мечом в затылок. Он наклонился, падая, но оперся о стену и не упал. С большим трудом он убежал и спасся. Отогнав конных и пеших, которые были у ворот, мы захватили ворота.
Раздумывать было поздно, так как в арке находилось две-три тысячи вооруженных врагов, а наших во внешних укреплениях – сто или двести. К тому же молоко не успело бы еще вскипеть с тех пор, как Джахангира-мирзу побили и выгнали; половина моих людей ушла с ним. Несмотря на это, мы по неопытности остановились у ворот и послали к Джахангиру-мирзе человека: «Если он близко, пусть едет к нам – пойдем на врагов». Но дело зашло уже слишком далеко. Оттого ли, что конь Ибрахим-бека был слаб, или оттого, что он сам был ранен, но он сказал мне: «Мой конь выдохся!» У Мухаммеда Али Мубашира был нукер по имени Сулейман. При подобных трудных обстоятельствах, хотя никто его к этому не принуждал, он спешился и отдал своего коня Ибрахим-беку. Очень благородное дело совершил! Мы задержались у ворот, ожидая, пока воротится человек, которого послали к мирзе. Вернувшись, посланный сказал, что Джахангир-мирза уже давно ушел, так что стоять на месте ни к чему. Мы тоже двинулись; столь долго стоять и без того было неразумно.
Как только мы тронулись, множество людей в латах собрались и двинулись к нам. Когда мы перешли подъемный мост, враги подоспели к другому его концу. С нами оставалось человек двадцать – тридцать… Не время было медлить и задерживаться. Мы быстро помчались вперед. Люди врага неслись за нами во весь опор, сбивая наших с коней.
Неподалеку от Ахси есть местность, называемая Гумбаз-и-Чаман. Ибрахим-бек вдруг окликнул меня. Оглянувшись назад, я увидел, что один из телохранителей шейха Баязида настиг Ибрахим-бека. Я повернул коня. Хан Кули был подле меня. «Не время теперь поворачивать», – сказан он и, схватив моего коня за узду, потянул его вперед. Многих моих людей сбили с коней к тому времени, как мы достигли Санга».
(Неизвестно, случайно или намеренно они направились на север, к горной гряде, откуда брала исток небольшая речка Санг. Поднявшись вдоль ее русла по ущелью, беглецы могли чувствовать себя в безопасности и попытаться пробиться к Каменному городу, за стенами которого укрылись оба хана.)
«Мы двинулись вверх по реке Санг. К тому времени нас оставалось восемь человек. Насир Дост, Камбар Али, сын Касим-бека, Хан Кули, сын Баян Кули, Мирза Кули Кукулдаш, Шахим Насир, Абд-ал-Каддус, сын Сиди Кара, и Ходжа Хусейни. Восьмой был я. Вверх по реке мы нашли хорошую дорогу. Сухое русло реки находилось далеко от проезжей дороги. Поднявшись уединенной тропой по высохшему руслу и оставив реку по правую руку, мы попали в другое пересохшее русло. На следующий день ко времени предзакатной молитвы мы выбрались из русла реки в степь. В степи виднелось вдалеке что-то черное. Оставив людей в укрытии, я сам пешком поднялся на пригорок и стоял на страже, как вдруг на один из холмов позади нас взлетело вскачь несколько конных. Много их или мало, удостовериться не удалось. Мы сели в седла и пустились вперед. Преследователей было человек двадцать – двадцать пять, а нас – всего восемь. Если бы мы сразу точно узнали, сколько их, то схватились бы с ними, но мы думали, что за ними идут вплотную другие преследователи. Поэтому мы помчались дальше. Тем, кто спасается бегством, будь их и много, не под силу тягаться с немногими преследователями. Не зря говорят, что побежденному войску достаточно окрика «хай!».
Хан Кули сказал: «Так нельзя! Они схватят всех нас! Выберите двух хороших коней и скачите быстрей с Мирза Кули Кукулдашем. Может быть, вам удастся уйти». Он рассуждал разумно: если сражение проиграно, таким способом можно было бы спастись, но спешивать кого-то с коня и оставлять на милость врагов мне не хотелось. В конце концов преследователи один за одним отстали. Конь, на котором я ехал, ослабел. Хан Кули, спешившись, отдал мне своего коня; я перескочил на него прямо со спины своей лошади, а Хан Кули сел на моего коня. Между тем Насира Доста и Абд Каддуса, сына Сиди Кара, которые остались сзади, сбили с коней. Хан Кули тоже отстал, защищать его и оказывать ему помощь было некогда. Мы неслись дальше по воле наших коней… Лошадь Дост-бека тоже обессилела и отстала. Конь, что был подо мной, начал слабеть. Камбар Али спешился, отдал мне своего коня, пересел на моего и скоро отстал. Я и Мирза Кули Кукулдаш остались вдвоем; наши кони уже не могли скакать во весь опор, и мы трусили рысцой. Я сказал: «Если брошу тебя, куда пойду? Едем! Живые или мертвые – будем вместе». Я ехал и то и дело оглядывался на Мирзу Кули; наконец, Мирза Кули сказал: «Мой конь выбился из сил. Не расстраивайтесь из-за меня, поезжайте, может, вам удастся уйти». Я попал в тяжелое положение: Мирза Кули отстал, а я остался один.
Тут показалось двое врагов, Баба Сайрам и Банда Али. Они приближались ко мне; конь мой окончательно выбился из сил, а до гор было еще далеко. По пути мне попалась куча камней. Я подумал: «Конь притомился, до гор довольно далеко. Куда деваться? В колчане у меня еще оставалось штук двадцать стрел. Сойду с коня и стану стрелять с этой кучи камней, пока хватит стрел». Но тут мне пришло на ум, что, может, удастся добраться до холмов, а там я засуну за пояс несколько стрел и подымусь на гору. Я очень полагался на свое умение ходить по горам.
У моего коня уже не оставалось сил двигаться быстро; преследователи приблизились на расстояние полета стрелы. Жалея собственные стрелы, я не стрелял, а враги, остерегаясь, не подбирались ближе и двигались за мной на прежнем расстоянии.
На закате солнца я подъехал к холмам. Вдруг мои преследователи закричали: «Куда ты едешь? Джахангира-мирзу взяли в плен и увели, а Назир-мирза тоже у них в руках».
От этих слов меня охватило великое беспокойство: ведь если мы все попадем в руки к Танбалу, опасность будет очень велика. Я ничего не ответил и продолжал ехать, направляясь к холмам. Позади остался еще большой кусок дороги, и они снова завели разговор, но на сей раз говорили мягче, чем раньше. Сойдя с коня, они попытались вступить со мной в беседу. Не слушая их слов, я двигался дальше и, достигнув ущелья, двинулся вверх.
Я ехал до вечерней молитвы и, наконец, добрался до сканы величиною с дом. Я объехал скалу кругом; она была крутая, и конь не мог на нее взойти. А враги спешились и заговорили со мной еще мягче, с почтением и уважением повторяя: «Ночь темная, дороги нет, куда вы поедете?» Они клянись и уверяли: «Султан Ахмед-бек вознесет вас государем». Я сказал: «Мое сердце не спокойно и ехать к нему невозможно. Если вы хотите вовремя послужить мне, то другого такого случая не представится много лет. Выведите меня на дорогу, чтобы я мог отправиться к ханам, и я окажу вам больше милости, внимания и заботы, чем хочет ваше сердце. А если вы не хотите этого сделать, то возвращайтесь по дороге, по которой пришли, и пусть то, что меня ждет, свершится. Это тоже будет хорошая услуга».
Они сказали: «Лучше бы мы не приходили сюда, но раз уж мы пришли, как же мы можем бросить вас и вернуться? Если вы не пойдете с нами, мы должны вам служить, куда бы вы ни пошли».
Я потребовал: «Подтвердите правдивость ваших слов клятвой!»
Они подтвердили, поклявшись на Коране и дав крепкие клятвы.
Я сейчас же успокоился и сказал: «Мне указывали близ этого ущелья дорогу в широкую долину. Ведите меня к этой дороге».
Хотя они и дали клятву, но я не был вполне спокоен и велел им ехать впереди, а сам ехал сзади. Миновав один-два куруха, мы добрались до какого-то сая [22] . Я сказал: «Это не может быть дорога в широкую долину», но, желая меня обмануть, они скрыли правду. Мы ехали до полуночи и подъехали к другой реке; на сей раз они сказали: «Мы не заметили – дорога к широкой долине, видимо, осталась позади».
«Что же теперь делать?» – спросил я, и они ответили: «Близко впереди дорога в Гаву. По этой дороге поднимаются в Фиркат».
Они повели меня по этой дороге. Мы продолжали путь и попали к Карнанскому саю. Баба Сайрам сказал: «Вы постойте здесь, а я пойду осмотрю дорогу в Гаву и вернусь». Через некоторое время он воротился и сказал: «К этой дороге подъехало несколько человек в монгольских шапках, там не продраться».
Услышав эти слова, я растерялся: утро близко, я посреди дороги, и цель далеко. Я сказал: «Отведите меня куда-нибудь, где можно укрыться днем, а ночью, после того, как вы добудете корм для лошадей, проводите меня в Ходжент».Один из них сказал: «Вон там, на холме, можно найти укрытие».
Банда Али был в Карнане смотрителем дорог. Он молвил: «Нашим коням и нам самим не обойтись без пищи; я пойду в Карнан и привезу, что смогу».
Мы повернули назад и двинулись к Карнану. В одном курухе от Карнана мы остановились. Банда Али ушел и долго отсутствовал. Занялась заря, а его все нет. Мы очень беспокоились. Уже рассвело, когда прискакал Банда Али. Корма коням он не нашел, привез только три лепешки. Мы сунули за пазуху по лепешке, поспешно повернули назад, поднялись на холм, привязали коней у сухого русла, взошли на пригорок и стали на страже, каждый с одной стороны.
Приближался полдень. Ахмед-соколятник с тремя спутниками проехал из Гавы в сторону Ахси. Я подумал: «Позовем Ахмеда, надаем ему обещаний и посулов и уговорим обменять их коней на наших. Ведь наши кони целые сутки были в стычках и даже корма для них не нашлось; они совсем выбились из сил». Но на сердце у меня было неспокойно: мы не могли довериться этим людям. Мы трое решили, что Ахмед со спутниками остановятся на ночь в Карнане. Как стемнеет, мы осторожно проберемся туда и уведем их коней.
Был полдень, когда вдалеке что-то сверкнуло на сбруе лошади. Сначала мы не могли сообразить, что это, а позже увидели, что то был Мухаммед Бакир-бек, который находился с нами в Ахси. В суматохе, которая сопровождала наш отъезд оттуда, он последовал той же дорогой и теперь блуждал в поисках укрытия».
Бабур, скорее всего, выяснил это позже. А в тот момент его отвлекли сопровождавшие его стражи.
«Банда Али и Баба Сайрам сказали: «Кони второй день не видели ни зернышка. Спустимся в долину и дадим им попастись».
Мы сели в седла, поехали в долину и пустили коней на траву. Было время предзакатной молитвы, когда проехал какой-то всадник; он поднялся на холм, где мы скрывались. Я узнан его: то был правитель Гавы – Кадир Берди. Я сказал: «Позовите Кадир Берди», его позвали, и он подъехал. Я поздоровался с ним, спросил, как его дела, сказал много милостивых и ласковых слов и надавал ему обещаний и посулов. Я послал его привезти веревку, багор, топор и все, что нужно для переправы через реку, а также корма коням и пищи для нас, если удастся, и коня тоже приказал привести. Мы сговорились, что к ночной молитве он явится на это самое место.
Было время вечерней молитвы, когда какой-то всадник проехал со стороны Карнана к Гаве. Я окликнул его: «Кто ты?» Он ответил невнятно. Это, вероятно, был тот самый Мухаммед Бакир-бек; с того места, где мы его видели в полдень, он перебирался в другое, чтобы спрятаться. Он так изменил свой голос, что я совершенно его не узнал, хотя он пробыл при мне несколько лет. Если бы мы его узнали и он бы присоединился к нам, было бы хорошо. Появление этого человека очень нас встревожило. Теперь мы не могли ждать до срока, о котором условились с Кадиром Берди, правителем Гавы. Банда Али сказал: «В пригородах Карнана есть уединенные сады, никто не заподозрит, что мы там. Поедем туда и пошлем за Кадиром Берди человека – пусть приезжает к нам».
С таким намерением мы сели на коней и поехали в пригород Карнана. Стояла зима, было очень холодно. Мои спутники где-то нашли и принесли старый овчинный тулуп. Я надел его. Потом мне подали чашку горячей мучной болтушки, я поел и удивительно хорошо подкрепился. Я спросил: «Человека к Кадиру Берди послали?» Ответили, что да, но на самом деле эти ничтожные людишки, сговорившись, послали вестника в Ахси, к Танбалу!
Мы нашли каменный дом и развели в очаге огонь; глаза мои ненадолго смежились. Эти людишки, лукавствуя, говорили мне: «Пока не получим известий от Кадира Берди, трогаться отсюда нельзя. Вокруг этого дома много других. Сады пустынны, никто не догадается, что мы там».
Около полуночи мы снова сели верхом и поехали в сад на окраине. Баба Сайрам караулил на крыше дома. Около полудня он спустился с крыши, пришел ко мне и сказал: «Прибыл Юсуф, смотритель дорог». Я очень встревожился и попросил: «Проведай, знает ли он про меня». Баба Сайрам вышел, поговорил с Юсуфом и, вернувшись, сказал: «Юсуф говорит, что у ворот Ахси ему встретился путник и сообщил, что государь в Карнане, в таком-то месте». Будто бы ничего никому не говоря, Юсуф запер этого человека в одном помещении вместе с казначеем Вали, который попал в плен во время боя, а сам прискакал сюда. Беки, добавил он, ничего не знают об этом.
Я спросил Баба Сайрама: «Что ты об этом думаешь?», он ответил: «Все эти люди – ваши слуги. Что они могут сделать? Вам надо идти с ними. Они объявят вас государем».
Я ответил: «Раз между нами были такие раздоры и стычки, как я могу на них положиться и пойти?»
Пока мы разговаривали, вдруг появился Юсуф, встал передо мной на колени и объявил: «Что мне скрывать! Султан Ахмед-бек ничего не знает, шейх Баязид-бек, проведав о вас, послал меня сюда».
Когда Юсуф сказал мне это, я впал в ужасное отчаяние: в мире нет ничего хуже страха за свою жизнь. Я закричал: «Скажи мне правду! Если дело обернется к худшему, я должен совершить предсмертное омовение!»
Юсуф принялся клясться и отрицать, но кто же мог поверить его клятвам? Я почувствовал в себе слабость, поднялся и пошел в дальний уголок сада. Я подумал и сказал себе: «Пусть человек проживет сто или даже тысячу лет, в конце концов, ему придется умереть».
На этих словах повествование Бабура, изгнанного повелителя Ферганы, неожиданно обрывается и возобновляется лишь после двухлетнего перерыва. На каком-то этапе скитаний недостающие страницы были утеряны, – возможно, выпали во время неудержимой скачки или просто забыты где-нибудь в шкафу, куда были положены на хранение.
Записи обрываются в самый напряженный момент! Переписчик текстов, составлявший персидский вариант записей, сделанных Бабуром на тюркском, добавляет на полях восклицание: «Да подарит мне Всевышний возможность узнать о последующих событиях этого года».
Другой копиист тюркского текста, как видно, решил сам приложить руку к спасению Бабура в его безнадежном положении. Согласно этой версии, Бабур уже приготовился умереть и подошел к ручью, чтобы совершить ритуальное омовение и прочитать молитву, после чего снова лег спать и увидел сон, в котором его спас Учитель Ахрари. Сон придал ему сил и, ободрившись, он проснулся и ускользнул от трех предателей, загнавших его в ловушку, – и тут же услышал, что к саду приближаются всадники, и увидел, как к нему через стену сада перебираются двое преданных ему людей. Свое появление они объяснили тем, что, находясь в Андижане, где укрывались оба хана, увидели похожий сон, из которого узнали, что «падишах Бабур в этот час находится в деревне под названием Карнан».
Такой вариант счастливого конца напоминает эпизод из «Сказок тысячи и одной ночи» и отличается соответствующим правдоподобием. Уж слишком вовремя появляются эти двое, да и ханы в тот момент находились вовсе не в Андижане, поэтому Бабур не мог вернуться туда в поисках безопасного убежища; к тому же прошло еще немало бурных лет, прежде чем он получил титул падишаха. Кстати, следует отметить, что в своем повествовании Тигр ни разу не упоминает о том, что он пытался оказать сопротивление предателям, или о том, что они покушались на жизнь представителя царского рода, – живым он был бы им гораздо полезнее. Проницательный исследователь Г. Беверидж добавляет, что, хотя интерполяция и составлена на тюркском, автор ее не думал на этом языке, в отличие от Бабура; кроме того, имена его предполагаемых спасителей ни разу не упоминаются в подлинном повествовании.
Каким же образом Бабуру удалось спастись? Сам он больше не возвращается к этому событию. Спустя два года оно представляется ему одним из множества острых моментов в его жизни. Однако в отчете о предшествующих днях мы, вероятно, можем найти какие-нибудь подсказки. Не следует забывать, что изгнанник провел практически без сна три дня и две ночи, не считая тех часов, когда он невольно погружался в дремоту. Должно быть, записи в своем дневнике он сделал уже после того, как Баба Сайрам и Банда Али оказались в его власти. Кроме того, вскоре он встретился со своим другом – неуловимым и вооруженным до зубов Мухаммедом Бакир-беком, встречи с которым так старательно избегали его стражи.
Нужно также принять во внимание, что Бабур не был настолько лишен всякой помощи, как ему должно было казаться в отчаянии. Его брат Джахангир не был захвачен в плен, как утверждали его стражи, а скрывался на берегах Сырдарьи вместе с людьми из окружения Бабура. Войско, возглавляемое обоими ханами, как раз поднималось на горный кряж, неподалеку от Карнана, и монгольские кочевники были вполне способны незаметно пройти через эту местность. К тому времени некоторым из них удалось добраться и до Ахси. Известие о том, что Бабур скрывается в Карнане, несомненно принесли в крепость именно они. Во всяком случае, вскоре он оказался на свободе и вместе с Мухаммедом Бакир-беком двинулся через один из горных перевалов по направлению к Каменному городу. Там он воссоединился с обоими ханами и участвовал в последнем сражении против Шейбани-хана недалеко от Ахси.
Происшедшее в июне 1503 года сражение, которого оба хана так старались избежать, решило судьбу Ферганы, а заодно и Бабура.
Шейбани-хан был готов к сражению. В соответствии с другими источниками, Шейбани повел своих узбеков на юг, к Темным горам, направляясь к городам тщеславного Хосров-шаха, но в это время его задержал находившийся в Андижане Танбал, попросивший помощи у вождя узбеков. Шейбани ответил немедленным согласием. Однако по дороге он завернул в Самарканд, – возможно, для того, чтобы прощупать почву. После этого он объявился у стен Ходжента, где осадил крошечный гарнизон Джахангира, однако никаких серьезных мер не предпринимал, дожидаясь, очевидно, пока ханы (теперь с ними был и Бабур) соберут новое войско и встанут лагерем в горах неподалеку от Ахси. Тогда Шейбани одним волчьим рывком зашел им в тыл, взял штурмом оставленный без защиты Каменный город и захватил остававшихся там представительниц царской семьи, включая многострадальную мать Бабура и мать обоих ханов. После этого воинственный Узбек стремительно повернул к востоку. Он обрушился на передовые отряды монголов, прежде чем они успели приготовиться к сражению, и в буквальном смысле развеял их по ветру, гулявшему в пустыне. Старший хан был захвачен в плен, а младший вернулся на родину, покидать которую ему явно не следовало, и предался скорби, от которой скончался. Ходили слухи, что Тигр, в ходе проигранного сражения командовавший отрядом, ушел в «страну моголов», но вскоре вновь появился в долине.
Махмуд, старший из ханов, остался в живых – по одной версии, Шейбани, склонный к драматическим сценам на публике, решил проявить милосердие, равно как и могущество победоносных узбеков. В воспевавшей его подвиги поэме «Шейба-нинаме» [23] об этом говорится прямо: «Я взял тебя в плен, – сказал узбек монголу, – но я не убью тебя. Однажды, в дни моей юности, ты оказал мне помощь. Теперь я дарую тебе свободу».
Махмуд получил свободу, но куда он мог направить свой путь? Конница Шейбани оттеснила уцелевших монголов к востоку, за хребты Тянь-Шаня, к сторожевым башням китайского императора. Все дороги между этими башнями и святилищами Бухары охранялись узбеками. Некоторое время, – как долго, неизвестно, – Махмуд блуждал по восточным областям. Униженный, он написал «прекрасное письмо» своей матери, находящейся в плену в Каменном городе, который был когда-то его счастливым обиталищем. Потом какие-то причины побудили Махмуда направиться на запад, в Ходжент, где он снова попал в плен. На этот раз его, вместе с сыновьями, включая старшего сына, с которым Бабур стоял на белом полотнище во время парада, ждала смерть. Шейбани-хан не присутствовал на казни, а лишь заметил потом, что только глупец может дважды помиловать врага.
В действительности, завоевывая новые страны, он не щадил никого, невзирая на титулы и общественное положение. Танбал оказал ему небольшую помощь при Ахси, но также быстро исчез со сцены.
Теперь Шейбани стал таким же неоспоримым властелином Ферганы, как и территорий на противоположном берегу реки. Он основал империю для своих кочевников и сам занял престол Тимура в полуразрушенном Самарканде. Одновременно ему удалось уничтожить большую часть потомков завоевателя. С его приходом вернулся кочевой образ жизни и скотоводство, вытеснившие городской уклад и развитое земледелие. Население забыло о занятиях в медресе и занялось обслуживанием узбекского войска.
Судя по всему, Шейбани больше не вспоминал о бежавшем Бабуре, лишившемся сил к сопротивлению и всех приближенных. Однако он распорядился, чтобы за неуловимым Бабуром и ходжой Макарамом была отряжена погоня. (К тому времени узбекские разведчики уже выследили оставшегося в живых сына Али Доста.) Энергичный ходжа бежал из тюрьмы в Каменном городе и изменил свою внешность, сбрив даже бороду. Ограниченный в передвижениях в силу своего возраста, он не смог уйти далеко и был схвачен по доносу осведомителя. Встретившись лицом к лицу с беглым праведником, Шейбани полюбопытствовал, что случилось с его бородой. Ученый ходжа ответил ему персидскими стихами: «Если светильник зажжен богом, тот, кто задует его, опалит себе бороду». После этого он был казнен.
Бабуру удалось спастись, но он пережил немало злоключений. Как видно, он бежал по тайным горным тропам, которые так хорошо знал. Однажды его заметили, но он успел скрыться за перевалом, который сразу после этого завалило снегом. Позднее он писал, что «провел около года среди гор, терпя великие бедствия».
Как ни странно, Шейбани освободил мать Бабура из заключения в женских покоях ханского дворца в
Каменном городе, где в то время лежала при смерти недоверчивая Исан Даулат. Узбек не был склонен к состраданию, но нередко проявлял великодушие, когда речь шла о женщинах. Он уже захватил в свой гарем мать царевича Али, затем Ханзаде, а также жену Махмуд-хана. Надеялся ли он, что выследить Бабура, чьей смерти он желал всей душой, окажется проще, если при нем будет находиться больная женщина? Ответ на этот вопрос исчез вместе с недостающими страницами дневника.
Этот год опустил занавес над мелкими стычками и триумфами Тимуридов в их бывших владениях. Закончилась неспокойная и яркая эпоха Омар Шейха и его братьев. От Самарканда, с течением времени еще более обветшавшего и заброшенного, осталась лишь былая слава.
Когда солнце вошло в знак Рака, в июне 1504 года, одинокий Тигр принял очередное неожиданное решение. Он жил в Белых горах, на южной границе знакомых земель, среди аймаков горных племен вместе со своей матерью и семьями наиболее преданных товарищей.
«Тогда мне на ум пришло, что нужно оставить Фергану и идти куда-нибудь, чем скитаться так, не имея где преклонить голову».
Решение далось ему нелегко. Целых десять лет он упорно боролся за право преклонить голову в землях своих предков. Много раз за эти годы он говорил о «нашей стране и нашем народе» и никогда не изменял своим убеждениям. Теперь же, впервые за все это время, он отвернулся от своей долины, реки и царственного Самарканда и исполнился решимости найти где-нибудь приют для оставшихся с ним людей. Такая решимость дает наиболее полное представление о характере Бабура – колебаний и двойственности он не допускал. К новой стране у него было всего одно требование: она не должна стать всего лишь горным убежищем, – через такие места он не раз проходил еще в самом начале своих скитаний, – в этой стране должна протекать река и стоять города, в которых можно разбить такие же сады, как в Самарканде.
Спустя двадцать пять лет он все же нашел такую страну, которой и стал управлять, – безопасную для всех его близких. В этой стране он начал строить свой город – там, где никогда не предполагал оказаться.
По иронии судьбы, его решение покинуть Фергану и превратиться в скитальца означало полный поворот в его жизни. В глубине души Бабур продолжал оставаться искателем приключений.«В месяце мухарраме я выступил из ферганской земли, направляясь в Хорасан, и прибыл на летовку Илак в области Хисара и остановился там. На этой стоянке, в начале двадцать третьего года моей жизни, я впервые приложил к лицу бритву. Моих людей, знатных и простых, которые с надеждой следовали за мной, было больше двухсот и меньше трехсот, большей частью они были пешие, с дубинками в руках, грубыми кожаными башмаками на ногах и чапанами из овчины на плечах. Нужда дошла до того, что у нас было всего два шатра. Мой шатер я отдал своей родительнице, а для меня на каждую ночь устанавливали крытый войлоком шалаш.
Покидая родную страну, Бабур воспользовался привычным маршрутом и двинулся по горным тропам, ведущим сквозь расположения аймаков кочевых племен, которые снабжали продовольствием своих неимущих, хотя и почетных гостей. Кроме того, они предоставляли путникам проводников, сопровождавших изгнанников до берегов очередного бурного потока. Благодаря отлаженной системе связи весть о злополучии Бабура вскоре распространилась по всем аймакам; по ночам горцы выставляли своих дозорных вокруг его лагеря, – честь рода требовала, чтобы гости не понесли никакого ущерба, – и держали его в курсе событий, происходящих в долинах. Некоторые молодые воины даже присоединялись к его отряду. В горах Бабур всегда умел находить себе друзей.
И всегда внимательно присматривался к открывающимся перед ним новым землям. Позади остались истоки знакомой Сырдарьи, или Песчаной реки, и теперь он приближался к великой Морской реке, Аму, зарождавшейся на востоке, там, где к облакам возносилась голубовато-лиловая горная гряда, – Бабур мысленно отметил, что эта естественная крепость гораздо выше его родных гор. Старейшины аймаков называли ее Бадахшан. Они приносили к походному костру Бабура куски светящегося в темноте фосфора и уверяли, что Бадахшан изобилует голубым камнем – бирюзой, а также горящими красным огнем рубинами. Они клятвенно утверждали, что во время зимних холодов, «бывает, не увидишь солнца три дня и три ночи», и шепотом добавляли, что в этих горах имеются тайные пути, идущие вдоль реки, мимо ледяных вершин Памира и через Кашгар, – на восток. Бабур отметил для себя, что это лучший путь для безопасного отступления, и уже не забывал о нем.
Мысль об оседлой жизни еще не приходила ему в голову. День его первого бритья следовало отметить праздничным пиршеством, но из-за крайней бедности об этом нечего было и думать; однако несколько дней спустя он все же ухитрился отпраздновать свадьбу своего молочного брата Джахангира. Он старался забыть жгучие обиды, отдалившие их друг от друга; однако пристрастившийся к ночным пирушкам Джахангир не оставил своей склонности к мелким интригам. Проблемы были и с младшим братом, Назиром. Только страх перед узбеками заставил обоих последовать за Бабуром.
Устрашающие узбекские всадники все еще были довольно близко. Неизвестно, послал ли Шейбани-хан своих людей в погоню за Бабуром, но основная часть степного войска, мощь которого еще больше возросла после разгрома обоих ханов, когда на сторону узбеков перешла двадцатитысячная монгольская армия, направлялась на юг. Покончив с Каменным городом, Шейбани вернулся к отложенной на время задаче разбить Хосров-шаха, чьи владения лежали по ту сторону великих южных гор. Обо всем этом Бабуру сообщили бдительные горцы.
Взгляды жителей верхнего течения Амударьи были обращены к северу, откуда надвигалась угроза. Таким образом, прибытие Тигра перед самым появлением прославленного Узбека вызывало противоречивые чувства. Однако Бабур пользовался уважением как единственный представитель царского рода, который храбро вступил в поединок с Шейбани и сумел остаться в живых. На переправе через стремительную Аму его встретил Баки из Чаганиана – младший брат Хосров-шаха и правитель просторной долины. Оказав беглому наследнику Тимура неожиданно любезный прием, Баки предложил ему свои услуги. Опытный политикан, он, в залог своей искренности, привел в лагерь Бабура семьи своих приближенных, включая свою собственную. Его подданные щеголяли в нарядных одеждах и изъяснялись с придворной жеманностью.
Покончивший с иллюзиями Тигр не мог не заметить того, что манеры Баки напоминают ему об Али Досте, в то время еще здравствующем. Он вежливо отклонил предложение продолжать путь совместно, прихватив с собой и своего брата Джа-хангира. Баки не сомневался, что Джахангир причинит Бабуру немало хлопот, и процитировал строки Саади:Десять дервишей могут спать на одном ковре,
Но два царевича не могут отдыхать в одном климате.
Бабур, тоже знакомый с поэзией великого Саади, вспомнил конец четверостишия: нищий дервиш поделится единственным куском хлеба, но царь, завоевавший одну страну, жаждет завоевать и вторую. И он не отошлет Джахангира.
Спускаясь вниз по реке, беглецы неожиданно столкнулись со своим старым знакомым – вероломным Живодером. Камбар Али, – видимо, также, как и Баки, – посчитал, что в момент приближения узбеков безопаснее держаться возле Бабура, чем находиться в обществе Хосров-шаха. Однако грубые речи Живодера, привычные для уха Бабура, оскорбляни слух Баки. Камбар Али был отослан, чтобы исчезнуть – в последний раз – в поисках прибежища.
Продвинувшись дальше на юг, Бабур с удивлением обнаружил, что собрал целую армию. В его лагерь вернулись бывшие приближенные, а от монголов, состоящих при дворе Хосров-шаха, прибыл гонец с письмом для Бабура: «Мы, люди из монгольской орды, желаем служить истинному государю. Пусть скорее выступает в путь, потому что войско Хосров-шаха разбегается, чтобы перейти на его сторону».
Сразу же вслед за этим к растущему войску Тигра присоединилось несколько тысяч всадников – «монгольская орда».
Однажды утром объявился и старый Касим, – он стоял перед входом в шатер, ожидая прощения от своего повелителя. К двадцати трем годам – мусульманский календарь ведет счет на лунные годы, в отличие от христианского, по солнечным годам которого Бабуру было чуть больше двадцати одного года, – горький опыт уже научил Тигра задумываться над причиной такого наплыва добровольцев. Положение, сложившееся в широкой долине великой Аму, было достаточно ясным. Сзади наступали узбеки, дошедшие уже до Демир Капы – Железных ворот, – естественного прохода в горах, ведущего из земель Самарканда в области Инда. Шейбани-хан приближался к крепости Хисар. В этот переломный момент монголы предпочли зрелости и опыту своего правителя молодость Бабура и Баки.
Затем к шатру изумленного Бабура прибыл гонец, объявивший, что Хосров-шах признал Тигра истинным государем окрестных земель и намерен служить ему верой и правдой, желая только сохранить свою жизнь и имущество. Больше того, владыка южных земель уже выехал к Бабуру, чтобы принести ему клятву верности.
Тем временем Бабур подошел к излучине реки, где и разбил свой лагерь, чтобы принять, – впрочем, без всякого удовольствия, – бывшего самаркандского министра и убийцу своего младшего двоюродного брата. Впрочем, он признавал, что этот близкий узбекам тюрк из северных областей был способен на великодушие и доброту, которые «он проявлял к самым ничтожным личностям, но ко мне никогда». (Бабур нигде этого не подчеркивал, но на самом деле именно он подстрекал приближенных Хосрова покинуть его.)
Выехав из лагеря налегке, в сопровождении всего нескольких приближенных, Бабур переправился через реку и торжественно расположился под чинарой.«С другой стороны прибыл Хосров-шах в сопровождении множества нарядно и пышно одетых людей. Согласно правилам приличия, он еще вдалеке спешился и подошел ко мне. Здороваясь, Хосров-шах преклонил колени три раза, отходя назад – тоже три раза, осведомляясь о здоровье и поднося подарки, он снова встал на колени. Перед Джахангиром-мирзой он тоже преклонил колени.
Этот старый толстый пройдоха, который столько лет делал что хотел и из всех отличий царской власти только хутбу [24] не читал от своего имени, раз двадцать пять подряд преклонял он колени и ходил передо мной взад и вперед. Он так устал, что едва не свалился. Нескольких лет бекства и султанства будто не бывало.
После приветствий и поднесения подарков я повелел Хосров-шаху сесть. Мы просидели примерно час, беседуя о том о сем. При всей своей трусости и неблагодарности Хосров-шах был к тому же пустой и бестолковый болтун». (Такую оценку дал ему Тигр.)Бабур отнесся к старому интригану без всякой пощады. Однако Хосров-шах – само имя его было всего лишь сомнительным титулом – порой проявлял остроту ума и склонность к философии. Когда Бабур злорадно посочувствовал ему по поводу бегства множества его людей, Хосров возразил: «Эти продажные слуги уже четыре раза покидали меня, но всегда возвращались».
В ответ на заданный невзначай вопрос о том, когда и по какой переправе прибудет Вали, младший брат Хосров-шаха, «маленький, жирный старик» привел поговорку: «Талая вода уносит переправы». Наблюдательного Бабура поразило, что эти знаменательные слова прозвучали именно в тот момент, когда власть и приближенные уплывали у Хосрова из рук. Рассматривая эти слова как предзнаменование, Тигр, пожалуй, выдавал желаемое за действительное, но он был полон решимости добиться его осуществления. После этого необычного разговора импозантный антураж Хосрова улетучился, – его люди, поодиночке и целыми племенами, переходили в расположение лагеря Тигра, приводя с собой своих домочадцев. К следующей вечерней молитве, сообщает Бабур, на стороне Хосрова не осталось никого.
В тот же вечер в шатре у Бабура разгорелся жаркий спор между его приближенными. Тощий бек был единственным из трех братьев-царевичей, оставшимся в живых, – одного задушили по приказу Хосрова, второй был ослеплен и убит. Тощий бек обвинял Хосров-шаха в убийствах и требовал кровной мести. Баки пытался защитить своего брата, – до появления Хосрова он проявлял осторожность, стараясь наладить отношения с Бабуром, – но большая часть беков сочла, что он заслуживает мести. В душе Бабур был согласен с ними, однако он уже пообещал старику сохранить ему жизнь и имущество. Нужно было принять какое-то решение. Бабур приказал Хосрову покинуть страну, забрав с собой все свои богатства.
Бывший правитель Хисара и Кундуза немедленно получил три каравана ослов и верблюдов и, нагрузив их всем своим золотом, серебром и драгоценностями, отправился вниз по реке, чтобы больше никогда не попадаться Бабуру на глаза. Никаких подарков Бабур от него не принял.
(Несколько месяцев спустя эта история получила продолжение. Казалось, что даже и после изгнания разрушительная деятельность Хосрова не прекратилась. Обосновавшись на западе, в Герате, он через некоторое время узнал о том, что оба противника – Шейбани и Бабур – покинули долину Аму, и вместе с несколькими сотнями приближенных двинулся в обратный путь, надеясь вернуть себе родной Кундуз. Известие о его возвращении достигло лагеря Тигра, расположенного вдали от тех мест, и, как и предсказывал Хосров, большая часть его прихвостней потеряла покой и поспешила вернуться к нему. Довольно странно, что в этом случае самыми предусмотрительными оказались монголы, которые предпочли остаться с Бабуром. Затем пришло новое сообщение: «Его милость Хосров-шах бежал из своих земель, оставив Хисар и Кундуз, а также все земли от Железных ворот до Бадахшана, не приняв ни одного сражения», на что Бабур откликнулся с несвойственной ему иронией: «Их противники вышли им навстречу [по возвращении Хосров подвергся нападению узбеков], но не смогли даже начать бой, а маленький толстый старик и убежать не сумел. Люди Хамзы-султана сшибли его с коня, привезли в Кундуз и обезглавили. Его голову послали в Хорезм Шейбани-хану». Вскоре перебежчики вернулись к Бабуру).Письма, прибывшие от царевича Хусейна Байка-ры из Герата, породили панику в лагере на берегу Аму и горечь в сердце Бабура. Он хранил эти письма при себе и никогда не забывал о них.
Прославленный и умудренный опытом Хусейн обладал большими возможностями. Он приходился Бабуру дядей – единственным оставшимся в живых; очень образованный человек, друг поэтов и ученых, он был также последним правящим государем из рода Тимура. Его двор в Герате, на западе Хорасана, стал меккой для пилигримов, жаждущих беззаботной жизни в просвещенном обществе. Герат, не вмешиваясь в распри, раздирающие Самарканд, и в самом деле стал средоточием такой жизни. Бабур тоже надеялся найти там пристанище.
Еще находясь в Самарканде, он дважды тщетно обращался к дяде за помощью. И в начале своих южных скитаний он снова настойчиво просил Хусейна поспешить с подмогой на берега Аму, чтобы дать отпор узбекам. Конечно, рассуждал он, Хусейн понимает, чем угрожает ему возрастающая власть Шейбани-хана, подбирающегося к Герату все ближе. Хосров, со своей стороны, также обращался к нему с подобной просьбой.
На письма из Самарканда Хусейн не ответил ни слова. Однако на этот раз ответ был готов без промедления, и скачущие во весь опор гонцы доставили Бабуру и Хосрову два пространных послания. Размышления, которые они вызвали у Тигра, наполнили его бессильной яростью. Быть может, его единственный дядя объявляет о своем немедленном прибытии и требует только лодок и плавучих мостов, чтобы ускорить переброску своего войска из Герата? Нет. Ничего подобного. Хусейн вонзил своему племяннику кинжал в спину, да еще и повернул его. В витиеватых фразах Хусейн напоминал ему о том, как давным-давно его племянник умудрился сорвать наступление трех других своих родственников – на мосту через реку возле Андижана! Когда Бабур был двенадцатилетним мальчиком! В том случае, если узбеки действительно наступают, он может повторить свой подвиг и на берегах Амударьи, предварительно проверив готовность своих крепостей к обороне, в особенности Хисара; Хосров-шаху и его брату Вали следует предпринять марш в горы Бадахшана и занять оборону на горных склонах – «тогда узбеки повернут назад, ничего не добившись».
Хосров, раньше Бабура почуявший надвигающуюся катастрофу, поспешил изъявить покорность юному монарху и со всеми своими сокровищами убрался в безопасный Герат.
Прозревший Бабур размышлял над этими «странными велеречивыми письмами». Возможно, его последний дядя от старости выжил из ума, а может быть, просто пребывал в неведении, – чтобы Хусейн, повелитель Герата, пребывал в неведении! – или поступить таким образом его заставила неприязнь, вызванная давней мальчишеской выходкой? Пока он ломал себе голову, узбеки, окружив Хисар, начали переправляться через Аму на тех самых лодках, которые Бабур приготовил для Хусейна.
А сам Бабур остался ни с чем – всего с двумя-тремя сотнями голодных сподвижников и сладкоречивым Баки, а также огромным лагерем примкнувших к нему беженцев, которые называли его своим государем. Он заставил себя стряхнуть оцепенение и приступить к действиям.
Поставив Касима, который теперь занимал должность начальника стражи, во главе небольшого отряда всадников, Бабур поручил ему отогнать ближайший караульный отряд узбеков и обследовал оставленные Хосровом склады, где обнаружил более семи сотен единиц оружия и припасов, которые поспешно раздал своим людям. Затем, – на дороге еще не улеглась пыль, поднятая верблюдами Хосрова, – он устремился на юг в сопровождении добровольцев, семьи которых следовали за ними окольным путем под надежной охраной. Бабур направлялся под защиту южной горной гряды.
Об этом он сообщает с непривычным смирением: «Мы выступили из своего лагеря и двинулись в сторону Кабула» – превосходная иллюстрация старинного военного изречения насчет того, что отступление – это наступление в обратном направлении.
Они спешно двигались на юг, и голубоватая стена гор росла перед ними на горизонте. Преодолев предгорье, отряд начал подниматься на голые склоны Гиндукуша. Здесь Бабур, недоверчиво настроенный по отношению ко всем предвестиям, увидел знамение.
«Мы шли всю ночь и на заре достигли перевала Хупиан. Я еще ни разу в жизни не видел звезду Сухейль [в европейской астрономии – Канопус, звезда, невидимая в северных широтах]. Когда мы поднялись на гору, низко на южной стороне неба виднелась яркая звезда. Я спросил: «Не Сухейль ли это?» Мне ответили: «Сухейль». Баки из Чаганиана прочитал такой стих:
Как далеко сияешь ты, Сухейль, и где ты восходишь?
Ты предвестник счастья тому, кто тебя увидит».
Перевалив через Гиндукуш, Тигр мог больше не опасаться узбеков, но, как никогда, нуждался в удаче. По дороге на юг неразбериха вокруг него усугубилась, когда на пути через горные высоты к его сторонникам начали присоединяться горные племена, рассчитывающие под знаменами военного вождя на безопасность и добычу. Дикие хазары и остатки победоносной армии монголов явились в лагерь, чтобы сопровождать Бабура и по дороге разграбить лежащие на их пути долины. Его неуправляемые новобранцы рыскали по деревням в поисках провизии. К тому же путь пролегал по пастушьим тропам, а не по наезженной караванной дороге. Пешие головорезы Бабура угоняли лошадей с пастбищ; его вооруженные воины силой отнимали еду у деревенских жителей – так продолжалось до тех пор, пока он не велел забить палками грабителя, укравшего кувшин оливкового масла. «Этот пример, – записал он, – положил конец подобным деяниям».
Пример был необходим. Как понимал Бабур, участники его похода приблизились к окрестностям Кабула, охваченным междоусобными волнениями, вызванными недавней смертью последнего правителя-Тимурида – это был еще один дядя Бабура, носивший имя великого ученого, Улугбека, и вызывавший вполне обоснованную ненависть своих подданных, – после его кончины власть в городе узурпировали родственники покойного. Монголы Бабура и Хосрова ворвались в самую гущу этой неразберихи, – здесь их никто не ожидал и даже не подозревал об их существовании, – а за ними следовали хазары и другие племена. Бабур лично вывел свою мать и других женщин из семейного каравана, который уже нагоняли распаленные воины, и устроил их в относительно безопасном месте на просторном нагорье, среди пастбищ.
Перед путниками открылась впечатляющая картина. В широкой чаше гор, возвышающихся посреди жаркой пустыни, угнездился зеленый оазис, вытянувшийся вдоль берегов серебристой реки. Это и был Кабул – горная цитадель, находившаяся в то время в руках узурпатора, Мукима Аргуна, который едва ли успел как следует подготовиться к обороне.
Баки настаивал на немедленном штурме, и Бабур дал согласие. Опыт научил его, что в этих диких краях у полководца, идущего в наступление, сторонников всегда больше, чем у того, кто просто отстаивает свою землю. Они выстроили своих облаченных в кольчуги всадников в некое подобие боевого порядка. Под воинственный грохот литавр развернулись знамена. Бабур занял пост на живописном холме, где позднее разбил свои Четыре Сада, и отправил посланцев на переговоры с непокорными защитниками города, сам же критически наблюдал за инсценировкой штурма.«Наши люди рассыпались вдоль реки возле моста Кутлук-Кадам, но в то время моста еще не было. Некоторые из них из озорства проскакали до самых Ворот Кожевников. Малочисленные отряды противника, не ожидая сражения, укрылись в крепости. Многие жители Кабула вышли за высокую насыпь арка, чтобы посмотреть на бой. Поднимая в воздухе густую пыль, враги бросились с насыпи вниз. На высоком холме между мостом и воротами, посреди дороги, выкопали много глубоких ям и прикрыли их хворостом. Султан Кули Чанак и некоторые йигиты, тесня друг друга, падали на всем скаку. На правом крыле два-три йигита несколько раз дрались на саблях с врагами, выезжавшими из садов и с улиц. Так как приказа начинать бой не было, с тем они и воротились».
Этой убедительной демонстрации оказалось достаточно, чтобы посланцы Бабура получили ответ, а Муким лично сел с ним за стол переговоров об условиях своей капитуляции. Муким обязался оставить город на следующее утро, – хотя и без воинских почестей, но, по крайней мере, вместе со всем своим добром, челядью и домочадцами.
Наутро, не без оснований ожидая беспорядков во время этого ухода, Бабур направил доверенных людей к воротам, чтобы предотвратить волнения. Однако вскоре его военачальники послали за подмогой. Кавалькада побежденного противника вызвала горячий интерес у подданных Хосрова. «Пока вы не прибудете сами, – доложили Бабуру его военачальники, – мы не сможем держать в узде этих людей».
Бабуру пришлось лично наблюдать за исходом.
«Я поехал сам и приказал трех или четырех смутьянов застрелить из луков, а одного или двух разрубить на куски. Муким и его люди, целые и невредимые, вышли из города и водворились в Тепа. В конце месяца раби первого [октябрь 1504-го] Аллах великий по своей милости и великодушию без боя и сражения подчинил и отдал мне царство и область Кабула и Газны».Первым и вполне естественным побуждением Тигра было идти дальше, чтобы выяснить, сколько еще земель он сможет завоевать. Узнав, что узенькая речка, протекающая через его новую столицу, несет свои воды на восток, к Инду, за которым лежит Хиндустан, он хотел немедленно отправиться туда. Однако, вняв предостережениям Баки, согласился, что сначала необходимо навести порядок в своем новом доме. Прежде чем поворачиваться спиной к окрестным племенам, разумно было сначала заручиться их дружбой. Баки объяснял ему, что Земля Каина (Кабул) отличается многими странностями, главной из которых является нетерпимость к правителям.
Помня об этом, Бабур с присущим ему энтузиазмом погрузился в изучение своего нового города, страны и народа. Хотя свое занятие он называл «вынужденным знакомством», однако каждое новое открытие вызывало у него неподдельный интерес. Сможет ли эта странная и прекрасная земля, с ее упирающимися в небо горными хребтами и необозримыми пространствами, стать новым Самаркандом?
«Земля узкая, – рассуждает Бабур, – вытянутая с востока на запад. Стена гор Гиндукуша отделяет ее от области Кундуза и Андар-Аба на севере, а с юга с ней граничат Фармул, Банну и Афганистан. К западу находится горная страна, в которую входят Кар нуд и Гур; теперь в этих горах обитают племена хазар и никудери. На восток лежат Ламганат, Пешавар и некоторые области Хиндустана». Бабуру понравился и сам город, прилепившийся к скалам над маленькой стремительной речкой, на берегу которой, среди запущенных садов, находился приятный тенистый уголок, Дом цветов, где завсегдатаи предавались веселым попойкам. «Иногда шутки ради мы повторяли там, слегка изменив его, такой стих Хафиза:
Счастливое было время, когда мы, беспутничая,
Проводили день за днем в Гюльхане!» [25]
Бабуру сказали, что на одном из холмов к югу от города находится могила первочеловека Каина, основателя Кабула.
Еще там был холм, называемый Ступени, где под раскидистыми чинарами журчал источник, а на ближайшем склоне горы, на головокружительной высоте, стояла крепость. В ней и расположился Бабур, не повторив ошибки, допущенной им в Ахси, где он уступил крепость своему другу-врагу, место которого теперь занимал Баки. В крепости он мог наслаждаться прохладным воздухом и любоваться видом на заливные луга и озеро, имевшее, по нашим нынешним меркам, три мили в окружности, что Бабур выяснил, обойдя его по берегу. Через северные амбразуры крепость овевал легкий ветерок, который называли «ветром наслаждения».
Один из его образованных приближенных, славившийся искусством составлять стихотворные загадки, сложил стихи, восхваляющие цитадель:Пей вино в крепости Кабула – пускай чаши вкруговую.
Ведь здесь и гора, и город, и река, и степь.
На это Бабур сложил ответный стих:
Прелесть вина познает только пьяный,
Трезвому не дано ее познать [26] .
И добавил еще один штрих к восхищенному описанию своей «приемной» столицы: «Из Кабула ты можешь за один день достичь такого места, где никогда не идет снег; за два звездных часа дойдешь до такого места, где снега никогда не становится меньше, хотя иногда бывает и такое лето, что снега и там не остается».
В своих похвалах местному климату Тигр слегка преувеличил, а затем расцветил розовой краской и отчет о торговых караванах, которые, как он отмечал, перевозили людей и грузы в основном на лошадях. Он уверял, что Кабул – превосходный рынок, – даже отправившись в далекий Рум (Турция) или Киту (Китай), купцы не могли рассчитывать на прибыль, превышающую те триста – четыреста процентов, которые они получали в Кабуле! Время от времени в восторженности Тигра проглядывает нечто ирландское. Однако он произвел тщательный учет товаров, прибывавших из Индии, – рабов, хороших белых тканей, сладостей, очищенного и неочищенного сахара, пряностей. Местные фрукты он также подверг тщательному изучению, храня в душе память о ферганских дынях и винограде. Условно разделив страну, включающую в себя равнины и высокогорье, на жаркую и прохладную области, Бабур подсчитал, какой урожай дает каждая из них. В прохладных местах выращивали виноград, гранаты, абрикосы, персики, груши, яблоки, айву, ююбу, миндаль и грецкие орехи. В жарких – апельсины, фрукты, напоминавшие лимон, цветы лотоса и сахарный тростник. Вдобавок к этому, позднее он ввез в страну вишни, которые удачно прижились, и попытался выращивать сахарный тростник, однако безуспешно. Он признавал, что местные дыни не слишком хороши, – сносными можно было назвать лишь те, что привозили из Герата. Многочисленные пасеки также не давали хорошего сбора – кроме расположенных на западе.
Он тотчас выяснил, что Кабул потребляет много зерна и постоянно в нем нуждается, поскольку единственными поставщиками были горные племена, – эту проблему национальной экономики решить ему так и не удалось. Свои сложности были и с пастбищами, где мухи и москиты донимали лошадей, от которых зависело очень многое.
Свой отчет о торговле и урожаях Бабур закончил с истинно ирландской цветистостью:
«Климат там очень приятный, такого хорошего воздуха, как в Кабуле, сколько известно, нет больше нигде в мире. Летом по ночам невозможно уснуть, не укрывшись овчинным одеялом; зимою снега выпадает очень много, но чрезмерных холодов не бывает. Самарканд и Тебриз тоже славятся хорошим климатом, но там случаются необыкновенные холода».Закончив осмотр города, где было больше садов, чем строений, и обследовав окрестные луга и пастбища, Бабур изучил границы своей новой страны и нашел, что, благодаря окружавшим ее горам, она более изолирована от внешнего мира, чем Фергана. Затем он побывал на горных перевалах и выяснил довольно неожиданные вещи. Большая часть извилистых троп, ведущих к северу и югу, была открыта для путников лишь в летние месяцы; зимой, продолжавшейся четыре-пять месяцев, все они, за одним исключением, делались непроходимыми из-за снега или полноводных ручьев. (Высота четырех основных перевалов, ведущих в Афганистан, превышала десять тысяч футов.) Наиболее удобная дорога в Герат вилась по долине мимо Кандагара, а лучшая дорога в Хиндустан пролегла вдоль берега реки Кабул. Перевалы находились во владениях горных племен, которые время от времени грабили путников.
В заключение своих исследований Бабур пришел к окончательному выводу: Кабул представляет собой неприступную крепость, оборонять которую не составит труда.
Газну – второй из двух крупных городов, расположенный по дороге в Кандагар, – Бабур характеризует как бедное, убогое место, достойное внимания только из-за находящихся там гробниц усопших султанов. Бабура удивляло, что могущественный Махмуд [27] предпочел жить здесь в глинобитном доме, хотя мог построить себе дворец в Хорасане. Бабур распорядился привести усыпальницы в надлежащий порядок, поскольку видел себя наследником этих султанов и не мог допустить неуважения к святым могилам.
Впрочем, его собственный дом в Кабуле также нуждался в обновлении. Он начал с того, что посадил деревья на холме, который назвал Четыре Сада, – в память о Самарканде. Неподалеку от этого места протекала река, берущая начало на заснеженных горных вершинах, – «по обеим сторонам реки тянутся сады; там есть зеленые приятные садики. Вода в ней холодная, так что нет нужды охлаждать ее льдом, и большей частью чистая.
В этом селении есть сад, называемый Баг-и-Калан, который отобрал для себя Улугбек-мирза [дядя Бабура, питавший слабость к чужому добру]. Я уплатил владельцам стоимость этого садика и приобрел его. Перед садом растут большие чинары; под чинарами тянется зеленая, приятная, тенистая лужайка. Посреди сада постоянно течет ручей, достаточный для одной мельницы, на берегах этого арыка растут чинары и другие деревья. Раньше этот арык тек извилисто и неровно. Я приказал его выпрямить…
Ниже… по склонам горы струится вода источника Трех Святых. По обоим берегам, у подножия горы, на холмах растут высокие дубы; кроме этих двух участков, где есть дубовые рощи, в горах к западу от Кабула совсем нет дубов. А перед источником на границе степи тянутся большие рощи аргувана [иудино дерево]. В Кабульской земле, кроме этих рощ, аргувана больше нет. Говорят, что эти три породы дерева – чудо трех святых, возлюбленных Аллахом. Оттого так и назван источник. Я приказал обложить источник камнем и облицевать его берега алебастром и цементом на площади десять на десять кари. Когда цветы аргувана распускаются – желтый аргуван распускается одновременно с красным, – то неизвестно, есть ли другое такое красивое место в мире.
К юго-западу от источника постоянно течет из долины ручей, где воды вдвое меньше, чем нужно на одну мельницу. Я велел выкопать для этой воды арык и направил ручей на холм… где устроил большую круглую суфу [28] ».Это личное убежище стало излюбленным местом Бабура, что, вероятно, объяснялось реакцией на пустынное безлюдье этой огромной страны. Он сам отмечал пустынный вид ущелий и отвесных скал. А также то, что «умы их жителей так же непроходимы, как и эти ущелья». Даже животный мир не отличался разнообразием. С равнин на горные пастбища в поисках скудной травы поднимались красные олени и дикие ослы. Охотникам не требовалось скакать во весь опор за убегающей дичью, – вместо этого они устраивали засады на звериных тропах. Пути перелетных птиц тоже пролегали по ущельям; и птицеловы, знающие их повадки, поджидали, когда ветер с перевала развернет стаю и заставит птиц опуститься на землю. Было непривычно и трудно охотиться на них, бросая дротик с зазубренным острием и веревочной петлей.
«Для этого подходят дождливые темные ночи; в такие ночи птицы из-за хищников и диких зверей до рассвета летают, причем летают низко; в темные ночи дорогой для птиц служит текущая вода, ибо в темноте видно, как она течет. Я раз ночью бросил такую веревку; веревка разорвалась, а птицу не нашли. К утру птицу на обрывке веревки нашли и принесли».
По ночам обширные песчаные равнины населялись призраками. Порой гуляющий среди барханов ветер приносил отголоски барабанной дроби, а земля, казалось, содрогается от топота конницы. Люди говорили, что по пустыне скачет орда погибших воинов. Бабур почти верил в эту легенду.
Однако с детскими суевериями он расстался. Ему показали небольшую мечеть, стены которой, по слухам, содрогались, когда человек произносил свою молитву вслух. Бабур решил немедленно удостовериться в этом, – как, в свое время, в самаркандской «Мечети с эхом», – и своими глазами увидел, как во время молитвы хлипкие стены начали колебаться. Он перенес свои исследования выше и поднялся в башенку муэдзина, где обнаружил хранителя мечети, стоящего на подмостках, благодаря которым он мог в соответствующий момент приводить стены в движение. Бабур приказал, чтобы впредь на время молитвы служители спускались вниз.
Следующей весной, когда в лугах зазеленела трава, Тигра опалил огонь разлуки:
«В месяце мухарраме с моей матерью, Култук Нигар-ханум приключилась болезнь хасбе [корь]. Ей отворили кровь, но крови оказалось мало. При ней был один хорасанский врач, Саид-табиб. По хорасанскому обычаю, он дал больной арбуза, но так как, видимо, пришел ее срок, то через шесть дней, в субботу, она преставилась к милости Аллаха.
Мы с Касим Кугулдашем в воскресенье привезли покойницу в сад Баг-и-Наурузи и предали земле. Во время обряда оплакивания мне сообщили о смерти младшего хана, моего дяди Алача-хана и моей бабки Исан Даулат-биким. Подошли сороковины ханум, моей родительницы, когда из Хорасана прибыла мать ханов Шах-биким и с нею жена моего дяди султана Ахмед-мирзы, Мир Нигар-ханум; оплакивание началось снова, и огонь разлуки разгорелся без меры. Исполнив обряд оплакивания, мы роздали нищим и беднякам пищу и устроили моления и чтения Корана за упокой души отошедших».Бабур отложил свое повествование о стране и добавил: «чтобы управлять Кабулом, следует держать в руках меч, а не перо».
Бабур чувствовал себя одиноким. Черные одежды, которые он надел в знак траура по Исан и своей матери, не были только данью приличию, – он остро чувствовал свою утрату. С грустью он вспоминал и о друзьях, с которыми пережил голод и невзгоды, лишившись своего престола в родной долине. Даже скудоумного Живодера не было рядом – одному Аллаху ведомо, где он теперь. Жизнерадостная атмосфера товарищества очень поддерживала Бабура, и однажды он заметил, что «смерть среди друзей – пиршество».
Чувствуя приближение своей кончины, его мать настояла, чтобы он взял себе новую жену – Айша уже давно оставила его. Послушно, но без видимой радости, он выбрал на эту роль некую Зайнаб Султан-биким – свою двоюродную сестру по самаркандской линии. Она так и не стала ему по-настоящему близким человеком и через два года умерла от оспы. Царевна Зайнаб Султан не подарила ему детей. В то время, когда Тигр посвящал себя изучению новых земель, она ждала его в Кабуле.
В это время домочадцы стали для него причиной самого серьезного беспокойства. Его младший брат Назир окружил себя собутыльниками и старался не сближаться с занятым Бабуром. Слабый Джахангир нуждался в заботе и тщательном присмотре. Баки Чаганиани, который больше всех настаивал на том, чтобы идти в Кабул вместо Герата, постоянно пытался настроить Тигра против его брата; в то же время тщеславные старейшины племен обдумывали заговор, чтобы заменить сильного Бабура слабым Джа-хангиром. Однажды, во время поездки вдоль неизведанной реки Инд, Джахангир поделился с ним тайной, доверенной ему Баки, – военачальники хотят под каким-нибудь предлогом отослать Бабура с несколькими приближенными из лагеря и провозгласить Джахангира государем. Бабур взвесил предостережение и пришел к выводу, что заговорщиками – Джахангир не назвал никого, кроме Баки, – были бывшие приближенные Хосров-шаха (еще не расставшегося со своей головой). Однако обойтись без них он не мог, – во всяком случае, пока в стране находился Муким, претендент на престол, а за северными перевалами хозяйничали узбеки.
Часто говорят, что мысль о завоевании Индостана посетила Бабура во время одной из его поездок, когда он выехал из желтого ущелья Хайбер и остановился у серых вод Инда. Едва ли в это можно поверить. Его разношерстная свита предпринимала эти поездки в грабительских целях – они искали зерно, скот и буйволов за пределами Кабула, чтобы прокормить себя и жителей столицы. По всей видимости, в течение этого, 1505 года рядом с Бабуром не было человека, на которого он мог бы положиться и оставить у себя в тылу. И свое первое впечатление от Индии он описывает без всякого энтузиазма.«Я никогда еще не бывал в областях жаркой полосы и пограничных с Хиндустаном местах. Когда мы достигли Нингнахара, перед нашими взорами предстал совсем другой мир; трава – другая, деревья – другие, звери – другие, птицы – другие, нравы и обычаи народа – другие. Я удивился, и действительно, там есть чему удивляться».
На обратном пути Бабур и его спутники с трудом преодолели безжизненную иссохшую равнину, где лошади падали замертво, а вслед за тем их лагерь был сметен внезапно налетевшим ураганом. Возвращаясь домой с отарами угнанных с пастбищ овец, Бабур неожиданно вышел к большому озеру и составил его жизнерадостное описание.
«Недвижная поверхность стоячей воды предстала перед нами, весьма обширная. Степи на противоположной стороне не было видно. Вода, казалось, сливается с небом. Горы и холмы на другом берегу, словно горы и холмы в мареве, которые кажутся висящими, тоже как будто висели между небом и землей; между небом и водой то и дело появлялось и исчезало что-то ярко-красное, как вечерняя заря. Это продолжалось до тех пор, пока мы не приблизились к воде; подойдя близко, мы поняли, что это дикие гуси: не то десять тысяч, не то двадцать тысяч, очень много диких гусей. Там оказались не только эти птицы; на берегах водится бесчисленное, несметное количество всяких других птиц. На берегу оказалось много птичьих яиц».
Как обычно, Бабур не ушел от похожей на марево стоячей воды, пока не выяснил со всем тщанием, какие речушки впадают в озеро, когда они пересыхают и какое количество воды остается в этом природном резервуаре после того, как ее часть забирают для орошения долины. Читая его записки между строк, можно почувствовать, что он был полон решимости понять эту горную Землю Каина и сделать ее своей землей. Вскоре он проникся к Кабулу истинной любовью.
Сначала он, безусловно, выдержал роль правящего монарха и выделил Джахангиру собственную вотчину, отдав ему второй по значению город Газ-ну, а также наделил землями своих приближенных. Получив что-нибудь в подарок, – а в Кабуле они были редкостью, – он старался сделать ответный подарок. Едва ли можно найти ущелье, которое он не подверг своему осмотру. Он собирал совещания по любому поводу – даже в тех случаях, когда к нему прибывали представители диких племен, держащие в зубах пучки травы в знак своей покорности. Подавив сопротивление афганских племен, укрывшихся в вырубленных в скалах горных крепостях, он складывал пирамиды из голов убитых врагов, чтобы отметить место сражения памятным курганом. Это был древний монгольский обычай, и, судя по всему, именно тогда Бабур впервые начал его применять. Нередко случалось и так, что он отпускал всех пленных на свободу, чтобы продемонстрировать невежественному народу свое милосердие. Афганцы очень отличались от дружественных горных племен Ферганы, которые признавали его своим законным государем. Ему никогда не удавалось реквизировать у них достаточное количество зерна, чтобы накормить людей, последовавших за ним с берегов Аму. Кроме того, он переоценил продуктивность горных пастбищ, и «страна жестоко потерпела», – признавал он.
Единственная предпринятая им попытка изменить экономику своего нового государства привела к восстанию.Как обычно, – на своих ошибках, – Бабур учился управлять страной. Десять лет назад он был ребенком, во все глаза разглядывающим чудеса Самарканда и втайне мечтающим о троне Тимура, который достался ему лишь на сто дней; оказавшись в изгнании, этот мальчик устраивал беззаботные скачки со своими товарищами, веря, что Бог не оставит его своей милостью. Теперь он понял, что сан монарха не означает ничего, – разве что обязанность руководить населением, да к тому же кормить семьи подданных. Теперешний умудренный Бабур не стал бы слушать предсказателей; он спокойно выслушивал советы Баки Чаганиани, тщательно взвешивая их в уме.
Скрывая свое недоверие, он придирчиво оценивал каждого, кто выезжал в походы вместе с ним, – Тигр не позволял себе праздного отдыха в кабульском Доме Цветов. Отважный всадник в погоне за врагами направил своего коня в реку, но обнаружил, что за ним не последовал никто; после секундного колебания воин вышел на берег и один пошел в атаку на врагов, которые обратились в бегство, выпустив в него одну-две стрелы. Было ли это рисовкой или свидетельствовало о смелости и самообладании, которые служат лучшими помощниками в безнадежной ситуации? Бабур публично похвалил его, а затем отметил его личной благосклонностью. Баки начал собирать в свою пользу дорожную пошлину в окрестностях Кабула. Было ли это проявлением неуважения к власти? Бабур назначил Баки, вместе с полудюжиной других приближенных, в охрану и стал наблюдать, как поведет себя Баки, получив почетную должность. Очень скоро Баки поставил у своих ворот людей, которым было поручено бить в литавры, оповещая о его появлении. Такой привилегией пользовались только законные государи.
Следующее оскорбление со стороны Баки было непростительным, – во всяком случае, в глазах Бабура. Брат Хосров-шаха – к тому времени последнего уже не было в живых, – стада которого насчитывали несколько десятков тысяч овец, прислал для нужд армии, испытывавшей острую нехватку продовольствия, всего лишь пятьдесят голов. Бабур воздержался от публичных упреков, хотя и не скрыл своей ярости. На что Баки, имевший обыкновение по всякому поводу надменно требовать отставки, попросил разрешения оставить свой пост. К его удивлению, Бабур, обычно не соглашавшийся с ним и уговаривающий его остаться, немедленно удовлетворил эту просьбу. Обескураженный и недоумевающий Баки послал к государю доверенного человека, чтобы напомнить об одном обещании – Бабур обязался простить ему девять оскорблений (таким правом пользовались приближенные вельможи при дворе Чингисхана – их не подвергали наказанию, пока количество проступков не превышало священное число девять). В ответ Бабур вручил посланцу список из одиннадцати оскорблений, нанесенных ему Баки.
Итак, не имея повода остаться, Баки отбыл вниз по реке, вместе со всеми домочадцами, – в Хайбер, где его караван попал в засаду вождя Юсуфзаиса, который предал Баки смерти и взял себе его жену.
«Хотя мы отпустили Баки, не сделав ему никакого зла, но его зло вышло ему навстречу, и он стал пленником своих собственных дел». Это прозвучало очень похоже на поминальное слово по Али Досту.Так или иначе, но для Тигра пришло время разобраться со свирепыми независимыми племенами, угнездившимися на горных вершинах и перекрывавшими зимние дороги. Среди них выделялись Юсуфзаис (Юсуф Заис), Изахаил (ИсаХаил) и в особенности туркмены-хазары, которые оказывали поддержку Бабуру по пути в Кабул. Когда они убили одного из так почитаемых им дервишей, Бабур с небольшим подвижным отрядом неожиданно выступил на них в поход в самый разгар зимы. Зимний лагерь и конная база афганцев располагались в высокогорной местности Дара-и-Хуш, и у них были все основания чувствовать себя в безопасности.
«Той зимой выпало очень много снега. В этих местах в стороне от дороги снегу было коням по брюхо. Воины, вышедшие ночью в дозор, из-за обилия снега до рассвета просидели на конях. [В походе Бабур настолько ужесточил дисциплину, что часовым, заснувшим на посту, вырывали ноздри.] Дара-и-Хуш – диковинная долина. Почти на полкуруха от устья этой долины тянется узкий проход, дорога пролегает по склону горы. Ниже дороги – крутизна в пятьдесят – шестьдесят кари, выше – узенькая тропинка, по которой всадники проезжают один за другим. Миновав эту теснину, мы шли до времени между молитвами и, не нагнав хазарейцев, заночевали в одном месте. Нашли жирного верблюда, принадлежащего хазарейцам, и привели его; этого верблюда убили, и мы сделали из части его мяса шашлык, а остальное сварили в котле и съели. Никогда не едали мы такого вкусного верблюжьего мяса, некоторые не могли отличить его от баранины.
Утром мы снялись с лагеря и двинулись на зимовье хазарейцев. Шел первый пахр, когда от передовых подъехал человек и сказал: «В одной теснине хазарейцы укрепили препятствиями переправу через реку, подкараулили наших людей и дерутся с ними». Услышав это, мы быстро двинулись вперед, проехали часть дороги и достигли того места, где хазарейцы подстерегли наших и дрались. В ту зиму выпал очень глубокий снег, идти без дороги было трудно, берега и ложе реки сплошь покрылись льдом; из-за льда и снега нельзя было перейти реку против тех мест, где не было дороги. Хазарейцы нарезали и набросали у истоков множество веток, они стояли, конные и пешие, в ложе реки и на берегах и сражались, пуская стрелы. Мухаммед Али Мубашир-бек был один из тех беков, которым я недавно начал оказывать благоволение; очень смелый, достойный милостей и хороший был йигит. Без кольчуги он проехал вперед, к дороге, забросанной сучьями. Ему выстрелили в шулятные ядра, и он тотчас испустил дух. Мы шли быстро, у большинства из нас не было кольчуг. Над нами пролетело несколько стрел; Ахмед Юсуф-бек волновался и все время говорил: «Вы идете совсем голый. Я видел, как две или три стрелы пролетели у вас над головой». Я отвечал: «Будьте смелее! Немало таких стрел летало у меня над головой».Так шли дела, когда Касим-бек, одетый в латы, нашел на правом берегу переправу через реку и перебрался на другую сторону. Когда он пустил коня, то хазарейцы не смогли устоять и побежали; йигиты, схватившиеся с хазарейцами врукопашную, бросились за ними, сбивая их с коней. Касим-беку в награду за это дело был дан в удел Бангаш, Капак Кули Бабе за смелые действия в этом походе мы тоже пожаловали деревню. Султан Кули Чанак шел следом за хазарейцами, из-за глубокого снега нельзя было сойти с торной дороги. Я тоже поехал с его йигитами. Невдалеке от зимовки хазарейцев мы наткнулись на стада их овец и табуны лошадей; я собрал до четырехсот или пятисот овец и двадцать пять лошадей. Султан Кули и еще два-три человека находились поблизости. Я сам дважды участвовал в набегах. Впервые это было в тот раз; и еще я ходил в набег на туркменских хазарейцев, возвращаясь из Хорасана; тогда тоже гнали много овец и коней. Жены и дети хазарейцев пешком поднялись на снеговые холмы; мы несколько поленились, да и время было вечернее. Повернув назад, мы расположились в жилищах самих же хазарейцев».
На обратном пути люди Бабура разыскали убийц дервиша. Их нашли в пещере, выкурили из нее и зарубили мечами. В этих продовольственных набегах по землям афганских племен, отказывающихся снабжать зерном Кабул, Бабур проявил себя как безжалостный убийца. Часто лишь Касиму удавалось удержать его от кровопролития.
«Если другие возьмут в руки палки, я подниму с земли камень…»
Жестокая расправа с туркменами-хазарами принесла ожидаемый результат. Слухи о ней распространились по горным селениям. Независимые племена, будь то монголы, тюрки или афганцы, поняли, что Тигра следует опасаться. Однако эти набеги, пусть и доставившие городу жизненно необходимое продовольствие, не доставили удовлетворения самому Бабуру. Править такими методами означало быть еще хуже, чем сам Шейбани.
Долгими зимними вечерами Бабур трудился над описанием своей новой страны. Сидя возле задуваемой ветром жалкой масляной лампы, он вынужден был заворачиваться в овчину, – и это после его хвалебной оды климату. Он писал и все чаще вспоминал о Газне, но не только потому, что подарил ее Джахангиру.
«Сеять в Газне очень трудно; все пространство, которое засевают, каждый год приходится заново покрывать землей;…кочевое население Газны – хазарейцы и афганцы. Сравнительно с Кабулом, в Газне все всегда дешево. Жители этой области – хани-фиты [29] по исповеданию, люди чистой веры и хорошие мусульмане; людей, которые постятся три месяца, там много. Своих жен и женщин они тщательно скрывают и охраняют. Мулла Абд ар-Рахман – один из великих людей Газны. Это был ученый человек. Он постоянно преподавал науки, был весьма благочестив, богобоязнен и воздержан в жизни».
Бабур не забыл и о могилах великих султанов прошлого. «Гробница Султан Махмуда находится в пригороде; так как там могила султана, то его называют «Рауза»; хороший газнийский виноград привозят из Рауза. Могилы сыновей Махмуд Султан Масуда и Султан Ибрахима тоже находятся в Газне…» Здесь Бабур переключается на грабительские набеги прошлого года, закончившиеся у стоячей воды, затем снова возвращается к размышлениям о минувшем величии Газны: «Газна весьма незначительная область. Я всегда удивлялся, почему государи, которым были подвластны Хиндустан и Хорасан, владея такими землями, сделали столицей столь ничтожное место. Во времена Султан Махмуда там было три-четыре плотины. На реке Газне, в трех йигачах к северу от города, выше по реке, Султан построил большую плотину. Высота этой плотины сорок или пятьдесят кари, длина – около трехсот кари. Воду там накапливают и по мере надобности пускают на посевы. С тех пор эта плотина разрушена».
Даже проблема восстановления орошения Газны вызывает у Бабура размышления о деятельности султана – последнего настоящего султана, под чьей властью находился весь исламский мир… Великий государь, Маликшах, держал у себя на службе ученого и астронома Омара Хайяма, который развлекался тем, что писал еретические стихи… а султан Санджар, истинный повелитель тюрков, был благочестив и милостив к тем, кто говорил на персидском, но нетерпим к варварским ордам кочевников. До Юнус-хана, правившего Каменным городом, Санджар был последним из истинных божьих помазанников до того, как в Каменном городе воцарился Юнус-хан и для ничтожных царств, управляемых ничтожными царями, настала эпоха саморазрушения. «Наш мир лежал в обломках, народы разделились, одни отнимали имущество у других и все они жаждали плодородных земель».
Эти размышления привели Бабура к идее о необходимости единовластного султана – того, кто возьмет под свою защиту медресе и мечети ислама и всех верных последователей его учения. Не имеет значения, какой титул будет носить такой государь. В старину человека, обладавшего такой властью, называли падишахом, царем царей, императором.Землетрясение разразилось в тот момент, когда Бабур страдал от болезни, находясь на пути в Кандагар. Насколько можно судить, в этом природном явлении, которое вызвало у него горячий интерес, никакого предзнаменования он не увидел.
«В это время произошло такое землетрясение, что большинство крепостных валов и садовых стен обрушилось. В городе и в деревнях рухнуло много домов, под развалинами осталось множество мертвецов. В деревне Памган повалились все дома, семьдесят– восемьдесят зажиточных домохозяев погибло под стенами. Между Памганом и Бектутом кусок земли шириной в полет большого камня оторвался и упал вниз на расстояние полета стрелы. На самом месте провала появились ручьи. От Истергача до Майдана землю до того взрыло, что в некоторых местах она поднялась на высоту роста слона, в других настолько же провалилась вниз; в расщелинах кое-где уместился бы человек. Во время землетрясения над вершинами гор поднялась пыль. Нурулла Тамбурчи играл тогда передо мной на сазе, тут же лежал еще другой саз. Нурулла схватил в руки оба саза, он настолько плохо владел собой, что сазы стукались один о другой. Джахангир-мирза находился в это время в Тепа и сидел на айване верхней постройки одного из зданий, воздвигнутых мирзой Улугбеком. Когда началось землетрясение, он бросился вниз, но не пострадал. Один из приближенных Джахангира-мирзы находился в той же пристройке, стена пристройки упала на него, но Бог его сохранил, и ему нигде ничего не повредило. В тот день земля сотрясалась тридцать три раза; бекам и воинам было приказано заделать и починить бреши и щели в крепостных стенах и башнях; в двадцать дней или в месяц ценою больших усилий трещины и проломы в крепости были заделаны».
Невзирая на болезнь и землетрясение, в течение следующей весны Тигр не прекращал своих поездок, пока недуг не вынудил его передвигаться в носилках. Для поддержания духа и восстановления после болезни по возвращении в Кабул он перенес свою резиденцию в новые Четыре Сада. Здесь он врачевал свои нарывы, одновременно пытаясь вылечить их с помощью слабительного. И здесь его застигли плохие известия.
Еще раньше, по возвращении из похода по Инду, он узнал о бегстве Назира. Юный царевич вместе со своей охраной отправился через северный перевал, довольно неубедительно заявив, что собирается выступить против узбеков, сам же пошел дальше, направляясь к крепостям Бадахшана. Теперь и Джахангир оставил его почти таким же образом, – отправившись на запад, он с боями прошел через страну хазар, соединившись с некоторыми дружественными племенами, ходившими в набеги вместе с узбеками, а затем скрылся из виду в окрестностях Герата.
Бабуру было известно о том, что кое-кто из приближенных пытался настроить податливого Джахангира против него; в помощь Джахангиру в Газну отправился Касим-бек, которому было поручено выяснить, что там происходит. Явившийся теперь в Четыре Сада Касим вынужден был сообщить своему повелителю, что не смог помешать нашептыванию заговорщиков. Для того чтобы смутить Джахангира, они воспользовались даже незначительным происшествием, случившимся во время соколиной охоты. Царевич пустил сокола на перепелку, и сокол упал на нее, чтобы схватить, но вдруг перепелка бросилась на землю. Тогда послышались возгласы: «Взял он ее или нет?» Касим ответил: «Раз он так обессилил добычу, неужели он ее выпустит? Возьмет!» Джахангиру эти слова внушили опасение, поскольку заговорщики убедили его в том, что именно он и был перепелкой в когтях у Касима.
Прежде чем Бабур смог прийти к какому-то решению, более важные известия прервали его мрачные раздумья..
Над страной снова нависла зловещая тень узбеков – так тень парящего в небе сокола падает на стайку перепелок, клюющих на земле зерно. Целый год Шейбани-хан держался в далеких северо-восточных областях, осаждая город, который выдержал немало нашествий со времен самого Тимура. Древняя крепость, стоявшая там, где воды Аму впадали в широкий залив Аральского моря, служила приютом людям науки и странствующим купцам. Здесь, между пустынной землей и небесным сводом, между населенными кочевниками степями и возделанными южными долинами, стоял Хорезм, так называли его арабы, а тюрки – Ургенч. Выдержав десять месяцев ожесточенной осады, Хорезм пал жертвой предательства.
Шейбани отвел свои войска, сосредоточив их в Самарканде, – так волк прячется в логове после удачной охоты. Теперь, когда у него в тылу были Самарканд, Хорезм, Андижан и Кундуз, он собирался двинуться на Герат – последний оплот Тимуридов, звезда которого еще не успела закатиться.
Престарелый Хусейн Байкара созвал в Герат своих сыновей. Человек, неоднократно отказывавший сыну Омар Шейха в помощи, теперь сам нуждался в ней и призывал Бабура встать под знамена своей армии. Саид Афзал, сын Толкователя снов, явился в Четыре Сада и принес Бабуру послание.
После некоторых размышлений Тигр решил, что должен идти.«У нас было много причин для того, чтобы идти в Хорасан. Во-первых: когда великий государь, правящий с престола Тимур-бека, призывает своих людей, сыновей и беков, то правильно будет пойти и нам против такого врага, как Шейбани-хан. Если другие пойдут пешком, нам следует идти хотя бы и на голове; если другие возьмут в руки палки, я подниму с земли камень! Во-вторых: Джахангир-мирза показал свою враждебность, и было необходимо если не утихомирить его гнев, то дать отпор его поведению».
Теперь Тигр мог подвести итоги богатой событиями весны 1506 года. Ему наконец удалось разоблачить своего визиря-заговорщика Баки; должно быть, он понял, что давно следовало избавиться и от брата. В своей новой, неуправляемой стране он навел некое подобие порядка и создал продовольственный запас. На некоторое время удалось усмирить занимавшиеся грабежом племена. Уйти за перевалы, закрытые всю зиму, взяв с собой только небольшое войско, состоящее из надежных людей, и проделать путь в пять тысяч миль, продвигаясь вдоль узбекских флангов, было крайне опасно. Тем не менее, решив идти в Герат, Бабур был готов на все эти испытания.
Однако он не мог избавиться от чувства ответственности за Джахангира; но не мог и ответить отказом на просьбу своего старого дяди. Как вообще никогда не мог противостоять призыву к оружию. Он был полон решимости встретиться лицом к лицу со своим врагом – Узбеком.
Итак, оставив Кабул и Газну на попечение нескольких опытных военачальников, Бабур выступил в поход на запад, навстречу своим злоключениям.«В дни, когда был воинственным изгоем, он переплыл Волчью реку…»
Бабур не пошел равнинной караванной дорогой, идущей вокруг Кандагара. Он направился прямо на запад, следуя по пути своего брата, – перейдя через перевал Шибар на высоте в десять тысяч футов, Тигр свернул к перевалу Сломанный Зуб и пересек земли недружественных хазаров. Затем он выслал вперед Касима, чтобы оттеснить ближайшие разъезды узбеков. Как обычно, его сводный отряд передвигался быстро, неся с собой минимум поклажи и внушая благоговейный страх горным племенам, наблюдающим за его продвижением. Джахангир пытался набрать добровольцев в аймаках. На вершинах Бамиа-на Бабур почти догнал брата. Тот повернул обратно, чтобы выяснить, кто идет по его следам. Заметив знамена Бабура и знакомые шатры, Джахангир свернул в сторону, бросил свой лагерь и двинулся на запад через горы в сопровождении нескольких спутников.
«Когда мир раскололся на части и все начали грабить один другого, наши люди захватывали себе плодородные земли так же, как простые кочевники».
Шейбани-хан стоял в низовьях Аму, в трех днях пути от Бабура, осаждая пограничный город Балх, расположенный в живописной долине, – в самом сердце древней Бактрии. Туда и спешил Бабур, в краткие часы вечернего отдыха составлявший наброски к портрету Хусейна, – позднее, после того как ему сообщили о последних событиях в Герате, он пересмотрел свои записи. Из-под его пера вышел замечательный некролог последнему из царствующих Тимуридов.
«Султан Хусейн Байкара родился в восемьсот сорок втором году в Герате [по христианскому летосчислению это 1438 год]. Матерью [султана] была Фируза-биким, внучка Тимур-бека. Султан Хусейн был благородный государь, родовитый по отцу и по матери.
Он был человек с раскосыми глазами, коренастый, сложенный как лев, ниже пояса он был тонкий. Хотя он прожил долгие годы и стал седобородым, но все же одевался в одежды красного и зеленого шелка и носил черную мерлушковую шапку или колпак. Иногда, в праздник, он ходил на молитву в маленьком плоском тюрбане, дурно намотанном на три оборота с воткнутым в него пером цапли. Впервые заняв престол, он сначала имел мысль поминать в хутбе двенадцать имамов [вместо собственного имени]; Алишер-бек [30] и еще кое-кто его удерживали. Однако позднее все его действия и поступки соответствовали установлениям сунны и общины. Вследствие болезни суставов султан Хусейн не мог совершать молитвы, поста он также не держал. Это был говорун и весельчак, нрав у него был немного несдержанный и речи его – такие же, как нрав. В некоторых своих поступках он очень тщательно соблюдал закон. Как-то раз его сын убил человека, и он отдал его кровным родичам убитого и послал в судилище. В первые шесть-семь лет после занятия престола он воздерживался от вина, потом стал пить. За те сорок почти лет, что он был государем в Хорасане, не было дня, чтобы он не пил после полуденной молитвы, но утром он никогда не пил. Его сыновья и все воины и горожане вели себя так же: неумеренно предавались увеселениям и разврату.
Он был смелый и мужественный человек и не раз сам рубил саблей; даже в каждом бою он неоднократно пускал в ход саблю. Среди потомков Тимур-бека не знают никого, кто бы так рубил мечом, как султан Хусейн-мирза. Дар к стихотворству у него тоже был, он даже составил диван [31] . Он сочинял стихи по-тюркски, его тахаллус [32] был Хусейни. Некоторые его стихи неплохи, но только диван мирзы весь составлен в одном размере. Хотя и по летам и по могуществу это был великий государь, но он, словно мальчик, водил боевых баранов, гонял голубей и даже стравливал петухов. В дни, когда был воинственным изгоем, он переплыл Волчью реку [небольшая речка, впадающая в Каспийское море] и здорово разбил отряд узбеков. В другой раз султан Абусаид-мирза снарядил против него три тысячи человек… Султан Хусейн-мирза с шестьюдесятью йигитами напал на них и разбил наголову. Это дело одно из славных и выдающихся дел султана Хусейна-мирзы…Областью, которой он владел, был Хорасан. На востоке от его земель лежат Балх, Газна, Бистам и Дамган, на севере – Хорезм, на юге – Кандагар и Систан. Когда в его руках оказался такой город, как Герат, султан Хусейн днем и ночью только и делал, что наслаждался и веселился; больше того, среди его слуг и приспешников не было человека, который бы не наслаждался и не веселился. Султан Хусейн не нес тягот и бремени миродержавия и полководчества, поэтому с течением времени его дружины и владения стали незначительны и не увеличивались».
Пока Бабур писан эти строки, он, должно быть, с горечью вспоминал о том, как его дядя так и не появился на берегах Аму и отказывал Бабуру в поддержке, пока угроза не нависла над самим Хорасаном. Однако не в перечислении смелых поступков, а в описании недостатков Хусейна заметны некоторые черты, которые наводят на мысль о его сходстве с самим Бабуром. Этот подробный портрет продолжает характеристика всех родственников Хусейна, его жен и детей – он имел четырнадцать законных сыновей и двенадцать дочерей, – а также его вельмож и состоявших при дворе служителей искусства. В заключение Бабур добавил собственные рассуждения, и касались они одной сварливой особы.
«Первой его женой была мать Бади-аз-Замана-мирзы [старший сын, хотя любимцем был другой – Музаффар]. Она была очень сварлива; ее строптивость надоела мирзе, и он, в конце концов, ее оставил и избавился от нее. Что поделаешь! Право было на стороне мирзы.
Дурная жена в доме доброго мужа
Создает из его жизни ад». [Саади]
Вспоминал ли Бабур об Айше, когда писал эти строки, или он думал о другой женщине? Это самое резкое высказывание, которое Бабур позволил себе о женщине. Однако из всех женщин, с которыми он был связан в жизни, лишь одна не оправдала его ожиданий. Полный жизни портрет Хусейна был, возможно, прощальной речью Бабура, предназначенной последним Тимуридам – набожным убийцам и пьяницам, которые любили искусство, претендовали на славу поэтов и ухитрились погубить друг друга. Преодолев горный барьер, Бабур спустился к извилистой реке, на берегу которой была назначена его встреча с дядей. И здесь он услышал, что пришел слишком поздно.
«В конце этого года в месяце зу-ль-хиджа [33] султан Хусейн-мирза повел войско против Шейбани-хана, но, достигнув Баба-Илахи, отправился к божьей милости». Это известие не остановило Бабура, и он продолжил свой путь в Герат.
Поздней осенью 1506 года состоялась встреча Бабура с вооруженным хозяином Герата. С большим удивлением он вдруг обнаружил, что перед ним расстилается поле, на котором будто бы раскинули расшитую золотом скатерть. Берега маленькой Птичьей реки (Мургаб) пестрели шатрами, как во время праздника. Как в свое время юный король Англии, Тигр дивился окружавшему его великолепию, которое составляло разительный контраст с его собственным убожеством. После нескольких лет, проведенных в лишениях полевого лагеря, он вдруг сошел с коня посреди роскошного, уставленного шатрами двора, и первым его чувством было невероятное смущение.
Он успел разглядеть лишь штандарты знатных вельмож из дальних городов, черные халаты диких туркменских вождей и лицо своего брата Джахан-гира, застывшее от страха. Вокруг него засуетились слуги, распорядители торопились объявить, что его появление принесло удачу, и наставляли его, как вести себя во время приема – на сколько шагов выйти вперед, как низко склониться перед старшим сыном оплакиваемого Хусейна. В образовавшейся давке кое-кого из придворных настолько стиснули другими телами, что, приподняв над землей, пронесли так несколько шагов; другие, пытавшиеся выбраться из толпы, были оттеснены далеко назад. (Несмотря на общее столпотворение, от острого глаза Бабура не укрылись эти подробности.) По расстеленным коврам он вошел в царскую беседку, затянутую дорогими тканями; в альковах, за столами, уставленными фруктами, соками и ледяными шербетами, церемонно восседали достойнейшие мужи – в порядке, соответствующем их рангу.
Войдя в беседку, Бабур в сопровождении Касима приблизился к возвышению, на котором ждал его сын Хусейна.
«Было договорено, что, войдя, я поклонюсь, а Бади-аз-Заман-мирза встанет, подойдет к краю возвышения и мы поздороваемся. Войдя в беседку, я отвесил один поклон и не медля пошел даныие. Бади-аз-Заман довольно неторопливо поднялся и вяло двинулся мне навстречу. Так как Касим-бек был моим доброжелателем и считал мою честь своей честью, он потянул меня за пояс. Я понял и пошел тише, так что мы поздоровались в установленном месте… Хотя попойки не было, но в том месте, где поставили кушанье, разостлали скатерть и уставили ее золотыми и серебряными кубками.
Прежде наши отцы и родичи тщательно соблюдали устав Чингисхана. В собрании, в диване, на свадьбах, за едой, сидя и вставая, они ничего не делали вопреки уставу. Устав Чингисхана не есть непреложное предписание Бога, которому человек обязательно должен был бы следовать; кто бы ни оставил после себя хороший обычай, этому обычаю надлежит подражать, а если отец совершал дурное дело, его должно заменить хорошим делом».
Эти размышления о традициях великого монгола невольно выдают смятение, царившее в душе у Бабура. Он никогда не следовал этим правилам, с детства установив для себя совсем другие, основанные на религиозных принципах; сугубо монгольская церемонность ханов, его последних родственников, наводила на него скуку. Но теперь, при встрече со своими царственными двоюродными братьями, он чувствовал себя чужим. Вспоминая о своем убогом лагере, он ощущал свою принадлежность к наследникам монголов; участвуя в охоте или сражении, он всегда помнил о суровых правилах монгольского воинства. Ему было совершенно очевидно, что царевичи Герата не задумывались об этом.
Во время второй встречи старший царевич, Бади-аз-Заман, уже не был так внимателен к Бабуру, на что тот отреагировал довольно болезненно. Бабуру представлялось, что после смерти старого Хусейна право на главенство среди уцелевших Тимуридов принадлежит именно ему. Он не мешкая послан двух беков к своим гостеприимным хозяевам с посланием, в котором говорилось, что, несмотря на молодость (в то время ему было двадцать три года), Бабур сумел снискать воинскую славу, дважды вступая в битву за Самарканд и отняв у врагов престол своих предков. После этого Бади-аз-Заман оказал ему любезность и пригласил на пир.Бабур отметил, что «это была спокойная пирушка, без подвоха и обмана. Находясь на берегах Мургаба, я два или три раза бывал на пирах у мирзы. Так как все знали, что я не пью, то меня и не принуждали. На столах расставили всевозможные закуски, подавали всякого рода кушанья – жареных кур, жареных гусей…. К Музаффару-мирзе я тоже однажды пошел на пирушку. Хусейн Али Джалаир и Мир Бадр состояли при Музаффаре-мирзе. Охмелев, Бадр пустился плясать и хорошо проплясал; этот род пляски, кажется, изобретение Мир Бадра».
Очарованный Тигр во все глаза следил за происходящим. В силу своего возраста он не мог не восхищаться искусными танцами и музыкой, поразившей его ранее неслыханными мелодиями. Сидя поодаль, он поражался возбуждающему действию крепких напитков и дал себе слово когда-нибудь непременно попробовать запретное вино. Когда он допустил промах, разрезая гуся, любезный Бади-аз-Заман взял у него нож и ловко разрезал птицу сам.
В то же время Бабур не мог избавиться от дурных предчувствий. Целых три месяца эти хозяева Герата тянули время, а теперь только и делали что устраивали праздники друг для друга. Оба царевича были приятны в общении; они знали толк в пирах; но не делали ничего для подготовки к сражению. На войне, со всей ее стратегией и тяготами, они были чужими.
Праздники продолжались, а тем временем пограничный город Балх сдался Шейбани-хану.
Узбекские всадники приблизились к Мургабу, до которого было всего сорок миль. Принцы не пожелали отправить туда несколько сотен всадников, чтобы отогнать неприятеля. Бабур вызывался сделать это, но получил отказ, – возможно, потому, что царевичи побоялись, как бы это сражение не принесло ему еще большую славу.До зимы было рукой подать, и узбекский хан, отлично осведомленный о союзе своих неприятелей, спокойно удалился в укрепленный Самарканд. Возможно, опытный полководец никогда не слышал о здешней зиме, однако он явно был не против того, чтобы противники разошлись по домам на это суровое время. Вот какое решение приняли царевичи на своем единственном военном совете. Они начали уговаривать Бабура и его приближенных остаться в Герате. Как обычно, Тигр принялся спорить сам с собой. Переход через Кабульские перевалы займет целый месяц, даже если дорогу не перекроет снег или не преградят мятежные племена. Однако его семья, оставшаяся в Кабуле, могла терпеть лишения, поскольку город со всех сторон окружали его новые подданные, склонные ко всяческому беззаконию, – тюрки, монголы, афганцы, хазары и целый сонм других племен.
«Я попросил у мирз извинения, но они не соглашались и еще настойчивее уговаривали меня остаться. Сколько я ни приводил отговорок, мирзы все упорнее принуждали меня. В конце концов, Бади-аз-Заман-мирза, Абу-ль-Мухсин-мирза и Музаффар-мирза, сев на коней, приехали ко мне в дом и еще раз предложили мне провести зиму в Хорасане. К тому же в обитаемой части земли нет другого такого города, как Герат. Во времена султана Хусейна-мирзы Герат стал еще в десять и даже в двадцать раз красивее и прекраснее». Герат, который в те годы называли Сердцем Земли, окутывала дымка былой славы, навевавшая покой и внушавшая чувство завершенности, как мавританская Гренада, лежащая далеко на западе.
«Эти просвещенные и прославленные мужи…»
Если бы Никколо Макиавелли заглянул в Герат, куда в его эпоху еще не ступала нога европейца, то наверняка счел бы парадоксом тот факт, что, невзирая на полный политический упадок, город на реке Хари переживал явный расцвет искусства, играя роль восточной Флоренции. В течение целых двадцати дней он предоставлял пищу для пытливого ума Бабура.
Герат заметно отличался от других городов. Восстановленный после военных кампаний Тимура, он уже целое столетие наслаждался не слишком надежным миром, – именно по этой причине в пятнадцатом веке (по христианскому календарю), во время правления султана Хусейна Байкары, город превратился в центр Возрождения эпохи Тимуридов. Он был не просто хорошо укрепленной цитаделью, но настоящим оплотом гуманизма; здесь сохранились руины храма огнепоклонников зороастрийцев, неподалеку от которого находилась несторианская церковь, над шумной торговой площадью возвышалась величественная Пятничная мечеть; дворец, по высоте превосходивший городские стены, раскинулся среди садов, где буйствовали заросли виноградной лозы и жужжали мельничные колеса.
На недавно установленных гробницах Тигр с уважением читал имена прославленных и просвещенных мужей. В то стремительное время образование предполагало не накопление уже сформулированных знаний, но поиск и исследование смысла жизни, в ее связи с Богом. Однажды Руми, непревзойденный поэт дервишей-мистиков, написал диалог между верующим человеком и его Богом. «Что мне слова? – спрашивал
Бог. – Не нужно мыслей или их выражения. Я нуждаюсь только в пламенном сердце». И верующий кричал в мистическом безумии: «Я умираю в камне и возрождаюсь в растении, я умираю в растении и восстаю в животном, я умираю в животном, чтобы возродиться человеком! Когда я умру как человек, я войду в сонм ангелов, и над ангелами я стану тем, чего не видел человеческий глаз, – божественной пустотой».
Ты из эфира камнем стал, ты стал травой потом,
Потом животным, – тайна тайн в чередованье том!
И вот теперь ты человек, ты знаньем наделен,
Твой облик глина приняла – о, как непрочен он!
Ты станешь ангелом, пройдя недолгий путь земной.
И ты сроднишься не с землей, а с горней вышиной [34] .
В подобном мистицизме прослеживаются следы христианской веры. Омар Шейх сосредоточенно корпел над словами Руми, не понимая их смысла. Однако Бабур отдавал предпочтение сочинениям Джами, который давал мистическое толкование ортодоксальной веры. Джами умер в Герате всего пять лет назад. Он, в свою очередь, черпал идеи из толкований Ахрари, учителя дервишей и духовного наставника Бабура. Результаты своих поисков Джами изложил в таких поэмах, как «Семь престолов», «Юсуф и Зулейха»; последняя вызвала множество «ответов» в различных литературах Востока. Бабур не чувствовал себя достойным делать комментарии к произведениям Джами, но упоминал его имя в своей книге.
Очевидно, что искусство Герата пошло наперекор традициям, которые всегда строго соблюдались в странах ислама. Художники гератской школы осмеливались выписывать на голубом фоне апокалиптические ангельские создания в обрамлении огня, хотя изображение фигур было давно запрещено суровыми мусульманскими обычаями.
Бехзад [35] , признаваемый и в наши дни выдающимся художником, работал в жанре многофигурной миниатюры и выполнял портреты, как мы сказали бы сейчас, с некоторым налетом импрессионизма; на фоне стилизованных пейзажей он изображал вполне реалистичные фигуры. Его чудесные кони окрашены в самые фантастические цвета – есть даже фиолетовые и черные с белым. Возможно, мастерство Бехзада сформировалось под влиянием китайского искусства династий Юань и Мин. Это была настоящая живопись, а не просто иллюстрация к книге. Тома, вышедшие из мастерских Герата, сочетали в себе мастерство художников, оформителей и каллиграфов. Эти книги, на создание которых уходили долгие годы, чаще всего воспроизводили тексты Корана, запечатлевшие слово Всевышнего.
Однако встречались и исторические труды, объясняющие события с точки зрения истинной веры, – «Книга побед Тимур-бека», написанная Али Йезди, и семитомная «всеобщая история» Мирхонда, продолженная его внуком, Хондемиром [36] , тогда еще здравствующим. Были еще творения музыкантов и керамистов, а также мечтателей, воплотивших свои грезы в архитектуре.
Еще до того, как в Западной Европе вошел в употребление термин «человек энциклопедических знаний», таких людей с всеобъемлющим мышлением можно было встретить в Хорасане. Его правитель, султан Хусейн, также имел склонность к разнообразным искусствам, хотя его творения, как отмечал Бабур, оставляли желать лучшего. Тигр не упустил случая посетить и вознести молитву у недавно установленной гробницы визиря султана – знаменитого Мир Алишера, имя которого в буквальном переводе означает «эмир Али-лев». Мир Алишер хотел посвятить свою жизнь литературе, однако был вынужден занять пост министра, находя отдушину в живописи, составлении исторических таблиц и в особенности поэзии. Из-под пера Навои (такой он выбрал для себя поэтический псевдоним) вышло немало произведений, написанных на его родном тюркском языке, а не на общепринятом в литературе персидском. В этом отношении он стал настоящим первопроходцем, как тот европейский гений, что на заре эпохи Возрождения впервые использовал в своих сочинениях разговорный ломбардский диалект вместо традиционной латыни [37] . Все это бесконечно интересовало Бабура, который и сам использовал чагатайский тюркский в своих записях, хотя стихи мог сочинять на любом из известных ему языков.
«Алишер-бек был человек бесподобный. Беком он у султана не был, но был его товарищем. С тех пор как на тюркском языке слагают стихи, никто другой не слагал их так много и так хорошо. Персидский диван он тоже составил. Некоторые стихи там недурны, но в большинстве они слабы и стоят низко. Следуя примеру Мауляны Абд ар-Рахмана Джами, он собрал свои письма и получился сборник писем, которые он писал кому-нибудь по какому-нибудь поводу. Без сына, без дочери, без жены и без семьи прошел он прекрасно свой путь в мире, одиноко и налегке».
Бабуру доставляли немалое удовольствие анекдоты, и во время своих прогулок по Герату он услышал очередную историю об Алишере. Некий посредственный поэт – Бинаи из Герата – не раз терпел насмешки от великого поэта и визиря по поводу своего музыкального невежества. Выбрав благоприятный момент, когда Алишера не было в городе, Бинаи поднатаскался в тонкостях музыки и даже самостоятельно сочинил несколько мелодий. По возвращении в артистический Герат Алишер, к своему полному изумлению, был встречен Бинаи, исполнявшим песню собственного сочинения. Однако на этом соперничество между поэтами не закончилось.
«Как-то раз, за игрой в шахматы, Алишер-бек вытянул ногу и коснулся зада Бинаи. Алишер-бек шутливо сказал: «Вот беда! В Герате, если вытянешь ногу, непременно коснешься зада поэта». Бинаи отвечал: «А если подожмешь ногу, тоже коснешься зада поэта». В конце концов из-за таких шуток Бинаи ушел из Герата и отправился в Самарканд. Алишер-бек придумывал много разных вещей, и хорошие вещи придумывал. Всякий, кто изобретал что-нибудь новое в своем деле, чтобы обеспечить успех этой вещи, называл ее «алишери». Некоторые ссылались на Алишера ради шутки. Так, из-за того, что Алишер-бек, когда у него болело ухо, повязывался платком, женщины называли синий платок, повязанный наискось, «алишерово украшение». Бинаи тоже, собираясь уйти из Герата, заказал седельнику необычное седло для своего осла, и оно стало известно под названием «алишери».
Утренние часы Тигр посвящал изучению архитектуры Герата, рассматривая бани, училища, богадельни, резервуары, рыбные пруды и обсерватории. Однако они не вызывали у него того восхищения, какое он испытывал в Самарканде. Свое нынешнее пристанище он воспринимал лишь как родину покойного Алишера. Наибольший интерес у него вызывали персонажи, имевшие отношение к миру искусства, – дервиши, которых было принято приглашать в дом, когда они проходили мимо, являлись истинными знатоками истории, традиций и «низких наук», – поскольку высшим знанием считалось искусство толкования религиозных текстов. Он испытывал острое желание завязать с ними более тесные отношения. Он испытывал и большую неловкость, по-прежнему оставаясь в столице царевичей лишь в положении их царственного гостя. Бади-аз-Заман, старший из братьев, отличался нерешительностью и шел на поводу у более популярного в народе Музаффара, сына царевны Хадичи, властной женщины и любимой жены Хусейна. Бабур, на попечении которого находился несчастный и крепко пристрастившийся к спиртному Джахангир, был вынужден учитывать ревнивые взгляды придворных и просчитывать каждый свой шаг. В то же время он и сам подумывал о том, чтобы попробовать вина во время очередной пирушки.
«Через несколько дней Музаффар-мирза пригласил меня к себе в дом. Музаффар-мирза жил в саду Баг-и-Сафид; Хадича-биким тоже находилась там. Джахангир-мирза пошел со мной. После того как убрали еду и угощение, Музаффар-мирза повел нас в здание, построенное Бабуром-мирзой и называемое Тараб-хана. В Тараб-хане состоялась попойка. Тараб-хана – небольшое здание, находящееся посреди садика; это постройка всего в два яруса, но довольно красивая. Верхний ярус ее отделали более роскошно. По четырем углам его находятся четыре худжры; все пространство и расстояние между этими четырьмя худжрами представляет собой один покой и одну комнату, между четырьмя худжрами устроены четыре возвышения в виде ниш. Каждая сторона этой комнаты украшена картинами. Хотя эту постройку возвел Бабур-мирза, но картины приказал нарисовать Абу Саид-мирза; на них изобразили его битвы и сражения.
На возвышении с северной стороны положили две подушки, одну напротив другой. На одну подушку сели мы – Музаффар-мирза и я, на другую подушку уселись султан Масуд-мирза и Джахангир-мирза. Так как мы были гостями в доме Музаффара-мирзы, то Музаффар-мирза посадил меня выше себя. Кравчие наполнили чаши наслаждения и начали подносить их присутствующим, расхаживая между ними, а присутствующие глотали процеженные вина, словно живую воду. Пирушка разгорелась, вино поднялось в голову. Участники попойки имели намерение заставить меня выпить и ввести меня тоже в круг пьяниц; хотя я до этого времени не пил вина допьяна и не знал как следует, каково состояние и удовольствие от нетрезвости и опьянения, но склонность пить вино у меня была, и сердце влекло меня пройти по этой долине. В отрочестве я не имел склонности к вину и не знал наслаждения вином; если отец иногда и предлагал мне вина, я приводил различные отговорки и не употреблял его. После смерти отца благодаря счастливому влиянию ходжи Кази я был воздержан и благочестив и избегал даже сомнительных кушаний – где уж там было вино употреблять! Потом, когда вследствие требований юности и влечения души у меня появилась склонность к вину, некому было предложить мне вина и не было даже человека, знающего о моем стремлении к вину.
Мне пришло на ум, что если уж меня так заставляют и к тому же мы прибыли в такой великолепный город, как Герат, где полностью собраны все средства развлечения и удовольствия, то когда же мне выпить, если не сейчас. Я твердо решил выпить и прогуляться по этой долине, но мне пришла в голову и такая мысль: «Бади-аз-Заман-мирза – старший брат, а я не выпил из его рук у него в доме. Если я теперь выпью из рук младшего брата, что подумает Бади-аз-Заман-мирза?» Мое оправдание признали разумным, и на этой пирушке мне уже не предлагали вина.На этом собрании среди музыкантов был Хафиз Хаджи, он хорошо пел; гератцы поют тихо, нежно и плавно. Там же присутствовал один из певцов Джахангира-мирзы по имени Мир Джан, самаркандец; он всегда пел громко, резко и некрасиво. Джа-хангир-мирза, захмелев, приказал Мир Джану петь; тот запел, страшно громко, резко и некрасиво. Хорасанцы – тонко воспитанные люди, но от такого пения один затыкал уши, другой кривил лицо; однако из уважения к мирзе никто не решался остановить певца.
После вечерней молитвы мы перешли из Тараб-ханы в новый зимний дом, выстроенный Музаф-фаром-мирзой. Когда мы пришли в этот дом, то Юсуф Али Кукулдаш в крайнем опьянении поднялся и заплясал. Он был человек, знающий ритмы и плясал хорошо. С переходом в этот дом пирушка стала еще горячей. Музаффар-мирза подарил мне саблю на поясе, шубу, крытую мерлушкой, и серого коня… До ночи продолжался веселый пир, и я провел ночь в этом доме.
Касим-бек, услышав, что мне подносили вина, послал человека к Зун-н-Нун-беку. Зун-н-Нун-бек, увещания ради, поговорил с мирзами, и они совершенно перестали предлагать мне вино.
Бади-аз-Заман-мирза, услышав, как Музаффар-мирза принимал гостей, устроил собрание в саду; позвали также некоторых моих приближенных беков и йигитов. Мои приближенные из-за меня не пили вина, а если и пили, то пили, закрыв все входы и выходы, в величайшей тревоге. Придя на пир, они тоже либо старались чем-нибудь меня отвлечь, либо закрывались от меня руками и пили в крайнем волнении. Между тем я как бы дал присутствующим общее разрешение, ибо этот пир устроил человек, подобный для меня отцу или брату».
На этот раз Тигр так и не познал наслаждения запретным напитком, однако к женщинам это не относилось. Масума, младшая из его двоюродных сестер, увидела Бабура в обществе старшей царевны, когда он приходил к ней с визитом, и с тех пор все ее помыслы были лишь о нем. Как полагается, мать Масумы сообщила о чувствах своей дочери знатнейшим из местных дам, и было решено, что девушку отправят в Кабул вслед за Бабуром. Она была младшей сестрой его бывшей жены Айши и сразу ему понравилась.
Наконец, посвятив целых двадцать дней еженощным пирушкам и знакомству с городскими достопримечательностями, Тигр снова неожиданно изменил свои планы. «Все настойчиво уговаривали меня: «Перезимуйте в Хорасане», но не позаботились как следует ни о месте для зимовки, ни о том, что необходимо, чтобы перезимовать. Между тем пришла зима, в горах между Гератом и Кабулом пошел снег. Я все больше беспокоился о Кабуле, а эти люди не приготовили ни удобного места для зимних жилищ, ни зимних жилищ на удобном месте. Наконец наступила крайность; мы не могли открыто сказать, что уходим, и седьмого числа месяца шабана выступили из Герата под предлогом выхода на зимовку».
К несчастью, в результате внезапного отъезда Бабур растерял часть своей свиты. Некоторые из его приближенных последовали за ним, но кое-кто не захотел расстаться с бурной жизнью Герата.«Метель стала беспредельно сильной»
Путешествие также сложилось неудачно, поскольку Касим-бек повел их неверной дорогой, проходившей через восточные перевалы. К тому времени между умудренным годами Касимом и юным монархом установились близкие отношения, как между отцом и сыном. Однажды, в дни невзгод, Касим покинул Бабура, ища приюта у Хосров-шаха, но Бабур охотно простил его. «Он был верный и очень храбрый человек, совершал положенные молитвы и избегал сомнительной пищи. Хотя он не умел ни читать, ни писать, он обладал счастливым нравом и ясным умом». Теперь Бабур положился на руководство своего старого друга и уходил все дальше на юг, обходя широкие, густо населенные долины Кандагара. Начав подъем, всадники обнаружили, что оказались в пустынной местности; вокруг них лежал снег, и вскоре они начали проваливаться в сугробы по стремена. Из-за глубокого снега старик горец, служивший им проводником, сбился с пути.
Было решено разыскать какое-нибудь топливо и разбить лагерь, а также выслать людей на поиски жилья, чтобы попросить помощи у местных жителей. Спустя три дня разведчиков все еще не было, и Бабур не хотел продолжать путь без них. На четвертый день они вернулись, доложив, что никого не нашли. Окончательно сбившаяся с пути колонна всадников продолжала идти вперед за своим проводником, однако вскоре лошади и всадники выбились из сил, а дорогу преградили пики незнакомых гор. Бабур вспоминал о беззаботной жизни в Герате и развлекал себя сочинением стихов о превратностях судьбы.
«Около недели мы, утаптывая снег, проходили в день не больше шери или полутора шери. Снег утаптывали я сам, десять или пятнадцать моих приближенных и Касим-бек со своими двумя сыновьями – Тенгри Берди и Камбар Али, еще было два или три его нукера. Мы, упомянутые, шли пешком и утаптывали снег; каждый человек проходил вперед на семь-восемь или десять шери и прибивал снег ногами; на каждом шагу мы проваливались по пояс или по грудь. Пройдя несколько шагов, передовой выбивался из сил и останавливался; вперед проходил кто-нибудь другой. Когда эти десять, пятнадцать или двадцать человек утаптывали ногами снег, он становился таков, что можно было провести вперед лошадь без всадника; эту свободную лошадь протаскивали вперед; проваливаясь по стремена или по брюхо, лошадь проходила десять – пятнадцать шагов и тоже изнемогала; ее отводили в сторону и протаскивали другую лошадь без всадника. Таким образом мы, десять, пятнадцать или двадцать человек, утаптывали снег и лошадей этих десяти, пятнадцати или двадцати человек тащили вперед. Остальные всадники – все добрые йигиты и мужи, величаемые беками, даже не сходили с коней и ехали, понурив голову, по готовой, расчищенной и утоптанной дороге. Не такое тогда было время, чтобы заставлять или принуждать кого-нибудь; всякий, у кого есть усердие и отвага, сам вызывается на такие дела.
Таким образом… мы прошли мимо местности, называемой Анджукан, и в два-три дня достигли хавала, называемого Хавал-и-Кути [38] , у подножия перевала Зарин. В этот день был снег и сильная метель, так что всех охватил страх смерти. Жители тех мест пещеры и впадины в горах называют «хавал». Когда мы достигли этого хавала, метель стала беспредельно сильной; мы спешились у самого хавала. Снег был глубокий, дорога – узкая, даже по утоптанной и пробитой тропе лошади шли с трудом. Так как дни стали очень короткими, то наши передовые подошли к хавалу еще засветло, но остальные подходили до самой вечерней и ночной молитвы. Позднее они сходили с коней на том самом месте, где останавливались. Многие дожидались утра на спинах коней. Хавал оказался очень узким. Я взял лопату, разрыл снег и устроил для себя у входа в хавал место шириной с молитвенный коврик… Получилось некоторое укрытие от ветра. Я сел там; сколько мне ни говорили: «Идите в хавал!», я не пошел. В сердце моем пронеслась мысль: «Люди – в снегу, на метели, а я стану там отдыхать в теплом месте; народ терпит тяготы и страдания, а я буду там спать и блаженствовать. Это дело далекое от мужества и непохожее на товарищество. Я тоже испытываю все тяготы и затруднения и вытерплю все, что терпят люди. Есть персидская поговорка: «Смерть с друзьями – пиршество». До ночной молитвы валил столь сильный снег, что я сидел скрючившись и мне засыпало снегом спину, голову и уши на целых четыре пальца. В этот вечер холод оказал действие на мои уши.
В час ночной молитвы те, кто как следует осмотрел пещеру, закричали: «Хавал очень широкий, места хватит всем». Услышав это, я стряхнул с себя снег, вошел в хавал и позвал йигитов, которые находились около хавала. В нем оказалось удобное место на сорок – пятьдесят человек. Принесли еду: вареное мясо, кавардак; всякий нес то, что было под рукой. В такой холод, снег и метель мы пришли в удивительно теплое, безопасное и уютное место.
Наутро снег и метель прекратились. Выйдя спозаранку, мы таким же образом, утаптывая снег и прокладывая дорогу, взобрались на перевал. Дорога извилисто поднималась вверх. Не поднимаясь выше, мы спустились вниз в долину. Когда мы достигли подножия перевала, наступил вечер; мы заночевали у самого входа в долину. Той же ночью был очень сильный мороз. Мы провели ночь, терпя великие страдания и тяготы, у многих мороз погубил руки и ноги; в ту ночь пропала от холода нога у Купака, рука у Сиюндук Туркмена и нога у Ахи. Утром мы двинулись вниз по ущелью. Хотя мы знали и видели, что дорога не там, но, уповая на Бога, шли вниз, долиной, спускаясь по дурным, узким и крутым тропинкам. Когда мы вышли к другому концу долины, был уже вечер, время вечерней молитвы.
Пожилые люди и старики не помнили, чтобы в такой глубокий снег кто-нибудь перешел через этот перевал, и даже неизвестно, чтобы кому-нибудь пришло на ум пройти через этот перевал в подобное время года. Хотя мы несколько дней терпели из-за глубокого снега великие тяготы, но все-таки именно благодаря снегу мы добрались до стоянки. Ведь не будь такого большого снега, разве мог бы кто-нибудь пройти по такому бездорожью, кручам и безднам.
Было время ночной молитвы, когда мы пришли в Яка-Ауланг и стали лагерем. Жители Яка-Ауланга сейчас же узнали о нашем прибытии. Там были теплые помещения и жирные бараны, бесконечно много травы и корма коням, беспредельное множество дров и кизяк, чтобы жечь огонь. Избавившись от снега и холода, найти такое селение и теплые дома, спастись от бед и страданий и получить столько хлеба и жирных баранов – это блаженство, известное лишь тем, кто испытал подобные тяготы, и наслаждение, понятное тем, кто перенес такие бедствия. Со спокойствием в душе и миром в сердце мы на один день задержались в Яка-Ауланге. Выйдя из Яка-Ауланга и пройдя два йигача, мы снова остановились; на следующий день был праздник Рамазана. Пройдя через Бамиан, мы миновали перевал Шиберту и остановились, не доходя до Джангалика».Теперь отряд Бабура вышел на главную дорогу, – впрочем, скорее, тропу, – ведущую на запад от Кабула. Глубокий снег оказался для них спасением, поскольку лишь благодаря ему они смогли выжить во время бури, находясь на высоте в несколько тысяч футов. Протаптывая дорогу, они согревались, а толстый слой снега под ногами выровнял все впадины и трещины в скалах. В этих краях путешественники, попавшие в буран, умели устраивать в глубоком снегу убежища для лошади и всадника, где в полной безопасности пережидали непогоду; в течение нескольких дней люди и животные могли при необходимости обходиться без пищи и есть снег, чтобы утолить жажду. Главной опасностью был мороз. Бабур, всегда сдержанный в своих упоминаниях о более слабом брате, не сообщает о том, что Джахангир заболел и его пришлось устроить в носилках. В конце концов Бабур был вынужден поспешить в Кабул, оставив брата в безопасном убежище, где через несколько дней тот скончался. Оказавшись на дороге, проходящей через широкую долину Гурбанд, спутники Бабура узнали о том, что впереди встал лагерем отряд всадников из племени хазар. Очевидно, они откочевали с зимовий, намереваясь заняться дорожным разбоем, и вряд ли были готовы к встрече со своим будущим государем и его заслуженными полководцами, которые неожиданно спустились с заваленных снегом, непроходимых перевалов.
«Туркмены племени хазар со своими семьями и стадами расположились как раз на нашей дороге и совершенно не знали о нашем приходе. На следующий день, снявшись с лагеря, мы выступили и проходили среди их шалашей и овчарен; две или три группы шалашей и овчарен подверглись расхищению и разграблению; владельцы остальных, бросив дом и хозяйство и захватив своих детей, потянулись в горы. От ушедших вперед поступили известия, что несколько хазарейцев преградили дорогу перед нашими войсками и не дают никому пройти, пуская стрелы. Узнав об этом, я быстро поспешил вперед и увидел, что преграды никакой не было, а несколько хазарейцев, выйдя на какой-то выступ и собравшись в кучу, пускают стрелы… Я приказал отобрать и для себя тоже часть овец из скота хазарейцев и поручил их Ярак Тагаю, а сам поехал вперед. Четырнадцать или пятнадцать человек хазарейцев, главарей бунтовщиков и разбойников, попали к нам в руки. У меня было на уме подвергнуть их разным мучениям и истязаниям и убить в назидание другим бунтовщикам и разбойникам, но по дороге мне встретился Касим-бек, который проявил неуместное милосердие и отпустил их. Это побудило и меня проявить жалость и отпустить остальных. Во время набега на хазарейцев мы услышали, что Мухаммед Хусейн-мирза Дуглат, султан Санджар Барлас и их люди… осадили Кабул».
Вероломство родни и преданность воинов
Случилось то, чего так опасался Бабур, сидя в Герате. В его отсутствие за заваленными снегом перевалами распространился слух, достигший Кабула, – хотя не исключено, что именно там он и был состряпан, – о том, что Тигр якобы захвачен в плен гератскими царевичами. На этом основании кое-кто из титулованных родственников Бабура заручился поддержкой расчетливых монголов, никогда не упускавших возможности поживиться. Мятежный отряд двинулся на осаду Кабула. Другими словами, родственники Бабура наступали на цитадель, оборону которой держал оставленный им небольшой гарнизон.
Как обычно, стоило Тигру уехать, как заговорщики, которых он так и не научился разоблачать, хотя в конце концов привык держаться наготове, сделали попытку вытеснить его с престола. Неприятнее всего было то, что в заговоре участвовали изгнанники из Самарканда и Ташкента, которым он в свое время оказал серьезную поддержку. За всем этим стояла темная фигура – некая Шах-биким, вдова Юнус-бека, а также ее дочь, чагатайская царевна и сводная сестра матери Бабура. Обе женщины претендовали на то, что, поскольку Бабур захвачен в плен или даже убит, право на трон Кабула принадлежит сыну Чагатая – Мирзе-хану, прозванному Тощий бек. Их предательство совершалось при попустительстве, если не прямой поддержке, дяди Бабура, Хусейна Дуглата, которому Бабур вполне доверял.
Мирза-хан руководил военными действиями, расположившись на холме Четырех Садов, в то время как оставшиеся в крепости военачальники, оружейник и известный ученый пытались удержать ее для Бабура.
Бабур незамедлительно (в чрезвычайных обстоятельствах он всегда действовал по первому побуждению) отказался от преследования хазар и через всю страну устремился в Кабул вместе со своими спутниками. Он понимал, что обладает преимуществом – его возвращения никто не ожидал, – и делал ставку на то, что его внезапное появление выведет бунтовщиков из равновесия. Однако предательство родных вызвало у него глубокое уныние, и записи о дальнейших событиях напоминают рассказ человека, видевшего дурной сон.
«Я послал к военачальникам в Кабуле одного из слуг Касим-бека с таким сообщением: «Как только мы выйдем из ущелья Гурбанд, сразу нападем на осаждающих. Знаком для вас пусть будет то, что, пройдя гору Минар, мы немедля зажжем большой огонь. Вы тоже разведите в крепости, на кровле Иски-Кёшк, где теперь казна, большой костер, чтобы мы знали, что вы заметили наше приближение. Когда мы подойдем с той стороны, вы выходите изнутри и сделайте все, что в ваших силах, ничего не упуская». Утром мы выехали оттуда и около полудня вышли из ущелья Гурбанд и оказались у моста. Напоив коней и дав им отдохнуть, мы во время полуденной молитвы тронулись от моста. До самого Туткаула снегу не было; после Туткаула чем дальше мы шли, тем глубже становился снег. Между Замма-Яхши и Минаром было очень холодно; за всю мою жизнь я редко испытывал такой холод. Мы послали Ахмеда Ясаула и Кара Ахмеда Юртчи к кабульским бекам, чтобы сообщить им: «Мы пришли, как было условлено. Будьте же бдительны и мужественны». Мы спустились с горы Минар и стали лагерем у ее подножия. Изнемогая от холода, мы развели костры и принялись греться, хотя зажигать огонь было совсем не время, но мы так измучились от ударов мороза, что развели костры. С приближением утра мы тронулись от подножия горы Минар. Между Минаром и Кабулом снег был коням по колено и совершенно смерзся; сойдя с дороги, человек лишь с трудом двигался вперед. Весь этот отрезок пути мы шли гуськом; поэтому нам без труда удалось дойти до Кабула ко времени утренней молитвы. Над арком поднялся большой огонь, и стало ясно, что там узнали о нашем приближении. Подойдя к мосту Саид Касима, мы послали Шерим Тагая с его людьми из отряда правого крыла к мосту Мулла-Баба, а я сам во главе правого крыла и центрального отряда пошел дорогой через Баба-Лули. В то время на месте сада Халифы был маленький садик, его разбил мирза Улугбек и устроил в нем нечто вроде богадельни. Хотя деревьев и кустов там больше не было, но ограда осталась цела. Мирза-хан находился тогда в этом саду. Мухаммед Хусейн-мирза был в саду Баг-и-Бихишт, устроенном мирзой Улугбеком. Когда я дошел до кладбища, находившегося близ улицы и сада Мулла-Баба, нам встретились люди, которые поспешили вперед и были избиты и отогнаны. Эти четыре человека ускакали вперед и ворвались во двор, где сидел Мирза-хан… Поднялась суматоха, Мирза-хан вскочил на коня и бежал. Эти четыре человека, попробовав и меча, и стрел, раненые, присоединились к нам в упомянутом месте.
На узкой улице конные воины сбились в кучу и стояли на месте – ни вперед не могли двинуться, ни назад податься. Я сказал ближним ко мне йигитам: «Сходите с коней и пробивайтесь». Насир Дост, Ходжа Мухаммед Али и библиотекарь Баба-и-Ширзад ринулись вперед, пуская стрелы; враги бросились бежать. Мы долго ждали тех, кто был в крепости, но они не могли поспеть к началу боя; когда врагов обратили в бегство, эти люди начали прибывать по одному, по двое. Не успел я войти в сад, где раньше сидел Мирза-хан, как подъехал Ахмед Юсуф, сын Саида Юсуфа, один из защитников крепости. Мы вместе проникли в сад Мирзы-хана, и я увидел, что Мирзы-хана там нет; он бежал. В ворота сада вбежал с обнаженной саблей в руках Дост-и-Сар-и-Пули – пехотинец, которому я за его храбрость оказал внимание, назначил в Кабуле на должность начальника крепости и оставил там. Этот человек несся прямо на меня. На мне была надета кольчуга, но блях я не привязал, шлема тоже не надел. Я несколько раз крикнул: «Эй, Дост! Эй, Дост!» Ахмед Юсуф тоже крикнул. То ли я изменился после ночевки на снегу и на морозе, то ли Дост слишком увлекся битвой, но только он не узнал меня и с размаху ударил шашкой по обнаженной руке. По милости божьей я ни на волос не пострадал.
Выехав из сада, я прибыл в сад Баг-и-Бихишт, где имел пребывание Мухаммед Хусейн-мирза. Он убежал и спрятался. У пролома в стенке садика, в котором находился Мухаммед Хусейн-мирза, стояли семь или восемь человек с луками и стрелами. Я ударил коня каблуком и бросился на этих людей; они не могли устоять и побежали. Я настиг одного из них и ударил его мечом, он так покатился по земле, что я решил, что у него отлетела голова, и помчался дальше. Человек, которого я хватил мечом, как оказалось, был молочный брат Мирзы-хана, Тулак Кукулдаш; меч ударил его по плечу. Когда я подъехал к дверям дома, где жил Мухаммед Хусейн-мирза, один могол, бывший нукер, которого я узнал, стоял на крыше, натянул лук и прицелился мне в лицо с близкого расстояния. Со всех сторон закричали: «Хай-хай! Это государь». Могол пустил стрелу в сторону и убежал. Дело зашло уже дальше того, чтобы пускать стрелы: его мирза и военачальники убежали или попали в плен, кого же ради он стрелял? Там же схватили Санджара Барласа… Он вместе с другими участвовал в мятеже. Его привели с веревкой на шее, он был страшно взволнован и кричал: «В чем я провинился?» – «А разве есть преступление страшнее того, что ты – один из знатнейших среди соучастников и советников этих людей?» – ответил я. Так как султан Санджар Барлас был племянником Шах-биким, родительницы хана, моего дяди, то я сказал: «Не водите его в таком позорном виде – это еще не смерть».
Покинув Баг-и-Бихишт, я послал Ахмеда Касим Кухбура, одного из беков, оставшихся в крепости, и небольшой отряд йигитов на поиски Мирзы-хана. Возле этого сада Шах-биким и Кутлук Нигар-ханум построили себе дома и жили там. Выйдя из этого сада, я пошел повидаться с Шах-биким и Ханум. Жители города и городская чернь учиняли всякие бесчинства: ловили прохожих по углам и закоулкам и грабили чужое имущество. Я расставил всюду людей, и этих грабителей побили и прогнали. Шах-биким и Ханум находились в одном доме. Я спешился на обычном расстоянии, вошел и поздоровался с прежней учтивостью и почтением. Шах-биким и Ханум были бесконечно и беспредельно взволнованы, смущены, сконфужены и растеряны; они не могли придумать себе разумного оправдания или ласково спросить у меня о здоровье. [Мать и бабушка главного заговорщика отговорились, должно быть, тем, что, услышав о пленении Бабура в Герате, решили выдвинуть на трон Кабула старшего из Тимуридов, чтобы он сохранил престол для Бабура; очевидно, и изворотливые женщины и сам Бабур не могли не понимать, что эта история выглядит неубедительно. Я не ожидал от них такого предательства; правда, эти люди были в несчастном положении, но не настолько, чтобы не послушать слов биким или Ханум. Мирза-хан – родной внук Шах-биким, проводил подле нее дни и ночи; если бы он ее не слушался, то она могла не отпустить его и держать возле себя. Мне не раз приходилось, вследствие жестокости, неблагосклонности судьбы, лишаться престола, царства, слуг и нукеров и искать у них убежища, моя матушка тоже отправилась к ним, но мы не видели никакого внимания и заботы. У Мирзы-хана, моего младшего брата, и его матери, Нигар-ханум, были богатые и благоустроенные владения, а у нас с матерью не было не то что владений – какой-нибудь деревушки или нескольких пар быков. А разве моя мать – не дочь Юнус-хана и я – не внук его? Всякий раз, когда кто-нибудь из этих людей меня навещал, я старался принять их как только мог лучше, по-родственному. Так, например, когда Шах-биким приехала ко мне, я отдал ей Памган – одно из лучших мест в Кабульской области – и не упускал случая проявить сыновние чувства и оказать услугу. Султан Саид-хан, Кашгарский хан, пришел ко мне с пятью-шестью пешими, голыми йигитами; я принял его как родного брата и отдал ему Мандраварский туман, один из туманов Лагмана. Когда шах Исмаил убил Шейбани-хана под Мервом и я ушел в Кундуз, беки Андижанской области обратили глаза в мою сторону. Некоторые сместили своих градоначальников, другие укрепили города и стали посылать ко мне людей. Я отдал Султан Саид-хану своих старых, испытанных нукеров, дал ему отряд в подкрепление, подарил мое родовое владение Андижан и послал его туда ханом. До настоящего времени я смотрел на всякого, кто приходил ко мне из этих людей, как на родного; Чин Тимур-султан, Исан Тимур-султан, Тухта Буга-султан и Баба-султан поныне находятся при мне. Я всегда относился к ним всем лучше, чем к родственникам, и оказывал им внимание, ласку и покровительство.
Я написал это не для того, чтобы пожаловаться. Все, что здесь написано, истина. И цель этих слов не в том, чтобы похвалить себя, – все действительно было так, как я написал. В этой летописи я вменил себе в обязанность, чтобы каждое написанное мной слово было правдой и всякое дело излагалось так, как оно происходило. Поэтому я записал о родичах и братьях то хорошее и плохое, что хорошо известно, и рассказал о недостатках и достоинствах близких и чужих мне людей, то, что действительно было. Да простит мне читатель, и да не будет ко мне строг слушатель».Современный читатель может задаться вопросом: каким фактам необычной автобиографии Бабура действительно можно верить? Нужно заметить, что все события, в которых он участвовал, он описывает в точности так, как они происходили. Все факты он выстраивает по памяти, а память у него превосходная. Его литературные портреты многочисленных родственников и беков часто полны сарказма, – например, портрет Султан Али из Самарканда, который выступал на стороне его врагов; Бабур не смог дать беспристрастную характеристику лишь одному своему врагу, которого действительно боялся, – Шейбани-хану, а также опустил некоторые неприятные для себя подробности, например умолчал о том, каким образом его сестра попала в руки вышеупомянутого хана. Но его собственный портрет – это портрет живого человека, нравится он нам или нет. Его упорное намерение писать «правду о каждом событии» породило один из редчайших документов – хронику эпохи, составленную человеком, который лучше других понимал свое время и не упускал в своем рассказе ни одной детали.
При желании Бабур мог подробнее описать свою встречу с матерью Мирзы-хана, которая, в некотором смысле, приходилась ему бабушкой. Спустя годы Хайдар-Лев, сын Хусейна Дуглата, описал это в своей собственной истории. В книге «Тарих-и-Рашиди», написанной цветистым персидским языком, Хайдар именует Бабура «повелителем». Он вспоминает:
«Повелитель, показывавший обычное расположение, без церемоний и признаков огорчения, приветливо поздоровался со своей названной бабушкой, хотя она отказала ему в своей привязанности и вместо него прочила своего внука государем. Пристыженная и захваченная врасплох, Шах-биким не знала, что сказать.
Опустившись на колени, повелитель нежно обнял ее и сказал: «Разве может один сын упрекать свою мать за то, что она отдала предпочтение другому? Власть матери над детьми безгранична». Потом он добавил: «Я не спал всю ночь и проделал долгий путь». Сказав это, он положил голову на грудь Шах-биким и попытался уснуть. Он делал все это, чтобы ободрить биким.
Едва он задремал, как вошла его тетка по материнской линии, Михр Нигар. Повелитель вскочил и обнял свою тетку, выражая ей всяческую привязанность. Госпожа сказала ему: «Вашим женам и домочадцам не терпится увидеть вас. Я также благодарю Всевышнего за то, что он даровал мне такую возможность. Поднимитесь и идите к вашей семье во дворец. Я тоже направляюсь туда». [У нее, очевидно, имелись для этого свои причины.]
Так он направился во дворец, и, по его прибытии, все эмиры и слуги начали возносить хвалу Всевышнему за такую милость… Затем госпожа привела Мирзу-хана и моего отца к повелителю. Когда они приблизились, повелитель вышел навстречу, чтобы приветствовать их. Тогда госпожа произнесла: «Я привела к вам моего провинившегося сына и вашего несчастного брата. Что вы скажете им обоим?»
Увидев моего отца, повелитель поспешно подошел к нему и обнял его с обычной приветливостью, ободрив его улыбкой и задав ему тысячу вопросов, чтобы показать свое расположение. Потом он поздоровался с Мирзой-ханом таким же образом, выказав ему свидетельства своей любви и доброго расположения. Во время этой церемонии он держался с любезностью, без тени натянутости и искусственности. Однако, несмотря на все усилия, которые прилагал повелитель, чтобы его доброта прогнала краску стыда с их лиц, ему не удалось стереть пятно позора, затуманившее зеркало их надежд.
Мой отец и Мирза-хан получили разрешение уехать в Кандагар. Повелитель уговорил Шах-биким остаться. Вместе с ней осталась и госпожа».Сам Бабур дает разные версии своей встречи с заговорщиками. Царевич Хусейн, сообщает он, был найден в груде спальных одеял в покоях царевны Михр Нигар и после своего поступка заслуживал быть разрубленным на куски. Мирза-хан, по словам Бабура, был захвачен в горах и доставлен в Кабул в таком состоянии рассудка, что, подходя к Бабуру, дважды споткнулся и, опасаясь быть отравленным, отказался от предложенного ему шербета, пока Бабур не отпил первым.
Нет сомнений, что, великодушный от природы, Бабур отнесся к обоим столь милостиво лишь из-за женщин. После смерти Джахангира у него почти не осталось родственников-мужчин, поэтому в его интересах было закрыть глаза на организованный в его отсутствие заговор.
Однако он, безусловно, глубоко переживал предательство своих близких.Хотя Бабур и удерживал свою попавшую под подозрение тетку, а вместе с ней и Шах-биким как заложниц, однако он был по-настоящему привязан к ним, несмотря на их участие в заговоре. Довольно любопытно и совершенно непонятно, почему, рассказывая о мятеже, он возложил всю вину на мужчин, а женщин не считал причастными к случившемуся, хотя понимал, что именно они выступали в роли подстрекательниц. Это не только благородство. Он по-прежнему остро ощущал утрату Исан Даулат и своей матери; Шах-биким и Михр Нигар в какой-то мере восполняли эту утрату.
Знатные вдовы тюрко-монгольских династий пользовались большим авторитетом среди более молодых мужчин. Даже во времена суровых чингизидов повелители вселенной, как они себя называли, часто прислушивались к советам своих бабушек. И Шах-биким отлично умела пользоваться своим влиянием. Очень скоро она выпросила у Бабура надежную должность для своего злополучного внука, Тощего бека. Прося за внука, она нашла красноречивые доводы, с которыми и обратилась к Бабуру: «Мои предки царствовали в Бадахшане три тысячи лет. Будучи женщиной, я не могу держать в своих руках бразды правления, но у меня есть мой внук, Мирза-хан. Представитель его рода будет пользоваться уважением в Бадахшане».
Они получили горную провинцию Бадахшан. Однако вскоре Хусейн довершил свое падение, ввязавшись с Шейбани-ханом в сражение, которое и проиграл. Это случилось в то время, когда он с неуместным азартом чернил Тигра перед узбеками, но лишь нашел собственную смерть от рук врага Тимуридов – смерть, которую Бабур счел карой, постигшей его за клевету.
Несколько дней в Кабуле не прекращались торжества. Из Герата прибыла юная царевна Масума с пышным эскортом. Девушка, на которую Бабур произвел такое впечатление, несмотря на то что она выросла при самом блистательном дворе, стала его женой. Свадьбу сыграли просто, однако Шах-биким превратила прибытие девушки в настоящий праздник. По-видимому, Бабур был действительно счастлив. Он с живостью рассказывает о том, как во время обычной поездки по окрестностям он вместе со своими спутниками ввязался в бой с отрядом афганцев, на полном скаку обстреляв неприятельских всадников из луков. Он замечает, что было совсем непросто остановить больше тысячи всадников, скачущих во весь опор. Затем, с не меньшим удовольствием, он вспоминает, как охотники загнали необычайно жирного кулана, ребра которого имели больше ярда в длину.
Праздники вскоре закончились. Не прошло и года, как невеста из Герата удалилась в свои покои, чтобы родить дитя, но так и не вышла оттуда. Ребенок выжил – это была девочка. Бабур распорядился, чтобы ей дали имя ее матери, Масума. Больше он не упоминает о ней, но этот поступок говорит о том, что он глубоко переживал смерть своей юной жены.
Однако еще до этих событий, едва перевалы открылись после паводка, пришли известия о бедствии в Герате.
Теперь трудно понять, как Бабур сумел оказаться в Герате вовремя и привести с собой более или менее достойное войско. Насколько можно судить, никаких посланий из Герата от царствующих там любителей пиров он не получал. На помощь своим государям выступил лишь один опытный полководец – правитель Кандагара со своим войском. Он посоветовал нерешительным царевичам оставить город на младшего из братьев, Музаффара, в то время как старший должен был отправиться в горы, чтобы набрать войско из окрестных племен и тем самым очистить окрестности города от воинственных узбеков. Впоследствии Бабур одобрил этот совет.
Однако объединенное правительство последнего оплота Тимуридов отвергло совет. Не оказывая ни малейшего сопротивления наступавшему Шейбани-хану, они отошли на то самое место, где состоялась их первая встреча с Бабуром, – на живописные берега Птичьей реки. «Они не пожелали сделать Герат неприступной крепостью, не пожелали вступать в бой с врагами. Так они и сидели там, и не знали, что им делать дальше! Они верили в предсказание, будто им суждено победить узбеков. Мечтатели, они и жили как во сне».
Шейбани-хан и сорок тысяч узбеков быстро положили конец мечтаниям. Когда он подошел к ставке братьев, то лишь доблестный правитель Кандагара с несколькими сотнями воинов решился дать ему отпор, однако тут же был убит. Что же касается братьев, то «имея столько времени и сроку, они не увезли своих матерей, сестер, жен, сыновей и дочерей и бежали, оставив их в плену у узбеков».
Музаффар скрылся в неизвестном направлении. Бади-аз-Заман покинул Хорасан и укрылся в Персии. Их семьи и все достояние находились в горной крепости, на захват и разграбление которой узбекам хватило двух недель. Очевидно, при взятии легендарного Герата Шейбани-хан решил проявить свое милосердие и взял себе жену из гарема Музаф-фара, а также запретил грабежи и бесчинства и даже искал дружбы нескольких прославленных ученых, включая историка Хондемира, и предлагал им свое покровительство. Остроумец и поэт Бинаи также остался с ним.
Однако зрелище такого милосердного правления вызывало приливы желчи у глубоко несчастного Бабура.«После того как Шейбани-хан взял Герат, он очень дурно обошелся с женами и детьми обоих государей, не только с ними, но со всем народом. Ради грязных мирских расчетов он отдал Хадичу-биким развратнику Шах-Мансуру. Всех поэтов и даровитых людей Шейбани-хан отдал во власть мулле Бинаи. [Как тот, должно быть, обрадовался своему поэтическому отмщению.] Несмотря на свою неграмотность [это не соответствовало действительности], Шейбани-хан учил Кази Ихтиара и Мухаммеда Мир Юсуфа – знаменитых и даровитых гератских ученых – толковать Коран; взяв в руки перо, он исправлял писания и рисунки Султана-Али Мешхеди и художника Бехзада. Иногда он сочинял несколько безвкусных стихов и приказывал читать их с минбара, а потом распоряжался вывесить эти стихи на базарной площади и брал с народа подарки. Хотя он вставал с зарей, не пропускал пятикратных молитв и хорошо знал науку чтения Корана, но совершал много подобных глупых, бессмысленных и нечестивых поступков».
На самом деле великий Узбек был предан вере и ни в чем не отступал от ее правил, в отличие от царевичей Герата, набожных лишь для вида. Если не считать поголовного истребления всех претендентов на престол Тимуридов, которые попадали ему в руки, Шейбани был гуманным человеком. По странной прихоти судьбы его правоверность причинит немало неприятностей Бабуру, когда тот вновь окажется в Самарканде.
Не пороки Шейбани пугали Бабура, а его примечательный военный опыт и беспощадная решимость, которые он проявил при создании своей империи. Шейбани-хана Бабур боялся как никого другого. Тигр был последним правящим государем из рода Тимуридов и хорошо понимал, чем ему это грозит.
Летом 1507 года он потерял след Шейбани-хана. Очевидно, узбеки схлынули в сторону Персии, поскольку они объявились в священном городе Мешхеде. Но сам Шейбани-хан двинулся на юг, по направлению к Кандагару, не поднимаясь на перевалы и не повторяя ошибки, допущенной Бабуром прошлой зимой, когда ему пришлось прокладывать себе дорогу в снегу.Обстоятельства и невнимание к заговорам также привели Бабура в Кандагар.
Судя по всему, Тигра охватило то самое оживление, которое часто заканчивалось неприятностями. Вместе с Масумой из захваченного узбеками
Герата прибыло множество беженцев. Заслуженные воины искали защиты от распространяющейся власти узбеков и желали примкнуть к лагерю Бабура. Снова, как в стране Хосров-шаха, Бабур собрал армию добровольцев, которых объединило отчаяние. Однако теперь Тигр уже создал себе имя и стал прославленным вождем. Он заботился о своем народе и обеспечивал ему плодородные земли, оставляя себе совсем немногое; он замерзал в буран вместе со своими людьми, когда не удавалось найти крышу над головой или пещеру. Они знали его как храброго и великодушного человека и верили в его удачу, что немаловажно для солдат. В рядах нового войска звучали старые названия: тарханы и монголы, и даже урусы, то есть русские.
Бабур, воодушевленный этими событиями, лично возглавил свое разношерстное войско и все лето тщательно обучал его в окрестностях Кандагара.
Кандагар был одной из провинций уже не существующего государства Хусейна Байкары из Герата. Оба его государя погибли в недавней злосчастной битве. Слабо укрепленный город лежал к югу от дороги, связывавшей Индию с западом, близ брода через реку Гильменд. Здесь проходили караваны арабов, индусов и иудеев, везущие богатые товары из Индии – индиго, пряности, сахар, слоновую кость и драгоценности. Как правило, конфликты между государствами не отражались на караванной торговле. Ее охранял неписаный закон, такой же строгий, как закон ислама, защищающий собственность. Бабур также удерживал своих сподвижников от разграбления караванов, хотя и брал с них дань. Теперь многие караваны, из страха перед узбеками не решавшиеся идти через Герат или Мешхед, шли в обход мимо Кандагара. Как бы там ни было, этот город оказался ценным приобретением.
В то время город удерживали два независимых бека Аргуна, – одним из них был Муким, монгол, высланный Бабуром из Кабула. Бабур знал, что эта парочка ищет с ним союза, и, как всегда, без лишних размышлений пустился в путь, чтобы соединиться с ними и попытаться создать оборону против узбеков. На самом же деле предусмотрительные Аргуны вели переговоры с Шейбани-ханом, признав покорителя Герата своим государем. Когда Бабур предупредил их о своем прибытии, монголы прислали надменный ответ, как будто отвечали на прошение низшего по происхождению. Разгневанный Бабур ускорил свое передвижение, но неожиданно узнал от военачальников своего авангарда, что превосходящее по силе войско хозяев Кандагара выстроено в боевом порядке прямо перед ним на дороге.
Узнав об этом, Тигр совершил очередное безрассудство. Половина его отрядов рассеялась по окрестностям, отправившись искать воду, овец и зерно после тяжелого перехода. Собрав вокруг себя оставшуюся тысячу, он двинулся на армию Кандагара. Однако на этот раз люди были построены в отряды по десять и по пятьдесят человек, и во главе каждого отряда стояли бывалые вояки, которые знали, что делают. И в этот раз он положился на монгольскую тактику и обошел своим правым флангом передовую линию врага. Сражение было упорным, но в конце концов войско Аргуна не выдержало напора и разбежалось, отступая к городу.
Хотя Бабур и любил повторять изречение: «сколь часто малый отряд одолевал большой отряд с соизволения Аллаха», но эта битва при Кандагаре была выиграна благодаря усиленной дисциплине и мастерству командующих.
Добыча была впечатляющей. Полная казна крупного торгового города содержала такой запас серебряных монет, что их оказалось невозможно сосчитать. Монеты сгребли в мешки и погрузили на ослов и верблюдов. Бабур с улыбкой вспоминает, как он сражался с Мукимом за путь к сокровищам и в результате нашел в помещении казны своего двоюродного брата, который прибыл туда раньше его. Богатая добыча ждала их и в торговых лавках. Бабур описывает, как преобразился его лагерь, расположенный за городскими стенами, в лугах, когда он вернулся туда после не долгого отсутствия.
«Я прибыл в лагерь с опозданием. Это был не прежний лагерь, и я просто не узнал его. Вокруг него паслись кони хороших кровей, верблюды и мулы, нагруженные тканями, шатрами и наметами из алого бархата; в каждом помещении грудами лежали мешки и стояли сундуки. Имущество братьев, старшего и младшего, хранилось в особых сокровищницах; в каждой громоздились сундуки и кипы разной одежды, сумки и мешки с серебром. В любой палатке или шатре находилось множество добычи; овец было тоже много, но на них не обращали особенного внимания».
Преобразившийся лагерь быстро свернули. Касим-бек, которого ранили в голову, убеждал Бабура не откладывать возвращения в Кабул. Окрестности наводняли разрозненные шайки грабителей и узбеки, и преданный Касим умолял своего государя вернуться под защиту Кабульских гор. К счастью, Бабур последовал его совету. «Мы вернулись, – отмечает он, – с большим грузом сокровищ и другого добра, с великой честью и почетом».
Это было преувеличенно радостное заявление. Для управления Кандагаром была выбрана наихудшая личность – царевич Назир, который был не в состоянии удержать даже мирный Бадахшан. В пути до Тигра дошли плохие вести: Шейбани-хан со своей армией осадил Кандагар. Теперь он испытывал двойную благодарность к Касиму за его предостережение. Прибыв в Кабул, он немедленно созвал на совет своих беков и придворных. Что делать?
Впервые узбекский хан появился на подступах к Хиндустану. Не приходилось сомневаться в том, что по дороге туда он намеревается захватить Кабул.
Касим выступал за то, чтобы отойти к северу, на просторы Бадахшана. Плохо укрепленный и одиноко расположенный среди равнины Кабул оборонять было бесполезно.
Бабур не соглашался с ним. Он дал свою оценку сложившемуся положению, – во всяком случае, об этом мы читаем в его книге. «Теперь вся страна, что раньше принадлежала потомкам Тимур-бека, оказалась в руках узбеков, чужаков и врагов. Все уголки и окраины, где еще жили тюрки и чагатаи, волей-неволей пришлось уступить узбекам. Я пребывал в Кабуле в полном одиночестве, не имея ни возможности с кем-нибудь связаться, ни сил, чтобы дать врагам отпор. Видя перед собой такие силы, мы поневоле задумывались о том, чтобы найти для себя новое безопасное место, чтобы уйти подальше от столь сильного врага. Такое место можно было найти между Бадахшаном и Хиндустаном».
Бабур сообщает, что было принято решение идти в Хиндустан. Он достаточно объективно оценивал обстоятельства, но, очевидно, в нем самом произошли некие внутренние перемены. Десять лет назад он предпочел бы укрыться в горах и выждать удобного случая, чтобы пойти на врага с оружием. Что и предлагал ему Касим.
Шейбани-хан внушал Бабуру настоящий ужас. В первый и, возможно, единственный раз в жизни страх вынудил Бабура очертя голову бежать из страны.
Еще больше осложняло его положение то, что управление Бадахшаном он доверил ненадежному Мирзе-хану и его склонной к интригам бабушке, а сам Кабул оставил на попечение своего двоюродного брата Абдурраззака – того самого, что первым проник в сокровищницу Мукима.
Ему немедленно пришлось расплачиваться за свою неразборчивость. Узнав о его поспешном отступлении, афганские племена, проживающие по берегам реки в ущелье Хайбер, решили, что Бабур оставляет Кабул. Так же, как в свое время злополучный Баки, Бабур был вынужден отбиваться от грабителей, которые кружили вокруг его каравана, как стая волков. Приближалась осень; у небольшого отряда не хватало продовольствия, и в поисках зерна спутникам Бабура приходилось совершать набеги на окрестные селения. «Мы не подумали заранее, – откровенно признает Бабур, – где бы обосноваться, ни места, куда идти, не было установлено, ни земли, чтобы жить там, не было намечено. Мы просто вышли и бродили то вверх, то вниз, пока не узнаем чего-нибудь нового».
От намерения завоевать жаркие земли Хиндустана пришлось отказаться. На перевале, который путники называли Вьюжным, их застигла зима, и они сильно страдали от холода. Однако в этой, казалось бы, безнадежной ситуации Бабур вновь обрел твердость духа. Он будто снова вернулся в дни своей изгнаннической военной жизни, когда на его долю выпадали и куда более тяжкие испытания.
По афганским горам разнеслись неожиданные известия о радостных переменах. Несколько недель назад Шейбани-хан отказался от осады Кабула и отвел свои войска. Теперь его собственной семье угрожало восстание, охватившее северные территории узбекского государства и вынудившее хана покинуть земли Бабура.
На эту новость Бабур отозвался довольно неожиданно. Бояться больше было нечего, все его скромные кабульские владения вернулись к нему в полной неприкосновенности. Эти события возвратили Тигру его дерзость и наполнили его душу новыми надеждами.
«Я приказал, чтобы отныне мои люди называли меня падишахом».
Титул «падишах» переводится как «царь царей» и по значению равен титулу «император» в странах Запада. До сих пор ни один из Тимуридов не присваивал себе такого титула. В стародавние времена кое-кто из наиболее сильных ханов Азии добавлял к своим титулам и этот. Он означал, что его носитель обладает властью над правящими государями, что вряд ли можно было сказать в тот момент о Бабуре. Присвоив себе такой титул, он бросил вызов непобедимому Шейбани-хану, который действительно имел полное право называться падишахом. Какими бы ни были мотивы, подтолкнувшие Бабура на этот шаг, со своим новым званием он больше не расставался.
Тогда в Кабуле и родился его следующий сын. Его рождение можно было расценить как счастливый знак. «Он получил имя Хумаюн [Счастливый], – записывает Бабур в Кабуле. – Когда ему было четыре или пять дней от роду, я выехал в Чар Баг [Четыре Сада], чтобы устроить праздник в честь его рождения. Все беки, знатные и простые, принесли подарки. Такой груды серебряных монет раньше мне не приходилось видеть. Отличный был праздник».В горы пришла весна, на кустах аргувана вокруг источника Трех Святых распустились цветы; легкий ветерок струился в северные окна крепости. Не за горами был праздник Нового года. После рождения Хумаюна выжили оба – он и его мать Махам. Сокровищница крепости была набита битком и доверена бдительному оку нового казначея. Самозваный падишах не видел вокруг себя никаких признаков опасности и слышать о них не хотел.
Однако для нас, спустя четыре с лишним столетия, не составляет труда разглядеть нависшую над Кабулом угрозу. С присущей ему беззаботностью и великодушием на время своего отсутствия Бабур назначил правителем Кабула упомянутого выше Абдурраззака, сына Улугбека, последнего дяди Бабура; Абдурраззак пусть и плохо, но все же управлял Кабулом, имея полное право на его престол. В Кандагаре Бабур увел из-под носа у Абдурраззака богатую добычу – «вместо того подарив ему кое-какую мелочь» – и теперь, присвоив себе титул падишаха, отнял у него и Кабул. Соблюдая все предосторожности, Абдурраззак начал готовить заговор, чтобы сбросить с престола забывчивого Бабура.
Он искал вооруженную силу и вскоре нашел ее: примерно двухтысячный отряд монголов, составлявший часть небольшой кабульской армии, которую падишах подверг полной перестройке и суровой муштре, безжалостно наказывая виновных за каждый случай мародерства. Особенно падки на грабежи были недисциплинированные монголы, старавшиеся держаться вместе еще с тех пор, когда они состояли на службе у богатого, но безнравственного Хосров-шаха. Среди этих самых монголов, многие из которых принимали участие в провалившемся заговоре Мирзы-хана, начались перешептывания: если бы царем Кабула стал Абдурраззак, он распахнул бы для них сундуки ломящейся от сокровищ казны, железной дисциплине Тигра настал бы конец, а все земли от Кандагара до Бадахшана перешли бы в их полное распоряжение. Такая перспектива не могла не прельстить алчных монголов. Однако осторожный Абдурраззак не торопил события.
Защитники города были распущены по домам и рассеялись по многочисленным улицам и кварталам, а также загородным жилищам. В этих обстоятельствах Бабур предпринял очередной карательный набег на афганские племена.
О том, что случилось дальше, сообщает его дневник:
«В ту весну я разбил в окрестностях Мукура отряд афганцев-мехмендов. Через несколько дней после того, как мы вернулись из набега и стали лагерем, Куч Бек, Факир Али Каримдад и Баба Чухра задумали бежать. Узнав об этом, я послал им вслед людей; их поймали ниже Истаргача и привели. При жизни Джахангира-мирзы они тоже, как мне докладывали, говорили неподобающие слова; я приказал подвергнуть их всех наказанию на базаре. Когда этих преступников привели к воротам базара и накинули им на шеи веревки, чтобы их повесить, Касим-бек прислал ко мне Халифу и настойчиво просил простить им их вину. Чтобы угодить беку, я подарил им жизнь и приказал бросить их в тюрьму. Хисарцы и кундузцы, нукеры Хосров-шаха и предводители монголов Чалма, Али Саид Шикма, Шир Кули, Ику Салим… в это время вступили в переговоры и, столковавшись, задумали против меня дурное. Те, кого я упомянул, находились перед Ходжа-Риваджем, между полянами Сунг-Курган и Чалак. Абдурраззак-мирза, пришедший из Нангархара, находился в Дех-и-Афгане. Муххиб Али курчи и Халифа раз или два предупреждали Мулла Баба о сговоре мятежников; мне тоже намекали на это. Но это не казалось мне вероятным, и я не уделял их словам внимания.
Однажды вечером я сидел в Чар-Баге, в помещении дивана. К ночи, в час молитвы перед сном, Муса Ходжа и еще один человек быстро подошли и сказали мне на ухо: «Моголы действительно решили поднять мятеж. Мы не узнали наверное, удалось ли им привлечь на свою сторону Абдурразза-ка-мирзу; они еще не решили, произойдет ли восстание именно сегодня ночью».
Притворившись ничего не знающим, я через некоторое время отправился в гарем. В то время мои женщины находились в саду Баг-и-Хилват и в саду Баг-и-Юрункча. Когда я подошел к женщинам, телохранители и стражники удалились. После их ухода мы с Сарвар Кулом направились в город. Я дошел до рва и Железных ворот, и тут ко мне подбежал, со стороны базара, ходжа Мухаммед Али…»На этом записи снова прерываются. Мы не имеем никаких сведений о последующих одиннадцати годах, и ни одна из известных копий этой рукописи не может восполнить образовавшийся пробел.
Однако другие историки и, в частности, молодой царевич Хайдар сообщают отдельные подробности о мятеже в Кабуле в 1508 году. Хайдар, которому тогда было одиннадцать лет, приезжал в Кабул на следующий после восстания год и мог слышать рассказы очевидцев.
В те дни Бабур проявил обычную для него безрассудность и устремился в город, не позаботившись о вооруженной охране. Судя по всему, он едва не был схвачен, когда проезжал Железные ворота, однако сумел ускользнуть от преследователей. Его появление подстегнуло мятежников к более решительным действиям. Мятеж выплеснулся на улицы города прежде, чем Бабур успел осознать его размах. Прибыв на базар, находившийся в армейском расположении, Бабур обнаружил, что лавки разграблены, а неуправляемый гарнизон разбежался. Лишившись своих командиров, солдаты не знали, что им делать: то ли встать на сторону монголов, то ли вступить с ними в бой, бежать или остаться и защищать свои семьи.
Из этого хаоса Бабур вышел с небольшим подкреплением в виде преданных ему воинов, которых набралось около пятисот человек. На следующий день на его сторону перешли и другие беки и военачальники. Очевидно, сторонники Бабура сосредоточили свои силы за пределами города и отражали атаки мятежников. Царевич Абдурраззак открыто провозгласил себя вождем мятежа, подстрекаемого побежденными Аргунами и Мукимом, который теперь вновь управлял Кандагаром.
По всей видимости, в один прекрасный день преданные Бабуру отряды предприняли решительный натиск на силы заговорщиков. Хайдар сообщает, что «это было одно из величайших сражений повелителя». Бабур вызвал Абдурраззака на поединок, чтобы сразиться с ним перед лицом обоих войск. Осторожный Абдурраззак отклонил это предложение, однако его приняли пятеро воинов из войска мятежников. В ходе этого впечатляющего турнира Бабур выбил из седла всех пятерых, одного за другим. Можно подумать, что это всего лишь легенда, однако Хайдар сообщает имена всех сраженных Бабуром воинов. Помня о непреклонном характере Бабура и о его искусстве целым и невредимым выходить из самых сложных столкновений, мы можем представить себе, в каком унынии пребывали его враги, когда одного за другим выносили с поля боя несостоявшихся победителей, среди которых были представители – как можно судить по их именам – самых разных племен и народов.
Дерзкая выходка Тигра возымела свое действие. Морально Абдурраззак был уже уничтожен, а вскоре действительно попал в плен. «К нему отнеслись с большим великодушием, – сообщает Хайдар, – и вскоре отпустили».
Из документов известно, что к концу лета в Кабуле был восстановлен порядок. Примерно в то же время Шейбани-хан издал указ, повелевающий очистить все его земли от всех представителей рода Тимуридов. Старшие из них, как, например, царевич Хусейн Дуглат, были казнены, а несколько мальчиков, включая Хайдара, сына Хусейна, пустились в путь по зимним перевалам Бадахшана, чтобы найти защиту при дворе Бабура.
К этому времени двор самозваного падишаха уже получил некоторую известность. Жестокие войны Западной Азии не достигали Кабула. Тем временем на свет появились новые династии, и преследованию Бабура Шейбани-ханом был положен конец.
Впервые в жизни Тигр мог воспользоваться результатами событий, происходивших за пределами его собственных владений, надежно укрытых от внешнего мира.Глава 5 Бабур против своего народа
Где пересекаются тропы в Неведомое
Основы подлинного мистицизма ослепительно просты. Любовь святого Франциска, молитвы святой Терезы из Авилы не поражают сложностью мышления. Нет ничего непонятного и в том, какие мысли могли посещать сироту Мухаммеда, когда он одиноко сидел под ночным небом, созерцая свет, струившийся из тьмы над его головой. Свет и тьма – одинокая душа и ее единое божество.
Однако идею можно выразить словом, но лишь символы способны передать мысль; попытка изложить мистическое понимание веры может оказаться предельно сложной. Среди великих мистиков Азии лишь Руми способен был оставить эти строки: «Любовь взывает к человеку из Небесных светлых врат…» Омар Хайям писал: «Я Книгой судеб завладел, взмыв соколом к вратам Небес». Ему вторил Хафиз, следовавший своим мыслям: «Сокол, гнездящийся в юдоли скорби, подъемлет взор. До него доносится зов от подножия Божьего престола».
В далекие времена эти поэты пытались проторить свои тропы в Неведомое, хорошо известные шиитам или схизматикам, противопоставлявшим себя суннитам – истинно правоверным. Элементарные основы веры были открыты для всех пророком Мухаммедом и нашли свое отражение в Книге. Затем сложились традиции, чтобы подчинить человеческую жизнь законам Корана, а шариат установил правила поведения, предписанного Богом, бесконечно далекие от земного мира. Последователи мистицизма, разделявшие веру францисканцев в близкое пришествие Мессии, не исключали возможности появления Имама даже из лона несторианских сект.
К тому же среди мистиков начали формироваться ордена дервишей, такие, как Накшбанд, подобно тому, как после кончины святого Франциска начали возникать ордена нищенствующих монахов. Дервиши, время от времени подвергаемые преследованию, старались сохранить в тайне свое следование Ишанам – аватарам веры. Они проторили путь возрождающейся вере, далекой от ортодоксальных принципов. Ходжа Ахрари, идеалист и суфий, был учителем дервишей, или святых людей. Бабур почитал его и разыскал его учеников, предварительно наведя справки о них у бродячих дервишей. Очевидно, монашествующий Мир Алишер, вынужденный против своей воли заниматься политикой, также был мистиком в глубине души и большим другом Джами.
Конечно, Бабур относился к Джами как к первому апостолу среди поэтов. Джами, изначально принадлежавший к ортодоксам, склонился на сторону мистиков, и несомненно повлиял на формирование религиозных взглядов Бабура. Бабур строго следовал закону и соблюдал все предписанные правила поведения, но при этом всегда склонялся к вере в имманентность Бога. Он был далек от софистики и, утверждая, что все события его жизни предопределены Всевышним, нисколько не кривил душой. Однако некоторые вопросы все же оставались. Возможно, в тот момент он не был способен провести границу между ритуалами омовения, приема пищи и вознесения молитв и своей невысказанной надеждой на то, что в мирских неурядицах Бог ниспошлет ему силы. Его прямолинейные взгляды легко вписывались в рамки ритуалов, а воображения не хватало на то, чтобы согласовать эту практику с утверждениями Руми, который не придавал значения повседневной рутине, ощущая пугающее присутствие Бога.
Позднее Бабур восполнит этот пробел на свой лад, иронически окрестив себя царем-дервишем.
Однако в течение целых десяти лет, – с тех пор, как Бабур присвоил себе титул падишаха, – он испытывал несомненное влияние совсем еще молодого человека, который имел неоспоримое право называться и дервишем и царем. Еще в 1501 году в западных областях бывшей империи Тимура этого юношу, некоего Исмаила, Суфи или Сефеви, называли шахом Персии.
Нет ничего необычного в том, что эта область, которую принято называть Персией, покорилась мечтателю. Персия всегда была оплотом мистицизма – с тех самых пор, когда Кир Ахеменид низверг древние семитские божества Ниневии и Вавилона, чтобы расчистить путь для миссионеров, несущих веру пророка Заратустры. Римским легионерам, повсеместно празднующим свой триумф, никогда не удавалось покорить районы, лежащие за рекой
Евфрат, где население придерживалось восточных верований. С появлением ислама светскую власть на некоторое время захватили халифаты. Их время еще не прошло, однако Багдадский халифат Аббасидов испытывал несомненное духовное влияние шиитской Персии. Мистицизм по своей природе стремится к явному или скрытому сопротивлению ортодоксальному правлению. В эпоху Византии ортодоксальный Константинополь не раз применял силу против мятежной восточной церкви – в Антиохии, Александрии и Иерусалиме. Войска прославленного императора Юстиниана лишь оттеснили непокорных монахов к востоку, но не смогли положить конец их сопротивлению.
Железная хватка другого ортодокса – Тимура – могла, конечно, некоторое время сдерживать непокорные восточные области, но Хусейн Байкара, вернее, его недостойные сыновья после сдачи Герата узбекам растеряли последние осколки своей империи.
Вполне естественно, что после захвата Мешхеда со всеми его гробницами победоносные узбеки Шейбани-хана собирались двинуться дальше на запад, выбрав торговый путь, ведущий к Каспийскому морю и Керману в Центральной Персии. Но против их дальнейшего продвижения выступил новичок – Исмаил-шах, официально заявивший, что узбеки вторглись в страну, которую он получил в наследство. Очевидно, это вызвало удивление у реалиста Шейбани, ответ которого был куда менее официальным: «Что еще за наследство?»
Шейбани вполне мог задать такой вопрос. О двадцатилетием Исмаиле, само имя которого означало «изгнанник в пустыне», впервые услышали в горах Кавказа, затем он переместился дальше на восток, бежав от местной анархии. Он утверждал, что является потомком царевны из Трапезунда. Исмаил был сыном шейха по прозвищу Лев, который одержал победу над туркменами в войне с племенами аккоюнлу и каракоюнлу. Мечтательность сочеталась в нем, – во всяком случае, так считали его недруги, – с фанатизмом, жестокостью и непредсказуемостью. Суфи доказал свою непобедимость на поле брани, – возможно, это объяснялось тем, что среди его новых сторонников были выходцы из девяти тюркских племен, проживавших в неизведанных горных областях, а возможно, потому, что неукротимое желание идти вперед придавало ему сил. Внушавшая ужас тюркская конница прославилась под названием кызылбаши, то есть красноголовые.
Дальние набеги завели их в Тебриз, бывшую столицу монгольского ханства, откуда они направились в Багдад, сказочный город халифов, а затем двинулись на юг, в мало кому известный Исфахан – он-то и стал столицей династии Сефевидов, основанной Исмаилом, хотя, возможно, правильнее считать ее основателем его отца. Возразив против вторжения узбеков, Исмаил без лишнего шума отправился в Исфахан, находившийся в нескольких днях езды от областей, где хозяйничали передовые отряды узбеков.
Однако уже в то время шах Исмаил привлекал самое пристальное внимание некоторых европейских дипломатов, до него такой же интерес они проявляли к Узун Хасану – Длинному Хасану из туркменского племени аккоюнлу. Подобная озабоченность европейцев объяснялась вескими причинами.
В 1499 году, когда Исмаил провозгласил себя шахом, венецианские послы отправились в Тебриз и Исфахан, чтобы присмотреть торговых партнеров для угасающей республики; португальские армады бороздили моря, направляясь к сулящим сокровища портам Индии, от них к Суфи также являлись посланники, старавшиеся завоевать дружбу государя, чьи владения лежали у них на пути. Возрастающий интерес к «Софи» был связан с давним недругом европейцев, Османской империей турков, сделавших в 1453 году своей столицей Константинополь, так как шииты-персы стали заклятыми врагами суннитов-турок. Более того, потерявшие покой европейские купцы надеялись, что Суфи сможет открыть им новые торговые пути во внутренние земли Азии.
Однако в то время Исмаил намеревался ввести новые порядки в своем государстве и не желал столкновений с могущественным турецким султаном. Этот султан, Баязид II, отличавшийся куда более мягким нравом, чем его отец, Завоеватель, состоял в дружеской переписке с образованным Хусейном Байкарой из Герата, а теперь завязал ее и с грозным Исмаилом. Любопытно, что Баязид писал по-персидски, как было принято при его просвещенном дворе, а Исмаил отвечал ему из Персии по-тюркски, на своем родном языке.
Узбек Шейбани, не имевший связей с Европой, поддерживал отношения лишь с татарскими ханами из Казани и Астрахани, в руках которых по-прежнему была сосредоточена власть над московскими великими князьями. Вторжение Шейбани в самое сердце Персии подлило масла в огонь вражды между его ортодоксальными подданными и шиитами фанатика-шаха. Эта вражда вылилась в войну, породившую все ужасы, свойственные религиозным войнам Азии.
В 1509 году, когда разгорелась вражда между шахом Исмаилом и Шейбани, недалеко от Кабула появилось новое действующее лицо. Однако эти события ускользнули от внимания Бабура, поскольку происходили на море, где португальские галеоны практически уничтожили мусульманский флот возле полуострова Диу. Впервые исход сражения в Азии решили европейские пушки и мушкеты.
Такие пушки, которые уже с успехом применяли турки-османы, не привлекли внимания упрямого Исмаил-шаха. Однако они оказали немалую поддержку Бабуру в течение последующих лет.
Вследствие изолированности Кабула в город поступали только обрывки сведений об этих войнах, приукрашенные слухами.
Рассказывали о взаимных оскорблениях: Шейбани послал к Исмаилу гонца с дарами – рубищем и плошкой нищего, а также предложением вернуться к тому образу жизни, который был привычным для его отца, нищего дервиша. В ответ юный Суфи отправил немолодому Узбеку прялку и веретено, сопроводив свой подарок обещанием сослать Шейбани на женскую половину его матери, если он не захочет испытать острую сталь меча. После этого шах Исмаил отправился в паломничество к святыням Мешхеда, надеясь встретиться с Шейбани-ханом.
Летом 1510 года Узбек демонстративно остановился на границах своих владений. За его спиной простирались северные степи, не знающие покоя от набегов казахов и дикокаменных киргизов; вдоль Великого северного пути в Китай монгольские земли, принадлежавшие некогда дяде Бабура, младшему хану, сбросили узбекское ярмо. Волей-неволей Шейбани был вынужден послать значительные войска на север и восток, чтобы восстановить свою власть. Царевич Хайдар сообщает, что Шейбани оставил при себе в Каменном городе двадцатитысячное войско монголов, потому что опасался отпустить их в земли, граничащие с их родиной.
При приближении Исмаила и его кызылбашей Шейбани разослал гонцов, сзывая своих полководцев под знамена, а сам отправился в Мерв и встал на реке, ожидая прибытия подкреплений. До сих пор ему удавалось справиться с любым врагом.
Однако всадники шаха Исмаила появились из-за реки без всякого предупреждения и напали на разъезды узбеков. Через три дня персидская конница была замечена дальше к северу. Говорят, что полководцы Шейбани убеждали его держать оборону и дожидаться прибытия подкреплений от Убейд-хана и султана Тимура. Шейбани не согласился и повел свое небольшое войско за реку, преследуя персов.
О последовавшей за этим битве мы узнаем из письма Мирзы-хана, отправленного им из Бадах-шана в Кабул.
Что за письмо! Оно повествует о разгроме узбеков у реки Мерв, о ранении и смерти Шейбани-хана и всех его полководцев, о бегстве его армии, которую шах Исмаил выбил из Мерва и гнал до самого Герата. (Позднее прошел слух о том, что шах приказал изготовить из черепа Шейбани пиршественную чашу, отделанную золотом, а с тела содрать кожу и выставить на всеобщее обозрение. Однако это всего лишь слухи, правды мы так и не узнаем.)
Но это еще не все. В письме Мирзы-хана сообщается о том, как двадцать тысяч монголов, состоявших на службе у Шейбани, после падения Каменного города избежали разгрома да еще и ограбили разбегавшихся узбеков, – как, должно быть, Бабур смеялся над этой историей! – а затем прибыли к Мирзе-хану в Кундуз, где вновь попросились на службу к Бабуру.
«Как только падишах прочитал то, что было в письме, – добавляет царевич Хайдар, – он с крайней поспешностью выступил в Кундуз, хотя в то время стояла зима и верхние перевалы были недоступны».
К тому времени Бабур нашел другую дорогу, ведущую из горных областей через нижние перевалы. В происшедшей катастрофе он усмотрел для себя случай снова отбить Самарканд.Бабур взял с собой мальчика Хайдара и другого царственного изгнанника, Саид-хана из рода Чагатаев, поскольку они попросили разрешения сопровождать его. Оба прибыли в Кабул, лишенные всяких средств: отец Хайдара участвовал в кабульском заговоре против Бабура, а затем был казнен по приказу Шейбани; Чагатаю, единственному оставшемуся в живых сыну младшего хана, Шейбани также вынес смертный приговор. В последующие годы оба они свидетельствовали о том, что их жизнь в Кабуле под покровительством Бабура, была счастливой и безмятежной.
Хайдар пишет: «Он сказал мне: «Не печалься. Возблагодари Всевышнего за то, что он позволил тебе вернуться ко мне целым и невредимым. Я заменю тебе отца и брата»… Это был для меня тяжелый день, поскольку я потерял отца, но падишах отнесся ко мне с отцовской заботой. Когда он выезжал, я занимал почетное место рядом с ним. Когда заканчивались часы моих занятий, он не забывал прислать кого-нибудь, чтобы развлечь меня.
…С такой истинно отцовской заботой он обращался со мной до последнего дня моего пребывания».
Саид-хан подтверждает его свидетельство: «Дни, которые я провел в Кабуле, были самые беззаботные… Я был в дружбе со всеми находившимися там людьми, и ко мне относились приветливо. Если я от чего-нибудь и страдал, так только от головной боли, вызванной неумеренным употреблением вина».
Благодаря свидетельствам обоих подопечных Бабура мы узнаем обо всем, что случилось по пути в Самарканд. В Кундузе (столице горной провинции Бадахшан) состоялось нечто вроде семейной встречи со всеми неизбежными в таком случае недоразумениями. Соотношение сил складывалось явно в пользу неприкаянного монгольского войска, озабоченного поисками руководителя. Монголы старой закалки не желали признавать никого, кроме Саид-хана, сына бывшего государя родного Моголистана. Их вожди тайно уговаривали его выполнить свое истинное предназначение и немедленно развернуть древние знамена, а Бабуру, который не был настоящим монголом, предоставить идти своим путем, даже если придется вступить с ним в сражение.
Юный Чагатай отказался. «Во время подобного урагану нашествия Шейбани-хана падишах Бабур защитил меня и всегда относился ко мне с добротой. Священный закон запрещает отвечать неблагодарностью своим защитникам», – заявил он и отправил Тигру следующее письмо: «Волей Всевышнего многие люди обращают свои взоры в сторону Вашего Величества. В особенности моголы, которые всегда славились своей численностью и силой и чьи повелители всегда были величайшими из государей. Теперь и они обращаются к Вашему Величеству. С моей стороны будет неблагоразумно и дальше оставаться возле Вас. Наша дружба закончится разлукой. Самым лучшим для нас обоих будет, если Ваше Величество отошлет меня куда-нибудь, в такое место, где узы нашей дружбы будут оставаться столь же крепкими».
Очевидно, Бабур уловил намек наследника династии Чагатаев и отдал должное его благородству. Вдвоем они не могли встать во главе смешанной армии. По праву первенство принадлежало Бабуру, однако двадцать тысяч тоскующих по дому воинов требовали в предводители Саид-хана. Быстро было принято решение, что юный царевич поведет свое войско домой, в степи Моголистана. Перед его отъездом Бабур устроил проверенную веками церемонию. «Саид Чагатая провозгласили ханом».
Кое-кто из монголов: а именно приближенные Айюб Бегчика, который состоял при Хосров-шахе, прежде чем перейти на службу к падишаху, предпочли остаться с Бабуром. Надежная дружба двух молодых царевичей из северных земель в последующие годы сослужит Бабуру хорошую службу.
Лишившись в результате принятого решения самого сильного союзника, Бабур в нетерпении продолжил свой путь к Самарканду.
Как обычно, сопровождавшее его войско было незначительным. Но – и это тоже было для него в порядке вещей – его передовые отряды, прокладывавшие дорогу сквозь тающие снега, находили и приводили к нему скрывавшихся сторонников. Под его знамена встали бывшие приближенные Хайдара. Бабур проявил тактичность и передал их под командование царевичу.
Польщенный Хайдар наблюдал за первой схваткой с неподготовленным к битве узбекским войском, происшедшей возле Каменного моста, в ущелье неподалеку от истоков Амударьи. Стоя на вершине горы рядом с Бабуром, мальчик смотрел вниз, наблюдая за суматохой битвы и таинственными перемещениями тысячной конницы, наступающей и вновь отходящей назад в соответствии с командами. В тот момент, когда узбеки стягивались на гору на противоположной стороне ущелья, «…падишах обратил свой взор на стоящих рядом со мной людей. Он спросил их, кто они. «Мы – из свиты царевича Хайдара», – отвечали они. Тогда падишах обратился ко мне: «Вы еще слишком молоды, чтобы принимать участие в серьезном деле. Оставайтесь со мной и не отпускайте от себя мауляну Мухаммеда и других людей. Остальных же пошлите в подмогу Мирзе-хану».
Затем один из моих людей привел к падишаху пленного, что падишах счел счастливым предзнаменованием и сказал: «Пусть этот первый пленный будет взят во славу царевича Хайдара».
К вечеру сопротивление узбеков было сломлено, и трое или четверо захваченных в плен полководцев предстали перед Бабуром. «Он поступил с ними так же, как Шейбани поступил с Могольскими ханами и Чагатайскими султанами».
Бабур, не склонный останавливаться на достигнутом, приказал преследовать лишившихся своего командования узбеков, выбил их из Железных ворот, затем из Карши, находившегося под защитой гарнизона Убейд-хана, очистил от них всю равнину вплоть до самой Бухары, – «очищенной от солдат, но наводненной глупцами», как сообщил Хайдар, – а затем двинулся на Самарканд, откуда узбеки поспешно разбежались, услышав о его приближении. Узбеки бежали из всей Ферганы, спешно уводя своих домочадцев в степи.
Спустя девять лет, в 1511 году, Бабур вернулся в столицу Тимура.«Все жители долины, благородные и простые, вельможи и служители искусства, вышли, чтобы выразить свою радость, вызванную прибытием падишаха. Благородные толпились вокруг него, тогда как беднота трудилась, убирая свои жилища. Улицы и базары были украшены тканями и золотой парчой; всюду были вывешены надписи и картины».
Как в волшебной сказке о джиннах, все излюбленные уголки и родовые владения снова распахнули свои двери перед Бабуром. Его брат Назир сохранил для него Кабул и Газну. Кундуз и Бадахшан теперь повиновались верному Мирзе-хану. От Андижана до Каменного города все ворота были открыты для Бабура. Саид Чагатай, его союзник, вернулся в степной Сайрам. Казалось, что на этот раз Бабур, носивший титул падишаха лишь номинально, мог на деле почувствовать себя царем.
Однако это была только видимость. Грозные узбеки под начатом воспитанных Шейбани полководцев, отошли на север, но не чувствовали себя побежденными. Теперь, когда их общего врага, Шейбани-хана, больше не было в живых, Бабур решил наладить отношения с нетерпимым персом. Что и привело его к беде.
На этот раз его царствование в Самарканде продлилось всего восемь месяцев.Подробности переговоров между Тигром и шахом Исмаилом окутаны тайной. Рассказ Бабура об этом событии утрачен вместе со страницами дневника, отражающими события тех лет. Другие современники, как, например, Хайдар или историк Хондемир, дают запутанные и противоречивые сведения. В их сообщениях ощущается влияние религиозных воззрений и политических интересов. Это все равно что читать воспоминания о том, какие слухи породило превращение Генриха Наваррского в Его Христианнейшее величество Генриха Валуа в критический для союза гугенотов и католиков момент. Конечно, можно утверждать, что для Бабура Самарканд стоил мессы [39] , однако это не даст нам полной картины.
Хотя мы и не знаем истинных мотивов, которыми руководствовался падишах в своих действиях, сами действия нам хорошо известны. Они, в свою очередь, могут пролить свет на размышления, которым он предавался в «часы своих забот» – как это называл Хайдар.
Во-первых, к нему вернулась старшая сестра Ханзаде, которую шах Исмаил сопроводил почетной свитой после того, как, разгромив Шейбани в сражении при Мерве, обнаружил ее среди остатков его двора. Честолюбивая Ханзаде родила Шейбани сына, однако вскоре после этого он дал ей развод, подозревая, что она участвует в заговорах против него на стороне своего брата, его заклятого врага. Ханзаде тогда перешла в руки одного из узбекских полководцев. Оба ее мужа погибли при Мерве. Очевидно, ее преданность Бабуру осталась нерушимой, и она, несомненно, могла предоставить ему ценные сведения о придворных тайнах узбеков.
Со стороны непредсказуемого Суфи ее возвращение было актом любезности. В свою очередь, Бабур послал гонцов в Герат, чтобы собрать сведения и прощупать почву для переговоров с победоносным персом. При первой возможности он отправил туда свою миссию во главе с Мирзой-ханом.
Тем временем военачальники и кызылбаши, сопровождавшие обретшую свободу царевну, приняли самое деятельное участие в разгроме узбеков, выступив на стороне Бабура. Как только Тигр вновь воцарился на историческом престоле Тимуридов, он распустил своих союзников и наградил их щедрыми дарами. Это говорит о том, что Исмаил назначил переговоры после победы Бабура у Каменного моста и взятия Самарканда.
Мирза-хан привез условия нового союзника. Многое в них до сих пор неясно из-за противоречий. В действительности они были достаточно жесткими. Шах Исмаил обязывался со своей стороны оказывать поддержку наследнику Тимуридов, занимавшему самаркандский престол, однако при условии, что в ответ Бабур признает его своим сувереном. Это было еще не все, и здесь начинаются противоречия; кроме этого, Бабур должен был публично признать превосходство перса, воспользовавшись самым распространенным в те времена способом – отчеканив новую монету с именем шаха и его двенадцати имамов; во время публичных молитв в мечетях должны были отныне произносить имя шаха вместо его собственного.
Исмаил отличался нетерпимостью и, кроме того, был еще очень молод. Бабур был горд, терпим и в свои тридцать лет имел восемнадцатилетний военный опыт. К тому же он только что получил от Ханзаде все планы укреплений узбеков. Почти не вызывает сомнений, что без помощи покорителя Хорасана он не рассчитывал удержать Самарканд, вернувшийся к нему как будто в подарок от Всевышнего.
Кроме того, Бабур хранил благоговейные воспоминания о своем прикосновении к мистическому: о невидимых Сущностях, о погруженных в видения дервишах и, прежде всего, о преподобном Джами, который умел сочетать ортодоксальную веру с мистицизмом. Его мозг упорно жаждал истины в вопросах веры. Был ли Бог неразрывно связан с человеком или являлся далеким божеством, как утверждали ортодоксы, требовавшим поклонения и ритуалов? Суфи придерживался первого варианта; покойный Шейбани – второго. Очевидно, борьба, происходившая в те дни в душе Бабура, склоняла его на сторону суннитов, однако в той же степени внушала почтение к шиитам. Современники свидетельствуют, что в ответ на требования шаха Исмаила Бабур отчеканил несколько монет с именами имамов. Если это правда, тогда имя шаха Исмаила должны были провозглашать с кафедр Бухары и Самарканда.
Большего оскорбления его народ еще не испытывал. Бухара, окруженная гробницами ортодоксальных святых, была центром суннитской веры, более влиятельным, чем Самарканд. Ее жители восторженно приветствовали Бабура, но вскоре узнали о том, что он признал себя вассалом неверного, на руках которого еще не высохла кровь гератских мучеников, убитых за то, что они отказались признать его веру.
«Весь народ, и в особенности жители Самарканда, – пишет Хайдар, – верил, что падишах – пусть даже в час нужды и обрядившийся в одежды кызыл-башей, чтобы взойти на престол Самарканда, верный заветам пророка, – откажется покориться шаху, который был от рождения еретиком и всем своим видом напоминал ослиный хвост».
Юный Хайдар ревностно чтил заветы ортодоксальной веры и теперь глубоко страдал, поскольку окружил своего покровителя героическим ореолом. Он больше не выезжал вместе с падишахом и не покидал своих покоев, прикованный к постели болезнью, природа которой была как физической, так и эмоциональной. Его замечание о том, что Бабур обряжался в одежды кызылбашей, следует понимать как аллегорию в персидском вкусе, а вовсе не как сообщение о реальном факте. Бабур никогда не надевал на себя остроконечную войлочную шапку и красный плащ кызылбаша, вызывавшие такую ненависть в народе. Однако персидские военачальники, повсюду сопровождавшие его, одевались именно так.
По всей видимости, именно эти официальные представители шаха и донесли ему о том, что Бабур ведет себя вызывающе – совсем не так, как подобает истинному вассалу.
Зимой 1511/12 года Тигр оказался на перепутье и был вынужден выбирать между политическими интересами и религиозным пылом своего народа. В свою очередь, среди населения Самарканда начали блуждать ностальгические воспоминания о периоде правления Шейбани-хана. Шейбани никогда не позволял себе путать черное и белое, Бога и Сатану. Жестокость Шейбани распространялась лишь на его политических противников, в то время как шах Исмаил запятнал себя кровью мучеников. Не был ли мучеником и сам Шейбани?
Этой зимой Тигр начал позволять себе вино и, начав, пил без всякой меры.
Весной 1512 года, когда сошел снег, Убейд-хан привел с севера перестроенную армию узбеков. Бабур выступил ему навстречу в сопровождении монголов и испытанных кабульских ветеранов. Никого из самаркандских новобранцев, судя по всему, с ним не было. В местечке под названием Царское озеро его маленькое войско потерпело поражение и было отброшено назад. У Бабура не было сил держать оборону Самарканда. (Зато был горький опыт, полученный при попытке удержать мощную крепость силами малого гарнизона.)
Бабур снова вступил на привычную тропу изгнания и двинулся на юг, в Темные горы, где занял маленькую пограничную крепость Хисар. Вместе с ним в путь отправилась его семья, к которой теперь присоединилась Ханзаде и второй сын Бабура, Камран. Униженный Тигр был вынужден обратиться к Суфи с просьбой о помощи.
Хайдар не сопровождал своего покровителя. Глубоко несчастный, он остался в Самарканде, где и узнал, что колесо Фортуны сделало очередной оборот, – надменный Суфи направил одиннадцать тысяч своих «туркменов» под началом не менее надменного Наджма Сани, чтобы поддержать оказавшегося несостоятельным Бабура; неверные соединились с Бабуром и выступили на осаду крепости Карши – неподалеку от Железных ворот, где в то время находились некоторые из домочадцев Убейд-хана; вопреки совету Бабура и без его участия персы ринулись на штурм крепости и перерезали всех ее защитников и жителей, «даже грудных младенцев и немощных стариков». Странствующий поэт Бинаи также пал жертвой резни, устроенной кызыл башами.
Стало ясно, что кровопролитие в Карши ляжет позорным пятном на сомнительное союзничество. Очевидно, Бабур задумался над этим. Шейбани-хан никогда не позволял своим солдатам истреблять городское население. Наджм Сани наслаждался убийством так называемых неверных, более того, Наджм Сани следил за поведением Бабура весьма критически и с большим подозрением. В их союзе решающий голос принадлежал персам. Тогда их армия разделилась, и Наджм Сани безрассудно двинулся навстречу своей гибели. На бухарской дороге, возле ущелья Гадж, Убейд-хан расставил ему ловушку.
Здесь слог Хайдара приобретает особую витиеватость: «Мечи ислама отсекли руки еретиков и неверных. Приносящий победу ветер ислама развернул знамена схизматиков. Разбитые наголову туркмены остались мертвыми на поле брани. Раны Карши были сшиты стрелами отмщения. Наджм и все его туркменские беки отправились в преисподнюю. Падишах, сломленный и павший духом, возвратился в Хисар».
Даже спустя поколение при персидском дворе еще не стихли обвинения в адрес Бабура, который в ходе сражения находился в резерве вместе с монголами. Его обвиняли в том, что в нужный момент он не поддержал Наджма Сани и его кызылбашей. После подобного поражения обвинения такого рода – обычное дело. Но что, если они были справедливыми? Возможно, Бабур, выступавший против штурма Карши и Бухары, удержал своих людей и не повел их в атаку? Или он боялся, что судьба Карши постигнет и Бухару, имевшую репутацию священного города? Ответа на эти вопросы нет.
Отправляясь в Хисар, Бабур лишь спасал собственную жизнь. После поражения его корыстные монголы решили воспользоваться сложившимися обстоятельствами и захватить Бабура. Проснувшись среди ночи, он вскочил на коня и выехал из лагеря. Тогда монгольские всадники переключились на грабеж окрестных селений. Спустя годы один из монгольских военачальников, Айюб Бегчик, находясь у себя на родине, в ставке Саид-хана, признался перед смертью, что это предательство по отношению к Бабуру до сих пор надрывает ему сердце. Вскоре после отступления Бабура юный Хайдар покинул страну, пав духом от безжалостного зрелища этой войны, и отправился искать защиты у Саид-хана в его далеких северных владениях.
События, происшедшие далеко на западе, заставили неутомимого шаха Исмаила и его армию вернуться на родину, в горы Кавказа, чтобы встретиться с другим ортодоксом – безжалостным Селимом, султаном Османской империи.
С наступлением зимы в Хисаре начался голод и снежные заносы, и люди говорили, что Бог обратил свой гнев против тех, кто пролил кровь своего народа. Бабур расстался со своим двоюродным братом Мирзой-ханом и, покинув никем не потревоженные земли Бадахшана, упрямо двинулся на юг, к устью Амударьи. О последующих пяти годах, с 1513-го по 1518-й, мы можем судить лишь по отдельным сообщениям. Вероятно, некоторое время Бабур оставался в пограничных районах между Кундузом и Балхом, но вскоре понял, что ему не удастся удержать остатки своей бывшей империи. Тогда он в последний раз повернулся спиной к дворцам Самарканда и садам Герата и двинулся через знакомые перевалы в Кабул, к своей стране и своему народу. И крепко пристрастился к запретному вину.
Третий сын, родившийся у Бабура в эти годы, получил прозвище Аскари – Наездник. У кабульских ворот Тигра встретил его малодушный брат Назир, с гордостью сообщивший, что в полном порядке сохранил для падишаха Кабул и Газну. Должно быть, Бабур был рад вернуться в эту дикую страну, которую он мог назвать своей. Вскоре погрязший в пьянстве Назир заболел и умер.
Бабур вернулся в столицу уже не тем беззаботным и нищим царевичем, который захватил ее десять лет назад. Он получил ощутимый удар по самолюбию и больше не строил планов на будущее.
Находя утешение в вине, он усиливал его действие опиумом и настойкой гашиша и давал выход своему мрачному состоянию духа, подвергая недругов мучительным пыткам и казням. Даже охота, всегда доставлявшая ему удовольствие, превратилась в бессмысленное истребление животных.
В оправдание ему часто заявляют, что в зрелом Бабуре проявились черты его монгольских предков. Однако среди его предков было не так уж много монголов, и за все годы, проведенные им в Фергане, он никогда не был подвержен таким приступам жестокости.
В течение этого мрачного кабульского периода лишь Ханзаде напоминала ему о годах, полных надежд. Как и раньше, он часто перечитывал книгу Али Йезди, повествующую о победах Тимура, и цветистые персидские славословия казались насмешкой над его собственной неудачей. Он потерпел поражение в битве, был изгнан из Самарканда собственным народом, покинут своим воспитанником Хайдаром Дуглатом, посрамлен даже после смерти своим заклятым врагом Шейбани. Бабур безрадостно оценивал свое положение. Самозваный падишах, зависящий от вероломных монголов, нуждающийся в советах более мудрых людей, обладающий властью лишь над одним городом во всей долине, вынужденный грабить афганские племена и отнимать у них зерно, все глубже погрязающий в грехе винопития, – разве может такой человек именоваться султаном ислама и тем более – падишахом?
Бабур свирепо расправился с неожиданно вспыхнувшим мятежом своих монголов, затем неистово обрушился на горные крепости исконных афганских племен.
Новый, зрелый Бабур был лишен всяческих предрассудков; он больше не искал себе союзников; после смерти старого Касима он никому не позволял влиять на свои решения. Он полагался только на себя и больше не разрешал себе предаваться пустым мечтам о победах.
На этот раз он реально оценивал то, что открывалось ему на горизонте. Его наследство было безвозвратно поделено между узбеками и персами.
Однако у него оставалась укрытая в горах долина Бадахшана. Бабур упрямо держал открытыми обрывистые перевалы, ведущие через Гиндукуш в эту крепость. Он держал их под наблюдением, возложив эту задачу на единственного оставшегося у него родственника мужского пола – Мирзу-хана. Некоторые комментаторы утверждают, что он прилагал такие усилия, чтобы удержать этот плацдарм, рассчитывая вновь попытаться осуществить захват Самарканда. Однако он мог удерживать его лишь для того, чтобы иметь безопасный путь отступления на тот случай, если ему придется покинуть Кабул. Когда-то, в крайне напряженный момент они с Касимом решили, что могут рассчитывать лишь на два убежища– Бадахшан или равнины Индии.
В эти сумрачные годы Тигр снова вспомнил о богатой равнине, лежащей за рекой Инд. Набеги туда приносили скот, ткани и украшения. Еще ребенком, в Самарканде, он изучал картины, повествующие о великом индийском походе Тимура; он читал об особенностях этой страны, такой же роскошной, как слог Али Йезди. Было куда выгоднее и разумнее повести оставшуюся у него армию через Хайбер, чтобы наполнить казну богатствами Индии, чем продолжать разорять своих непокорных подданных – афганцев.
Во время одиноких молитв Бабур просил у Бога знамения: следует ли ему предпринять поход на Индию?
Но и Хайбер, и величественную долину Суат, и перевал Куррам охраняли племена патанов. Земли этих племен простирались между Кабулом и Индом. Бабур знал, что Иса Хайл, Юсуфзаи и племя афридиев могут сделать с побежденной армией или проявившим неосторожность полководцем. И все же, если он собирался дойти до городов Инда, ему следовало победить этих стражей горных троп или примириться с ними.
Он даже в мыслях не допускал, что сможет когда-нибудь победить всех афганцев.
Вмешательство афганской царевны
У древних китайцев говорили: «Дороги меняются, а горы никогда». Это верно не только по отношению к дорогам, – люди, живущие рядом с ними, также меняются в результате перемещений и вторжения новых культур. Империи на равнинах возникают и распадаются; однако обитатели высокогорий остаются прежними, – во всяком случае, любые перемены совершаются настолько медленно, что мы их не замечаем, а лишь сознаем, что они происходят. С незапамятных времен и до наших дней баски пограничных районов Испании живут так же изолированно, как грузины Кавказа или народы Тибета.
Не может не удивлять тот факт, что сегодня, как и при жизни Бабура, горные племена Афганистана во многом остались такими же, какими были во времена Александра Македонского. Более того, вопреки своей оторванности от внешнего мира, они стали очевидцами многих исторических перемен, которые не стерлись из памяти благодаря народным преданиям. Горцы слагают о них свои сказки, столь же близкие им, как гробницы их предков, у нас же они вызывают удивление – не меньшее, чем усыпальницы неведомых святых, вырубленные в скалах возле горных троп. Курдские племена, обитающие у границы вечных снегов хребта Сафедкох, сложили и даже записали собственную версию истории Александра. В их «Искандер-наме» знаменитый македонский завоеватель совершает замечательные подвиги – то спускаясь в глубины морей, то устремляясь в небеса вместе с ангелом Азраилом, чтобы воздвигнуть крепостную стену и заточить за ней демонов Гога и Магога, – иными словами, орды Чингисхана.
Что касается Бабура, то у афганцев племени юсуфзаи существует предание о его вторжении на их земли. Они украсили сказание любовным сюжетом и расцветили притчами, которые заставили бы содрогнуться дотошного историка, однако именно благодаря этой легенде образ Бабура сохранился в памяти горцев.
И вот перед вами сказка об афганской принцессе.
Сделавшись правителем Кабула, Бабур сначала был дружен с племенем юсуфзаи, но затем его настроили против них дилазаки (заклятые враги юсуфзаи). Поэтому Бабур, согласно легенде, решил предать смерти их предводителя Малик Ахмада, воспользовавшись его приездом в Кабул. Дилазаки предупредили Бабура, чтобы он не откладывал казнь Малик Ахмада, поскольку тот был так умен, что, едва заговорив, тут же сумел бы выманить у падишаха пощаду.
Когда Малик Ахмад явился, Бабур созвал большой совет и занял свое место на троне. Войдя и поклонившись, Малик Ахмад тотчас же расстегнул свой халат. Дважды Бабур спрашивал его, зачем он так поступил. На третий раз Малик ответил, что до его слуха дошло, будто бы Бабур намеревается собственноручно застрелить его из лука. Он побоялся, пояснил Малик, что его стеганый халат чересчур плотен и выстрел может оказаться неудачным; для того чтобы этого не случилось на глазах такого великого собрания, он и решил снять халат, который мог остановить полет стрелы.
Такой ответ польстил Бабуру, и он начал расспрашивать Малик Ахмада.
«Что за человек был Александр?» – спросил он.
«Податель халатов и подарков», – отвечал Малик.
«А что за человек Бабур?»
«Податель жизни. Ведь он не откажется отпустить меня живым».
«Конечно не откажется», – подтвердил Бабур.
После этого падишах проявил истинное дружелюбие. Взяв Малик Ахмада за руку, он повел его в другую комнату, где трижды выпил вместе с ним, – Бабур отпивал из кубка первым, затем передавал его Малик Ахмаду. Когда вино ударило Бабуру в голову, он развеселился и пустился в пляс. Музыкант Малик Ахмада играл, а Малик, хорошо знавший персидский язык, сопровождал музыку красивыми песнями. Наконец Бабур устал от танцев и со словами «Я – твой фигляр» протянул руку за бакшишем. Трижды он проделывал это, и трижды Малик Ахмад клал ему на ладонь золотую монету.
Так Малик Ахмад вернулся к своему племени целым и невредимым.
Тем не менее Бабур вторгся на землю юсуфзаи и привел с собой большое войско, которое разорило страну, но так и не сумело захватить главную крепость. Тогда Бабур отправился на разведку, переодевшись, – в соответствии со своими склонностями, – каландаром (нищим дервишем). Выбрав ночь потемнее, он вышел из своего лагеря в Диаруне и, неузнаваемый, направился к холму Махур, на котором располагалась крепость.
Это было в праздник Рамазан-курбан, и в доме шаха Мансура, младшего брата Малика, построенного на противоположном склоне холма Махур, собралось множество народу. Теперь это место известно под названием «трон шаха Мансура». Бабур в своем неприглядном одеянии подошел к дому и затесался в толпу, собравшуюся во дворе. Затем он спросил у сновавших по двору слуг, есть ли семья у шаха Мансура и нет ли в этой семье дочери. Ему ответили чистую правду.
В это самое время Биби Мубарика, дочь шаха Мансура, сидела под балдахином вместе с другими женщинами. Ее взгляд упал на каландара, и она послала служанку принести Бабуру кусок жареного мяса, завернутый в лепешку. Он спросил, кто послал ему угощение. Служанка ответила, что это Биби Мубарика, дочь шаха Мансура.
«Где она?»– спросил Бабур.
«Вон там, напротив тебя сидит под балдахином».
Ее красота привела падишаха в восхищение, и он начал расспрашивать служанку о возрасте и наклонностях девушки, а также о том, обещана ли она кому-нибудь в жены. Служанка с жаром заверила его, что добродетель девушки под стать ее красоте; что она исполнена высокой нравственности и благочестия и к тому же обладает кротким нравом. Тогда Бабур ушел со двора, но по дороге спрятал полученное мясо под камень.
В лагерь он вернулся в смятении, не зная, что делать дальше. Крепость он захватить не мог, но не мог и вернуться в Кабул, потерпев подобную неудачу; кроме того, он запутался в любовных сетях. В конце концов он написал Малик Ахмаду письмо, в котором попросил у него руки дочери шаха Мансура. Малик Ахмад ответил решительным отказом, объяснив, что юсуфзаи уже отдавали дочерей своего племени Улугбеку, дяде Бабура, а также Тощему беку (Мирзе-хану) и что в обоих случаях это стало причиной несчастий для племени. Он даже заявил, что у них нет дочери, которую они могли бы отдать в жены падишаху.
В ответ Бабур прислал велеречивое царственное послание, в котором рассказал о своем посещении в обличье нищего дервиша и о впечатлении, произведенном на него Биби Мубарикой, а в доказательство правдивости своих слов предложил заглянуть под камень, где лежал спрятанный им кусок мяса.
Ахмад и Мансур оставались непреклонными, но племя вынудило их согласиться, – они и раньше отдавали своих дочерей, и теперь готовы отдать Биби Мубарику, чтобы отвести гнев падишаха от своего народа. Тогда братья Малики вынуждены были дать согласие.
Узнав об их согласии, Бабур приказал бить в барабаны, чтобы оповестить приближенных о своей радости, и распорядился начать приготовления к празднику; невесте он послал подарки, среди которых был и его меч. В свою очередь, оба Малика выехали сопровождать девушку до селения Талаш, где их встретили люди падишаха. В царскую ставку Биби Мубарику сопровождала ее няня по имени Руна и множество других слуг. Соблюдая все положенные почести, невесту усадили перед широким шатром посреди лагеря.
Всю эту ночь и следующий день из Кабула прибывали жены вельмож приветствовать невесту, но она не удостоила их своим вниманием. Разойдясь по своим шатрам, жены пришли к выводу, что «красота девушки неоспорима, но держится она неприветливо, и это неспроста».
Биби Мубарика приказала своим слугам заранее предупредить ее о появлении падишаха, поскольку собиралась приветствовать его в соответствии с указаниями Малик Ахмада. Вскоре ей донесли: «Переполох, который ты видишь, вызван всего лишь тем, что падишах направляется на молитву в главную мечеть». Однако после полуденной молитвы слуги сказали ей: «Теперь падишах направляется к твоему шатру».
В то же мгновение Биби Мубарика поднялась со своего ложа и, выйдя вперед, отчего ковер, по которому она ступала, выглядел еще великолепнее, остановилась в почтительной позе, скромно сложив руки. Когда падишах вошел, она низко склонилась перед ним, однако не откинула покрывало со своего лица. Падишах долго смотрел на нее, потом сел на диван и сказал ей: «Подойди, моя афганская царевна, сядь рядом со мной». Она снова низко поклонилась, но не двинулась с места. Он во второй раз попросил ее сесть. Она распростерлась перед ним, приблизившись совсем немного. Это тронуло его, и он сказал: «Приди и сядь, моя афганская царевна». После этих слов она обеими руками подняла покрывало, а затем, к его полному восхищению, высоко подобрала платье и сказала, что у нее есть к нему одна просьба и, если он даст свое позволение, она готова ее изложить.
«Говори!»– великодушно ответил падишах.
Тогда она сказала: «Представь, что в своем подоле я держу судьбу всего племени юсуфзаи, так ради меня прости им их прегрешения».
«В твоем присутствии я прощаю юсуфзаи все их прегрешения, пусть они так и остаются в твоем подоле, – ответил падишах. – Больше я не держу зла на юсуфзаи».
Тогда она склонилась перед ним. Падишах взял ее за руку и повел к дивану.
Когда пришло время вечерней молитвы, падишах поднялся с дивана, чтобы совершить молитву. Биби Мубарика вскочила и принесла ему туфли. Он надел их и, польщенный, сказал: «Ты сумела мне угодить, и ради тебя я простил все твое племя». И с улыбкой добавил: «Не сомневаюсь, что это Малик Ахмад подучил тебя».
Затем он удалился для молитвы, а Биби осталась молиться в своем шатре.
«Мы захватили столь укрепленную, неприступную крепость»
За преувеличениями афганской легенды о Тигре и горной принцессе скрывалась и толика правды. Среди родовитых женщин Кабула Биби Мубарика держалась обособленно, поскольку была очень молода и не могла похвастаться таким же знатным происхождением, как потомки Тимуридов. Она не родила Бабуру детей, но, по всей видимости, помогала ему советами и знакомила его с особенностями афганского образа мыслей, борясь за свой народ, как Эсфирь при дворе великого Ксеркса. В гареме падишаха ее прозвали афганской царевной.
Мемуары Бабура возобновляются с сообщения о событиях зимы 1518/19 года, после одиннадцатилетнего перерыва, и записи приобретают более четкий и лаконичный характер, в том числе рассказ о заключении союза с юсуфзаи и женитьбе на Биби. В ту зиму он собрал верных людей и выступил в поход в верховья Инда.
«Намереваясь направиться в Савад, против афганцев юсуфзаев, мы выступили в пятницу в поход… Шах Мансур Юсуфзаи поднес в дар несколько вкусных, опьяняющих «камали». Я разделил одну камали на три части и одну долю съел сам, другую отдал Тагаю, а третью – Абдаллаху Китаб-дару. Это здорово меня опьянило. В этот день, когда беки собрались после вечерней молитвы, я не мог прийти на совет. Удивительное дело! Теперь я могу съесть целую такую камали и она не причинит мне ничего подобного…
Выступив со стоянки, мы снова спешились у входа в долины Кахраджа и Пешграма. Когда мы находились там, выпал снег выше щиколотки. В тех местах снег выпадает редко, и жители были очень удивлены. По соглашению с Султан Ваисом Савади жители Кахраджа были обложены налогом в четыре тысячи харваров зерна в пользу войска. Собирать зерно я послал Султан Ваиса. Эти простые горцы никогда не подвергались таким поборам; они не смогли отдать столько зерна и совершенно разорились… Ради добрых отношений с юсуфзаями я просил в жены дочь Малик-шаха Мансура. Именно на этой стоянке было получено известие, что дочь шаха Мансура едет ко мне с данью юсуфзаев. Ко времени вечерней молитвы мы устроили попойку. Я пригласил на попойку султана Аладдина, посадив его возле себя, и пожаловал ему почетный халат. В воскресенье… мы двинулись дальше и стали лагерем, выйдя из долины. На этой стоянке Таус-хан Юсуфзаи, младший брат Малик-шаха Мансура, привел к нам свою вышеупомянутую племянницу…
Во вторник, седьмого, я созвал беков и знатных афганцев дилазаков и устроил совет. Мнения сошлись на таком решении: год подходит к концу, от месяца Рыбы остается немного дней, весь хлеб в равнине собрали. Если мы пойдем теперь в Савад, люди не найдут припасов и будут терпеть лишения. Следует двинуться через Амбахир Пани Мали, перейдя реку Савад выше Хашт-Нагара и совершить налет на равнинных афганцев юсуфзаев и мухаммедзаев (но не зимой), которые живут в долине вокруг Сангара. А на следующий год надлежит прийти сюда пораньше, ко времени сбора зерна, и хорошенько подумать об этих афганцах».
В этих кратких сообщениях ощущается несомненная связь с афганской легендой: здесь есть и эпизод с опьянением Бабура в присутствии посланца юсуфзаи, и прибытие Биби Мубарики с данью от ее народа, и отсрочка расправы над племенем. Судя по всему, Бабур больше не покушался на горные пастбища племени юсуфзаи, – должно быть, Биби Мубарике удалось наладить отношения между странствующим монархом и сильным племенем, караулившим перевал, ведущий в долину Сват, – один из путей к Инду.
Одним из последних достижений верного Касима было заключение некоего подобия соглашения между падишахом и не признающими компромиссов кочевниками. Племена, населяющие склоны Гиндукуша, отличались необъяснимой и неискоренимой привычкой беспрестанно перемещаться между своими летними и зимними пастбищами.
Бабур сделал попытку задержать их на зимовьях, расположенных близ Кабула, чтобы приобщить к оседлости, однако на это требовались продовольственные запасы. Их не было, и Бабур с горечью записал: «Жители степей по доброй воле никогда не согласились бы поселиться в Кабульской области. Явившись к Касим-беку, они попросили его о посредничестве насчет переселения в другое место. Касим-бек долго убеждал меня; в конце концов он получил для аймаков разрешение перекочевать в Кундуз и Баглан».Зимой 1519 года Бабур выступил в поход, двинувшись через горы в стороне от проложенных троп. Воин, высланный вперед на поиски дороги, столкнулся с каким-то афганцем и, не мешкая, отрубил ему голову, чтобы доставить в лагерь военный трофей. Бабура позабавило, что на обратном пути воин-разведчик уронил и потерял отрезанную голову, к тому же он так и не принес нужных сведений.
«В тех местах тридцать или сорок лет назад пребывал один еретик по имени Шахбаз-каландар. Этот каландар склонил к ереси часть юсуфзаев и некоторых дилазаков. На отрогах горы Макам расположено несколько низеньких пригорков, которые господствуют над всей степью; с этих возвышенностей открывается очень обширный и широкий вид. Могила Шахбаз-каландара находилась там. Совершая прогулку, я проехал и осмотрел эту могилу. Мне пришло на ум, что в такой прекрасной местности совсем ни к чему быть могиле еретика каландара; я приказал ее разрушить и сровнять с землей. Так как эта местность была очень красива и приятна, я провел там некоторое время и съел маджун [40] ».
Так Тигр оставил свою метку в окрестностях живописной долины. В родной Фергане он никогда не позволял себе ничего подобного.
Надежные каменные стены не спасли город в горах Баджаур, павший жертвой его дурного расположения духа. На свое несчастье, местные жители были язычниками, а не правоверными мусульманами – так, во всяком случае, утверждает сам Бабур. Он отправил в город парламентера из племени дилазаков, приказав правителю Баджаура открыть ворота и подчиниться падишаху, на что ему ответили «грубым отказом». Тогда Тигр остановил свое войско и встал лагерем возле стен города, чтобы подготовить осадное снаряжение – кожаные щиты и прикрытия для воинов, лестницы, а также – об этом в его воспоминаниях упоминается впервые – огнестрельное оружие.
«В четверг четвертого мухаррама вышел приказ воинам надевать доспехи, вооружаться и садиться на коней. Левое крыло должно было выйти вперед, перейти реку у переправы выше крепости Баджа-ур и встать к северо-западу от крепости в труднопроходимом неровном месте; правому крылу предписывалось занять место к западу от нижних ворот. Когда беки левого крыла под начальством Дуст-бека, перейдя реку, сходили с коней, из крепости вышли сто или сто пятьдесят пехотинцев и начали пускать стрелы. Беки двинулись вперед и вступили с ними в перестрелку. Они отогнали пехотинцев к крепости и прижали их к подножию вала; Мулла Абд аль-Малик Хасти, словно безумный, бросился на коне к валу; если бы лестницы и щиты были готовы и было не так поздно, мы тотчас взяли бы крепость. Мулла Турк Али и Тенгри Берди схватились с врагами, отрезали своим противникам головы и привезли в лагерь. Обоим был обещан подарок. Баджаурцы никогда еще не видали ружей и потому совершенно не опасались их; больше того, слыша ружейные выстрелы, они становились напротив стрелков и делали, издеваясь, всякие непристойные движения. В тот день Устад Али Кули застрелил из ружья пять человек, Вали Хазиначи уложил двоих. Другие ружейники тоже проявили в стрельбе большую лихость; простреливая щиты, кольчуги и палицы, они сбивали врагов одного за другим. К вечеру от ружей пало, быть может, семь, восемь или девять баджаурцев; после этого они уже не смели высунуть голову, боясь ружей. Был отдан такой приказ: «Пришла ночь. Воинам готовить осадные орудия и на заре подходить к крепости».
В пятницу пятого мухаррама в час утренней молитвы вышел приказ ударить в боевые литавры и каждому с назначенного места двинуться к крепости. Воины левого крыла и центра как один тронулись со своих позиций со щитами, поставили лестницы и полезли наверх; Устад Али Кули тоже был там. В эти дни он тоже хорошо стрелял из ружья и два раза выпалил из франкской пушки… Мухаммед Али Дженг-Дженг и его младший брат Науруз поднялись каждый на особую лестницу и пустили в ход копья и сабли. На другой лестнице Баба Ясаул, поднявшись на самый верх, разбивал и разрушал топором крепостную стену… Другие йигиты, невзирая на удары врагов и не обращая внимания на их камни и стрелы, усердно и ревностно разбивали и рушили укрепления.
К полудню северо-восточную башню, которую подкапывали люди Дуст-бека, удалось пробить; йигиты Дуст-бека обратили неприятеля в бегство и поднялись на башню. По изволению и милости великого Господа мы захватили столь укрепленную и неприступную крепость за два-три часа звездного времени.
Жители Баджаура, наши враги, были притом врагами всех мусульман. Эти люди, враждебные и непокорные, соблюдали к тому же обычаи неверных, и самое слово «ислам» было среди них забыто. Поэтому их предали всеобщему избиению, а женщины их и домочадцы все были взяты в плен. Избиению подверглось приблизительно три тысячи человек. Так как на восточной окраине крепости сражения не было, то несколько баджаурцев бежало через восточную сторону.
После взятия крепости я объехал и осмотрел укрепления. На крышах, на улицах, в переулках и в домах лежало бесконечное множество мертвецов; люди ходили туда и назад прямо по трупам… Я расположился в доме баджаурских султанов. Область Баджаура мы пожаловали Ходжа-и-Калану. Назначив ему в помощь множество отборных йигитов, я к вечерней молитве вернулся в лагерь».Баджаур вовсе не был неприступной крепостью; его жителям никогда не приходилось видеть огнестрельное оружие или отражать приступы обученной армии. Горечь, которую Бабур испытал во время бойни в Карши, не удержала его от бессмысленного избиения побежденных горцев.
Описание стремительного штурма свидетельствует о том, что за последнее десятилетие Бабур достиг значительного прогресса в военном искусстве. Обученные военачальники знали свое дело и могли самостоятельно принимать решения; сменился и командный состав армии, – только имя Дуст-бека кажется знакомым, – возможно, прежние полководцы разбежались во время северных войн. Теперь они уже не помышляли о дезертирстве или заговорах. Место неграмотного, но храброго Касима занял Ходжа Калан – государственный муж и ученый, сын одного из министров Омар Шейха.
Особо следует отметить тот факт, что Бабуру удалось заполучить европейское огнестрельное оружие – мушкеты и пушку или даже две. Сообщение о том, как это произошло, пропало вместе с другими записями предыдущего десятилетия. Судя по именам новых артиллерийских инженеров, они были уроженцами Османской империи, применявшей артиллерию, в том числе громадные осадные орудия, в течение трех последних поколений. Остается только гадать, каким образом турки умудрились пройти через земли воинственных персов, их заклятых врагов, и оказались в Кабуле вместе со своими техническими новшествами. Достаточно сказать, что к востоку от Каспия Бабур был единственным полководцем, в распоряжении которого имелись действующие орудия. К артиллерии он относился с глубочайшим интересом и с большим успехом применял ее в походах.
Как обычно, Бабур отмечал все случаи проявления храбрости и щедро вознаграждал своих приближенных. Воины, верившие в счастливую звезду своего государя, были искренне преданы ему, и это позволяло ему руководить большим количеством совсем непохожих друг на друга людей. Однако после ухода Касима за Тигром потянулся кровавый след, свидетельствующий о его жестокости.
Тем не менее с большинством своих приближенных он поддерживал дружеские отношения, и его дневник знакомит нас с некоторыми событиями их жизни. Однажды он записал, что на обратном пути через перевал Хайбер Дуст-бека постигла жестокая лихорадка. Через некоторое время Дуст-бек умер, и Бабур распорядился похоронить его перед мавзолеем султанов Газны; в записях, датированных этим днем, он вспоминает все случаи, когда Дуст-бек заслонял его от врага собственным телом.
А вот другая запись: «В тот же день у меня пропал хороший сокол, которого воспитывал Шейхим Мир-и-шикар [41] . Сокол прекрасно ловил журавлей и аистов и два-три раза линял. Этот сокол так ловко ловил птиц, что даже такого равнодушного к соколиной охоте человека, как я, превратил в сокольничего».
На охоте Бабур наблюдал за своими сподвижниками так же внимательно, как и во время сражения. В любой момент армия могла ожидать приказа приостановить продвижение, чтобы отправиться на поимку очередного зверя.«На заре мы выступили с этой стоянки. Когда мы шли, на берегу реки показался рычащий тигр. Кони, услышав рев тигра, невольно заметались во все стороны, унося на себе всадников и бросаясь в ямы и овраги. Тигр ушел и скрылся в чаще. Мы приказали привести буйвола и поставить его в чаще, чтобы выманить тигра. Тигр опять вышел с громким рычанием. В него со всех сторон начали пускать стрелы; я тоже пустил стрелу. Халви-пехотинец кольнул тигра пикой; тигр разгрыз конец пики зубами. Получив много ран, тигр уполз в кусты и залег там. Баба Ясаул обнажил саблю и приблизился к нему. Когда тигр прыгнул, Баба Ясаул рубанул его по голове, а затем Али Систани ударил тигра по лапе. Тигр бросился в реку, в реке его и убили. Когда тигра вытащили из воды, я приказал снять с него шкуру».
В конце лета поход в верховья Инда был закончен, и на обратном пути Бабур решил устроить пир, разбив лагерь возле ущелья Хайбер. Там к нему прибыл местный старейшина, предложивший Бабуру совершить набег на племя афридиев, семьи которых в это время стекались к перевалу на сбор урожая. Бабур отказался, заявив, что его больше интересуют юсуфзаи. Отставив бокал с вином и взявшись за перо, чтобы сообщить оставшемуся в Баджауре Ходже Калану о своем продвижении, он записал на полях стихи:
О, ветер, будь милостив, скажи этой прекрасной газели:
Ты заставила нас скитаться по горам и пустыням.
Очевидно, эти строки предназначались Биби Мубарике, оставшейся в Баджауре из соображений безопасности.
Происшествие с нетрезвой Буль-Буль
Все новое по-прежнему вызывало у Бабура неослабевающий интерес. В Баджауре он потешался над ужимками обезьянок с желтоватым мехом и белыми мордочками, которых местные жители называли бандарами. Он обнаружил, что они умеют жонглировать и выполнять разнообразные фокусы. В Кабуле он ни разу не видел, чтобы женщины пили вино – такое зрелище было большой редкостью, – и его очень интересовало, что может произойти в подобном случае.
В праздник пятницы он сам выпил вина и предавался праздности, наблюдая за двенадцатилетним Хумаюном, который охотился на уток с лодки. В полночь сон все еще не шел к нему, и Бабур распустил прислугу и выехал из Четырех Садов, кружным путем обогнув базар. К рассвету он достиг водоема, принадлежащего Турди-беку – коротконогому тюрку и бывшему дервишу, который предпочел своему образу жизни карьеру военачальника, и притом неплохого.
«В субботу я выехал из Чар-Бага, переправился через мост Мулла-Баба, поднялся по ущелью Даварин… и наутро, в час утренней молитвы, оказанся у кариза Турди-бека Хаксара. Турди-бек, узнав об этом, взволновался и выбежал мне навстречу. Было известно, что Турди-бек нуждается. Уезжая, я взял с собой тысячу шахрухи; я отдал их Турди-беку и сказал: «Приготовь вина и все нужное». Мне хотелось пображничать привольно в уединении. Турди-бек отправился за вином в Бехзади. Я приказал одному из рабов Турди-бека отвести моего коня пастись на пригорок, а сам присел на холме за каризом. Был первый пас, когда Турди-бек принес кувшин вина; мы вдвоем принялись пить. Когда Турди-бек нес вино, Мухаммед Касим Барлас и Шахзаде заметили это. Не подозревая, что я здесь, они пошли пешком за Турди-беком. Мы пригласили их на пирушку. Турди-бек сказал: «Буль-Буль Анике хочется выпить с вами вина». – «Я никогда не видел, как пьют женщины, – ответил я. – Позови ее на пирушку». Еще мы пригласили каландара по имени Шахи и одного копателя каризов, который игран на рубабе. До самой вечерней молитвы мы сидели на пригорке за каризом Турди-бека и пили; потом я пошел к Турди-беку в дом и при свете свечи пил до ночной молитвы. Хорошая то была пирушка! Без подвоха и обмана! Я прилег, а остальные участники пирушки пошли в другой дом и пили, пока не пробили зорю. Буль-Буль Анике пришла и вела себя со мной очень вольно; в конце концов я притворился мертвецки пьяным и избавился от нее».
Женский вопрос был улажен, и жизнь на целых два дня вернулась в привычную колею, – Бабур осматривал новые сады, такие прекрасные в лучах осеннего солнца, пробовал новые сорта винограда и любовался одинокой яблоней, листва которой уже окрасилась в осенние цвета: «если бы художники и очень старались, они не могли бы этого нарисовать». Судя по всему, Бабур, находившийся в прекрасной физической форме и обладавший живым умом, редко напивался допьяна. Лишь смешав напитки – арак и вино, ему удавалось достичь этого состояния, как случилось однажды во время пирушки на лодке, когда Бабур путешествовал по Пенджабу.
«В час полуденной молитвы я выехал на прогулку, сел в лодку, и мы пили арак. Мы пили в лодке до самой молитвы перед сном. В час молитвы мы вышли пьяные через край; я вскочил на коня, схватил в руку факел и скакал во весь опор от берега реки до самого лагеря, качаясь на лошади из стороны в сторону. Я был здорово пьян, и когда мне на следующее утро рассказали, как я примчался в лагерь с факелом в руке, я совершенно ничего не мог вспомнить. Когда я пришел в палатку, меня сильно вырвало».
Бабур никогда не предавался пьянству в одиночестве. Однако и во время пирушки, наслаждаясь вином и музыкой, он ухитрялся замечать все, что происходило вокруг, – даже если смешивал вино с наркотическими средствами, хотя сам пришел к выводу, что вино и настойка гашиша плохо сочетаются между собой. Однажды он сидел под навесом в носовой части лодки, в компании своих собутыльников:
«Недовольные вкусом арака, мы, сговорившись с теми, кто сидел на нашем конце лодки, предпочли маджун; люди, сидевшие на другом конце, не знали, что мы едим маджун, и пили арак. Во время молитвы перед сном мы оставили лодку и ночью вернулись в лагерь. Мухаммеди и Гадай, думая, что я пил арак, решили: «Окажем государю подобающую услугу!» Они захватили с собой кувшин с араком и поочередно везли его на лошади. Охмелевшие, очень веселые, они принесли мне кувшин и сказали: «В такую темную ночь мы по очереди везли его на лошади». Потом они узнали, что и попойка была различная, и хмель разный: одни одурели от маджуна, другие опьянели от арака. Так как пирушка с маджуном и пирушка с вином не подходят друг к другу, то Мухаммеди и Гадай очень смутились. Я сказал им: «Не расстраивайте попойку! Те, кто любит арак, пусть пьют арак, а те, кто склонен к маджуну, пусть едят маджун, и пусть никто не мешает другим разговорами и намеками». Некоторые пили арак, другие ели маджун; пирушка шла роскошно. Баба-хана Кабузи не было на лодке; приехав, мы позвали его в шатер; он пожелал пить арак. Мы позвали еще
Турди Мухаммед Кипчака и присоединили его к пьяным от арака. Потребляющие маджун и пьющие арак и вино никогда не сходятся, поэтому пьяные начали со всех сторон всякие бестолковые разговоры, больше всего нападая на тех, кто ел маджун. Баба-хан, опьянев, тоже говорил много глупостей; Турди Мухаммеду подносили один полный кубок за другим, и его скоро напоили до потери рассудка. Сколько мы ни старались примирить спорящих, это ни к чему не привело; началось великое буйство. Пирушка стала неинтересной, и все разошлись в разные стороны».В том, что описания пирушек и сражений то и дело прерываются упоминаниями о положенных молитвах, нет ни тени иронии. Призывы к молитве – на рассвете, в полдень, после полудня, на закате и в час восхода луны – помогали ориентироваться во времени в течение дня. Бабур с поразительной сноровкой пользовался различными единицами времени. (В его мире часов еще не изобрели, они только начали появляться в Европе; образованные персы и турки из окружения Бабура демонстрировали глубокие познания в астрономии, определяя время по так называемым астрономическим часам, состоящим из миниатюрных бронзовых таблиц с занесенными в них широтами крупнейших городов и указателя, который отбрасывал тень на шкалу с делениями, когда ее ориентировали на север. В записях Бабура можно нередко встретить ссылку на «звездные часы». Его день начинался на рассвете, а год, состоящий из двенадцати лунных месяцев, – в день весеннего равноденствия.)
В его времена люди устраивали пирушки по любому поводу, преследуя единственную цель – привести себя в состояние опьянения. Просто тянуть вино во время еды казалось им глупым и бесполезным занятием. Беспробудное пьянство, за редким исключением, было обычным явлением среди кочевых предков Бабура. Последний оставшийся в живых родственник, его дядя Хусейн Байкара, ограничивал свою тягу к спиртному послеполуденными и вечерними часами; Омар Шейх неделями не выходил из запоя. Трезвые или пьяные, оба они отличались эксцентричным поведением, и Бабур во многом последовал по их стопам. Ранняя смерть его младших братьев объясняется в большей степени алкоголизмом, нежели чем-либо другим. На некоторое время, – например, во время тяжелых походов, – Бабур мог воздержаться от вина, но не строил иллюзий на этот счет.
Он все чаще задумывался о последствиях своего пагубного пристрастия, однако в результате принял довольно неожиданное решение. Постановив совсем отказаться от спиртного после сорока лет, по мере приближения этого срока Бабур пил все более неумеренно. Во время прогулок по лугам и горным пастбищам, любуясь прекрасным урожаем в полях и на виноградниках, он спешивался, чтобы усилить наслаждение от прекрасного зрелища вкусом вина. Однако, подхватив дизентерию, сопровождавшуюся лихорадкой и кровавым поносом, Бабур снова задумался о своем поведении, в особенности о том, каким целям служит его перо, которое он использовал для сочинения бессмысленных виршей вместо того, чтобы по примеру несравненного Джами посвятить его Всевышнему. Он дал обет сломать свой калам и забросить поэзию.
Однако после выздоровления Бабур велел установить на своем любимом холме близ Кабула небольшую емкость для вина, высеченную из красного гранита. Здесь, в окружении певцов и молодых танцовщиц, он проводил долгие летние вечера. Строки, которые по его приказанию вырезали на каменных стенках резервуара, едва ли можно отнести к бессмертным шедеврам поэзии. Однако в свое время те же размышления не давали покоя сведущему в астрономии Омару Хайяму и даже самому Джами.
Сладко начало нового года,
И сладко прекрасное лицо весны.
Но сладок и сок спелых гроздей винограда,
Он слаще шепота любви.
Ах, Бабур, не упускай радости жизни,
Они уйдут и не вернутся вновь – зови не зови.
Поэтические импровизации, которым Бабур предавался по собственной прихоти, хотя и составленные по всем правилам, все же были любительскими. В эпоху Тимуридов признаком мастерства считалось умение соблюдать равновесие между формой и содержанием. Хотя Бабуру, сочинявшему стихи по-тюркски, так и не удалось превзойти Алишера Навои, тем не менее он достиг известной виртуозности и был склонен облекать в стихотворную форму самые серьезные размышления. В порыве раскаяния он переложил заветы преподобного Ахрари в стихи, написанные на тюркском языке, который делал их общедоступными. Зачарованный игрой слов, он написал рассуждения о риторике, одновременно изобретя новый почерк [42] , который назвал «бабури». Довольно странно, что, превосходя некоторых профессиональных поэтов, он проявлял необъяснимое равнодушие к музыке и редко брался за музыкальные инструменты, однако порой наигрывал ускользающие из памяти мелодии собственного сочинения. И редко воздерживался от не всегда справедливой критики, когда музицировал кто-то другой.
В течение долгих лет он трудился над собственной поэмой «Мубаин». Задумав поэму как напутствие своим сыновьям – Хумаюну и Камрану, – он изложил в ней по-тюркски свои размышления о религиозных убеждениях, правилах поведения и экономических задачах монарха. Философские рассуждения вперемешку с практическими советами он облек в довольно изощренную поэтическую форму, которой пользовался Руми и другие великие мистики. Возможно, стихотворную форму он выбрал для того, чтобы облегчить своим сыновьям чтение «Мубаин», хотя не исключено, что он поступил так для собственного удовольствия.
Одна из глав «Мубаин» (поэма была переведена – лишь частично – на русский язык) объясняет взгляды Тигра на систему налогообложения в стране, населенной преимущественно афганцами. Поскольку он предназначал свое сочинение сыновьям, в нем, очевидно, отразились его окончательные выводы о доходах, которые могла принести эта скудная земля, обрабатываемая дикими племенами и оседлыми крестьянами. Нельзя не отметить, что Бабур был далек от мысли применить в своей новой стране ту систему налогов, которой пользовались Тимуриды, правящие в Самарканде. Феодальный обычай, обязующий землевладельца отдавать казне часть собранного на его полях урожая, заменил новый закон, вводящий конкретный налог на земли, стада и торговлю.
Довольно умеренный налог на земли взимался с учетом их местоположения, но вне зависимости от величины урожая, что побуждало землевладельцев увеличивать доходность наделов. С фруктовых садов, диких или культурных, причиталась десятая часть от собранных плодов. Со стад овец и коз брали одну голову с каждой сотни; крупного рогатого скота – одну из тридцати, лошадей – одну из сорока; по непонятным причинам пять верблюдов приравнивались к одной овце. Владельцам стад предоставлялось «право выбора» – они могли платить деньгами или натурой. Что касается торговли, купцы местного базара выплачивали определенную сумму, которая пополнялась за счет проходящих через город торговых караванов. Немусульмане – индусы и евреи – отдавали в казну двадцатую часть своих товаров.
Очевидно, что богатства падишаха в Кабуле росли в основном за счет поступлений от владельцев стад и базарных лавок. Бабур всегда уделял самое пристальное внимание тому, что, по его мнению, было устроено неправильно, и стремился лично внести необходимые перемены. Благодаря пристрастию к экспериментам с руслами ручьев и посадкой растений, которое он не раз демонстрировал во время своих походов по стране, народ наградил своего монарха прозвищем Царь-Садовник.
Повествование Бабура снова прерывается – уже в третий раз. Пробел начинается после описания зимнего дня 1520 года, утро которого он провел за мирным чтением глав из Корана, а затем, после вечерней молитвы, отдыхал, задавая корм лошадям. Записи возобновляются лишь в 1524 году, когда Бабур повел свою армию на завоевание Индии.
Несмотря на то что Бабур довольно часто ссылается на события, хроника которых утрачена вместе с частью его мемуаров, восстановить их картину не представляется возможным, поскольку другие источники отсутствуют. Хайдар, состоявший в то время на службе у Саид-хана, находился в практически недосягаемом Кашгаре, отделенном от Кабула высокой горной грядой. Историка Хондемира, пребывавшего при дворе Сефевидов, занимали события куда более важные, чем благоденствие неизвестной горной страны. Однако некоторые факты свидетельствуют о том, что Кабул процветал. Орошение земель способствовало росту урожаев. Начали плодоносить завезенные из других стран деревья, а из отдаленных неспокойных районов в безопасную и относительно благополучную страну стекались военачальники и вельможи, что несомненно свидетельствует о благополучии Кабула. Между свирепыми и воинственными афганскими племенами продолжались стычки, однако Бабур умел сдерживать их, и они уже не отваживались оказывать ему сопротивление. Узбеки, хозяйничавшие на севере страны, последовали примеру афганских царьков.
Неожиданно нам на помощь приходят записи молодой женщины. Когда родилась Гульбадан – Цветок Розы, – Бабур уже достиг зрелого возраста. Много позже она последовала примеру мужчин из своей семьи и начала писать свои воспоминания, выполняя просьбу племянника, императора Акбара. Гульбадан была ребенком нового поколения, родившегося от матерей, не принадлежавших к роду Тимуридов. Эти дети росли в дружеской среде кабульского двора, не зная страданий и гордыни покинутого Самарканда. Она сообщает, что ее отец никогда не вспоминал о своей родине. Очевидно, Бабур не говорил об этом со своими младшими детьми. А с тремя его женами, в жилах которых текла кровь Тимуридов, его, по странному совпадению, разлучила смерть или отъезд – еще до того, как он поселился в Кабуле.
Эта роковая закономерность, которую, должно быть, обсуждали на женской половине дома, привлекла внимание Гульбадан. Впервые за треть века семье не нужно было упаковывать пожитки и сниматься с места в поисках безопасного убежища. Горный дворец над извилистой, заросшей тростником речкой и Четыре Сада на верхних лугах стали для них надежным пристанищем. Духовное руководство женской половиной осуществлял престарелый Касим. Ни один вооруженный враг не мог приблизиться к воротам дворца. Гульбадан пишет, что прибытие в Кабул стало счастливым моментом в жизни ее отца, – до этого все его жены и новорожденные дети представали перед Аллахом. Поселившись в Кабуле, он обзавелся восемнадцатью детьми. Конечно, это следовало расценить как счастливое знамение.
Судя по всему, Гульбадан была скорее глубоко верующей, чем суеверной, что далеко не одно и то же. Ее сводный брат Хумаюн, старший из детей, был суеверен до крайности, пытался истолковывать свои сны и видел добрые и дурные предзнаменования в самых заурядных событиях. Женщины рассказывали, как в десятилетнем возрасте Хумаюн решил заняться гаданием, для чего вышел из дому с утра пораньше. Ему казалось, что он вот-вот получит знамение. Выйдя на общественную дорогу, он спросил имя у первого встреченного им мужчины, затем у второго и, наконец, у третьего. В этих трех именах, составленных вместе, крылось предсказание его дальнейшей судьбы. Более опытные советчики подсказывали ему, что лучше всего загадывать только по первому имени; сделать это по трем именам гораздо сложнее. Однако юный царевич решил поступить по-своему. Довольно странно, что имена этих троих означали: Стремление, Благополучие и Торжество. Хумаюн исполнился уверенности, что получил потустороннюю гарантию и в дальнейшем все его устремления будут приводить к успеху.
Бабур давно перестал доверять предсказателям судьбы, но терпимо относился к робкому, внушаемому Хумаюну. После смерти Мирзы-хана он назначил своего тринадцатилетнего сына правителем провинции Бадахшан и вместе с Махам, матерью мальчика, проводил его в новые владения. Через несколько дней родители оставили Хумаюна, поручив его заботам тщательно отобранных советников. Очевидно, разлука с отцом не противоречила желанию самого Хумаюна; Бабур только согласился с его решением и постоянно писал сыну, жалуясь на то, что Хумаюн ограничивается лишь ответами на его письма.
Поэтому, будучи ребенком, Гульбадан никогда не видела своего сводного старшего брата, наследника кабульского престола, и очень редко встречалась с отцом, который обычно находился в очередном походе. Первая сознательная встреча с ним произошла много лет спустя, на берегу Инда, и приближение к падишаху повергло ее в великий страх. Как большинство других женщин маленького двора, Гульбадан не доверяла доморощенным предсказаниям, а искала доказательства того, что ее семья пользуется особой милостью Господа.
После периода «лишения престола» прошло немало времени, и в семье тоже произошли перемены. Теперь ею уже не руководила железная воля несгибаемой Исан Даулат. Махам, мать наследника, довольствовалась уединенными покоями дворца и никогда не обращала взор – по крайней мере в то время – на политический горизонт, за которым время от времени скрывался ее супруг и откуда он вновь появлялся, привозя подарки для всех своих женщин и детей – от дрессированных обезьянок до тончайших шелков с пешаварского базара. Денежные подарки он делал лишь своим старшим сыновьям, носящим титулы. Иногда в поездках его сопровождала молодая афганская госпожа. Как ни странно, Биби пользовалась признанием в кабульском гареме, – возможно, из-за своего веселого нрава, но, возможно, и потому, что не имела детей. Женщины наслаждались безопасной жизнью в Кабуле; об этом свидетельствует то, что каждое возвращение Бабура отмечали импровизированными праздниками. Однажды он решил не сообщать о своем возвращении, и об этом стало известно, когда войско уже подошло к реке. Тогда, потеряв голову от волнения, оба старших сына поспешили ему навстречу, чтобы приветствовать отца подобающим образом. Поскольку времени на то, чтобы усадить их на коней, уже не оставалось, они промчались через мост на руках у слуг. Бабура этот случай очень позабавил.
Прибавление семейства происходило естественным порядком, но, кроме того, семья увеличивалась за счет прибывающих беженцев. Ханзаде пришлось оставить своих детей у узбеков, поэтому она с благоговением взяла на себя заботы о Гульбадан, которая называла ее «любимой госпожой». С севера прибыла сводная сестра со своим сыном. Сулейман, младший сын Мирзы-хана, также был поручен заботам Бабура; ему перешел титул его отца – правитель Бадахшана, и Хумаюн правил от его имени как регент. Сулейман присоединился к Аскари и стайке девочек, проходивших обучение при дворце. Служители искусства, бежавшие в Кабул из Герата, Балха и Бухары, наставляли детвору в каллиграфии, стихосложении, религии, истории и астрономии, а также обучали их необходимым языкам. В годы своего обучения Гульбадан писала на тюркском. В заглавии мемуаров ее имя не упоминается, они называются «История Хумаюна». Однако на самом деле это жизнеописание всей семьи, рассказывающее о восхождении на индийский престол.
Скорее всего, Махам вела свой род не от знатных корней. Ни о ее родителях, ни даже о том, что означает ее имя, ничего не известно. Гульбадан называла ее Махам-акам – госпожой Махам. Никто не пытался оспаривать первенство матери наследника. Четверо других ее детей умерли в первые годы жизни. После смерти последнего из них она обратилась к Бабуру с необычным требованием, и Бабур выполнил ее просьбу.
К этому времени он уже заполучил Биби и находился на пути в Баджаур, но заметка в дневнике сделана позднее. «После Хумаюна у меня было несколько сыновей, его родных братьев, но они не жили. Хиндал тогда еще не родился. Когда мы находились в тех местах, от Махам пришло письмо. Она писала: «Будь то хоть сын, хоть дочь, отдай мне ребенка на счастье и на радость – я его усыновлю и воспитаю». В пятницу двадцать шестого числа того месяца, находясь на той самой стоянке, я согласился передать Хиндала Махам и, написав об этом письма, послал Юсуф Али Рикабдара в Кабул».
Ребенка ждала Дильдар («Повелительница сердца»), которая была моложе Махам и в дальнейшем стала матерью Гульбадан. В редких случаях царские жены усыновляли еще не родившихся детей женщин более низкого происхождения, чтобы воспитывать их как своих собственных. Но в семье падишаха таких случаев не было. Почему стареющей Махам пришло в голову взять ребенка другой женщины? Возможно, ей хотелось воспитать Бабуру чужого ребенка, раз уж она не могла больше родить ему сыновей. Дильдар была против этого, но не осмелилась нарушить приказ падишаха.
В дополнение к своему требованию Махам пожелала, чтобы Бабур с помощью гадания определил пол будущего ребенка. Он с пренебрежением относился к этим женским предрассудкам, но Махам отказать не смог. Он призвал нескольких старух, чтобы кинуть жребий излюбленным способом – два слова написали на прозрачной бумаге и завернули их в шарики из мягкой глины. Два глиняных катышка были брошены в чашу с водой. Предсказание содержалось в том, что раскрылся первым. Бабур пишет, что гадание предсказало мальчика. Спустя месяц Дильдар родила мальчика, а еще через два дня Махам воспользовалась своей властью и забрала ребенка в свои покои, разлучив его с матерью. Так мальчик Хиндал был воспитан другой женщиной на глазах у собственной матери, хотя Дильдар не оставляла надежды получить ребенка обратно. (Имя Хиндал, являвшееся, в сущности, прозвищем – «из Хинда», было дано ему позднее.)
Нельзя сказать, что Махам, разлученная с собственным сыном, на этом остановилась. Через три года она потребовала себе и Гульбадан.
К тому времени, когда Гульбадан начала осознавать происходящие вокруг нее события, ее увезли к брату, отдав на попечение суровой Махам. В том возрасте она была способна запомнить лишь приезды и отъезды самой важной персоны – своего отца. Наверное, ребенком она видела, как он выезжает из дворца, направляется к дороге вдоль реки и смешивается с множеством людей, удаляющихся от Кабула: развеваются знамена, колышутся султаны из перьев на головах лошадей, а всадники хвастаются друг перед другом своей сноровкой.
Эти события происходили в холодные осенние дни 1525 года. Однако прошло немало лет, прежде чем девочка стала взрослой и смогла оглянуться назад, а ее воспоминания уже стали историей. Гульбадан просто сообщает: «Когда солнце было в знаке Стрельца, он отправился в поход на Хиндустан».
Выступление в поход было отложено на две недели, поскольку из Бадахшана ожидалось прибытие Хумаюна с войском. По четыре дня в неделю Бабур развлекался пирушками, которые устраивал в сельском саду. Он не сдержал своего обета отказаться от вина после наступления своего сорокалетия; вместо этого он ограничил себя и решил пить вино лишь по субботам, воскресеньям, вторникам и средам. В другие дни он прибегал к наркотическим снадобьям. Когда его нерадивый сын, в конце концов, прибыл, Бабур сделал ему суровый выговор в присутствии своих военачальников. Очевидно, после этого Хумаюн задержался в Кабуле еще на неделю, и причиной задержки стала Махам, тосковавшая в разлуке с сыном.
Хумаюн выступил в поход в мрачном настроении. По его мнению, это была никому не нужная затея. Однако он знал не все, – на этот раз Бабур не собирался возвращаться в Кабул.
«С девятьсот десятого года [43] , когда был покорен Кабул, и до этого времени я всегда мечтал завладеть Хиндустаном, но иногда этому препятствовало скудоумие беков, а иногда – отсутствие поддержки со стороны родичей, так что поход в Хиндустан и покорение земель этой страны не осуществлялось. Наконец, эти препятствия отпали; никто из беков и вельмож, малых или знатных, ни слова не мог сказать против моего намерения. В девятьсот двадцать пятом году мы повели войско, в два или три гари приступом взяли Баджаур, подвергли избиению всех его обитателей и пришли в Бхиру. Не отдавая города на поток и разграбление, мы обложили жителей выкупом за безопасность, собрали четыреста тысяч шахрухи деньгами и товарами, раздали добычу воинам и некоторым нукерам и возвратились в Кабул. С тех пор и до девятьсот тридцать второго года я усиленно стремился завоевать Хиндустан….»
Не вызывает сомнения, что эти строки, повествующие об уже минувших событиях, написаны pour l’histoire [44] – также, как много лет назад Бабур описывал свое бегство из Самарканда, к которому его вынудил Шейбани-хан, а затем рассказывал о штурме Кабула. Маловероятно, чтобы он столько лет вынашивал план вторжения или посягал на северные области Индии на том лишь основании, что они когда-то принадлежали его великому предку, Тимуру. Поход Тимура был коротким, но успешным грабительским набегом, добыча которого была вывезена в Самарканд караваном из девяноста захваченных слонов, и ознаменовался страшным опустошением Дели. С тех пор прошло более ста лет. Бабур, перечитывая записи о завоеваниях Тимур-и-Лэнга, очень хорошо это понимал. Нельзя сказать, что сам он не помышлял о землях, лежащих за Индом. Хайдар, находившийся вдали от места действия, просто отмечает: «Он совершил множество походов, но каждый раз возвращался». Другими словами, падишах выходил опустошать земли, лежащие за пределами его собственной страны, на манер древних кочевников, пока не навел некое подобие порядка в Кабуле. «Так как граница Хиндустана находилась неподалеку от Бхиры, – пояснил он однажды, – то нам пришло на ум тотчас же направиться туда налегке; быть может, воинам что-нибудь и достанется».
Он сам добавляет, что в 1519 году двинулся за Баджаур, издав приказ, запрещающий грабежи, – чтобы вместо этого обложить население налогом, – и оставил в тылу символический отряд, который быстро выбили оттуда. В действительности Бабура сопровождало войско, насчитывавшее не больше двух тысяч человек, и еще много лет ему не хватало военной мощи, чтобы думать о покорении обширных пространств, лежащих за Индом.
Однако к концу 1525 года он привел свой дом в порядок. Он научился управлять разношерстным населением своей страны, а не просто править им, для чего ему потребовалось величайшее терпение и сосредоточенность. Он отвоевал область Кандагара у своего заклятого врага Шахбека Аргуна, который отошел на юг в «теплый климат» Синда. На западе владения падишаха простирались до таких же жарких областей персидской пустыни. Шахбек довольно цинично заметил, что Бабуру требовалась все большая территория, чтобы было где содержать его растущее войско. Однако теперь Шахбек уже умер, так же как и непредсказуемый шах Исмаил, который никогда больше не решался беспокоить восточные страны – после того, как в 1514 году потерпел поражение от турков-османов у Калдирана.
Кандагар Бабур отдал своему второму сыну, Камрану. Сам же он чувствовал, что все больше привязывается к заросшему садами Кабулу. Спустя двадцать изнурительных лет он мог назвать эту землю и народ своими. «Наши глаза, – писал он, – обращены к этой земле и к этому народу». Почему же он вдруг решил поставить на карту свои скромные достижения и попытаться завоевать Северную Индию?
Бабур не дает ответа на этот вопрос. Упоминания о том, что он вынашивал этот план годами, как и о том, что он имеет права на эту территорию, поскольку она принадлежала Тимуру, сделаны намеренно, для отвода глаз историков, и в течение нескольких веков многие из них принимали эти утверждения за чистую монету. Если бы Тигр действительно планировал за эту осень справиться с задачей, на выполнение которой ушло два последующих года, он стаи бы похож на Турди-бека – «пьяного до потери рассудка».
Стоит рассмотреть, какими силами он располагал, выступая в поход. После того как к нему, пусть и с опозданием, присоединился Хумаюн, в армейских списках значилось семь тысяч воинов и около пяти тысяч различной прислуги – слуги, помощники, возчики. Думать о том, чтобы такими малыми силами победить кишащие на индийской равнине войска и сделать это в течение одной кампании, было нереально. Александр Македонский, более беспощадный и дерзкий, чем Бабур, располагал куда более значительными силами, когда рвался через горные перевалы, при этом Александр имел весьма превратное представление о географии стран Востока, полагая, что великий Восточный океан начинается сразу же за индийскими реками. Бабур достаточно отчетливо представлял, что ждет его впереди. А это свидетельствует, что он потратил немало времени на раздумья.
Возможно, на эту авантюру его подтолкнули личные мотивы, о которых он не стал упоминать в своем дневнике. Не за горами был сорок второй день его рождения, и тридцать лет борьбы за точку опоры наложили на него свой отпечаток. Тигр был по-прежнему полон сил и мог пробежать по парапету крепостной стены, держа по человеку под каждой рукой, однако, пережив смерть почти всех своих родственников, он не мог не задумываться о приближении собственного конца и о том, что это событие поставит его семью в сложное положение. Тигр часто повторял, что «нет оков крепче, чем цепи царского сана». В эти последние годы он взял на себя ответственность за множество беженцев, осевших в Кабуле; семьи были и у всех вельмож, служивших в его войске, и им требовались земли, чтобы прокормиться. Бесплодные долины Кабула не могли предоставить бесконечное количество уделов.
Его собственная семья тоже служила источником тревог, и причины этого были не совсем обычны. В те дни любой монарх, ровесник Бабура, окружал себя выводком подросших сыновей, которые помогали отцу или замышляли против него – в зависимости от обстоятельств. Поскольку много лет Бабур вообще не имел детей, теперь у него был один Хумаюн, который в свои семнадцать лет все еще требовал присмотра. Аскари и Хиндал все еще жили на женской половине, такие же никудышные помощники, как и хорошенькая маленькая Гульбадан. Бабур был очень привязан к дочери, хотя проявлял не меньшую заботу и о ее сестрах, их матерях и старших тетках, а также мальчике Сулеймане – по указанию Бабура ему выделили земельные владения. В таком случае, где те земли, которыми будет править его семья, и кто будет их содержать, когда падишах ляжет в могилу? Нельзя объяснить простым совпадением то, что последнего из родившихся детей прозвали Хиндал – «из Хинда».
Какой контраст составлял Кабул брошенному на севере наследству! Там, в городах, знакомых с детства, как в своей вотчине хозяйничали узбеки, – в Ташкенте, Самарканде, Карши, Бухаре, соблюдая законы древней Ясы монголов, которая была так не по душе Бабуру. После рокового сражения в ущелье Гадж остатки империи Тимура были поделены на части и распределены между военачальниками варваров. Воспоминания о днях этой нравственной агонии, когда он превратился в марионетку в руках кызылбашей, никогда не изгладились из его памяти.
Несколько раз он писал в своих мемуарах, невольно перефразируя Солона, – что лишь посмертная слава является истинной оценкой человеческой жизни. В таком случае, какие песни сложат поэты о потомке Тимура, который прожил всю свою жизнь самаркандским изгнанником? Бабур, знаток такой поэзии, мог себе представить эти едкие сатирические строки. Это снова подтверждает, что он неспроста упоминал о наследстве Тимура в своих записях о завоевании Индии.
Однако его поражение в ущелье Гадж преподнесло ему хороший урок, который пошел ему на пользу. Хайдар сообщает довольно неожиданные детали разгрома якобы непобедимой персидской конницы. Он пишет, свидетельство самого Бабура утрачено, что атака фанатиков-персов была отбита благодаря тактике Убейд-хана, который расставил пеших солдат вдоль всех садов и арыков Бухары, и они осыпали персов тучами стрел. В те дни вооруженная луками пехота использовалась в этих краях чрезвычайно редко. Должно быть, Бабур слышал о том, как, вскоре после битвы при Калдиране, султан Селим Беспощадный применил против персов вооруженных луками янычаров, которые сражались пешими и, укрывшись за заграждениями, косили своими стрелами кавалерию шаха Исмаила. Сам Бабур также экспериментировал с пехотинцами, выстроенными в шеренгу и прикрытыми щитами, а теперь у него были мушкеты и пушки, доверенные надежным рукам опытных турецких канониров. С его склонностью дотошно вникать в детали, он не мог не понимать, что эпоха конных уланов подходит к концу и ей на смену приходит эра пехоты, сражающейся из-за укреплений. Той осенью в поход через Хайбер его сопровождали несколько пушек и отборный корпус мушкетеров.
Один из аспектов вторжения Бабура в Индию представляет загадку лишь для современных умов. Кабульская армия не пересекала никаких границ – ни политических, ни природных. Историографы любят рассуждать о том, как испокон веков с Хайбера и других перевалов спускались орды диких варваров, чтобы покорить население и захватить культурные долины Индии. Они упоминают пришествие ариев, случившееся в незапамятные времена, Александра с его македонцами, Чингисхана с его монголами, Тимура и Бабура с их тюрками. История получается незамысловатая, но впечатляющая, притом весьма далекая от правды.
Иллюзия, будто вдоль гряды Сулеймановых гор и Гиндукуша проходит природная граница Индии, создалась и укрепилась во времена британского владычества, когда в северо-западных провинциях, у подножия гор, населенных персонажами Киплинга, стояли военные гарнизоны. Когда их отвели, граница прекратила свое существование. Племена патанов и сегодня проживают вдоль восточных берегов Инда, как жили там и во времена Бабура. Легендарный Хайбер был лишь одним из многочисленных оживленных проходов, по которым в обоих направлениях передвигались купцы и путешественники.
Прочитанная правильно, история говорит, что по горным хребтам не проходили никакие демаркационные линии. Еще до вторжения ариев индийская равнина, простирающаяся на запад за Хараппу и Дабаркот, славилась развитой цивилизацией. После отступления Александра к устью Инда государство Ашока включало в себя Кабул и Кандагар. Что касается захватнической монгольской армии, то она переправилась через горы, преследуя войско мусульман, прошло вниз по течению великой реки и повернуло обратно, поскольку монголы не могли вынести жаркий климат Индии. Горные хребты не остановили и Махмуда из Газны, включившего эти равнины в состав своего государства.
Если какой-то природный барьер и существует, то это, несомненно, широкий и полноводный Инд, который отделен от горной гряды расстоянием в пятьдесят – сто миль. Увидев реку впервые, Бабур отметил, как изменяется местность при приближении к ее берегам. Ясное небо Кабула сменилось дождевыми облаками Хиндустана; деревни и пастбища уступили место городам, плодородным полям влажных районов и оживленным торговым путям. Даже птицы и животные были здесь совсем другими.
Культура ислама проникла еще дальше к востоку – до области, которой управлял султан Дели. Между Индом и иссушенным жарой Дели, возле одного из истоков далекого Ганга, простирались цветущие земли Пенджаба, прорезанные руслами четырех водных потоков и верхним течением Инда. К югу от плодородного Пенджаба начиналась ужасающая и огромная пустыня Тар.
Результаты археологических исследований доказывают, что эта северная окраина индийского полуострова никогда не была отделена никакими барьерами. Она представляла собой оживленный тракт, благодаря которому в течение многих столетий осуществлялись торговые отношения, а также шло взаимное проникновение религий. Здесь находился древний город Таксила, игравший роль некоего узлового пункта, где образцы китайского искусства соседствовали с изделиями персидских ремесленников; статуи крепости Гандхара поражают своим сходством с изображениями Будды, вышедших из рук художников греческой школы. Во вьюках проходивших здесь караванов лежали те же бесценные грузы, которые Бабуру случалось видеть еще в Андижане.
Таким образом, едва ли можно говорить о том, что Бабур, продвигавшийся вдоль течения реки Кабул через бурые склоны Хайбера, вышел с территории одной страны и вторгся в другую. Еще в 1519 году он доходил до второй из пяти рек Пенджаба.
Если побуждения Бабура и не совсем ясны, – во всяком случае, спустя почти пять столетий довольно затруднительно строить какие-либо предположения, – то цели его достаточно понятны. Он намеревался пересечь уже знакомый ему тенистый Пешавар, возле крепости Атток переправиться через верховья Инда, а затем, перевалив через Соленые горы, войти на территорию Пенджаба и захватить его столицу Лахор, стоявший на берегу живописной речки Рави. Бабур собирался оставаться там до полного закрепления своей власти над Пенджабом, а затем присоединить эти территории к кабульскому царству. С севера и с юга его новые владения защищали природные границы – пустыня Тар и хребты Гималаев и Гиндукуша.
Тигр отдавал себе отчет, что завоевание Пенджаба не будет окончательным до тех пор, пока он так или иначе не решит вопрос о Дели и его могущественном султане. Еще много лет назад он понимал, что не удержит Фергану, не взяв одновременно Самарканд. Следовательно, Дели нужно было нейтрализовать во что бы то ни стало – мирным путем или же с применением силы.
Бабур твердо намеревался сделать великий Пенджаб своим и превратить Лахор во второй Кабул. Тогда он распространил бы свою власть на земли, лежащие между истоками Ганга и Амударьи, куда входили величайшие горные массивы Центральной Азии и выжженные солнцем пустыни, лежащие у их подножия.
Однако своим полководцам и даже своему сыну Хумаюну он сказал не все. Он не собирался возвращаться из-за Инда до тех пор, пока его власть над новыми землями не стала бы неоспоримой. Он не хотел снова превратиться в изгнанника.
В Кабул он больше не возвращался.Армия, тянувшаяся по ущелью Хайбер в суровые декабрьские дни 1525 года, всецело полагалась на своего предводителя. Людей сплачивала только его воля, подстегиваемая решимостью и надеждой на то, что удача, так или иначе, окажется на его стороне.
Бабур, снова страдавший от дизентерии и кровохарканья, не тешил себя пустыми иллюзиями. Год назад судьба – или его собственная неспособность к дипломатии – уже заставила его отвести войска от Лахора, когда союзники, убедившие его идти на Пенджаб, сами подняли на него оружие и оставили один на один с султаном Дели – слишком сильным противником, чтобы противостоять ему в одиночку. Часть кабульского гарнизона под командованием опытных военачальников до сих пор оставалась в восточных землях. Теперь Бабур должен был прийти к ним на выручку и вывести оттуда. Что же касалось его лихорадки и кровохарканья, то он не сомневался, что причина этого в греховном нарушении обетов, данных Всевышнему, – ведь в Коране записано: «Кто преступил клятву, тот сделал это во вред самому себе, а кто выполнил обет, данный Аллаху, тому дарует он награду великую».
«И я снова начал просить у Бога прощения и извинения и, дав сердцу отдых от таких суетных мыслей и столь неподобающих дел, сломал свой калам…
Вечером мы выступили в поход и остановились в Али-Масджиде [крепость на выходе из Хайбера]. На этой стоянке было тесно, и я, как всегда, вновь поставил шатер на одном из холмов, а все войско расположилось в низине; холм, на котором я стоял, господствовал над всем лагерем. Ночью лагерные костры горели удивительно красиво. Останавливаясь в этом месте, мы каждый раз по этой причине обязательно пили; и теперь, остановившись там, тоже выпили…
На следующий день, еще до рассвета, я съел маджун и выехал; в тот день мы держали пост. На другое утро мы решили задержаться в этом месте и поехали поохотиться на носорогов. Перейдя реку Сиях-Аб, протекающую перед Бикрамом [Пешавар], мы построились в круг и двинулись по течению. Когда мы прошли некоторое расстояние, нас догнал какой-то человек и сказал: «В небольшой лесок, неподалеку от Бикрама, зашел носорог. Воины окружили этот лесок и стоят там». Мы во весь опор помчались к лесу. Когда люди, окружавшие лесок, подняли шум, носорог выскочил и побежал в степь. Хумаюн и люди, которые пришли с той стороны, никогда не видели носорога; теперь все вдоволь нагляделись на него. Носорога гнали около куруха и выпустили в него много стрел; в конце концов, его свалили. Этот носорог ни разу не бросился как следует на человека или на лошадь. Потом убили еще двух носорогов.
Мне постоянно приходила мысль: «Что, если свести слона с носорогом? Как они будут себя держать?» Теперь, как раз когда погонщики привели слонов, из чащи выбежал носорог и стал напротив них. Погонщики погнали слона вперед, но носорог не побежал им навстречу и бросился в другую сторону.
В тот день, когда мы остановились в Бикраме, я призвал некоторых беков и приближенных вместе с писцами и казначеями и, назначив шесть или семь надсмотрщиков, послал их к лодкам у переправы Нил-Аба, чтобы поименно переписать и сосчитать воинов.
Вечером я простудился и меня лихорадило. Простуда вызвала кашель, при кашле я плевал кровью. Я очень испугался, но, слава Аллаху, через два-три дня все прошло.
Выступив из Бикрама при сильном дожде, мы остановились на берегу реки Кабул.
Из Хиндустана пришли вести, что Даулат-хан и Гази-хан, собрав двадцать или тридцать тысяч войска, взяли Каланур и намереваются идти на Лахор. Я поспешно отправил к ним Мумина Али-таваджи с извещением, что мы идем быстрым ходом и что, пока мы не явимся, не следует начинать сражения.
В субботу, в первый день месяца раби первого, мы переправились через реку Синд [45] , перешли реку Каче-Кут и остановились на берегу. Беки и казначеи, посланные к лодкам, доложили о численности людей, пришедших в войско. Больших и малых, хороших и плохих, нукеров и не нукеров было переписано двенадцать тысяч человек.
В этом году в долинах выпало мало дождей; в местностях, расположенных на склонах гор, дожди были хорошие. Для пополнения съестных припасов мы направились по склонам гор через Сиалкот. Достигнув владений Хати Каккара, у реки, мы повсюду видели много стоячей воды; эта вода вся покрылась льдом, и лед был очень толстый. В хиндустанских землях такой лед редкость; мы видели его только в этом месте. За все время, что я пробыл в Хиндустане, я не видел больше ни следов, ни признаков снега.
Совершив пять переходов от Синда, мы после шестого перехода пришли к подножию горы Бали-нат-Джуги, примыкающей к горе Джуд, и остановились на стоянке Бакиали, у реки. Следующий день мы провели на этой стоянке, чтобы воины могли набрать припасов. В этот день мы пили арак; мулла
Мухаммед Паргари рассказывал множество разных историй и даже чересчур разболтался. Мулла Шаме тоже был докучливый рассказчик; начав какую-нибудь историю, он до самого вечера не мог ее кончить. Рабы, слуги и всякие люди, плохие и хорошие, которые уехали за съестными припасами, миновав поля, бестолково и бессмысленно бродили по зарослям и горам, кручам и труднопроходимым местам и потеряли несколько воинов.
Выступив оттуда, мы перешли вброд реку ниже Джилама и стали лагерем. Вали Кизил, владетель уделов Бимруки и Акриада, оставленный для подкрепления в Сиалкоте, прибыл и повидался со мной на этой стоянке. Я упрекал и укорял его за то, что он не остался охранять Сиалкот, и Вали Кизил доложил: «Я отправился в свой удел: Хосров Кукулдаш, уходя из Сиалкота, даже не уведомил меня». Оправдания Вали Кизила были приняты, и я сказал: «Если вы не остались, чтобы охранять Сиалкот, то почему вы не пошли в Лахор и не присоединились к бекам?» Вали Кизил смутился, но так как война была близко, я не обратил внимания на его проступок. С этой стоянки я послал Саид Туфана и Саид Лачина с запасными конями к лахорским бекам, приказывая: «Не начинайте боя и соединитесь с нами в Сиалкоте или в Парсруре».
Все говорили: «Гази-хан собрал тридцать – сорок тысяч человек, и Даулат-хан, хоть он и старик, подвязал к поясу две сабли. Они, наверное, начнут воевать». Я подумал: «Есть поговорка: десять друзей лучше, чем девять. Чтобы дело не ушло из рук, пусть лахорцы присоединятся к нам и будем воевать».
Я послал к лахорским бекам человека и, сделав один переход с ночевкой, разбил лагерь на берегу реки Чин-Аб. Свернув с дороги, мы проехали в Бахлулпур. Крепость Бахлулпур стоит на берегу Чин-Аба, на высоком яру. Это место мне очень понравилось, и я задумал перевести туда жителей Сиалкота [по причине плохой питьевой воды в этом городе]. Если пожелает Аллах, когда будет время, я их переселю. Из Бахлулпура мы вернулись в лагерь на лодке. Состоялась пирушка. Некоторые пили арак, иные – бузу, а другие ели маджун. Из лодки мы вышли позже молитвы перед сном и в шатре тоже немного выпили. Из-за лошадей мы провели один день на берегу реки и дали коням отдохнуть.
В пятницу, четырнадцатого числа того же месяца [29 декабря], мы стали лагерем в Сиалкоте. Всякий раз, как мы ходили в Хиндустан, джаты и гуджары в несметном, бесчисленном множестве приходили с гор и равнин угонять быков и буйволов. Эти несчастные творили всевозможные бесчинства и злодейства. Раньше это были чужие земли и мы не особенно прижимали и притесняли их, но теперь, когда все эти области стали нашими, их обитатели снова принялись за прежние дела. У Сиалкота они вдруг с криками напали на голых, раздетых, бедных, несчастных людей, которые направлялись в лагерь, и ограбили их. Бесчинствующих усмирили, и я велел разрубить двоих или троих из них на куски.
Из Сиалкота я послал Шахим-и-Нур-бека к лахорским бекам с приказанием точно выяснить, где находится враг, узнать от сведущих людей, в каком месте они могли бы с нами столкнуться, и сообщить нам.
На этой стоянке в лагерь явился один купец и доложил, что султан Ибрахим разбил Алам-хана».
Тигр быстро продвигался вперед, одну за другой форсируя реки Пенджаба, спеша вызволить из окружения своих испытанных тюрков, которые должны были удержать для него Лахор и справились со своей задачей почти успешно, – если принять во внимание настоящий бедлам, в который превратили Хиндустан заговоры и контрзаговоры, распри и альянсы его мусульманских правителей.
Этот калейдоскоп предательств был приведен в действие благодаря личности султана Ибрахима Лоди, правителя Дели. Ибрахим был ограниченным и прижимистым сыном вполне достойного отца, от которого в 1518 году получил в наследство практически весь Хиндустан, простиравшийся от берегов Ганга до Инда и включавший в себя несколько сильных уделов Раджпута, находившихся на самом краю южных пустынь. Ибрахим ухитрился настроить против себя многих своих вассалов, которые имели афганское происхождение и от природы не были склонны к покорности. В Кабул явился престарелый Алам-хан, дядя Ибрахима, чтобы заручиться поддержкой Бабура и с его помощью оспорить у Ибрахима Лоди делийский престол. Примеру Алам-хана последовал и другой его племянник – Даулат-хан, бывший наместником Ибрахима в Пенджабе. Год назад Бабур включился в эту двойную интригу и согласился выступить на Лахор.
Его кабульская армия, единая и целеустремленная, отогнала противников до самого Лахора, стоявшего на берегу приветливой речки Рави, после чего выяснилось, что Даулат-хан рассчитывает получить в свое распоряжение всю территорию Пенджаба: ту самую, которую Бабур, еще не имевший никаких намерений относительно Дели и его государя, собирался присоединить к своим кабульским владениям.
Когда год назад Бабур отвел свои войска, чтобы с помощью Хумаюна набрать пополнение из афганских племен и подавить беспорядки, причиняемые узбеками в районе Балха, Даулат-хан и его племянник, Гази-хан – Победоносный Царь, – сговорились объединить свои войска и выбить кабульский гарнизон из Пенджаба. (Им едва не удалось разделить армию Бабура и нанести ему серьезное поражение, однако сын Даулат-хана, Дилавар, успел предупредить Тигра об их замысле.) Затем в конце лета неразбериха усугубилась, – семидесятилетний Алам-хан снова объявился при кабульском дворе с другим предложением: Бабур должен был расправиться с Даулатом и Гази и выбить ненавистного, но могущественного Ибрахима из Дели, после чего сделать самого Алам-хана государем на делийском престоле. Отсюда вытекало, что Бабур может оставить себе вожделенный Пенджаб. Достигнув желанного соглашения, Алам-хан повлек свое бренное тело обратно к берегам Инда.
Вернувшись теперь на театр военных действий, Бабур постепенно начал понимать, что старый Алам-хан (который доставлял письменные инструкции Бабура его лахорским командирам) воспользовался выгодной ситуацией и вступил в соглашение с мятежными Даулатом и Гази, предложив им втроем вырвать Дели из рук Ибрахима Лоди, уничтожить лахорский гарнизон и избавиться от Бабура, силы которого, как им удалось разузнать, были весьма немногочисленны. И Бабур с возрастающей тревогой спешил к Лахору, пытаясь получить достоверные сведения, чтобы понять, кто же его противник и где он находится.
За дымовой завесой интриг скрывались два неприятеля, обладавшие несомненным могуществом. На юго-востоке, в области Дели и Агры, стояли войска султана Ибрахима Лоди, повелителя мусульманской Индии. На юге простирались уделы Раджпута, объединившиеся в борьбе против мусульман. Первое же сообщение с юго-востока доводило до сведения Бабура, что султан Ибрахим разбил Алам-хана.
«Подробности этого таковы: Алам-хан, получив разрешение удалиться, выступил в столь жаркую погоду, не обращая внимания на своих спутников, и, совершая по два перехода разом, пришел в Лахор. В то самое время, когда я отпустил Алам-хана, все узбекские ханы и султаны пришли и осадили Балх. Придя в Лахор, Алам-хан принялся убеждать хиндустанских беков: «Государь сказал, чтобы вы были мне помощниками. Идемте вместе. Мы возьмем с собой Гази-хана и пойдем на Дели и Агру». Беки сказали: «С каким доверием можем мы примкнуть к Гази-хану? Приказ нам был таков: если Гази-хан отправит своего младшего брата Хаджи-хана с сыном ко двору или пошлет их в Лахор в качестве заложников, тогда присоединяйтесь к нему, а если нет – не делайте этого. Вы сами только недавно сразились с Гази-ханом и дали себя разбить, с каким же доверием можете вы примкнуть к нему? Вам тоже не следует с ним соединяться». Как ни удерживали беки Алам-хана, говоря такие слова, это не помогло.
Алам-хан послал своего сына Шир-хана к Даулат-хану и Гази-хану; тот сговорился с ними, и все они повидались. Дилавар-хан бежал из тюрьмы [куда был помещен после того, как предостерег Бабура] и прибыл в Лахор; его они тоже взяли с собой. Видимо, они сговорились на том, что Даулат-хан и Гази-хан возьмут всех беков, оставленных в Хиндустане, и вообще всю эту часть страны [Пенджаб]; Дилавар-хан и Хаджи-хан должны были присоединиться к Алам-хану и взять себе область Дели и Агры.
Исмаил Джилвани и еще некоторые эмиры пришли и повидали Алам-хана, после чего все они, не задерживаясь, спешными переходами двинулись в Дели. Когда они достигли Индри, Сулейман-шейхза-де тоже пришел и повидал Алам-хана. Общее количество их войска составляло тридцать – сорок тысяч человек. Подойдя к Дели, они осадили город, но не могли начать бой или причинить ущерб гарнизону крепости. Султан Ибрахим, проведав, что все эти люди соединились, повел на них войско. При его приближении союзники, также узнав об этом, ушли из-под крепости и двинулись навстречу султану Ибрахиму. Они договорились так: «Если мы будем сражаться днем, афганцы, стыдясь один другого, не побегут; если мы нападем на них ночью, то в ночной темноте человек человека не видит, и всякий будет поступать по своему усмотрению». Итак, союзники, будучи в шести курухах от неприятеля, решили учинить ночное нападение. Два раза они садились на лошадей при заходе солнца и простаивали верхом на конях до второго или третьего паса, не будучи в состоянии сговориться, отступать ли им назад или идти вперед. В третий раз они учинили нападение, когда ночи оставалось всего три часа. Целью нападения было поджечь шатры и палатки. Поскакав к палаткам, они разом подожгли их и подняли крики; Джалал-хан Джигхат и еще некоторые эмиры явились и повидали Алам-хана. Султан Ибрахим с некоторыми приближенными не двинулся из своей царской палатки до рассвета. Люди Алам-хана занялись грабежом и хищениями. Воины Ибрахима увидели, что людей у врагов очень мало; они двинулись с небольшим отрядом, в котором был всего один слон, и устремились на врагов. Когда слон помчался вперед, их противники не выдержали и побежали. Алам-хан, убегая, перешел против Миан-Ду-Аба на ту сторону реки, потом в окрестностях Панипата снова переправился на другую сторону. Алам-хан, Дилавар-хан и Хаджи-хан, миновав Сихринд, узнали, что мы взяли Милват. Тогда Дилавар-хан, который всегда был ко мне доброжелателен и провел из-за меня три или четыре месяца в оковах, покинул Алам-хана и, пройдя через Султанпур и Кучи, явился ко мне в окрестностях Милвата спустя три-четыре дня после взятия этой крепости и изъявил готовность мне служить. Алам-хан и Хаджи-хан, перейдя реку Шатледж, достигли укрепленной крепости Гингута в горах».Несмотря на слухи, распространявшиеся со скоростью эпидемии, Бабур решительно продолжал наступление. Каждый день он присоединял к своей армии очередную часть попавшего в беду гарнизона, среди командиров которого находились такие заслуженные ветераны, как Мухаммед Али Дженг-Дженг. Из донесений стало известно, что очередная вражеская группировка располагается на берегу Рави со стороны Лахора. И снова кабульский государь устремился на неприятелей – на этот раз ими были Даулат и Гази; и снова враг рассыпался под его натиском, не решившись даже помериться с ним силой. Падишах пришел к выводу, что положение складывается в его пользу, так как враги разделились и отступают в полном беспорядке. Он немедленно организовал отряды преследования, поручив их командование «лахорским бекам», хорошо ориентировавшимся на местности, отдав приказ в первую очередь захватить воинственного Гази-хана. Старик Алам-хан, лишившийся обоих союзников и последних иллюзий, едва ли мог чувствовать себя уютно в маленькой горной крепости.
«Наши разведчики, афганцы и хазарейцы, подошли, осадили Гингута и уже почти взяли эту сильную крепость. Тут наступила ночь и осажденные задумали сделать вылазку, но их лошади сбились в кучу в воротах, и они не могли выйти. В войске осажденных были слоны; слонов пустили вперед, и они растоптали и убили много лошадей. Не имея возможности выехать из крепости на лошадях, осажденные с сотней тысяч затруднений выбрались в ночной тьме пешком и присоединились к Гази-хану, который не мог проникнуть в Милват и бежал в горы. Гази-хан не проявлял к ним даже простого дружелюбия; Алам-хан по необходимости явился ко мне ниже долины в окрестностях Пахлура и выразил готовность мне служить».
2 января, еще до этих событий, Бабур переправился через Рави, следуя за своим отрядом разведчиков. Они привели его к крепости Милват, где, как стало известно, скрывался Даулат-хан. Преследователи стянули к Милвату свои силы и окружили крепость. Юный внук раскаявшегося экс-правителя Пенджаба добился встречи с падишахом, чтобы прощупать почву для капитуляции. Назад он вернулся с обещанием помилования в случае сдачи крепости и угрозой взять ее силой в случае неповиновения. Сам Бабур выехал к стенам крепости, чтобы осмотреть ее, а заодно и показать себя тем, кто находился внутри.
«Даулат-хан прислал человека и сообщил, что Гази-хан бежал и ушел в горы. «Если вы отпустите мне вину, – говорил он, – то я приду вам служить и сдам крепость». Я послал к Даулат-хану ходжу Мир Мирана, который изгнал опасения из сердца Даулат-хана и привел его. Даулат-хан пришел вместе со своим сыном. Я приказал повесить ему на шею те две сабли, которые он повязал вокруг пояса, чтобы сражаться с нами. Это был столь неотесанный и тупой человек, что даже, когда дело зашло так далеко, продолжал придумывать всякие отговорки. Его вывели вперед, и я приказал снять ему сабли с шеи. Когда надо было поздороваться, он медлил преклонить колени; я велел потянуть его за ноги и поставить на колени силой. Потом я посадил Даулат-хана перед собой и приказал одному человеку, который знал по-хиндустански: «Переведи ему одно за другим такие слова, и пусть он их запомнит: я назвал тебя отцом и оказывал тебе почтение и уважение; я поступал с тобой лучше, чем ты мог ждать; тебя самого и твоих сыновей я избавил от необходимости просить милостыню у белуджей, я вызволил ваших жен и домочадцев, которые были в плену у Ибрахима; я пожаловал тебе владения Татар-хана, приносящие три крора дохода. Разве я поступил с тобой дурно, что ты повесил на грудь и на пояс два меча, повел войска на наши земли и поднял там смуту и мятеж?»
Этот ошалевший старик невнятно пробормотал несколько слов, но не мог ничего возразить; да где ему было ответить на такие убедительные слова. Решили так: домочадцев и женщин Даулат-хана оставить ему, а все остальное имущество, какое есть, отобрать. Даулат-хану было приказано разбить лагерь возле шатров ходжи Мир Мирана.
В субботу, двадцать второго числа месяца раби первого, я сам вышел и поставил свой шатер на возвышенности, напротив ворот крепости Милват, чтобы домочадцы и женщины Даулат-хана могли безопасно выйти из крепости. Али-хан вышел и поднес в подарок несколько ашрафи [46] . Около полуденной молитвы начали выходить домочадцы и женщины Даулат-хана. Хотя утверждали, будто Гази-хан покинул крепость и ушел, но некоторые люди говорили: «Мы видели его в крепости». Поэтому я поставил у ворот своих приближенных и телохранителей, которые должны были следить за каждым подозрительным человеком, чтобы Гази-хан не обманул нашу бдительность и не ушел: ведь моей основной целью было захватить Гази-хана. Если кто спрячет, с целью вынести, жемчуг и драгоценности, их тоже было приказано отбирать. Я поставил шатер на пригорке перед воротами и провел там ночь. Утром… некоторые из моих приближенных получили приказ войти в крепость и забрать находившуюся там казну и имущество. Люди подняли у ворот крепости большой шум. Для острастки я пустил несколько стрел, и вдруг шальная стрела попала в чтеца Хумаюна-мирзы. Проведя две ночи на этой возвышенности, я вступил в крепость и осмотрел ее. Я зашел в книгохранилище Гази-хана. Там оказалось несколько ценных книг: некоторые из них я отдал Хумаюну-мирзе, другие отослал Камрану [в Кандагар]. Научных сочинений было там немало, но стоящих книг нашлось не так много, как представлялось с первого взгляда… Крепость Милват мы поручили Мухаммеду Али Дженг-Дженгу, который со своей стороны оставил там своего брата Аргуна с отрядом йигитов, в крепость были также назначены в качестве подкрепления человек двести пятьдесят хазарейцев и афганцев. Ходжа-и-Калан нагрузил несколько верблюдов газнийским вином. Стоянка Ходжи-и-Калана находилась на холме, господствующем над лагерем и крепостью. Там он устроил пирушку. Некоторые пили вино, другие пили арак; хорошая была пирушка!»«Я поставил ногу в стремя решимости…»
Даже в такой напряженный момент Тигр не забыл о подходящем некрологе для своих побежденных противников. Даулат-хан, записал он, умер по прибытии в Султанпур, город, который он строил в годы своего могущества. Поскольку его сын Гази по-прежнему скрывался в горах, Бабур отказался от его преследования, отнесшись к нему как к противнику, недостойно бежавшему с поля боя и бросившему отца, братьев и сестер, а также книги. И он процитировал стихотворение Саади о «человеке без чести», который заботится о своих телесных удобствах, ради которых обрекает на лишения жену и детей.
Среди воинственных мусульман понятие личной чести было не просто поэтическим образом. Несмотря на то что падишах, в сущности, был захватчиком и предводителем грабительской орды монголов, тюрков и афганцев, современники отмечают, что при всей его беспощадности в бою он держался с большим достоинством и часто демонстрировал неожиданное милосердие к пленным. Когда он, переправившись через Рави, замедлил продвижение своей армии, к нему начали прибывать хиндустанские вельможи с дружественными визитами, а также послания от них. Бабур не преминул отметить, что это было очень кстати в стране, где на каждом холме располагалось селение, а на каждой скале – мощная крепость. Даже заросли, кишевшие обезьянами и павлинами, были полны жизни. Из одного такого горного убежища спустился дряхлый Алам-хан, чтобы принести падишаху клятву верности, – он шел босой, в полном одиночестве. Узнав о его приближении, Бабур выслан навстречу конный эскорт, чтобы хан мог прибыть с достоинством. Старший представитель рода делийских султанов как нельзя лучше подходил на роль его ставленника, поэтому при встрече своего вероломного союзника Бабур употребил весь свой дипломатический такт.
Дилавар, совестливый сын другого врага Тигра, также прибыл в его расположение и был облечен властью решать вопросы, связанные с назначением выкупа за высокопоставленных заложников. Пригретое первым весенним солнцем войско легко продвигалось вперед, бодро шагая вдоль подножия заснеженных Гималаев. Раздав наиболее заслуженным ветеранам щедрые земельные угодья, предварительно отнятые у тех, кто осмелился поднять оружие на падишаха, Тигр намекнул хиндустанским вельможам, что им будет гораздо выгоднее служить ему, чем его противникам. Очевидно, он уже успел обдумать распорядок своего будущего правления.
Возле Сихринда в его лагерь прибыл высокомерный хиндустанец, представившийся посланником султана Ибрахима, сына султана Искандера Лоди, правителя Дели, и потребовал, чтобы Бабур в свою очередь отправил своих людей на переговоры с султаном. По какому-то наитию Бабур подозвал двух воинов из ночного дозора и отправил их к султану. «Ибрахим велел бросить этих незначительных людей в узилище, откуда они потом бежали во время сражения».
Последовавший за этим сообщением приступ красноречия напоминает размышления Наполеона накануне сражения.
«Я поставил ногу в стремя решимости, взял в руки поводья упования на Бога и пошел на султана Ибрахима, сына султана Бахлула Лоди, афганца. В то время столица его находилась в Дели, и земли Хиндустана были ему подвластны; говорили, что он может выставить один лакх войска, а слонов у него и у его беков насчитывали около тысячи…
Сделав одну ночевку, мы остановились на берегу потока… Мы поехали прогуляться вверх по реке. Она берет начало из родника в трех или четырех курухах выше Читра. Поднимаясь вверх по реке, мы увидели небольшой ручеек на четыре или пять мельниц, изливавшийся из широкого ущелья; это очень приятное место с прекрасным воздухом. Там, где ручеек вытекает из ущелья, я приказал разбить большой сад… на этой стоянке мы узнали, что султан Ибрахим, стоявший по сю сторону от Дели, выступил и двинулся вперед и что Хамид-хан Хасан-Хаил, сборщик податей в Хисар-Фирузе, с войском выступил оттуда и тоже прошел пятнадцать курухов в нашу сторону. Мы послали Китта-бека к лагерю султана Ибрахима, чтобы узнать новости; Мумин Атка был отправлен за новостями в Хисар-Фирузу… Мы вышли из Амбалы и остановились на берегу одного озера».
Очевидно, падишаху очень не хотелось покидать гористую местность, где его кабульские ветераны могли чувствовать себя как дома. Как обычно, ему удалось залатать прорехи в своем войске с помощью новобранцев, однако он отдавал себе отчет, что в их рядах удастся добиться лишь видимости дисциплины. Получив известие о неспешном наступлении Ибрахима, он немедленно отправил все сильное правое крыло своего войска в долину, навстречу приближающемуся со стороны Хисара неприятелю. Брошенное в наступление крыло было поручено Хумаюну, чтобы испытать молодого царевича в бою. Однако вместе с сыном Бабур отправил в наступление и всю верхушку командного состава армии, куда входил блестящий стратег Ходжа Калан, опытный организатор Хосров Кукулдаш и испытанный в боях Мухаммед Али Дженг-Дженг. Вероятно, в таком обществе сам Хумаюн уже был не нужен, однако он должен был принять участие в сражении.
В сторону Хисара, навстречу вражескому войску, был выслан небольшой отряд. Когда неприятель приготовился отразить его на первый взгляд безрассудную атаку, на горизонте возникли развернутые знамена основных сил под командованием Хумаюна. Этот нехитрый маневр позволил авангарду отряда атаковать ошеломленного противника. Войско султана отступило назад, чтобы принять боевой порядок, что было крайне опасной затеей перед лицом атакующих монголов. Военачальники Хумаюна, вооружившись пиками, возглавили преследование дрогнувшего и обратившегося в бегство врага и захватили несколько сотен пленных, а также слонов и другие трофеи.
По возвращении Хумаюна Бабур устроил небольшой парад, закончившийся расстрелом пленных из мушкетов, а затем наградил своего сына землями Хисара, боевым конем и почетным халатом, упомянув об этом событии в своем дневнике. «Это было первое выдающееся дело и первый поход Хумаюна; оно явилось прекрасным предзнаменованием на будущее», – записал счастливый отец.
Чтобы произвести еще большее впечатление на своих приближенных, Бабур устроил церемонию, отпраздновав тот день, когда его сын впервые приложил к лицу бритву. Хумаюну тогда исполнилось семнадцать.
Однако Бабур все еще не решался вывести войско из безопасных ущелий и едва продвигался вперед, надеясь, что превосходящий по силе противник рискнет предпринять атаку на пересеченной местности. Этого не произошло. Достигнув верховий реки Джамны, основного притока Ганга, Бабур разбил лагерь и в ожидании сражения принялся, как обычно, исследовать окрестности.«Я перешел реку Джамну у переправы и осмотрел Сарсаву; в этот же день мы ели маджун. В Сарсаве есть источник, из источника изливается немного воды. Это неплохое место. Турди-бек Хаксар хвалил его, и я сказал: «Пусть оно будет твое!» По этому случаю Турди-бек получил Сарсаву. Я велел построить на лодке помост и иногда прогуливался на лодке, а иногда совершал на ней целые переходы».
Несмотря на внешнюю беззаботность, Тигр испытывал растущее беспокойство из-за настроений в войске. В результате новой переписи выяснилось, что численность войска меньше, чем он того ожидал. Некоторые воины не выдержали напряженного ожидания битвы и покинули лагерь.
«Некоторые воины очень боялись и волновались, хотя для страха и волнения не было причин: кроме того, что от века предопределил Господь, ничего не могло случиться. Однако и упрекать этих людей тоже не за что – они имели право тревожиться. Ведь они прошли два или три месяца пути от родины, им приходилось иметь дело с чужим народом. Ни мы не знали их языка, ни они не понимали нашего. Наличное войско врага исчисляли в один лакх; слонов у султана Ибрахима и его эмиров насчитывалось, как говорили, около тысячи; казна, оставшаяся от отца и деда, была вся в его руках звонкою монетой. Говорят, султан Ибрахим не сумел удовлетворить своих воинов и не согласился раздать свою казну. Да и как мог бы он удовлетворить воинов, когда в естестве его преобладала скупость?.. Султан Ибрахим был неопытный юнец: ни при переходах его не было порядка, ни на стоянках, ни в походах не было видно рвения, ни в битвах».
В этих записях, сделанных через несколько недель после решающего события, прослеживается явная тенденция выдать желаемое за действительное. Несмотря на то что Бабур сознательно не принимал в расчет слухи о численности армии Ибрахима, он знал, что предусмотрительный делийский монарх возглавляет такую конницу, по сравнению с которой его собственная казалась просто мизерной. Новобранцев в делийскую армию поставляли воинственные племена, численность которых превышала население Кабула в четыре раза. В течение уже двух поколений вожди этих племен не знали поражений. Сам Ибрахим ожидал сражения в тридцати милях от своей цитадели – нескольких городов, имевших общее название Дели; Тигра же отделял от родных вершин долгий путь, а также воды Инда.
Всю последнюю неделю перед сражением его армия строила укрепления в окрестностях селения Панипат. Вдоль линии укреплений были выставлены семьсот повозок, скрепленных между собой ремнями из сыромятной кожи. Между рядами повозок Бабур распорядился оставить широкие проходы, в которых разместили турецкие пушки, оградив их цепями. Другие проходы предназначались для прикрытых кожаными щитами мушкетеров. Более широкие разрывы предусмотрели для того, чтобы пропустить через них идущую в атаку конницу – примерно две сотни всадников. Внешние края линии обороны укрепили рвами и поваленными деревьями.
Для устрашения врага турецкие мастера изготовили батарею фальшивых орудий.
Итак, Бабур занял оборонительные позиции, предусматривавшие и возможность перейти в наступление. Однако делийская армия не предпринимала никаких попыток его атаковать. Но и кабульское войско не могло отойти со своих безопасных позиций.
Тогда Бабур выслал против вражеского фланга ударный отряд под командованием доверенного военачальника Чин Тимур-султана, бывшего его двоюродным братом по монгольской линии. Чин Тимур вернулся с добычей и пленными, однако преследовать его никто не пытался. Набеги конных лучников, досаждавших неприятелю тучами стрел, также остались без ответа.
Вскоре произошел случай, который смешал все планы Бабура. Некоторые из вновь примкнувших к Бабуру хиндустанцев уговаривали его предпринять ночную вылазку в расположение противника. Он согласился на это и выслал их вперед, сам же возглавил конный отряд, приведенный в полную боевую готовность, чтобы в случае нужды поддержать атаку хиндустанцев. Как часто бывает, в ночной темноте нападающие сбились с пути и не смогли выйти к линии обороны делийцев. Перед рассветом их атаковала кавалерия султана, усиленная несколькими слонами. Темнота усугубила неразбериху, и атакующие повернули вспять, а Мухаммед Али Дженг-Дженг был ранен навылет в ногу. Хумаюну было поручено прикрывать отступление, с чем он справился вполне успешно.
Это приключение, однако, воодушевило Ибрахима и его полководцев, которые решили попытать удачи и, дождавшись рассвета, предпринять атаку на монгольские укрепления. «В пятницу, во время предрассветной молитвы, от дозорных пришли сведения, что враги построились и идут. Мы надели доспехи, вооружились и тоже сели на коней».То, что случилось в тот день, 20 апреля 1526 года в долине Панипат, не совсем ясно. В дни своей юности Тигр сам водил в бой свое войско и находился в его первых рядах. При Панипате, как и при Баджауре, он оставался в командном пункте, в тылу у сражающихся. С тех пор его записи сообщают лишь о назначении командиров, приказах и передвижениях войск.
Мы можем представить себе тяжелую поступь султанской конницы, возобновившей свое наступление после минутного замешательства, вызванного видом вражеских укреплений. Несмотря на то что многие представители хиндустанской знати не одобряли своекорыстного Ибрахима, в бой они шли с безудержной храбростью.
Почти тотчас Бабуру пришлось ввести в бой резервы, чтобы поддержать правое крыло своей обороны. Повсеместно вдоль линии укреплений были расставлены мобильные отряды, изначально отведенные в тыл в ожидании контратаки. Мы можем мысленно представить, как Мухаммед Али Дженг-Дженг, ограниченный в движениях из-за своей раны, ведет в бой своих людей и передовые слоны противника поворачивают назад под градом сыплющихся на них стрел, а тем временем монголы под прикрытием рвов упорно отбивают атаки, обрушившиеся на левый фланг, а турецкие канониры методично производят залпы из своих орудий.
Затем постепенно «запасные отряды» расчистили себе путь к флангам. На левом они попали в двойной переплет, и Бабур послал им в поддержку всадников из последнего резерва. Справа отряды под командованием Вали Кизила и Малика Касима прорвались за линию обороны и окружили фланг султана Ибрахима. К полудню оба фланга делийской армии оказались в окружении, султанское войско в беспорядке отступало, неся большие потери от огнестрельного оружия и от тучами сыпавшихся на них из коротких, но мощных тюркских луков стрел, от которых всадники не могли укрыться. Постепенно вражеское войско начало таять, отступая по направлению к Дели.
Сражавшаяся из укрытия пехота одержала верх над кавалерией; продуманная тактика победила личную храбрость; опыт Бабура возобладал над безрассудством Ибрахима. Султан Дели остался лежать на поле боя среди множества убитых. Бабур распорядился, чтобы его похоронили с ритуальными почестями, и поручил Халифе проследить, чтобы все было сделано как надо.«Призыв к бою последовал, когда солнце поднялось на высоту копья; битва продолжалась до полудня. В полдень враги были побеждены и подавлены, а друзья радовались и ликовали. Великий Господь, по своей милости и благоволению, сделал легким для нас это трудное дело; столь многочисленное войско он в полдня сровнял с землей. Возле Ибрахима, в одном лишь месте, было убито пять или шесть тысяч человек; число павших в других местах мы приблизительно определили в пятнадцать – шестнадцать тысяч. Потом, когда мы прибыли в Агру, то из рассказов жителей Хиндустана стало известно, что в этой битве убито сорок – пятьдесят тысяч человек.
Разгромив врагов, мы преследовали их, сбрасывая с коней. Воины приводили сбитых с лошадей эмиров и молодцов; погонщики табунами пригоняли слонов, предлагая их в подарок.
Думая, что Ибрахим ушел, мы послали за ним вдогонку несколько воинов из особого отряда во главе с Касамтай-мирзой, Баба Чухрой и Бучкой с приказанием быстрым ходом дойти до самой Агры и попытаться захватить Ибрахима. Мы прошли по лагерю Ибрахима, осмотрели его шатры и палатки и расположились станом на берегах какой-то речки. Было время полуденной молитвы, когда Тахир Тибри, младший шурин Халифы, узнал среди множества других трупов труп султана Ибрахима и принес его голову.
В тот же день мы повелели Хумаюну-мирзе, Ходжа-и-Калану… и Вали Хазину быстро, налегке, направиться в Агру, занять город и завладеть казной. Султан Джунаид Барлас и Кутлук Кадам получили приказание отделиться от обоза и ускоренным ходом вступить в крепость Дели, чтобы захватить сокровищницы этого города.
На следующее утро мы снялись с лагеря и, пройдя один курух, остановились из-за коней на берегу Джамны. После двух ночевок мы в среду совершили обход вокруг мазара Шейх-Низам-Аулия и стали лагерем на берегу Джамны, напротив Дели. В этот вечер мы осмотрели крепость Дели и провели там ночь…
Утром, в четверг, мы совершили обход вокруг мазара Ходжи Кутб ад-Дина, осмотрели могилу и постройки султана Гиясаддина Балбана, султана Аладдина Хилджи и минарет последнего, а также Хауз-и-Шамс, царский водоем, могилы и сады султана Бахлула и султана Искандера [Бабур перечисляет правителей Дели – предков Ибрахима] и вернулись в лагерь. Сев в лодку, мы пили арак.
Я пожаловал Вали Кизилу должность сборщика налогов в Дели, назначил Доста диваном области Дели и, приказав запечатать тамошние казнохранилища, возложил ответственность за них на этих людей. В четверг мы снялись с лагеря и остановились напротив Туглук-Абада, на берегу Джамны.
День пятницы мы провели на этой стоянке. Мауляна Махмуд, шейх Зейнаддин и еще некоторые лица отправились в Дели и совершили соборную молитву, упомянув в хутбе мое имя. Они раздали бедным и убогим немного денег и вернулись в ставку».
Так, между делом, Бабур впервые упоминает о первом случае, когда к его имени был присоединен титул падишаха Кабула и Дели. В ту пятницу, 27 апреля 1526 года, началось правление первого из Великих Моголов. Сам Бабур вряд ли пришел бы в восторг от того, что его называют моголом.«Каландар Бабур, также известный как царь»
Известие о разгроме при Панипате обрушилось на Северную Индию как неожиданно налетевший ураган. Тело Ибрахима скрыла земля; его разбежавшаяся армия так больше и не воссоединилась. Ни один из наследников султанов Лоди не осмеливался оказать сопротивление захватчику, спустившемуся с афганских вершин. Само поле брани, как часто бывает, получило репутацию проклятого места. Путники рассказывали, будто в ночное время там раздаются стенания духов.
Бабур не поддавался этим суевериям. Он не мешкая захватил оба главных города – едва ли не раньше, чем их достигла весть об исходе сражения, – и занял все правительственные здания, дворцы и сокровищницу. Судя по всему, потери, понесенные его армией, оказались на удивление незначительными, и она взяла на себя поддержание порядка в округе. Бабур издал указ, в котором запретил грабить или как-либо иначе докучать семьям поверженных врагов. Такое необычное распоряжение привлекло к нему всеобщее внимание.
История с необыкновенным алмазом развязала языки. Когда Хумаюн со своими войсками прибыл в Агру, городские власти не оказали ему сопротивления, однако попросили не входить в те помещения крепости, которые служили хранилищем личных сокровищ знатных заложников. Не желая насилия в городе, Хумаюн разместил своих людей за пределами крепости, но в ожидании приезда отца выставил стражу у всех входов и выходов. Случилось так, что среди заложников оказались домочадцы богатого раджи Гвалияра, убитого при Панипате. Пытаясь бежать из крепости и вернуться на родину, они были захвачены стражниками Хумаюна, которые, однако, не посягнули на их имущество. Высокородные хиндустанские дамы сочли уместным преподнести монгольскому царевичу богатые подарки, как полагалось по обычаю, чтобы заручиться его расположением. Дары представляли большую ценность и состояли из драгоценных украшений, среди которых находился громадный алмаз, впоследствии получивший известность под названием «Кохинор» [47] . По сообщению Хумаюна, этот невероятный камень розового оттенка весил 320 рати. (Когда он уже после огранки и многочисленных приключений перешел во владение королевы Виктории, его вес составлял около 186 каратов.)
После сражения Бабур прибыл в лагерь, расположенный у стен Агры, и Хумаюн, встречавший отца с соблюдением всех полагающихся почестей, преподнес ему знаменитый алмаз, тогда еще просто отшлифованный. Бабур выслушал историю камня, который вызвал у него интерес чисто практического свойства: «знаменитый алмаз… его стоимость в два с половиной дневных расхода всего мира. Он, наверное, весил восемь мискалей. Хумаюн поднес мне этот алмаз, а я снова подарил его Хумаюну».
Гораздо больше Бабура беспокоили проблемы, связанные с заложниками и пленными. Большинство из них получило полное прощение и разрешение уехать, если не в родные края, то в какой-то выделенный им удел.
«В четверг, двадцать восьмого раджаба, в час полуденной молитвы мы вступили в Агру и расположились в жилище султана Ибрахима Лоди».
В общей сложности Бабур пробыл в этих местах около двух недель. Два религиозных главы провозгласили его царем с кафедры главной мечети Дели во время общей пятничной молитвы; Хумаюн был назначен командующим нового войска, в то время как его отец продолжил путешествие по воде, предоставив отдых лошадям. Когда Хумаюн преподнес отцу бесценное сокровище в виде самого большого в мире алмаза, Бабур вернул ему подарок, будто бы поддавшись порыву великодушия. Однако этот жест был тщательно продуман. На эту крайность падишаха подтолкнуло стремление заручиться преданностью своего позднего, неприветливого сына, который только что получил боевое крещение в сражении, а также для того, чтобы поднять его престиж в глазах армии.
Нам теперь ясно, что реакции Бабура часто отличались непредсказуемостью. Его характерной чертой было стремление поступать наперекор общепринятым суждениям и ожиданиям. В тот момент он был озабочен прежде всего тем, чтобы достойно вознаградить свою армию. Несмотря на многие сомнения, он повел ее в этот поход, заставил вступить в бой на открытой местности и противостоять превосходящим силам противника, что в военной среде считалось фатальным стечением обстоятельств.
Первое, что предпринял Бабур, обосновавшись во дворце Ибрахима, – он распахнул перед своими солдатами двери тщательно охраняемых сокровищниц. Такой поступок шел наперекор традициям феодальной Индии, где все богатства сосредоточивались в руках правителей любого масштаба – царей, раджей или представителей мелкопоместной знати. Хумаюну он вручил семьдесят лакхов (эта сумма в наше время может быть приравнена к тремстам тысячам долларов, но обладала большей покупательной способностью) и разрешил приближенным царевича оставить себе все добытые ими в походе ценности. Своим военачальникам он пожаловал от шести до десяти лакхов деньгами, а также товары, коней и оружия без счета. Каждый эмир и вождь получил свое вознаграждение соответственно заслугам. Каждый воин, стрелок, конюх, повар, возчик и слуга ощутил в своих нетерпеливо протянутых ладонях тяжесть звонкой монеты, – Бабур лично проследил за этим. Однако в его дневнике не записано, что думал об этом расточительстве казначей Вани. Раздача денег производилась помимо распределения земельных владений, угодий и пастбищ.
Во время правления султанов Лоди серебряные и золотые монеты обладали высокой покупательной способностью. По мнению Тигра и его приближенных, пища и услуги в Хиндустане стоили необычайно дешево, – якобы потому, что во время своих набегов Железный Хромец Тимур вывез из страны все серебряные и золотые запасы. Более вероятно, что такую ценность монеты приобрели из-за огромных накоплений, сделанных султанами Дели. Возможно, расточительность Бабура изменила положение дел.
Из Дели начали распространяться слухи о том, что пришлый падишах раздал все захваченные им сокровища и ничего не оставил себе, кроме вознаграждения, положенного каландару – странствующему нищему.
Позднее этот слух был увековечен в одной из первых мечетей, выстроенных в Хиндустане Моголами. Надпись на ее стене гласила: «Каландар Бабур, также известный как царь».
Сам Бабур отразил эту мысль в стихах: «Я не принадлежу к братству дервишей, но, как царь, я их брат по духу».
Разумеется, Бабур не мог предвидеть, к чему приведет его беспримерная щедрость.Монета для Азаса из ночного дозора
Царевна Гульбадан вспоминает, как измученное ожиданием население Кабула устроило праздник, получив, наконец, исчерпывающие сообщения о победе, а также подарки из далекой крепости на неизвестной реке, которые доставил сам первый министр, Ходжа Калан. (Гульбадан, конечно, сделала эти записи уже в зрелом возрасте, когда жила при дворе Акбара, однако у нее сохранились детские воспоминания о празднике в саду и о том, как женщины обсуждали подарки и щедрость падишаха.)
«В его руках оказались сокровища пяти царей. Он раздал их все. Эмиры Хинда сочли оскорбительным то, что он так раздает сокровища ушедших царей…
Ходжа Калан рассказывал, что его величество говорил ему: «Вы возьмете подарки для моих старших теток и моих сестер, а также для всех, кто живет в гареме. Я составлю список, и вы раздадите подарки согласно этому списку. Прикажите, чтобы в Саду Приемов поставили шатер и ширму для каждой царевны, и, когда это прекрасное место общего собрания будет готово, они должны вознести благодарственную молитву в честь нашей победы…
Каждой царевне будет отправлено по танцовщице из числа девушек султана Ибрахима и по одному золотому блюду, украшенному рубинами, жемчугом, сердоликом, алмазами и изумрудами… два других подноса, наполненные серебряными монетами… и разнообразные материи на платья…
Пусть они также разделят и преподнесут в подарок серебряные монеты и материи моим сестрам и младшим детям, а также всем женам родственников, другим царевнам, слугам, няням и братьям и их женам – всем, кто молится за меня».
Итак, подарки раздали в соответствии со списком, когда мы все собрались вместе и провели три счастливых дня в Саду Приемов. Всех переполняла гордость. Мы прочитали открывающую молитву, благословляя его величество и радостно простерлись ниц, исполненные благодарности.
В тот раз падишах прислал, также через Ходжу Калана, единственный ашрафи для Азаса, ночного стражника [вероятно, служившего еще при дворе Омара Шейха в Андижане и пользовавшегося привилегиями]. Монета весила все три сира. Он сказал Ходже: «Если Азас спросит, что прислал ему Падишах, отвечайте: «Одну монету», поскольку это действительно всего лишь монета». Ходжа так и поступил, и Азас был поражен и три дня не мог прийти в себя. Падишах приказал проделать отверстие в монете и завязать Азасу глаза, чтобы он почувствовал вес серебра, когда монету повесят ему на шею. В таком виде Азаса отправили в гарем. В соответствии с пожеланием падишаха в монете проделали отверстие и ашрафи повесили на шею Азасу.
Ощутив вес монеты, он совсем потерял голову от удивления и радости и был очень, очень счастлив. Он ощупывал монету руками и поражался ее размерам, и сказал: «Никто не отнимет у меня мой ашрафи». После этого каждая царевна дала ему обыкновенных монет, так что у него набралось их около семидесяти или восьмидесяти».
Щедрость Бабура не ограничилась рамками его дома и даже Кабула. Газна и Кандагар также получили предназначенные для них подарки; в отдаленном Бадахшане земледельцы получили серебряные монеты; беженцам из Самарканда раздали памятные подарки от падишаха. Пилигримы, направлявшиеся к святыням далекой Мекки, тоже несли туда его подношения.
Повсеместно было разослано обращение: «Всякий, кто причисляет себя к потомкам Тимур-бека и Чингисхана, пусть явится к нашему двору и вместе с нами встанет на путь процветания».
Тигр наконец принял решение. Закончились долгие годы странствий, и он нашел ту страну, в которой хотел поселиться и куда созывал всех оставшихся в живых представителей своего рода, чтобы сплотить вокруг них свой народ.Это решение нельзя назвать внезапным. Днями, находясь в пути, и ночами, ведя беседы у походного костра, Бабур исследовал качество почвы, воды, растительности, животных и птиц этой новой страны. По своему обыкновению, он всегда стремился увидеть своими глазами то, о чем ему рассказывали. Он наблюдал за тем, как слон за один присест съедает такую порцию резаных веток, которой, по расчету Бабура, хватило бы для десяти верблюдов. Тот же слон, однако, мог переправиться через реку, не замочив поклажи; три или четыре слона легко тянули за собой большую пушку, которую сдвигали с места четыре сотни мужчин. Он изучал методы дрессировки этих гигантов и сделал свой вывод: «Слон – очень сметливое животное. Что ему ни скажешь, он понимает, что ни прикажешь – сделает».
Способ, которым жители Хиндустана добывали воду из колодца с помощью буйвола и привязанного на длинной веревке ведра, Бабур не одобрил. Буйвол, кружащий по своей дорожке, волочил веревку по земле и грязи, а затем эта же веревка снова опускалась в колодец вместе с ведром.
Он узнал пять разновидностей оленей, в том числе нильгау, и развлекался, наблюдая за повадками мелких, похожих на мышь созданий, бегающих вверх и вниз по стволам деревьев и называющихся белками. Он был знаком с животным миром самых разных стран, поэтому длинные хвосты этих необычных животных не могли ввести его в заблуждение. Он не хотел верить рассказам о носорогах, которым молва приписывала необычайную силу, – в рассказах первых европейских путешественников они фигурировали в роли сказочных единорогов, – однако признал, что носорог может поднять на свой рог всадника вместе с лошадью, после того как стал очевидцем такого происшествия. Бабур добавляет, что жертва нападения получила прозвище Максуд-и-Карг – Мишень для носорога. Его веселили многочисленные стайки попугаев, среди которых он выделял вид, отличавшийся пестрым оперением, а также другой – с черным клювом и хохолком, – умевший ловко подражать звукам человеческой речи. Способен ли был такой говорящий попугай не просто повторять услышанные слова, а делать нечто большее, – мог ли попугай говорить сам? На этот вопрос местные жители отвечали, что однажды такого попугая посадили в клетку, накрытую тканью, и он закричал: «Открой мне лицо, я задыхаюсь». Бабур добавляет по-арабски: «Ответственность за правду лежит на рассказчике! Пока человек не услышит этого собственными ушами, ему не верится».
Он побывал в местах, где обитало множество певчих птиц, а также в таких, где гнездились падальщики, и попробовал вкус павлиньего мяса и самых разных сортов рыбы. Однажды на ручье он заметил рыболовов, которые держали сеть над поверхностью воды, чтобы изловить рыб, которые выпрыгивали из воды еще выше. Фрукты Хиндустана показались ему не слишком вкусными; лучше остальных были манго, напоминавшие мускатную дыню, однако Бабур отметил, что из них лучше готовить блюда, чем есть сырыми. «Хорошие плоды манго превосходны на вкус, если они хорошие, но хороших среди них мало».
В первое время его удивляло, что индусы, среди которых преобладали городские жители, не имеют племенных названий, а различают друг друга по принадлежности к кастам. «Большинство жителей Хиндустана – язычники; их называют хинду. Большинство хинду верит в переселение душ».
Спустя несколько дней после вступления в Агру он объявил о своем решении обосноваться в Хиндустане, что немедленно породило возмущение в войске. Первым среди бежавших оказался Ходжа Калан, первый советник падишаха. «Среди тех, кто решил уехать во что бы то ни стало, был и Ходжа Калан», – отмечает Бабур. Уехал под предлогом раздачи подарков и принял на себя управление Кабулом.«Если бы я знал о таком непостоянстве моих людей…»
Величественная башня Кутб Минар возвышалась над низкими, покатыми крышами Дели подобно стреле, указующей в небо. По всей великой равнине были рассыпаны купола усыпальниц, поддерживаемые стройными угловыми башнями, свидетельствуя о минувшем мусульманском владычестве династии Газневидов. Они, как и могущественный Махмуд, были величайшими строителями, хотя, по мнению Бабура, их постройки были сооружены наспех и отличались типично хиндустанской небрежностью. Из фасадов, выложенных персидскими изразцами, и массивных стен, выполненных в тюркских традициях, там и сям проступали грубо отесанные булыжники. Притязание на пышность свидетельствовало об упадке. В перенаселенных городах, выраставших иногда в течение года, источником питьевой воды часто служил единственный ручей. И уже через год, стоило распространиться слуху о надвигающейся эпидемии чумы, жители покидали город, предоставив его иссушающим лучам солнца и потокам дождя, обрушивающимся со зловещего неба.
«Хиндустан – малоприятное место. [Очевидно, эту запись Бабур сделал в подавленном состоянии духа.] Народ там некрасивый, хорошее обхождение, взаимное общение и посещение им не известны. Большой одаренности и сметливости у них нет, учтивости нет, щедрости и великодушия нет. В их ремеслах и работе нет ни порядка, ни плана; шнур и угольник им не известны. Хорошей воды в Хиндустане нет, хорошего мяса нет, винограда, дынь и хороших плодов нет, льда нет, холодной воды нет, на базарах нет ни хорошей пищи, ни хорошего хлеба. Бань там нет, медресе нет, свечей нет, факелов нет, подсвечников нет. Вместо свечей и факелов множество грязных людей, которых называют дивати, держат в левой руке маленькие треножники, у которых к концу одной из их деревянных ножек прикреплена железка вроде головки подсвечника; к ножке с железкой привязывают толстый фитиль величиной с большой палец. В правой руке у дивати тыква с узким отверстием, из которого тонкой струей сочится масло; всякий раз, когда нужно смочить фитиль маслом, дивати льют масло из тыквы. Этими снарядами пользуются вместо факелов и свечей. Если у их государей или беков случится ночью дело, для которого нужна свеча, эти грязные дивати приносят свои светильники и стоят с ними возле государя.
Кроме рек, стоячей воды и ручьев, которые текут во рвах и каналах, у хиндустанцев нет проточной воды; в садах и домах воды у них тоже нет. В жилищах хиндустанцев нет приятного воздуха, красоты и порядка.
Крестьяне и мелкий люд ходят совсем голые; они только подвязывают одну вещь, которую называют лангута; это – короткая тряпка, свисающая на два кариша ниже пупка. Женщины тоже обвязываются тряпкой вокруг пояса, а другую тряпку набрасывают себе на голову».
Куда более лаконичным оказалось перечисление положительных сторон:
«Достоинства Хиндустана. Это обширная страна, золота и серебра там много. В дождливое время воздух очень хороший. Бывают дни, когда дождь идет десять, пятнадцать или двадцать раз. Во время дождей сразу образуются потоки. Порок такой погоды – очень сырой воздух. В дождливое время нельзя даже стрелять из наших луков, они портятся. Не одни только луки, кольчуги, книги, платье, ткани – все страдает от действия сырости. Постройки тоже стоят недолго. Другое достоинство Хиндустана – то, что там бесчисленное и безграничное множество рабочих и ремесленников. Ко всякой работе и к любому делу приставлены и назначены определенные люди, которые исполняют эту работу или дело по наследству от предков».
Если уж сам Бабур так нелицеприятно отзывался о своих новых владениях, то монгольские солдаты были настроены куда более скептически. Основная часть воинов, набранных среди горных племен, тосковала по холодным ветрам, почти год они находились вдали от дома, а большинство из них непрерывно участвовали в военных действиях. К тому же их руки отягощало богатство – деньги и прочее добро. Инстинкт и традиции подсказывали монголам, тюркам и афганцам, что следует поскорее доставить добычу в родные селения, пока с ней не случилось что-нибудь непредвиденное, – как было принято во время всех предыдущих походов за Инд. Армия не видела причин, чтобы на этот раз поступить по-другому.
«Когда мы пришли в Агру, стояло жаркое время; весь народ от страха бежал. Для нас и для коней нельзя было найти пищи и корма. Жители деревень, из вражды и ненависти, оказывали неповиновение, воровали и разбойничали; по дорогам невозможно было ходить. Мы еще не успели разделить казну и назначить в каждую область и местность крепких людей; к тому же в том году было очень жарко; люди во множестве разом падали и умирали от действия губительных ветров.
По этим причинам многие беки и добрые йигиты пали духом и не соглашались остаться в Хиндустане. Если пожилые и опытные беки говорят такие слова, то вины на них нет; когда они это говорят, у человека хватает ума и рассудка, чтобы найти в их речах верное и неверное и различить хорошее и дурное. Но если кто-нибудь все обдумал и твердо на что-нибудь решился, какое удовольствие еще раз повторять то, что уже было сказано, какой смысл выслушивать от малого и великого такие слова и такие бестолковые мнения? Удивительное дело! Выступая в этот раз из Кабула, я назначил из малых и великих приближенных несколько новых беков. Я надеялся, что, если я вздумаю пойти в огонь и воду, они без колебания пойдут за мной, в какую бы сторону я ни направился. Если бы я знал о таком непостоянстве моих людей…
Заметив среди людей такое колебание, я созвал всех беков, и мы устроили совет. Я сказал: «Власти и миродержавия не достигнешь без доспехов и снаряжения; быть государем и эмиром без нукеров и владений – невозможно. Сколько лет мы прилагали старания и терпели тяготы, ходили в далекие страны и водили войска, подвергая себя и людей опасностям боев и войны! По милости божьей мы разбили столь многочисленных врагов и захватили столь обширные земли. Какая же сила и какая необходимость заставляют нас теперь без причины бросить владения, завоеванные после стольких трудов, и снова вернуться в Кабул, чтобы подвергнуть себя испытаниям бедности и слабости? Пусть же всякий, кто хочет нам добра, впредь не говорит таких слов, а тот, кто не может больше проявить стойкости, если хочет уходить, – пусть уходит и не отказывается от этого».
Внушив им столь правильные и разумные мысли, мы отвратили от подобных тревог и тех, кто хотел уйти, и тех, кто не хотел этого».Однако Ходжа Калан, второе лицо государства, не поддался внушениям. Ходжа продолжал настаивать на том, что его здоровье подорвано, и Бабур, хотя и очень неохотно, вынужден был разрешить ему вернуться в Кабул. Падишаха привели в ярость стихи, которые нацарапал на стене его образованный и начитанный министр, покидая Агру:
Если я целый и невредимый перейду через Синд,
Будь я проклят, если вновь захочу увидеть Хинд!
Раздосадованный стихами не меньше, чем самим бегством Ходжи, Бабур немедленно сложил ответные стихи, которые отослал Калану в Кабул:
Сто раз будь благодарен, Бабур, ибо Господь всепрощающий
Дал тебе Синд, Хинд и большое царство.
Если нет у тебя сил выносить жару
И ты скажешь: «Хочу видеть лицо холода», то у тебя есть Газна.
Вскоре он забыл о своем раздражении. Два года спустя в своем письме Ходже он сообщает о последних событиях в Хиндустане и добавляет: «Как может человек забыть приятность тех мест, как может он изгнать из сердца память о законном наслаждении дынями и виноградом? Недавно мне принесли дыню. Когда я резал и ел ее, это произвело на меня диковинное действие, и я все плакал».
Ностальгия не позволяла ему забыть дворец над рекой Кабул, вечерние тени, отбрасываемые на луга заснеженными вершинами и цветущий аргуван, который неизгладимо запечатлелся в его памяти. Часто в своей официальной переписке он выражал пожелания, чтобы отремонтировали крепость и большую мечеть его любимого города, или настаивал на том, что следует произвести инспекцию такой-то веранды, подрезать фруктовые деревья и разбить новые сады с «благовонными цветами и кустарниками».
Между тем во время своих бесчисленных поездок по Хиндустану он неутомимо планировал строительство дорог, обрамленных тенистыми орошаемыми садами, бесконечно беспокоился о расходе воды, которая существовала лишь в руслах крупных рек – часто исчезающих в иссушенных долинах или окруженных глинистой топью после сезонных дождей.«Всюду, где пришлось бы обосноваться, я решил установить водяные колеса, провести воду и разбить по плану ровные сады. Спустя несколько дней после прихода в Агру мы, ради этого дела, перешли реку Джамну и осмотрели места, где можно было бы разбить сад. Окружающая местность была так неприглядна и разорена, что я снова перешел реку, полный отвращения и неудовольствия. Из-за непригодности и непривлекательности этого места мысль о саде вышла у меня из головы. Но так как другого свободного места столь близко от Агры не было, то через несколько дней по необходимости пришлось начать работу именно там. Сначала вырыли большой колодец, из которого берут теперь воду для бани, потом стали работать в том месте, где растут деревья амбли и находится восьмиугольный водоем. После этого устроили большой водоем и двор, затем прорыли водоем перед каменными постройками и воздвигли талар. После этого разбили садик вокруг моих личных покоев и построили самое комнаты; затем построили баню. То помещение бани, где находится горячий водоем, сплошь выложили камнем. Нижняя часть стен была из белого камня; все остальное, пол и потолок – из красного камня, который привозят из Бианы. Таким образом, в этом неприглядном и неблагоустроенном Хиндустане появились прекрасные сады, разбитые по хорошему плану. В каждом углу были устроены приятные лужайки, на каждой лужайке росли красивые розы и нарциссы, расположенные в совершенном порядке. В Хиндустане мы страдали от трех вещей: во-первых, от жары, во-вторых, от сильного ветра и, в-третьих, от пыли. Баня устраняет все три неприятности: пыль и ветер ничего не могут сделать в бане, а в жаркую погоду там так свежо, что человек почти зябнет от холода. Халифа и все те, кому досталось место на берегу реки, устроили красивые, хорошо расположенные сады и водоемы. Они поставили колеса по лахорскому и дибальпурскому способу и провели проточную воду. Так как жители Хиндустана не видывали садов, правильно устроенных, они назвали ту сторону Джамны, где находились наши дворцы и сады, Кабулом».
Лишь беспримерная решимость монарха могла заставить его подданных возводить такие же сооружения, как в родных местах, в чужой и ненавистной стране. Ослабленный приступами болезни, пристрастившийся к наркотическому дурману, покинутый своим первым министром и друзьями, Бабур все не отпускал свое поредевшее войско с индийской равнины, хотя месяцы уже превратились в целый год. Заявив своим военачальникам, что никакая сила не позволит им уехать, он сознавал свою несправедливость по отношению к ним. Тоска по семьям и привычному образу жизни звала их на запад, в родные горы. В них все еще были сильны кочевые инстинкты. Единственной сдерживающей силой была личная воля Бабура, и лишь немногие осмелились проявить открытое неповиновение падишаху. На следующий год Хумаюн предпринял попытку покинуть своего отца.
Несмотря на свалившиеся на него заботы, Бабур находил время перечитывать труды историков. Это привело к довольно неожиданному результату. Очевидно, он объяснил своим сподвижникам, что другие мусульманские завоеватели Северной Индии обладали обширными территориями на родном западе. И Махмуд Газневи, и Тимур повелевали Самаркандом и Хорасаном, а также другими областями, тогда как у его монголов была лишь узкая полоска земли, связывавшая между собой Кундуз, Кабул и Газну, – эти скудные земли были настолько бедны жизненными ресурсами, что Бабуру приходилось поддерживать Кабул, отправляя туда продовольствие из Индии. Что будет с их страной, если они уйдут из Индии? И чего они смогут достичь, если, в отличие от Махмуда и Тимура, сделают Хиндустан своим домом?
Вторым веским доводом была его убежденность в том, что они не смогли бы одержать столь сокрушительную победу над значительно превосходящим их по силе противником, если бы это не было предначертано Всевышним. Неужели после того, как им открылась воля Господа, они могут закрыть на нее глаза и просто повернуть назад? Это утверждение было не только аргументом – Тигр не сомневался в его истинности.
Проезжая мимо пышных гробниц делийских султанов, Тигр, должно быть, с благоговением вспоминал сады Ахси, среди которых осталась заросшая травой могила Омар Шейха.
В конце 1526 года начался сезон дождей, и положение войска осложнилось до последнего предела. Они отошли к юго-востоку более чем на пятьсот миль от берегов Инда. Теперь Тигр мог контролировать лишь ту часть территории, которую занимали его войска – узкий коридор, тянущийся от ущелья Хайбер через Бхиру, Лахор, Сирхинд, Панипат, Дели, Агру и Бару. Бабур заявил о том, что покорил все земли «от Бхиры до Бары», в действительности же той весной, после завоевания Агры, его монголы продвинулись не даныие Канауджа, расположенного в верхнем течении Ганга. Занятия падишаха садоводством и сбором налогов охватывали территории, находившиеся не дальше одного дня пути от Агры.
Внутри контролируемого им коридора царил полный хаос; за его пределами простирались необозримые пространства Хиндустана, гудящие как растревоженный улей – захваченные, но не покоренные. Тигр вполне отдавал себе отчет в том, что находится в довольно затруднительном положении.
«Когда мы прибыли в Агру, между нашими людьми и тамошними людьми сначала царили удивительная рознь и неприязнь. Воины и крестьяне тех мест боялись наших людей и бежали. Во всех укрепленных местах, кроме Дели и Агры, они защищали крепости и отказывали в повиновении. В Самбхале находился Касим Самбхали, в Биане – Низам-хан; в Мевате пребывал сам Хасан-хан Мевати. Этот нечестный человечишко был зачинщиком всех смут и волнений. В Дулпуре находился Мухаммед Зайтун, в Гвалияре сидел Татар-хан Сарангхани, в Рапари – Хусейн-хан Нухани, в Атаве – Кутб-хан, в Калпи – Алам-хан. Канаудж и все земли по ту сторону Ганга были в руках враждебных афганцев вроде Насир-хана Нухани, Маруфа Фармули и многих других эмиров. За два или три года до смерти Ибрахима они восстали. Когда я разбил Ибрахима, они овладели Канауджем и, сделав два-три перехода, осели по сю сторону Канауджа».
Прибыв в Агру, Бабур оказался как раз между мощными повстанческими силами, занимавшими территории вдоль берегов Ганга, и еще более сильным союзом царевичей Раджпута, населявших западные области, граничащие с великой пустыней. Ему уже приходилось слышать об империи Виджьянагар, расположенной в самом сердце южных областей.
Дальше случилось то, чего и следовало ожидать. Все предыдущие вторжения великих султанов, приходивших со стороны «облачных вершин», заканчивались их отступлением; разорив Дели, Тимур вернулся в Самарканд; сам Бабур также четырежды переправлялся через Инд и всякий раз возвращался обратно. Естественно, и теперь не потерявшие независимости феодалы забаррикадировались в своих крепостях и принялись ждать, когда Тигр захватит достаточное количество добычи и вернется на родину.
Через год стало очевидно, что кабульский падишах не намерен трогаться с места, что подтверждали все предпринятые им дела. Столкнувшись с новым для них положением, хиндустанские вельможи начали с интересом присматриваться к Бабуру, чтобы решить, что им делать дальше. Область Пяти Рек, так же как и вся великая равнина, была изнурена непрерывными войнами султана Ибрахима. Пусть Бабур и был тюрком, но он, судя по всему, не склонен был ставить свою власть превыше закона. К тому же прошло еще не так много времени, чтобы Панипат успел стереться из памяти. Бабур разослал таких опытных полководцев, как, например, Чин Тимур, на покорение оставшихся не захваченными земель, – и его люди, проявив себя истинными монголами, предпочитали решать эту задачу, полагаясь на хитрость, а не насилие.
Примером тому послужил Гвалияр. Его правитель, Татар-хан, вызывал заслуженную неприязнь у своих подданных, среди которых было много ученых и образованных людей. Гвалияр представлял собой практически неприступную крепость, расположенную на скалистом нагорье. Бабур отправил туда лишь небольшой сводный отряд, из ходжей и местных новобранцев. С противоположной стороны Гвалияру угрожали наступающие на него войска язычников Раджпута, и послы Бабура намекнули жителям города, что добрым мусульманам следует объединиться, чтобы совместными усилиями противостоять вторжению нечестивых. Ученые мужи, находившиеся в стенах города, дали понять, что впустят внутрь людей падишаха, и действительно помогли некоторым из них проникнуть в город, открыв для этой цели Ворота Слонов. Татар-хан, оказавшийся между двух огней, принял решение ехать в Агру и покориться падишаху.
За развитием этих событий наблюдало несколько отрядов афганцев, остановившихся между Джамной и Гангом, и вскоре к Тигру потянулись воины, пожелавшие поступить к нему на службу. Вскоре примеру этих отрядов последовала и вся армия Ибрахима, отправленная им на покорение мятежников в Джаун-пур и Ауд. Реакция Бабура оказалась безусловно гениальной, – он принял этих людей со всем радушием и пожаловал земли Джаунпура и Ауда им во владение!
Однако, маневрируя подобным образом, Бабур стремился выиграть время. Учитывая стягивающиеся к Гвалияру войска Раджпута, он не мог позволить себе тратить силы на усмирение противников с берегов Ганга. Эту задачу он поручил Хумаюну, поставив его во главе двух соединений своей армии.
Бабур сообщает, что Хумаюн просил разрешить ему возглавить этот поход, поскольку сам падишах не мог в то время покинуть Агру. Несмотря на то что отец передал власть над войском полностью в руки сына, он, судя по всему, держал его под личным контролем и сам отдавал приказы военачальникам. В течение этих нелегких недель Бабур сделал все возможное, чтобы подготовить Агру к нашествию армии Раджпута. Его турецкие инженеры даже попытались отлить новое орудие.«Я приказал устаду [48] Али Кули отлить большую пушку. Приготовив горны и все необходимые вещи, устад Али Кули послал ко мне человека. В субботу, пятнадцатого мухаррама, мы отправились посмотреть, как устад Али Кули будет лить пушку. Вокруг того места, где должно было происходить литье, он поставил восемь горнов и разложил инструменты. Со дна каждого горна шел желоб, ведший к форме, в которой отливалась пушка. Когда мы пришли, устад Али Кули открыл отверстия горнов; по желобам, бурля, как вода, полился в форму расплавленный металл. Через некоторое время, хотя форма и не наполнилась, приток расплавленного металла, лившегося из горнов, постепенно прекратился: в горнах или в металле, видимо, был какой-то изъян. Устад Али Кули впал в очень плохое состояние; он хотел даже броситься в расплавленную медь, налитую в форму. Обратившись к устаду Али Кули с утешением, мы облачили его в почетную одежду и рассеяли его смущение.
Через день или два, когда форма охладилась, ее открыли; устад Али Кули с великой радостью прислал человека сказать, что вкладная часть пушки оказалась без единого порока и что отлить казенную часть нетрудно. Вынув вкладную часть, устад Али Кули назначил людей, чтобы ее наладить, а сам занялся отливкой казенной части пушки».
Бабур не забыл об этом происшествии. Позднее он лично присутствовал при испытаниях «этой большой пушки, казенную часть которой отливали позднее».
Пушка получила название Победитель и не разорвалась во время испытания, больше того, она выстреливала тяжелые ядра на шестнадцать сотен шагов, что для того времени было очень большой дальностью. На этот раз мастер Али получил пояс для меча, почетную одежду и чистокровного коня.В те дни, когда турецкие мастера занимались отливкой нового орудия, войско Хумаюна двигалось на восток, а сам Бабур оставался в Агре, наблюдая за приближением армии Раджпута, в Кабул было отправлено письмо, приведшее в ужас женскую половину дворца. В своем дневнике Бабур приводит точную копию этого письма:
«В пятницу шестнадцатого числа месяца раби первого, года девятьсот тридцать третьего, произошло поразительное событие. Подробности его таковы: мать Ибрахима, эта злосчастная старуха, услышала, что я съел что-то из рук жителей Хиндустана. Дело было так: месяца за три-четыре до этого по той причине, что мне еще не приходилось видеть хиндустанских блюд, я сказал, чтобы ко мне привели поваров Ибрахима. Из пятидесяти или шестидесяти поваров я удержал у себя четырех. Та женщина, услышав об этом, послала человека в Итаву за Ахмедом-чашнигаром – жители Хиндустана называют бакаула [49] чашнигар. Одной рабыне она дала в руки сложенную вчетверо бумажку, в которой была тола [50] яда, и велела передать эту бумажку Ахмеду-чашнигару. Ахмед дал бумажку одному из хиндустанских поваров, который находился у нас на кухне, и обещал ему четыре парганы, если он каким-либо образом подложит яд мне в пищу. Вслед за рабыней, с которой был передан яд Ахмеду-чашнигару, мать Ибрахима послала еще одну невольницу посмотреть, передала ли ему первая невольница яд или нет. К счастью, Ахмед не бросил яд в котел, но бросил его на блюдо. Он не бросил яда в котел по той причине, что я крепко наказал бакаулам остерегаться хиндустанцев, и они пробовали пищу, когда пища варилась в котле. Когда кушанье накладывали, наши несчастные бакаулы чем-то отвлеклись; повар положил на фарфоровое блюдо тоненькие ломтики хлеба, а на хлеб высыпал меньше половины яда, находившегося в бумажке. Поверх яда он наложил мяса, жаренного в масле. Если бы повар высыпал яд на мясо или бросил его в котел, было бы плохо, но он растерялся и просыпал больше половины яда в очаг. В пятницу вечером во время послеполуденной молитвы подали кушанье. Я сильно налег на блюдо из зайца, жареной моркови тоже уписал порядочно; из отравленной хиндустанской пищи я съел только несколько кусочков, лежавших сверху. Я взял жареного мяса и поел его, но не почувствовал никакого дурного вкуса. Потом я проглотил кусочка два вяленой говядины, и меня начало тошнить. Накануне я тоже ел вяленое мясо и у него был неприятный вкус; я решил, что меня сегодня тошнит по этой причине. Вскоре меня опять затошнило; пока я сидел за достарханом, меня два или три раза начинало тошнить и едва не вырвало. Наконец, я увидел, что дело плохо, и поднялся. Пока я шел до нужника, меня еще раз чуть не вырвало; в нужнике меня обильно стошнило. Раньше меня никогда не рвало после еды, даже при попойках меня не тошнило.
В сердце у меня мелькнуло сомнение. Я приказал задержать повара и велел дать блевотину собаке и стеречь ее. На следующее утро незадолго до первой стражи собака почувствовала себя очень плохо, брюхо у нее как будто раздулось. Сколько в нее ни кидали камнями, сколько ее ни ворочали, она не подымалась. До полудня собака была в таком положении, потом поднялась – не умерла. Несколько телохранителей также поели этой пищи. Наутро их тоже сильно рвало, одному даже было очень плохо; в конце концов, все спаслись.
Я приказал Султан-Мухаммеду Бахши схватить повара; подвергнутый пытке, он одно за другим подробно рассказал все, как упомянуто.
В понедельник, в день дивана, я приказал вельможам, знатным людям, эмирам и вазирам явиться в диван. Те двое мужчин и обе женщины тоже были приведены и допрошены. Они со всеми подробностями рассказали, как было дело. Чашнигара я велел разрубить на куски, с повара приказал живьем содрать кожу; из женщин одну бросили под ноги слону, другую застрелили из ружья, третью я приказал заключить под стражу. Она тоже станет пленницей своего дела и получит должное возмездие. [Мать Ибрахима позднее была отправлена в Кабул, однако во время переправы через Инд бросилась в воду и утонула.]
В субботу я выпил чашку молока, в понедельник тоже выпил чашку молока и выпил еще разведенной печатной глины и сильного терьяка. От молока меня здорово прослабило… я изверг какое-то черное-пречерное вещество, похожее на перегоревшую желчь. Благодарение Аллаху, сейчас нет и следа болезни. До сих пор я так хорошо не знал, что жизнь столь дорога. Благодарение Богу, мне снова пришлось увидеть свет дня. Все окончилось хорошо и благополучно.Разбитый и слабый, я снова живу.
Отведав вкус смерти, я понял цену жизни.
Чтобы у вас в уме не возникло никакой тревоги и беспокойства, я записал все это во вторник, двадцатого числа месяца раби первого, находясь в Чар Баге».
«В те дни, – добавляет Бабур, – один за другим начали являться люди от Махди-ходжи с такими вестями: «Рана Санга несомненно подходит. Хасан-хан Мевати тоже, говорят, намерен присоединиться к нему. Об этих людях следует подумать прежде всего. Если спешно послать в Биану вспомогательный отряд войска, это будет способствовать вашей удаче».
К тому времени Тигр уже отозвал из восточных областей отряды под командованием Хумаюна. Усилив свое войско лояльно настроенными афганцами, Бабур решительно двинулся на армию сепаратистов, – он сам называл их мятежниками, – под командованием Назир-хана и его союзников из Джаунпура и Ауда. Переправившись через истоки Ганга, монголы обнаружили лагерь Назир-хана неподалеку от Гогры. Повинуясь приказу отца, Хумаюн оставил отряд разведчиков присматривать за афганцами, а сам направился в Агру, по дороге заехав в Калпи, чтобы захватить с собой местного хана, намеревавшегося принести клятву верности падишаху. Эта стремительная кампания, имевшая целью очистить окрестности Агры от противников Бабура, завершилась блестяще. Однако то, что последовало за ней, понять довольно сложно.
В начале января 1527 года Хумаюн ожидал своего отца в еще не завершенных Четырех Садах Агры, чтобы принять от него традиционные почетные одежды, подарки и восхваления, на которые Бабур никогда не скупился. Здесь же или вскоре после их встречи Хумаюн начал просить у отца позволения вернуться в принадлежавшую ему провинцию Бадахшан, находившуюся в нескольких днях пути от Агры.
Вызывающую просьбу своего сына Бабур практически обходит молчанием, в отличие от подробного сообщения об эпизоде с отравлением. Удовлетворить требование Хумаюна было невозможно. Сын падишаха не мог уехать, забрав с собой крепкий бадахшанский контингент, в тот момент, когда вся армия лихорадочно готовилась к походу на войска Раджпута.Зачем Хумаюн предпринял эту обреченную на провал попытку расстаться с отцом в самый напряженный момент? Возможно, между неприветливым царевичем и его наставником Ходжой Каланом существовало некое соглашение. Калан и некоторые полководцы были полны решимости вернуть Бабура в Кабул. Не вызывает сомнений, что Хумаюн был трусоват и принял участие в походе против своей воли, поддавшись уговорам матери; ему не нравилось командовать войсками под руководством более опытных военачальников, относившихся к любым распоряжениям его отца так, как будто это были заветы Корана. Весьма вероятно и то, что его бадахшанские подданные, уже больше года не видевшие своих близких, стремились вернуться домой и привезти своим семьям богатую добычу, пока ненавистная Индия не потребовала от них участия в новых сражениях. Возможно, поведение Хумаюна объяснялось какими-нибудь тайными мыслями или неопытностью.
Бабур пообещал, что отпустит Хумаюна в Бадахшан сразу после сражения.
В те дни Бабур, повинуясь неожиданно охватившему его приступу великодушия, освободил другого царевича, который содержался в Агре в качестве заложника. Это был сын Хасан-хана из Милвата, расположенного к западу от Агры. Снабдив юношу почетными одеждами и заверениями в дружественных намерениях, Бабур отпустил его к Хасан-хану, который не находил себе места от беспокойства за сына и никак не мог решить, встать ли ему на сторону монголов или примкнуть к войску Раджпута.
Получив сына, Хасан-хан склонился в пользу Раджпута, а Бабуру сообщили, что небольшой отряд, отправленный им в Биану, потерпел поражение и поспешно отступал перед лицом надвигающегося противника.«Восемь звезд восстали на нас…»
Этот противник был на порядок сильнее, чем те, с которыми моголам приходилось сталкиваться до сих пор. Беженцы из Бианы откровенно признавались, что боятся воинов Раджпута.
Обычно враждующие между собой вожди Раджастхана объединялись, когда возникала необходимость противостоять пришлому врагу, что они и проделали теперь, когда этим врагом стал мусульманский падишах. Около восьмидесяти тысяч всадников под командованием семи раджей и сотни менее значительных вождей включились в этот военный союз, усиленный несколькими сотнями боевых слонов. Перечень их имен напоминает текст героического эпоса, поскольку под знамена Мевара собрались лучшие воины Читара, Рантхамбхора и Чандери. Свою храбрость эти истинные хозяева Хиндустана, взявшиеся за оружие против мусульманских захватчиков, унаследовали от самих ариев.
Сломить дух защитников Раджпута было невозможно; они не уступали поля боя, пока последний воин не падал на землю, разрубленный на куски в рукопашной схватке. Их союзники, как, например, хан Милвата, готовы были поддержать их в случае успеха, однако едва ли пошли бы на это в ином случае.
Предводитель армии Раджпута пользовался таким же авторитетом у своих солдат, как и Бабур у своего войска. Рана Санга – Санграм Сингх из Читара – с детства держал в руках оружие. Одна его нога была изуродована, один глаз не видел, а руку он потерял в сражении. Рассказывали, что перед смертью на его теле насчитали восемьдесят ран. «Свою власть Рана Санга завоевал своей храбростью и своим мечом», – признавал Бабур.
Настрой армии во многом зависит от национальных особенностей и традиций; большую роль играет также личность полководца, – например, в случае с Ганнибалом, который повел свое многонациональное войско против гораздо более многочисленной римской армии, сплоченной к тому же национальной идеей, – однако на него влияют и те события, что происходят непосредственно перед сражением и обрастают слухами во время разговоров у ночных костров.
Состояние духа у воинов Агры было скверным, и Бабур знал об этом. Современная армия, столкнувшись с превосходящими силами противника, могла выстроить линию укреплений вдоль берега Джамны. Бабур не мог пойти на это, без риска потерять хиндустанскую равнину со всеми укрепленными городами. Он уже и так лишился Бианы. Ему пришлось осторожно продвигаться навстречу наступающему противнику, высылая вперед разведку и постоянно следя за перемещениями врага. Как и при Панипате, он предусмотрел строительство линии укреплений, чтобы защититься от атаки конницы. Не доверяя хиндустанским бекам, недавно примкнувшим к его войску, он отослал их в тыловые гарнизоны, такие, как, например, крепость Самбхал.
Первое столкновение не принесло ощутимых потерь. Авангард, высланный на разведку, проявил беспечность и столкнулся с бдительным неприятелем. «Они ехали по дороге на Канвахин и не смотрели ни вперед, ни назад», да так и въехали на полном галопе в расположение хиндустанцев, которые взяли их в окружение. На помощь им был выслан отряд под командованием Махмуда Али Дженг-Дженга, чтобы прикрыть их отступление. Этот случай положил конец конным вылазкам в лагерь армии Раджпута, которая теперь сосредоточилась в окрестностях города Канвахин, в двенадцати милях от Бабура.
Желая воодушевить своих подчиненных, Бабур отдал приказ соорудить неподалеку от небольшого озера традиционную линию укреплений из связанных между собой телег и выкопанных перед орудиями рвов. Поскольку мастер Али, создатель пушки Победитель, соперничал с Мустафой, вторым артиллеристом, Бабур расставил канониров на противоположных концах линии обороны. Несмотря на приказ, назначающий командующими резервом Хумаюна и ставленника Бабура, Алам-хана, истинными командирами остались заслуженные кабульские полководцы. Чин Тимура Бабур оставил при себе в центре войска.
Не оставляя надежды поднять боевой дух воинов, Бабур пускался на любые уловки. Узнав о том, что из Кабула к нему выступила сотня всадников, он приказал выслать им навстречу тысячу с развернутыми знаменами. Во всяком случае, вожди Раджпута могли подумать, что он получил мощное подкрепление. К несчастью, одновременно с ними из Газны пришел караван с грузом вина, вместе с которым прибыл странствующий звездочет, быстро сообразивший, какие настроения царят в расположении войск, и немедленно разразившийся мрачными пророчествами.«В то время, вследствие недавних событий и происшествий, пустых рассказов и разговоров среди воинов, как уже упомянуто, царило великое смущение и страх. Мухаммед Шариф-звездочет, этот злодушный человек, не мог сказать мне ничего путного, но зато усиленно убеждал любого встречного, что в эти дни Марс стоит на западе и всякий, кто пойдет войной с этой стороны, будет побежден. Кто его, этого негодяя, спрашивал? Он еще больше разбил сердца людей, павших духом. Не слушая его бестолковые речи, я не прерывал дел, которые надо было сделать, и усердно занимался военными приготовлениями, собираясь сражаться».
Бабур все еще не забыл о том случае, когда он последовал совету астролога, приведшему его к поражению на переправе. Однако после неудачного набега на Милват он предпринял некоторую попытку самоанализа.
«В понедельник я выехал на прогулку. Во время прогулки мне пришло на ум, что у меня постоянно была на душе забота о воздержании и что совершение недозволенного всегда покрывало мое сердце пылью. Я сказал: «О душа, доколе будешь ты находить сладость в греховном? Воздержание тоже не лишено сладости. Попробуй!»»Вернувшись в лагерь, Тигр объявил, что решил отказаться от вина, повергающего человека в состояние, подобное смерти. Он немедленно приказал разломать всю бывшую при дворе золотую и серебряную посуду для вина и раздать ее обломки дервишам и нищим. В знак принятия обета Бабур отказался от бритья бороды.
Вслед за падишахом обет трезвости пришлось принять ночной страже, а затем – вельможам, простым воинам и другим приближенным. Вино вылили на землю, а ту партию, что прибыла из Газны, плотно запечатали, чтобы сделать из вина уксус.
На этот раз Бабур сдержал свой обет. Он издал общий указ, запрещающий продажу и провоз вина по своей территории. Шейх Заин, придворный поэт, воспользовался этим поводом, чтобы напомнить падишаху о его обещании снизить налог с мусульманского населения в случае победы над Рана Сангой. Бабур не мог отказаться от данного им слова и подписал фирман, в котором распорядился снизить налог, однако после сражения успешно забыл об этой незначительной подробности.
Однако результаты, которых удалось добиться Тигру, искреннему в своем публичном раскаянии, оказались на редкость неудовлетворительными.«Ни от кого мы не слышали мужественного слова и смелого мнения. Велеречивые эмиры и проедающие свои обязанности вазиры ни в словах, ни в поведении не были смелы; ни в речах их, ни в планах не было мужества. В этом походе один Халифа держал себя очень хорошо; укрепляя власть и порядок, он не совершил упущений… В эти дни всюду возникало беспокойство и смуты. Хусейн-хан Нухани пришел и взял Рапари; люди Кутб-хана взяли Чандавар; один негодяй по имени Рустам-хан, собрав лучников из Миандоаба, взял Куил и забрал в плен Кичик Али. Захид бросил Самбал и ушел; язычники из Гвалияра подошли к этой крепости и осадили город. Алам-хан, посланный в Гвалияр на помощь, не пошел в Гвалияр и отправился в свои земли. Каждый день откуда-нибудь приходили дурные вести. Некоторые хиндустанцы начали убегать из войска; Хайбат-хан Каргандаз убежал в Самбал, Хасан-хан Варивали присоединился к нечестивым. Не обращая на них внимания, мы рассчитывали только на себя».
Хотя дневник Бабура не сообщает об этом прямо, но потеря укрепленных городов была для него весьма ощутимой. Пока он стоял в ожидании на канвахинской дороге, члены коалиции Раджпута прибрали к рукам все крепости в окрестностях Агры. Их успехи привели к тому, что в войске Бабура участились случаи дезертирства.
Учитывая эти обстоятельства, накануне сражения при Канвахе соотношение сил между падишахом и Рана Сангой – пришлыми мусульманами и уроженцами Хиндустана – сместилось в пользу последних. По мнению сторонних наблюдателей, Бабур шел навстречу своему поражению и ничего не предпринимал, чтобы его избежать, тогда как Рана Санга сделал все возможное, чтобы обеспечить себе победу.
Перед сражением Бабур велел созвать своих полководцев на решающий совет.
Довольно любопытно, что Гульбадан, женщина, сделала наиболее подробное описание обращения Бабура к армии.«Поскольку враг находился совсем близко, его осенила благодатная мысль. Все как один пришли, чтобы послушать его, эмиры, и ханы, и султаны, крестьяне и знать, высокородные и простые. Тогда он сказал: «Разве вы не понимаете, что от нашей страны и нашего города нас отделяет несколько месяцев пути? Если нас ждет поражение, да не допустит этого Всевышний, куда мы пойдем? Где наши города? Где наша родина? Здесь мы окружены чужаками и иноземцами. Самое лучшее для всех вас понять, что перед нами только два пути. Если мы победим, то станем воинами во славу Аллаха; если проиграем, то погибнем мучениками. В том и другом случае нас ждет спасение, и мы будем вознесены – мы оставим по себе великую память».
Это было давним убеждением Бабура – лучше почетная смерть, чем жизнь в позоре. Говоря об этом, он не кривил душой и сумел передать свое настроение армии. Поддавшись единому порыву, солдаты поклялись на Коране, что не повернутся спиной к врагу. Один за другим ряды воинов подхватывали слова этой клятвы, и все зловещие предсказания звездочета и знамения, предвещающие поражение, были забыты. Тогда Бабур дал своему народу последнее обещание: после битвы против Рана Санги всякий, кто захочет вернуться домой, получит на то его разрешение.
За короткий срок войско, стоявшее на канвахинской дороге, прониклось духом священной войны. Судя по всему, такие же настроения распространились и в лагере хиндустанцев.
Бабур немедленно приказал армии начинать наступление. Это было в день празднования Нового года, 13 марта 1527 года. Волоча пушки и телеги, предназначенные для строительства баррикад и связанные веревками и цепями, построив мушкетеров, уже поджегших фитили, армия Бабура двинулась на лагерь Раджпута и его конные дозоры.
Взглянув на них сверху, можно было подумать, что это дикобраз подкрадывается, чтобы напасть на леопарда.Как и после сражения при Панипате, Бабур сообщает о решающем дне совсем немного. Его придворный поэт, Шейх Заин, написал по этому поводу свою «Фатех-наме» – «Сказание о победе», в которой реальные события отодвинуты на второй план звучными эпитетами.
Тем не менее поэма все же дает нам возможность ознакомиться с некоторыми подробностями. Разрывы в передвижном ограждении Бабура были перегорожены треножниками из брусьев, поставленными на колеса, и в решающий день барьеры позади наполовину вырытых укрытий должны были сдвинуться.
Тигр приказал всем оставаться за линией обороны и лично проехал вдоль нее, чтобы проверить, находятся ли полководцы на своих местах. Армия Раджпута, выпустив вперед боевых слонов, медленно двинулась в наступление.
В отличие от Панипата, резервы Бабура оставались в тылу позади заграждений. По этой причине могольское войско должно было произвести на врага впечатление небольшого, но плотного каре, а не жидкой шеренги, вытянувшейся вдоль линии укреплений. Почти тотчас по наступающим слонам открыли непрерывный огонь из орудий, перемежавшийся выстрелами из мушкетов. Тучи стрел, обрушившиеся на стремительно наступавшую вражескую конницу, оказались едва ли не действеннее пуль и ядер.
Подчиненные Бабура помнили о своей клятве, и ни один из них не показал спину врагу. У них не было выбора – им предстояло победить или погибнуть.
В полдень сражение все еще продолжалось. Мужественные воины Раджпута предпринимали одну за другой новые атаки, возглавляемые сменявшими друг друга вождями.
После полудня Бабур послал в бой свои многочисленные резервы, а его «запасные отряды» по-прежнему держали оборону на линии и флангах.
Во время некоторого затишья дисциплинированные войска унесли с поля боя своих раненых и перестроились, чтобы дать людям и коням отдых. В этот момент падишах отдал неожиданный приказ. Он распорядился начать наступление на неприятеля одновременно по всей линии сражения.
Всадники вырвались вперед сквозь оставленные в ограждениях проходы, орудия также сдвинулись с места, за ними последовали мушкетеры. Этот маневр возымел немедленное действие. Обескураженные ряды вражеского войска начали готовиться к отражению лобовой атаки. В этот момент фланги могольской конницы рассыпались и начали окружать дрогнувших индусов, упрямо не желавших оставлять свои позиции. Части их войска удалось вырваться из окружения, и раненого Рана Сангу унесли с поля боя.
Когда начало смеркаться, армия Раджпута уже бежала по направлению к холмам Мевара. Прошел слух, что Рана Санга не позволил отвезти себя в Читар, поскольку дал клятву вернуться в свой город победителем.
К закату Бабур дошел до ставки неприятеля, находившейся в двух милях от его исходных позиций. Еще через две мили он повернул обратно, потому что «час был поздний. К полуночной молитве я вернулся в лагерь».
В полном соответствии с традициями Раджпута большая часть его героев осталась лежать на поле брани. Среди погибших был весь цвет местного рыцарства: Равул из Донгерпура с двумя сотнями сородичей, правитель Салумбро с тремя сотнями своих родичей из Чандавута, сын царевича из Марвара, вожди из Маиртина, Рао из Сонигурры, вожди из Чохана, правитель Мервара и многие другие. Хасан-хан из Милвата также был среди погибших. Так мы узнали великие имена, вошедшие в летопись, составленную 450 лет назад.
Моголы-победители воздвигли на поле брани пирамиду из множества отрубленных голов и наградили Бабура титулом Гази – победителя неверных.
Его полководцы одержали великую победу, впоследствии стало ясно, что она была решающей. Рана Санга не оправился от ран и умер в том же году. Ни один из его потомков не осмеливался снова встречаться на поле боя с Великими Моголами Индии. При Панипате Бабур вырвал власть из рук северных мусульманских правителей; при Канвахе он положил конец сопротивлению конфедерации Раджпута.
«Ничто не свершится помимо воли Бога»
После сражения при Панипате Бабур послал в Агру гонцов, велев им мчаться во весь опор. После Канвахи ничего подобного он не предпринимал. Возможно, во время длившегося целый день сражения войско понесло потери более существенные, чем он сообщает в своем дневнике, жалуясь на безволие своих военачальников. Однако с наступлением жары могольские войска отошли из долин Раджастхана. Опытные военачальники разъехались, чтобы заняться восстановлением крепостей, расположенных вдоль берега Джамны в нескольких днях пути от Канвахи. Бабур прибег к испытанному приему и снова вознаградил заслуженных воинов землями и отослал их осваивать новые владения. В то же время он сдержал свое обещание, хотя и очень неохотно, и разрешил многим своим подчиненным, вместе с их приближенными и добычей, вернуться в прохладные горы Кабула, о которых и сам тосковал в душе.
Впервые за целую треть века после встречи с превосходящим его противником Тигр мог без опасения смотреть на линию горизонта, не ожидая надвигающейся оттуда угрозы, и мог ложиться спать, сняв с себя кольчугу. Вокруг него оставалось достаточно врагов, побежденных лишь наполовину, а также немало лишь наполовину решенных задач, однако они больше не внушали ему опасений. Очевидно, он был убежден, что Всевышний, который своей милостью даровал раскаявшемуся грешнику победу над великими силами неверных, не оставит его и в других затруднениях. Его дневник, такой лаконичный в последние месяцы, свидетельствует о том, что Бабур вновь обрел уверенность в себе. Самые проницательные из его подчиненных не разделяли благостного настроения падишаха.
«Мухаммед Шариф-звездочет – каких только бед он мне не пророчил! – тотчас же явился с поздравлениями. Здорово выругав его, я отвел душу. Хотя это был человек, склонный к обману, пророчивший злое, очень самодовольный и противный, но так как он давно мне служил, то я пожаловал ему один лакх денег и отпустил его, чтобы он не оставался в моих владениях…
Думая, что Хосров Кукулдаш совершил в битве подвиг, я пожаловал ему в удел Алур [Алвар] и дал пятьдесят лакхов. По своему злополучию он начал ломаться и не принял Алура. Позднее стало известно, что этот подвиг совершил Чин Тимур-султан. Я пожаловал этому султану город Тиджара, столицу Me вата, и выдал ему в виде поддержки пятьдесят лакхов. Алур же достался Большому Турди, который в бою занимал правое крыло центра, совершил обходное движение и держался лучше других; я также выдал ему пятнадцать лакхов деньгами. Сокровищницу Алура и власть над всеми обитателями крепости я отдал Хумаюну…
Как уже упомянуто, перед походом на нечестивых все, и великие и малые, дали клятву верности; при этом было сказано, что после победы не будет принуждения и всякий, кто захочет покинуть Хиндустан, получит на это разрешение. Большинство людей Хумаюна были из Бадахшана и с той стороны никогда не ходили в поход даже на месяц или два месяца. Перед битвой они потеряли стойкость духа, и я дал им такое обещание. К тому же в Кабуле совсем не осталось войска. По этой причине было решено отправить Хумаюна в Кабул…
Между тем пришли сведения, что Хумаюн, прибыв в Дели, отпер некоторые казнохранилища и незаконно завладел ими. Я никогда не ожидал этого от Хумаюна, и у меня стало крайне тяжело на душе. Я написал Хумаюну письмо с очень суровыми увещаниями».Здесь снова возникают вопросы о личности Хумаюна и его побуждениях. Бабур приложил немало усилий, чтобы представить отъезд своего сына, – который в действительности отбыл в Бадахшан, а не в Кабул, – как самое обычное дело, объясняющееся тоской по дому, охватившей бадахшанский контингент. Однако неожиданное вторжение в сокровищницу, которую сам Бабур считал государственной казной и не притрагивался к ней, привело его в ярость. Бадахшанцы, даже в случае неподчинения, не осмелились бы на такой поступок без приказа Хумаюна, кроме того, в этом случае их не впустила бы туда и стража. Во время последней военной кампании Хумаюн получил щедрое вознаграждение – земли Хисара, в буквальном смысле несметные сокровища Дели, включая и знаменитый алмаз «Кохинор», а также сокровища крепости Алвар, которые достались ему перед отъездом. Был ли его поступок актом мести, в которой он зашел еще дальше, чем Ходжа Калан, перед побегом нацарапавший на стене те самые стихи? Возможно, это клика визирей надоумила его бежать из Хиндустана, ограбив его сокровищницу? Судя по всему, ворвавшись в помещение казны, Хумаюн просто выбрал там несколько понравившихся ему вещиц. Через пару месяцев Бабур выбросил из головы это происшествие и отправил в Бадахшан доверенного военачальника с почетным халатом и конем в подарок Хумаюну.
«Однажды ночью мы остановились у источника на выступе горы между Бусаваром и Джусой. Там мы приказали поставить шатер и съели маджун. Когда наше войско проходило мимо этого источника, Турди-бек Хаксар всячески расписывал его. Мы поехали к источнику на конях. Источник оказался действительно хороший. В Хиндустане, где почти нет проточной воды, нечего искать источников, те немногие источники, что там есть, сочатся из земли струйкой, а не бьют ключом, как в наших краях. Воды из этого источника хватило бы на полмельницы, она выбивается из-под склона горы. Вокруг источника сплошные луга; местность мне очень понравилась. Я приказал построить в верховьях источника восьмиугольный хауз из тесаного камня. Когда мы сидели у этого источника, наевшись маджуна, Турди-бек все время с гордостью повторял: «Раз я расхвалил это место, ему нужно дать название». Абдаллах сказал: «Его нужно назвать Царский ручей, восхваленный Турди-беком», и его слова вызвали великий смех и веселье… Турди-бек Хаксар, которого я заставил бросить жизнь дервиша и сделал воином, прослужил мне несколько лет. Потом влечение к дервишской жизни снова возобладало, и Турди-бек попросил отпустить его. Я дал ему разрешение удалиться от дел и послал его к Камрану [в Кандагар]».
Турди-бек повез в Кабул поэму, предназначенную уехавшим друзьям падишаха. Бабур тщательно отделывал эти стихи, и по мастерству они превосходят его обычный уровень:
О вы, которые ушли из страны Хинда,
Испытав там страдания и муки!
Стосковавшись по прекрасному воздуху Кабула,
Вы быстро удалились туда из Хинда,
И видели и нашли там развлечения,
Услады, веселье и удовольствие.
Мы тоже, слава Аллаху, не умерли,
Хотя много испытали тягот и горестей.
Радости души и страдания тела
Узнали вы, и мы тоже узнали.
Когда жара сменилась дождями, остальные беки и полководцы также получили разрешение разъехаться по своим новым уделам, и лишь падишах неизменно оставался в трудах, вместе с Халифой, в каком-то смысле заменившим ему Ходжу Калана. По окончании сезона дождей он вновь собрал оставшуюся у него армию, чтобы поручить ей охрану границ его новых владений. Сначала (в декабре 1527-го – январе 1528 года) Бабур повел свое войско на юг к Чандири – горной крепости, расположенной на юге Раджастхана. Он хотел обезопасить этот участок южных владений, принадлежавших до него Ибрахиму, и преподать запоминающийся урок царевичам Раджпута, которые после смерти Рана Санги вновь погрязли в своих обычных распрях. На требование подчиниться гарнизон Чандири ответил отказом.
«Чандири – прекрасное место, вокруг и в окрестностях много проточной воды; арк Чандири стоит на горе. Посреди горы выдолбили в камне большой хауз, другой большой хауз находится у того водопровода, через который прошли наши бойцы и взяли приступом крепость. Дома простых и знатных людей в Чандири все построены из камня. Жилища больших людей строятся очень роскошные, из тесаного камня, дома людей более низкого разряда – тоже из камня, главным образом нетесаного. Крыши вместо черепицы покрывают каменными плитами. Перед крепостью находится три больших хауза; прежние правители устроили всюду вокруг запруды и выкопали эти хаузы. В одном возвышенном месте, называемом Бетва, есть речка, от нее до Чандири будет три куруха. Вода Бетвы славится в Хиндустане своими хорошими качествами и прекрасным вкусом, это хорошая речушка. Посреди нее торчат отдельные скалы, подходящие для возведения построек. Чандири лежит в девяноста курухах к югу от Агры; высота Полярной звезды в Чандири – двадцать пять градусов…
В воскресенье… мы поставили Чин Тимур-султана во главе шести или семи тысяч человек и послали его на Чандири впереди нас… В пятницу… мы остановились вблизи Качвы. Пробыв в Качве один день, я послал расторопных надсмотрщиков и множество землекопов сгладить неровности дороги и вырубить заросли, чтобы повозки и пушки могли пройти без труда. Местность между Качвой и Чандири покрыта густыми зарослями…
Арк Чандири стоит на горе; внешние укрепления и самый город расположены среди гор. Ровная дорога, по которой могут пройти повозки, пролегает под внешними укреплениями. На следующее утро я выехал и расставил воинов на посты вокруг крепости – в центре, на правом крыле и на левом крыле. Устад Али Кули выбрал для стрельбы ядрами ровное место, без уклона. Надсмотрщикам и землекопам велели устроить насыпь для установки пушки, всем воинам было приказано приготовить щиты, лестницы и поставить людей к щитам, употребляющимся при захвате крепостей.
В это утро, когда мы подходили к стоянке, прибыл Ханифа и доставил несколько писем. В них сообщалось, что войско, посланное в Пураб, шло неосмотрительно и, вступив в бой, потерпело поражение. Наши люди оставили Лакнау и пришли в Канадж. Я увидел, что Халифа из-за этого расстроен и полон тревоги, и сказан: «Расстраиваться и тревожиться нет основания: ничто не свершится помимо воли Бога. Так как нам предстоит захватить крепость, то не говори об этих известиях; завтра станем штурмовать крепость, а потом посмотрим, что будет».
Враги укрепили как следует только арк, а во внешних укреплениях расставили людей по одному, по два на всякий случай. В тот же день вечером наши бойцы со всех сторон подошли к внешним укреплениям. Там было немного людей, и не произошло даже небольшого боя: враги бежали и ушли в арк.
Утром в среду войска получили приказ снарядиться, отправиться на свои места и начать сражение. Когда я выеду на коне со знаменем и ударят в барабан, пусть со всех сторон идут на приступ.
Задержав сигнал знаменем и барабаном, пока битва не разгорится, я смотрел, как устад Али Кули стреляет из пушки. Он выпустил три или четыре ядра, но так как место было без уклона, а стена крепости – очень крепкая, сплошь из камня, то выстрелы не произвели действия. Уже было упомянуто, что арк Чандири стоит на горе. С одной стороны в стене был сделан крытый проход для воды. Стенки этого прохода тянутся под горой, это единственное место, подходящее для нападения. Правый край и левый край центра, а также особый отряд получили приказ занять это место. Приступ начали со всех сторон, но в этом месте он был всего сильнее. Нечестивые кинули сверху несколько камней и сбросили огонь, но наши молодцы не обращали на это внимания; в конце концов, Шахим-юзбеги [51] поднялся к тому месту, где стенки водопровода примыкали к стене внешнего укрепления, наши йигиты тоже вскарабкались туда с двух или трех сторон… и водопровод был взят.
Люди, находившиеся в верхней крепости, не дрались даже столько времени и поспешно бежали. Йигиты во множестве поднялись в верхнюю крепость. Через короткое время язычники, совершенно обнаженные, снова выбежали и начали драться.
Многих наших людей они обратили в бегство и сбросили со стены, а нескольких человек зарубили насмерть. Причина, почему они так быстро ушли со стены, была, как говорят, такова: решив, что крепость придется сдать, они изрубили насмерть своих женщин и красивых девушек и, избрав для себя смерть, обнажились и ринулись в бой. В конце концов мои люди напали на них со всех сторон и сбросили со стены. Двести или триста нечестивых вошли во двор Медини Рао [вождя племени], многие из них поубивали друг друга следующим образом: один стоял с мечом в руках, а прочие один за другим добровольно подставляли шеи под удар. Большинство из них таким образом отправились в ад.
Милостью Божией мне удалось завоевать столь славную крепость в течение двух или трех гари, не поднимая знамени, не ударив в барабан и не начиная настоящей битвы. На горе к северо-западу от Чандири воздвигли башню из голов нечестивых».Так походя Бабур расправился с отличавшимися почти фанатичной храбростью воинами Раджпута. Больше ему не приходилось иметь с ними дела.
Усердный Халифа имел все основания для беспокойства. Перед глазами негласного первого министра будущей империи, – существующей пока лишь в воображении его повелителя, – проходила нескончаемая череда племен, верных и мятежных, стойко держащихся за свою независимость или предпочитающих покориться, говорящих на разных языках, сплоченных единственно нерушимой волей падишаха. Наиболее склонные к мятежу правители Восточного Афганистана выступили со своими войсками на Канаудж, находившийся в двух днях пути от Агры, в то время как падишах неспешно изучал систему водоснабжения захваченной им крепости, находившейся от Агры в семи днях пути.
Тигр не стал задерживаться в Чандири. Он двинулся в обратный путь, но не поехал в Агру, а взял восточнее и переправился через Джамну напротив Лакнау и Ауда, где находился очаг сопротивления. Как только известие о приближении войска достигло северных областей, мятежники поспешно отступили на противоположный берег Ганга и заняли оборонительные позиции, убежденные, что через широкую реку можно переправиться лишь на лодках. Положившись на своих боевых слонов, вожди повстанцев Баязид и Маруф не сомневались, что сумеют разгромить любую переправу. Бабур и его инженеры также не сомневались, что даже через Ганг можно построить плавучий мост. Али же возлагал большие надежды на свои драгоценные орудия.
«В четверг мы миновали Канаудж и стали лагерем на западном берегу реки Ганг. Наши йигиты силой отняли у врагов несколько лодок и привели сверху и снизу тридцать или сорок больших и маленьких барок. Мы послали Мир Мухаммеда, плотовщика, отыскать место для наведения моста и собрать все, что нужно, чтобы навести мост. Мир
Мухаммед выбрал место в одном курухе от нашей ставки и вернулся. Я назначил расторопных надсмотрщиков наводить мост. Устад Али Кули выбрал неподалеку от нас хорошее место, чтобы поставить пушку и стрелять ядрами, и занялся стрельбой. Ниже того участка, где наводили мост, Мустафа-и-Руми переправил пушки на лафетах на один остров и начал стрелять с острова. Выше моста построили парапет; стрельцы хорошо стреляли с парапета из ружей. Малик Касим могол и еще несколько йигитов раз или два переправлялись на лодках через реку и хорошо сражались, хотя их было совсем немного… Наконец, Малик Касим с несколькими воинами, осмелев, пробился к самому вражескому лагерю, избивая и тесня неприятеля. Враги сбежались в большом числе, имея с собой одного слона, напали на Малика Касима и потеснили его отряд обратно к лодке. Прежде чем лодку сдвинули с места, слон подошел и потопил ее. Малик Касим погиб в этой стычке.
Несколько дней, пока наводили мост, устад Али Кули хорошо стрелял из пушки. В первый день он выпустил восемь ядер, во второй день – шестнадцать; так он стрелял три или четыре дня. Этими ядрами он стрелял из пушки, называемой Гази, то была та самая пушка, из которой стреляли во время войны с нечестивым Сангой; оттого ее и назвали Гази. Устад Али Кули поставил еще одну пушку побольше, но выпустил всего одно ядро и пушка сломалась. Стрельцы тоже изрядно палили из ружей и опрокинули своими выстрелами множество коней и людей.
Афганцы, считая, что навести мост так быстро невозможно, издевались над нами. В четверг мост был готов. Небольшой отряд пехотинцев-лахорцев перешел на другую сторону; произошла незначительная стычка. В пятницу переправился пешим порядком особый отряд, стоявший в центре войска, а также йигиты с правого и левого крыла и стрельцы. Афганцы в полном вооружении, на конях и со слонами произвели натиск… бой продолжался долго: до послеполуденной молитвы. Ночью всех, кто перешел мост, перевели обратно».Бабур признавал, что, отзывая свой небольшой отряд в первые часы субботнего утра, он руководствовался довольно странными мотивами. Ровно год назад он выступил из своего лагеря, расположенного возле озера Сикри, во вторник, в день празднования Нового года. Четыре дня спустя он одержал победу над Рана Сангой. Теперь, у переправы через Ганг, Бабур снова покинул свой лагерь в день Нового года и намеревался воздерживаться от серьезных действий против афганцев в течение последующих четырех дней – до субботы.
«В этот день мы переправили пушки на лафетах, на заре следующего дня вышел приказ людям переходить реку. Когда били зорю, от дозорных пришло известие, что враги бегут. Чин Тимур-султан получил повеление возглавить войско и преследовать врага. Для погони был назначен отряд под началом Мухаммеда Али Дженг-Дженга… На рассвете я тоже перешел через реку; верблюдов я велел перевести на переправе, которую видел ниже. В этот день, в воскресенье, мы стали лагерем в одном курухе от Бангармау на берегу пруда…
«В субботу… я прогулялся в Лакнау и, вернувшись, переправился через реку Гун и спешился. В этот день я совершил омовение в реке Гун. Не знаю, вода ли попала мне в ухо или это случилось от действия воздуха, но у меня заложило правое ухо. Это длилось всего несколько дней, и сильной боли не было.
За один или два перехода до Ауда от Чин Тимур-султана прибыл человек и сообщил, что враги стоят на той стороне реки Сирд и что следует прислать подкрепление. Мы выделили ему в помощь отряд в тысячу человек из йигитов, стоявших в центре войска под начальством Карача-хана… Как только Карача соединился с султаном, они без задержки перешли на другой берег реки. Врагов было человек пятьдесят всадников с тремя или четырьмя слонами, они не выдержали и побежали. Наши люди сбили нескольких из них с коней, отрезали им головы и прислали ко мне… Шейх Баязид бросился в чащу и спасся… Чин Тимур-султан вечером остановился на берегу одного пруда; в полночь они сели на коней и погнались за неприятелем. Проскакав курухов сорок, Чин Тимур-султан достиг того места, где находились домочадцы и родичи шейха Баязида, но те убежали. В этом месте преследователи рассыпались во все стороны.
Несколько дней мы простояли в этом месте, чтобы устроить и упорядочить дела в Ауде и окрестных областях. Говорили, что в семи или восьми курухах выше Ауда, на берегах реки Сирд, есть прекрасные места для охоты. Мы послали Мир Мухаммеда, плотовщика, осмотреть переправы на реках Гогра и Сирд, после осмотра он вернулся.
В четверг я выехал с целью поохотиться».На этом месте дневник Бабура обрывается, и записи возобновляются лишь через пять месяцев. Однако из его повествования о последних неделях становится ясно, что сопротивление противников, обосновавшихся на берегах восточных рек, было сломлено. Судя по всему, Бабур надеялся, что эта кампания будет последней. В начале лета 1528 года его владения простирались более чем на тысячу миль от горной гряды Бадах-шана вплоть до слияния Ганга с рекой Гогра. Для Бабура настало время задуматься о том, каким будет его правление.
Глава 8 Империя Великих Моголов
После того как закончился сезон дождей и были сломлены последние силы сопротивления, падишах Хиндустана вызвал из Кабула свое семейство.
К тому времени две старших тетки, ветераны самаркандских скитаний, уже прибыли в его новые владения, откликнувшись на обращение падишаха ко всем потомкам Чингисхана, в котором он призывал их прибыть к его двору в Агру. Воссоединившись со своей семьей, Бабур окончательно разорвал нить, связывавшую его с Кабулом. Старшие сыновья остались в своих прежних владениях, порученные попечению Ходжи Калана. Остальные домочадцы упаковали свое имущество и выступили в путь, направляясь к Хайберу в сопровождении слуг и охраны.
Они везли с собой тщательно выбранные подарки, чтобы преподнести их Бабуру, и ломани себе головы, пытаясь угадать, что он задумал. Гульбадан, которой в те дни было около шести лет – почти столько же, сколько самому Бабуру во время его первой поездки в Самарканд, – путешествовала отдельно от своей матери, в обществе госпожи Махам, главной жены. Остальные, в том числе Ханзаде и афганская госпожа Биби Мубарика, ехали следом. Такое разделение могло объясняться внутренними распрями в гареме. Однако в памяти Гульбадан, которая была еще слишком мала, отложилось лишь воспоминание о главном событии этой поездки, которым стана для нее встреча с отцом.
«Я, самая незначительная особа, вместе с Госпожой отправилась выполнить свой долг перед отцом. Когда Госпожа прибыла в Сад Птиц в окрестностях Куила, оказалось, что нас ждут два паланкина и три всадника, которых прислал Его Величество. Она поспешно выехала из Куила и направилась в Агру. Его Величество намеревался выехать в этот сад ей навстречу. В час вечерней молитвы некто пришел к нему и сказал: «Я только что видел Ее Высочество на дороге, неподалеку отсюда». Мой царственный отец не стан дожидаться, пока ему подведут коня, и поспешил туда пешком. Он встретил ее возле дома моей матери [этот дом отдали матери Гульбадан позднее]. Она собиралась выйти из паланкина, но он не хотел задерживать ее и вместе с ее носилками дошел пешком до самого дома.
Затем, когда они поздоровались, она пожелала, чтобы я еще засветло явилась засвидетельствовать ему свое почтение. В тот день нас сопровождали девять всадников с девятью запасными лошадьми, окружавшими паланкины, посланные нам падишахом, а также около сотни моголов из личной прислуги Госпожи, на прекрасных конях и в нарядной одежде, так что на них было приятно смотреть.
Халифа, министр моего царственного отца, вместе со своей женой Султанум, выехал к зданию новых бань, чтобы встретить нас. Моя старая няня помогла мне выйти из носилок в Малом Саду. Она расстелила небольшой ковер и усадила меня на него. Все говорили мне, что, когда войдет Халифа, я должна встать и приветствовать его. Он вошел, я поднялась и обняла его. Затем вошла его жена Султанум. Не зная, что делать, я снова хотела подняться, но Халифа остановил меня, сказав: «Она когда-то прислуживала вам, поэтому вы не должны вставать перед ней. Ваш отец оказал своему старому слуге высокую честь [он имел в виду самого себя], приказав вам приветствовать его. Мы должны выполнять его пожелания!»
Халифа заставил меня принять в подарок шесть тысяч серебряных монет и пять коней, а Султанум подарила мне три тысячи и трех коней. Затем она сказала: «Праздничное угощение готово. Если вы желаете подкрепиться, окажите честь вашей покорной слуге». Я приняла приглашение. Они проводили меня в красивое место, где стояло возвышение под балдахином из красной ткани, отделанной парчой из Гуджарата… с четырехугольной оградой, держащейся на покрытых узорами столбах. Из покоев Халифы были принесены кушанья, там было много жареного бараньего мяса и хлеба, шербет и великое множество фруктов. Наконец, закончив завтрак, я снова села в носилки и отправилась выполнить свой долг перед отцом.
Я припала к его ногам. Он задал мне тысячу вопросов и заключил меня в свои объятия. Моя незначительная особа чувствовала себя такой счастливой, что и представить себе не могла большего счастья…»
Отец, с которым встретилась Гульбадан после своей раблезианской трапезы, совсем не был похож на того человека, который выехал из Кабула четыре года назад. По какой-то причине, – возможно, потому, что Махам не желала отправляться в путь без Хумаюна, – девочка и ее приемная мать провели в пути около пяти месяцев. За это время, с декабря 1528-го по июнь 1529 года, Бабур намеревался привести к окончательному повиновению свои новые владения, а также навести порядок в новом доме. В течение последних двух лет он воздерживался от новых авантюр, хотя и не отказывался от эпизодических приключений. Все свое время он посвящал своей невероятно разросшейся стране и ее народу, задумываясь о положении своей семьи в этой новой империи. Необходимо было наладить более тесную связь с подросшими сыновьями. Первым шагом в этом направлении стало письмо в Бадахшан, в котором он поделился с Хумаюном своими советами. Поводом к написанию этого письма стало рождение у Хумаюна сына, которого назвали аль-Аман, что значит «безопасность».
«После привета Хумаюну, по которому мы соскучились и стосковались, скажем: в понедельник, десятого числа месяца раби первого, явились Бек Кина и Биан Шейх. Из доставленных ими писем и донесений стали ведомы и известны обстоятельства, случившиеся по сю сторону и по ту сторону гор. Пусть бы Бог всегда посылал нам такие радости! Аминь, о Владыка двух миров! Имя ты дал ему аль-Аман, да сделает его Господь благословенным! Однако, хотя ты сам так написал, ты упустил из виду, что вследствие частого употребления простой народ произносит «аламан» [всадник] или «иламан» [защищенный], да сделает Господь его имя и его самого счастливым и благословенным; пусть дарует он мне и тебе долгие годы жизни и да пошлет аль-Аману счастье и благоденствие на многие века!
Пришло для вас время… не упускайте того, что идет в руки… Живи с Камраном в ладах. Тебе известно, что всегда соблюдалось такое правило: если тебе доставалось шесть частей, то Камран получал пять. Постоянно держись этого правила и не отступай от него… великие люди должны быть терпеливы. Имею надежду, что ты будешь обращаться с ним хорошо.
У меня есть на тебя маленькая жалоба: за последние два-три года от тебя не приходило ни одного человека; тот, кого я к тебе посылал, вернулся ко мне ровно через год. Разве так можно? В своих письмах ты постоянно говоришь об одиночестве. Одиночество для государя зазорно. Ведь сказано:Если ты связан с миром – избери примирение с судьбой,
Если же ты независим – живи по своей воле.
Нет оков крепче, чем цепи царского сана.
Одиночество несовместимо со званием государя.
Из внимания к тому, что я говорил, ты писал мне письма, но ты не перечитывал их, ибо, если бы ты вздумал их прочитать, то не смог бы этого сделать, а не сумев их прочитать, ты бы, наверное, изменил свой почерк. Почерк твой, правда, можно прочесть, если потрудиться, но он очень неясен, а никто еще не видел муамма [52] в прозе. Правописание у тебя неплохое, но и не очень правильное… Почерк твой, хотя и с трудом, все-таки читается, но смысл не вполне можно понять из-за неясных слов. И ленишься буквы выводить ты, наверное думая: «Напишу поизысканней!» – и потому получается темно. Впредь пиши проще, ясным и чистым слогом, и тебе меньше будет труда и тому, кто читает.
Ты теперь собираешься на большое дело. Советуйся с опытными, рассудительными беками и поступай так, как они тебе скажут. Дважды в день призывай к себе своего брата и беков, не предоставляя им в этом свободы. По всякому делу советуйся с ними и действуй всегда в согласии с мнением этих доброжелателей.
Ходжа-и-Калан привык общаться со мною не стесняясь; ты тоже держи себя с Ходжа-и-Каланом так же, как я держал себя с ним. Если, по милости божьей, в ваших краях станет меньше дел и нужды в Камране не будет, то пусть Камран оставит в Балхе крепких людей, а сам едет ко мне.
Будучи в Кабуле, я достиг стольких побед и завоеваний, что счел Кабул счастливым и сделал его моим личным владением. Пусть никто из вас не зарится на Кабул.
Пусть твои войска будут в сборе и в хорошем порядке.
Биан Шейх многое узнал от меня устно и осведомит тебя об этом. С тоскою по тебе шлю привет. Писано в четверг тринадцатого числа месяца раби первого».Судя по всему, на это письмо Хумаюн не ответил. Верный своим привычкам, он, очевидно, дожидался, когда звезды пошлют ему счастливое знамение. Принц Хайдар, достигший в те годы зрелого возраста, незадолго до этого прибывший из Кашгара, сообщает, что Хумаюн в то время испытывал дурное влияние некоего мауляны и пристрастился к опиуму. Однако он подчинился желанию отца и принял участие в «большом деле».
Речь шла о том, что Хумаюну следовало возглавить армию Бадахшана и Кабула и выступить в поход против узбеков, которые непрестанно тревожили его границы. Очередной поворот судьбы отразился на судьбе городов, расположенных на северо-западе. Персидский шах Тахмасп свергнул и убил правившего Хорасаном Убейд-хана – преемника Шейбани и прославленного узбекского полководца. Бабур, отмечавший, что Убейд-хана одурманили колдовством, увидел в этом возможность вернуть самаркандский престол для своего сына. Сам он не мог покинуть Хиндустан.
Однако ни Хумаюн, ни его брат не могли сравниться с узбекскими султанами в опыте и сообразительности. Хумаюн продемонстрировал известную сноровку, захватив пограничную крепость Хисар, но ближе к Самарканду подойти не смог и отступил, чувствуя себя побежденным. Должно быть, письмо матери, которая просила его прибыть ко двору в Агру, вызвало у него серьезные размышления. После типичных для него колебаний, продлившихся несколько месяцев, Хумаюн оставил свой пост в Бадахшане, поручив его совсем еще юному Хиндалу (без ведома Бабура, который немедленно отменил это назначение, как только узнал о нем). Рассказывали, что наследник империи совершил беспримерный подвиг и домчался до Кабула всего за один день. Оттуда он отправился в Агру.За 1529 год во внешнем мире произошло немало событий, которые, однако, никак не отразились на жизни Моголов. Великий турок, султан Сулейман, сжег свой обоз и отвел артиллерию от стен осажденной Вены, переключив свои интересы на лежащие к востоку моря. Их бороздили португальские эскадры, успешно прокладывавшие себе путь к берегам Дань-него Востока. Они уже превратили остров Гоа в свою цитадель и закрепились в устье Ганга, Читтагонге и вдоль побережья Сиама. Но европейские купцы наладили связь с южной империей Виджьянагар, – если говорить о собственно Индии, – а также королевством Бенгалия. Европейские негоцианты и посланники, часто совмещавшие обе эти должности в одном лице, стремились ко двору просвещенного Сефевида, шаха Тахмаспа, правившего в Тебризе, прославленном своей Голубой Мечетью, и в Исфага-не. В Тебризе жил тогда уже престарелый Бехзад, создатель миниатюр, по стилю сходных с произведениями Фра Анжелико, распоряжавшийся знаменитой библиотекой. В богатстве и энергии пробуждающейся Персии посланники-негоцианты видели залог расцвета будущей империи. Государство Шейбани, представлявшее собой рудимент средневековой эпохи кочевников, продолжало держаться обособленно и поддерживало связь лишь с отдаленными варварскими землями и теми редкими купцами из Москвы, которые осмеливались забраться в такую даль. Довольно примечательно, что первым европейцем, попавшим ко двору Великих Моголов, стал турецкий адмирал, потерпевший кораблекрушение во время попытки выбить с Гоа португальский флот. Однако это случилось уже в следующем поколении, в конце царствования Хумаюна.
«Все султаны, ханы, вельможи и эмиры преподнесли дары…»
Тем временем новоявленный падишах устроил при дворе свой первый прием.
В эти насыщенные недели записи в дневнике становятся разрозненными. Бабур не сообщает, с какой целью он задумал этот «тамаша» – общий праздник на тюрко-монгольский лад – и как приглашал во дворец гостей. Очевидно, известие о его победах передавалось из уст в уста, так же как и его призыв, обращенный ко всем родственникам, потомкам Чингисхана и Тимура. Он вызвал к себе Аскари, своего третьего сына, и одарил мальчика всеми атрибутами воина – от перевязи с мечом и почетных одежд до штандарта с конским хвостом и конюшней чистокровных лошадей. Бабуру еще предстояло оповестить приближенных о рождении внука.
Каковы бы ни были его побуждения, то был первый праздник, который он устраивал в качестве императора и, судя по всему, до сих пор ничего подобного его двор не видел. При виде этого варварства настоящий индийский распорядитель церемоний мог бы только содрогнуться, однако Бабур от души радовался празднику и отметил, что это было настоящее веселье.
Как император и хозяин дома, он занимал почетное место под восьмиугольным балдахином, воздвигнутым в знаменитом саду Агры и покрытым на случай дождя ароматными травами.
«В субботу, шестого числа того же месяца, состоялся пир. Я сидел на северной стороне недавно воздвигнутого восьмиугольного помоста, покрытого травою. Слева от меня сидели Тухта Буга-султан, Аскари и потомки святейшего ходжи, Халифа, а также прибывшие из Самарканда приближенные к ходжам муллы и чтецы Корана. Послы кызылбашей, узбеков и хиндустанцев присутствовали на этом пиршестве, их посадили с правой стороны. На левой стороне таким же образом сидели узбекские послы.
Перед угощением султаны и ханы, вельможи и эмиры преподнесли мне в подарок золотые, серебряные и медные деньги, материи и товары. Я приказал положить перед собой коврик, на коврик насыпали золото и медь, а куски материи и холста и кошельки положили в кучу рядом с серебром и золотом. До угощения во время подношения подарков на острове перед сидящими устроили бои пьяных верблюдов и слонов, стравили также и нескольких баранов. После этого боролись борцы.
После великолепной трапезы ходжу Абд-аш-Шахида и Ходжу-и-Калана облачили в расшитые поверху собольи шубы и подобающие почетные одежды; послу Кучум-хана и брату Хасана Челеби были пожалованы собольи шубы с пуговицами и башлыком, а также достойные их одежды. Послам Абу Саид-султана, а также послу Шах-Хусейна мы подарили чекмени с пуговицами и шелковые халаты. Двое ходжей и два великих посла получили в подарок золото на вес серебряной гири и серебро на вес золотой гири. Золотая гиря – это пятьсот мискалей, то есть половина кабульского сира… Нукеры моей дочери Масумы и моего сына Хиндала получили чекмени с пуговицами и суконные халаты.
Мир Мухаммеду, плотовщику, уже досталась подобающая награда за то, что он хорошо построил мост через реку Ганг. Этому Мир Мухаммеду, а также стрельцам пехлевану Хаджи-Мухаммеду, пехлевану Бахлулу и Вали Парсчи было пожаловано по кинжалу. Сын устада Али Кули тоже получил кинжал.
Людям, которые пришли со мной из Андижана и скитались без крова и без земли, а также выходцам из Суха и Хушьяра, я подарил чекмени с пуговицами, суконные халаты, золото, серебро и ткани.
После того как убрали кушанье, индусским фиглярам приказали явиться и показать свои штуки, фокусники также пришли и показывали фокусы. Хиндустанские фокусники показывают некоторые фокусы, которых не показывают фокусники в наших землях. Например, они берут семь колец, укрепляют одно из них на лбу и два – на пальцах ног и быстро и безостановочно крутят эти кольца. Другой фокус таков: фокусник опирается одной рукой о землю, а другую руку и обе ноги поднимает вверх и расставляет, как павлиний хвост, быстро и безостановочно вращая на них три кольца. Вот еще один фокус: фигляры нашей страны привязывают к ногам две палки и ходят по земле на ходулях, индусские же фигляры ходят на одной деревянной ходуле и даже не привязывают ее к ноге. Другой фокус: в нашей стране фигляры кувыркаются сцепившись по двое, а хиндустанские фигляры, кувыркаясь, сцепляются по трое, по четверо.
Еще фокус: один фигляр ставит себе на живот шест высотой шесть или семь кари и держит его отвесно, а другой фигляр взбирается на шест и проделывает на шесте всякие штуки. Другой фокус: низенький фигляр становится на голову высокому фигляру и стоит во весь рост; нижний фигляр быстро ходит в разные стороны и показывает свои штуки; в это время низенький фигляр прямо и не качаясь стоит у него на голове, тоже проделывая штуки. После фокусников явилось и плясало множество танцовщиц.
Незадолго до вечерней молитвы было разбросано много золота, серебра и меди; поднялся страшный шум и началась давка. Между молитвой перед сном и ночной молитвой я посадил около себя пять или шесть приближенных, и мы сели в лодку и отправились в Хашт-Бихишт.
В понедельник Аскари, который, выступая в поход, вышел из города, простился со мной в бане и отправился на восток».Обращает на себя внимание одна нетипичная черта этого приема. В то время как все еще колеблющимся иностранным послам были оказаны весьма сдержанные почести, на испытанных ветеранов подарки сыпались дождем. Бабур не забыл даже вождя племени, поддержавшего его во время первого путешествия в Кабул. Кроме того, из раджей и прочих первых лиц Хиндустана ни один не был приглашен на ковер для оказания почестей, их место заняли плотогон, смотритель за охотничьими гепардами, канонир и мушкетеры. Бабур никогда не забывал, что самой своей жизнью и завоеваниями обязан лишь небольшой горстке преданных ему людей.
Не мог он стереть из своей памяти и дни своей юности, когда его друзьями были таджики, населявшие хижины Ферганской долины, и горцы, чьими владениями были верхние пастбища, а злейшими тайными врагами – знатнейшие из беков. Как часто в своих воспоминаниях, это выражение переняла у него и Гульбадан, он отмечал, что его народом были высокие и низкие, знатные и простые. Едва ли в других мемуарах давно минувшего шестнадцатого века можно встретить подобное утверждение.
Группа высокомудрых праведников ходжей казалась на этом приеме выходцами с того света. Как часто в свой самаркандский период Бабур прибегал к их поддержке! Среди них был и Ходжа Калан, отозванный из Кабула, где он служил советником двум сыновьям Бабура. Будут ли и его сыновья и его новый двор в Агре так же прислушиваться к мнению служителей религии?
В Хиндустане между знатными и простыми людьми пролегала настоящая пропасть. Султаны Дели разделяли взгляды хиндустанских раджей, однако тюркам и всем остальным последователям ислама была чужда их кастовая система. По всей видимости, Бабур воспринимал ее как курьезный принцип распределения профессий среди ремесленников.
Свойственные Бабуру терпимость и гуманность представляли собой разительный контраст с заносчивостью султана Ибрахима, фанатизмом султана Сикандера и гордыней Рана Санги. Однако царь-дервиш, спустившийся с горных вершин, собирался распространить свое влияние дальше расстеленного перед его престолом ковра. А время шло.Особое внимание привлекает отсутствие на празднике целой группы полководцев. Чин Тимур, Кукулдаш, Дженг-Дженг и другие ветераны не явились за своими наградами, что объяснялось их участием в походе в загадочные области Синда, где берега Инда становились песчаными, а свирепые и непокорные афганские племена отбивались от тянущихся к их владениям с целью развязать войну диких белуджей. Заслуженные полководцы успели познакомиться с этими местами, когда, пять лет назад, пытались удержать для падишаха Лахор.
У отягощенного заботами падишаха был лишь один механизм государственной власти, и в неспокойные области он направил военачальников, чтобы положить конец распрям и одновременно выступить в роли джагирдаров [53] и попытаться собрать с населения налоги. Армия все еще находилась на военном положении, и все гражданские чиновники имели одновременно и военные чины. Казначей Вали командовал дивизионом, стареющий библиотекарь Абдулла нес службу в Канвахи.
Как только у Бабура выдалось время для размышлений, он пришел к выводу, что необходимо взять под наблюдение дорогу, связывавшую Агру с Лахором и Кабулом. Тот путь, который привел его в Хиндустан, по-прежнему оставался единственной дорогой жизни среди захваченных им земель, хотя никаких попыток усовершенствовать дорожное полотно до сих пор не предпринималось. Во-первых, следовало обезопасить дорогу сторожевыми башнями, расставив их через определенные промежутки, а также предусмотреть перекладные станции на шесть лошадей. Был издан указ, поручивший их строительство и содержание местным джагирдарам.
Одно нововведение неизбежно влекло за собой другие. В процессе вычисления расстояний между башнями и их высоты могольские военачальники получили на руки результаты измерений, единицы которых отличались от принятых в Кабуле. В пояснениях непонятные меры длины переводились в количество шагов, размахов рук, ширину ладони и даже размер шести пшеничных зерен.
Индийские числительные, служившие для обозначения величин, превосходящих лакх и крор, поначалу откровенно сбивали с толку моголов, привыкших у себя на родине вести счет на сотни и тысячи. До сих пор их ювелирные украшения состояли по большей части из обломков бирюзы или граната, иногда нескольких рубинов, оправленных в серебро. В Хиндустане и Раджастхане они столкнулись с менее яркими драгоценными камнями, способными излучать свет после огранки, – то были алмазы, изумруды и крупный жемчуг, которые не вызывали у них поначалу никаких чувств, кроме легкого любопытства. Подобные сокровища не возбуждали их алчности. Тонкие индийские ткани, муслины и шитая золотом парча казались моголам более подходящими для того, чтобы просто любоваться ими, и им не приходило в голову использовать их для изготовления одежды. Однако их женщины придерживались другого мнения.
Вероятно, одной из самых острых стала проблема связи, и в этом вопросе моголы прибегли к местному опыту. Быстроходные курьеры с помощью системы перекладных станций поддерживали непрерывное сообщение между подвижным двором Бабура и его военачальниками. Он учредил должность ясаула – гонца для особо срочной доставки своих письменных приказов, а также надзора за их исполнением. Кроме того, царил настоящий хаос в сфере законодательства, денежного обращения, обычаев и даже языков, поскольку арабский язык, использовавшийся для религиозных отправлений, сосуществовал с персидским языком официальных документов, постепенно вытеснявшим привычное чагатайское наречие тюркского языка, а также пушту, хиндустани и раджпутанским и бенгальским наречиями и диалектами исконных племен, населявших равнинные и горные территории. В окрестностях военных укреплений, по-прежнему игравших роль административных центров, сложился смешанный язык, поскольку солдаты союзных армий общались на персидском и хиндустани. Впоследствии это наречие превратилось в язык урду, которым и теперь пользуются северо-западные области Индии. Даже Тигр, создавший в Кабуле собственный язык, вынужден был пользоваться услугами переводчика.
Со всех сторон раздираемый противоречиями, падишах отбирал энергичных людей для решения наиболее насущных проблем. Поскольку до сих пор в его стране не сложились структуры власти, он создал структуры ответственности. Так же как мастер Али Кули отвечал за исправность своих орудий, другой мастер отвечал за наемных рабочих, занятых строительными работами в Агре.
В области сбора налогов его доверенные военачальники взяли на себя роль джагирдаров, перехватив в свою пользу исконно существовавшую подать, которую земледельцы выплачивали своим феодалам. Купцы также платили положенную пошлину, а немусульманское население – еще и подушную подать. Во всяком случае, такой порядок предполагался по плану, учитывавшему, однако, особенности каждого района. Реальная сумма, которую удавалось собрать джагирдарам, как, например, Махди-ходже из Итаваха, зависела от количества дождей, величины урожая, потребностей населения и энергичности исполнителей. Крупные землевладельцы – заминдары – выплачивали в казну десятину, размер которой, как правило, уменьшался по мере удаления от Агры. Живущие на границах князья и вожди присылали ежегодную дань, часто исчислявшуюся откровенно символической суммой, – так поступали и неисправимые любители набегов юсуфзаи и афридии, сами еще не забывшие набегов Тигра. Пенджаб по-прежнему страдал от непрекращающихся войн, и ничего не поступало из областей Синда, расположенных на западе, а также с берегов Ганга, расположенного на востоке.
Бабур был вынужден управлять страной сидя в седле, поскольку непрерывно находился в пути, объезжая горные крепости и селения речных долин и, по его собственному выражению, «воодушевляя» недоверчивых и внушая им надежды на будущее. Вероятно, оставив местную экономику в ее первозданном виде, он выбрал меньшее из двух зол. В первую очередь Бабур свернул ко все еще беззащитным южным границам и знаменитой крепости Рантхамбхор, находившейся в руках сына Рана Санги. Бабур избавился от этого раджи Бикрамаджита, сослав его в один из самых отдаленных уделов.
В Гвалияре, поднимаясь в горы с плодородной долины, он лицом к лицу столкнулся с высеченными в скале изваяниями великих богов Хиндустана.
«Выехав из сада Рахимдада, мы осмотрели кумирни Гвалияра. Некоторые кумирни построены в два или в три яруса, но ярусы низкие, древней кладки; нижняя часть стен украшена изображениями, вытесанными из камня. Осмотрев эти здания, я выехал из западных ворот Гвалияра и осмотрел местность. Потом я прибыл в сад Рахимдада, перед Хати-Пулом, и расположился там. Рахимдад устроил в этом саду праздничное угощение: он предложил хорошие кушанья и поднес много подарков. Деньгами и вещами подарков было на четыре лакха. Выехав из этого сада, я вечером возвратился в свой сад.
В среду я выехал осмотреть водопад, находящийся юго-восточнее Гвалияра. От Гвалияра до этого водопада шесть курухов пути. Так как мы тронулись в путь довольно поздно, то достигли водопада после полуденной молитвы. С отвесной скалы высотой в один аргамчи, бурля, низвергается река, достаточная для одной мельницы. Под тем местом, где падает вода, находится большое озеро; выше водопада вода течет по сплошным скалам; под водопадом тоже лежат глыбы камня. То тут, то там вода во впадинах образует пруды. На берегах потока разбросаны большие камни, на которых можно сидеть, но только вода, говорят, течет там не постоянно. Мы посидели у водопада и съели маджун, потом поднялись наверх по реке и дошли до ее начала. Вернувшись, мы поднялись на возвышенность и немного посидели там. Музыканты играли на инструментах, певцы что-то пропели. Черное дерево, которое жители Хиндустана называют тинду, показали тем, кто его еще не видел. Двинувшись в обратный путь, мы спустились с горы и между вечерней молитвой и молитвой перед сном сели на коней. Около второго паса ночного времени мы достигли одного места, где могли поспать, а к исходу первого дневного пахра прибыли в сад и спешились».
Тигр совершал свои поездки, невзирая на время суток, и часто проводил ночь под открытым небом. Однажды он заметил, что ему ни разу не случалось праздновать Рамазан на одном и том же месте с тех пор, как ему исполнилось семь лет.
Он не делал попыток изуродовать или уничтожить дворцы Хиндустана, как делали его предшественники – Махмуд и султан Сикандер. В Канвахине он призывал свою армию к священной битве против неверных, однако теперь, после победы над ними, воспринимал индусов как одну из составных частей своего народа (эти принципы перенял и его внук Акбар). Бабур отмечал, что дворцы Гвалияра очень напоминают, если не считать изображения идолов, мусульманские медресе. Теперь он приглашал на совет не только своих беков, но и «тех, что из Хиндустана». Во время переговоров относительно занятия Рантхамбхора он побеспокоился о том, чтобы пригласить «сына Дива, старого хиндустанского слуги» и уладить условия капитуляции с послами Бикрамаджита «по их обрядам и обычаям».
В Дхалпуре, обследовав колодец, из которого исходил дурной запах – для чего он заставил рабочих пятнадцать дней и ночей непрерывно вращать подающее воду колесо, – Бабур отметил, что «камнетесы и работники получили подарки в соответствии с принятыми в Агре обычаями».
Примерно в то же время он написал своим родственникам, оставшимся в далеком Герате, довольно жизнерадостное послание: «Мое сердце спокойно за порядок в Хиндустане, я не жду мятежа ни с востока, ни с запада и воспользуюсь любой возможностью, если будет на то воля Всевышнего, чтобы завершить начатое».«В Хиндустане оказались такие дыни…»
Это письмо свидетельствует о вновь обретенной им уверенности в будущем. Очевидно, что среди всех, кто был вовлечен в решение гигантской задачи по созданию стройной империи из таких непохожих между собой земель, на долю Тигра выпали наименьшие испытания. Однако в своем письме Ходже Калану он признается в своем тайном желании навестить Кабул. «Мое стремление, неразрывно связанное с западными землями, таково, что нет слов, способных его выразить. Дела в Хиндустане в конце концов пришли к некоторому порядку, и недалеко то время, когда волею Всевышнего в этой стране будет спокойно. Как только этот день настанет, я выеду в Кабул, приятности которого глубоко запечатлелись в моем сердце».
После этих слов он сообщает о том, что тоска по дому так овладела им, что он лил слезы, разрезая дыню, привезенную ему из родных мест.
Часто утверждают, будто Бабур подумывал о воссоединении с Ходжой Каланом и Хумаюном, чтобы вновь встать во главе своего войска и предпринять последнюю попытку отбить Герат и Самарканд, – другими словами, «завершить начатое». Однако поверить в это невозможно. В письме, написанном двумя месяцами раньше, он поручил эту кампанию своим сыновьям, назначив Калана их советником. Очевидно, он надеялся на то, что они сумеют чего-нибудь добиться, – по крайней мере, воинской славы, – хотя и не рассчитывал на многое. Он ждал прибытия в Агру Камрана, надеясь, что тот сумеет выбрать время для поездки. Когда Ходжа получил это письмо, Хумаюн находился в походе вдоль течения Аму, а Бабур только что отпраздновал в Агре свой тамаша.
Нет, эти письма следует читать так, как они написаны. Бабур снова был болен, притом довольно тяжело; говоря о своем «стремлении», которое невозможно выразить словами, он имел в виду лишь свое желание вновь увидеть знакомые горы Кабула, где он мог отдохнуть. В своих посланиях Хумаюну и Камрану он напоминает своим сыновьям о том, что Кабул является государевой вотчиной, и предостерегает их от покушения на эти земли. Характерно, что, лишившись своих любимых дынь, Бабур решил выращивать их в Агре. Велев прислать семена из Балха, он посадил их в Райском Саду и, когда они поспели, с удовлетворением заметил: «…я был очень доволен, что в Хиндустане оказались такие дыни и виноград».
В том же письме Калану, написанном в феврале 1529 года, Бабур, покончив со стенаниями по излюбленным дыням, дает четкие указания относительно дальнейшего управления Кабулом, детально вникая в вопросы его обороноспособности и строительства, развития садоводства и переезда его домочадцев в Хиндустан. В наказы, касающиеся непосредственно Кабула, вплетаются воспоминания о минувших днях, анекдот об остроумии легкомысленного поэта Бинаи и сожаления по поводу утраченной возможности найти утешение в вине.
«Мне писали о неустройствах в Кабуле. Обдумав этот вопрос, я в конце концов пришел к такой мысли: если в одной области семь или восемь правителей, откуда может быть в ней порядок, благоустройство и хорошее управление? Поэтому я вызвал мою сестру и жен в Хиндустан и объявил все области и селения Кабула государевым уделом. Хумаюну и Камрану я также подробно написал в этом смысле. Пусть какой-нибудь достойный человек передаст мирзам мои письма. Раньше я тоже писал мирзам об этом, и быть может, вам уже все известно. Теперь не остается никаких оправданий и отговорок касательно управления и благоустройства этих областей. Отныне, если крепость останется неукрепленной и народ в небрежении, если не окажется запасов и казна не будет полна, это должно будет приписать нераспорядительности Опоры власти.
Относительно кое-каких неотложных дел, которые будут перечислены ниже, уже пошли приказы; один из них гласит: «Пусть казна будет все полнее». А неотложные дела таковы: прежде всего – приведение в порядок крепости, затем накопление припасов, затем расходы на продовольствие и ночлег прибывающих и отбывающих послов, затем постройка соборной мечети.
Деньги на все это пусть берут из доходов и тратят законно. Еще следует привести в порядок караван-сараи и бани, достроить кирпичный портик в арке, наполовину воздвигнутый устадом Хасаном Али. Пусть посоветуются с устадом Султан Мухаммедом и работают по соответствующему плану… пусть сговорятся и возводят постройку по какому-нибудь красивому плану так, чтобы ее пол был на одном уровне с полом дивана.
Еще: содержите в порядке плотину на Малом Кабуле, которая должна задерживать воду реки Бут Хак в том месте, где она впадает в Малый Кабул. Еще: почините плотину Газны.
Опять же – сад на хиябане [54] . В саду мало воды. Следует добыть воду, достаточную для одной мельницы, и провести ее.
Еще: к юго-западу от Ходжа-Баста я провел воду из Тутум-Дара на вершину одного холма, устроил хауз и посадил саженцы. Так как это место находится напротив переправы и оттуда хороший вид, оно было названо Низаргах. Там нужно опять посадить хорошие саженцы, разбить по плану лужайки и посадить вокруг лужаек красивые благовонные цветы и травы.
Еще: Саид Касим назначен начальником вспомогательного отряда. Не пренебрегайте обстоятельствами устада Мухаммед-Хасана – оружейника и его стрелков.
Сейчас же по получении этого письма поскорее отправьте мою сестру и жену и проводите их до Нил-Аба, какие бы ни были помехи, пусть непременно выезжают из Кабула, не задерживаясь больше, чем на неделю после прибытия этого письма, так как отряд, вышедший им навстречу из Хиндустана, ожидая их в теснинах, будет терпеть лишения…
В письме, которое я послал Абдаллаху, было написано, что пребывание в долине воздержания причинило мне много беспокойств.
Вот рубаи, выражающее мои затруднения:Из-за отказа от вина я в расстройстве,
Не знаю я, что мне делать, и смущен.
Все люди каются, что пили вино, и дают обет воздержания,
А я дал такой обет и теперь каюсь.
Мне вспомнилась одна остроумная выходка Бинаи. Однажды Бинаи, будучи у Алишер-бека, удачно сострил. На Алишер-беке был чекмень с пуговицами. Он сказал: «Ты хорошо пошутил, и я бы подарил тебе мой чекмень, но мешают пуговицы». Бинаи возразил: «Пуговицы чем могут помешать, это петли мешают». Ответственность лежит на рассказчике. Извините меня за все эти шутки, ради Господа; не подумайте обо мне плохо. Вышеприведенное рубаи действительно написано в прошлом году. За минувшие два года мое стремление и влечение к пирушкам было беспредельно и безгранично; иной раз тоска по вину доводила меня чуть не до слез. В нынешнем году это беспокойство духа, слава Аллаху, совершенно улеглось, по-видимому, помогло счастье и благословение, ниспосланные мне за перевод в стихах послания ходжи Ахрари. Откажитесь и вы тоже от вина! Пировать хорошо с милыми сердцу собутыльниками и собеседниками, но с кем устроите вы теперь пирушку, с кем станете пить вино? Если ваши собутыльники Шир Ахмед и Хайдар Кули, то воздерживаться от вина не так уж трудно. Тоскуя по вас, шлю привет. Писано в четверг, в первый день месяца второй джумады».
Этим письмом Тигр обозначил окончательный разрыв, и довольно болезненный, со своим прежним домом. Судя по всему, он не сомневался в том, что уже никогда не покинет Хиндустан, а также и в том, что его жизнь подходит к концу. Он приказал Махам и своей сестре и дочерям не откладывать поездку в Агру, однако в действительности их путешествие заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. Его младший сын Хиндал, которого сам Бабур еще никогда не видел, на некоторое время задержался в Бадахшане у Хумаюна. Даже в тот день, когда Бабур писал эти строки, он находился в походе, стремительно двигаясь на восток, чтобы помочь Аскари дать отпор новому врагу.
Сезон дождей еще не закончился. Время от времени с пасмурного неба налетали порывы ветра, будто вызванные чьей-то злой волей, и обрушивались на растительность джунглей и лагерные палатки. Бабур, периодически поддерживавший себя очередной дозой опиума или маджуна, спешил навстречу Аскари, который ждал подкрепления на противоположном берегу Ганга, и не останавливал продвижения своих войск, несмотря на то что в один прекрасный день вынужден был перебраться в носилки. Теперь он все чаще предпочитал пользоваться лодками, которые всегда сопровождали войско во время походов вдоль полноводных рек. На этих же лодках перевозили и знаменитые пушки, а также поставленные на колеса мортиры.
«Во вторник мы переправились на лодке на покрытый зеленью остров, находившийся напротив лагеря. Прогулявшись по острову, я в первый пахр вернулся к лодке. Возвращаясь верхом на коне, я незаметно оказался возле оврага. Мой конь поднялся на осыпавшийся край оврага, и земля под ним подалась. Я сейчас же соскочил и перепрыгнул на берег реки, конь тоже не провалился. Если бы я оставался на коне, то, наверное, провалился бы в овраг вместе со своим конем. В этот день я переплывал реку Ганг саженками и сосчитал саженки; оказалось, что я переплыл тридцатью саженками. Тотчас же, не отдыхая, я снова переплыл реку на ту сторону. Я переплывал все реки, оставался один Ганг… В этот вечер, когда после молитвы прошло пять гари первого паса, прорвались дождевые тучи и в одну минуту произошел такой потоп и поднялся такой сильный ветер, что лишь немногие шатры не упали. Я сидел в своей палатке и писал. Я не успел собрать бумаги и тетради, шатер и столбы упали мне на голову. Верхняя кошма палатки разлетелась в куски, но Бог сохранил меня, я не пострадал. Бумаги и тетрадки залило водой, их с трудом собрали, завернули в красный коврик, положили на скамью и прикрыли сверху коврами. Буря стихла через два гари. Мы велели поставить складную палатку и зажечь свечу, с трудом развели огонь и до самого утра не спали, занятые сушкой бумаг и тетрадок».
К счастью, за несколько дней до этой разрушительной бури Ходжа Канан обратился в письме с необычной просьбой. Ему хотелось иметь в Кабуле точную копию записей Бабура, хотя было бы не совсем правильно называть их отчетами падишаха, – скорее, это просто его мемуары. Бабур сообщил, что отправил Калану «сделанную копию».
Во время путешествий через полноводные реки гонцы держали его в курсе положения на всех границах, вплоть до самого Балха; он знал о прибытии ожидаемого из Тебриза посла и о том, как продвигается путешествие Махам. Однако от Хумаюна по-прежнему не было известий, несмотря на отцовский наказ.
Сопровождаемый лодками отряд Тигра продвигался в сложных условиях незнакомой местности в окрестностях Бенареса. Он вкратце упоминает, что афганский бек, некто Шерхан, оставил свой пост и перешел на сторону мятежников. (Шерхан, больше известный как Шер-шах, станет блистательным противником Моголов на ближайшие годы – для
Хумаюна он будет представлять не меньшую опасность, чем Шейбани для Бабура.) Однако эта неприятная новость, казалось, не встревожила Тигра. Он выделил два отряда конных лучников, назначив им тюркских и хиндустанских начальников, и отправил вместе с сыном Дженг-Дженга, чтобы доставить «воодушевляющие послания» населению восточных областей. Остальные знаменитые военачальники остались на западе, вместе с Чин Тимуром. Бабур давно привык иметь при себе лишь небольшую часть своей армии и не придавал большого значения численности врага.
В свой дневник он заносит сообщения о различных происшествиях в лагере. Описывает, как любитель прихвастнуть вызывал на борцовский поединок всех желающих, но был побежден первым же противником, и Бабур вручил ему утешительный приз. Затем в джунглях устроили охоту на тигров и носорогов, решив загонять животных с помощью выстроенных полукругом слонов, однако ни одного зверя не поймали. Бабур сообщает и о том, как он пытался лечить свои нарывы и два часа распаривал их над котелком с кипящим настоем перца по совету одного из турков, однако добился лишь сильных ожогов. О том, как поймали случайно забравшегося в лодку крокодила – диковинного зверя в глазах приближенных Бабура. Когда Бабуру сообщили о том, что неподалеку на пруду цветут лотосы, он отправился туда, чтобы собрать их семена. Войдя на вражескую территорию, начинавшуюся от места слияния двух рек, он изучал ее с таким же любопытством, как будто столкнулся с новым необыкновенным явлением.«Лагерь был расположен на берегу реки Карманаса. Хиндустанцы будто бы тщательно избегают воды Карманаса. Благочестивые хиндустанцы не стали переправляться через эту реку, но сели в лодки и переплыли Ганг напротив устья Карманаса. Они твердо верят, что, если человек коснется воды этой реки, все его благочестивые дела пропадут даром. Причину наименования этой реки они тоже связывают с таким ее свойством. Сев в лодку, я проплыл немного вверх по реке Карманаса и снова возвратился обратно. После этого я переправился на северную сторону Ганга и мы поставили лодки у берега реки. Некоторые йигиты начали забавляться, другие боролись. Кравчий Мухсин объявил, что схватится с четырьмя или пятью борцами. Схватившись с первым, он едва не был брошен, а второй повалил Мухсина; тот был очень пристыжен и смущен».
Измученный болезнью Бабур делал записи нерегулярно, в интервалах между периодически обрушивающимся на лагерь ненастьем, однако, как по волшебству, был в курсе всех происходящих событий. Его дипломатическая неискушенность сменилась приобретенной с опытом изощренностью, и он оттеснял все дальше мятежных афганцев вместе с их несгибаемыми вождями – султаном Баязи-дом, Махмуд-ханом, братом Ибрахима, и новоявленным Шерханом. Его обращения действительно «воодушевили» местных жителей, которые в результате встали под его знамена, а к тому времени, когда армия Тигра достигла места слияния рек, из лагеря мятежников начали с боем уходить вожди, ищущие союза с ним. Охваченные недовольством города Чунар, Бенарес и Газипур уже остались у него в тылу.
Однако впереди его все еще поджидала серьезная опасность. Назрат-шах, правитель Бенгалии и Бихара, во время недавнего праздника ограничился лишь символическими дарами, которые и преподнес падишаху. Однако теперь войска Бенгалии и Бихара были приведены в боевую готовность и сконцентрированы у слияния Гогры и Ганга, как видно, для того, чтобы преградить путь отступающим афганцам Лоди. Когда же Бенгали – как Бабур называл Назрат-шаха – принял Баязида, Махмуда и Шерхана в своей ставке, Бабур догадался, что армия Бенгалии будет чинить ему препятствия в преследовании неприятеля. Тем не менее он не собирался отступать перед выстроившимся для сражения вражеским войском.
Сам он не хотел этого сражения. «Мое главное стремление – мир», – писал он Назрат-шаху.
Затем Бабур придумал кое-что другое. Четыре месяца назад, в Агре, он вручил своему тринадцатилетнему сыну Аскари воинские знаки и штандарты. Так же как в свое время при Панипате, Тигр старался поддержать репутацию Хумаюна, теперь он надеялся добиться воинской славы и для своего третьего сына. Следовательно, именно Аскари должен был принести войску победу. Однако Бабур не хотел повторения кровопролития, случившегося при Панипате и, возможно, даже не был уверен в победе своего смешанного войска, возглавляемого молодыми военачальниками.
Тем не менее и у слияния двух рек ему удалось добиться всего, на что он рассчитывал. Он достиг этого с такой легкостью и изяществом, как будто войско моголов разыграно заранее написанную пьесу.Для Аскари это было добрым знамением
Из сообщений осведомителей стало известно, что бенгальская армия весьма многочисленна, обладает сильной пехотой и большим количеством огнестрельного оружия, которое, очевидно, было добыто у португальцев, обосновавшихся в торговых портах. Более того, разведка доложила, что неприятель занимает выгодную позицию между руслами двух рек. Обрывистый берег, топкая почва и густые заросли делали эту местность непроходимой для конницы, на которую моголы полагались в первую очередь.
Возможно, Назрат-шах не догадывался – хотя султаны Лоди должны были его предостеречь, – что моголы давно не были новичками в преодолении водных преград.
Приближаясь к Двум рекам – месту, где бурные воды Гогры сливались с широким Гангом, чтобы встретиться с неприятелем лицом к лицу, Бабур не поленился завернуть к местным мусульманским святыням и помолиться там. Он отбраковал изнуренных лошадей и отправил их в тыл нагуливать силы. Он и сам был не в лучшей форме, поэтому расположился на небольшом судне под названием «Полезный», оборудованном наблюдательным пунктом.
Поскольку Аскари передвигался по левому берегу Ганга, а судно Бабура следовало вдоль правого берега, Тигру пришлось наладить водное сообщение с театром боевых действий. Позиции могольского войска находились в V-образном пространстве между Гогрой и Гангом, что было довольно невыгодно, поскольку им предстояло встретиться с многочисленной армией неприятеля, отделенного водным потоком, посреди которого из воды поднимался укрепленный остров, а вдоль берегов выстроилась флотилия бенгальцев. Плотогоны сообщили Бабуру, что в этой развилке ни через Гогру, ни через Ганг переправиться вброд невозможно.
Падишах приказал войску Аскари отступить от берега и вывел на освободившееся место свои отряды. Несколько дней продолжалась изнурительная подготовка, – у слияния рек возводились платформы и насыпали парапеты для самого крупного орудия «Победитель», а также для всех остальных пушек и мортир. Мастеру Мустафе была поручена другая задача – он строил укрытия, из которых его ружья и мортиры могли обстреливать укрепления острова и вражескую флотилию. Когда с обеих сторон началась беспорядочная пальба, Бабур вызвал к себе Аскари и других военачальников на совет. Он сказал им:
«От Сикандапура в Чатур-Муке до Ауда и Бараиша переправ на реке нет. Раз уж мы стоим здесь, то назначим большой отряд, который переправится у Халди на лодках и пойдет на врагов».
Бабур сообщил своим полководцам, что намеревается укрепиться на полуострове с двумя отрядами, расположенными в укрытиях, в то время как
Аскари с четырьмя отрядами, что составляло две трети всего войска, должен переправиться через реку в ее верховьях. У Халди, там где русло Гогры сужалось, была переправа, всего в нескольких милях вверх по течению, и в этом месте могольская разведка уже держала наготове лодки. До сих пор вражеские войска не появлялись у переправы.
Отряды Аскари готовились к своему обходному маневру, а Бабур давал остававшимся с ним военачальникам последние наставления:
«Пока они вернутся, устад Али Кули и Мустафа будут вести стрельбу из пушек, ружей, пищалей и мортир. Мы, со своей стороны, переправившись через реку Ганг, назначим подкрепление устаду Али Кули и будем стоять в полной готовности. Когда войска, переправившись через реку, подойдут близко к противнику, мы тоже начнем бой и перейдем реку».
Рассвет первого дня сражения на реке был встречен канонадой, и Бабур не мог усидеть на месте, решив лично проверить, что происходит на артиллерийских позициях. «Во вторник мы стали лагерем за один курух от слияния рек, возле поля битвы. Я сам поехал и посмотрел, как стреляют пушки и пищали устада Али Кули; в этот день устад Али Кули, поразив ядром из пищали две лодки, разбил и потопил их. Мустафа тоже с этого места поразил из пищали две лодки, разбил их и пустил ко дну. Я приказал подвести к месту битвы большую пушку и, поставив Мулла Гулама наблюдать за тем, как будут выравнивать для нее место, назначил ему в помощь несколько ясаулов и расторопных йигитов. После этого я вернулся назад, и мы поели маджуна на одном островке напротив лагеря… на следующий день, в среду, я сел в лодку, называемую Гунджаниш [55] , и, подъехав поближе к месту, откуда стреляли, поручил каждому какое-нибудь дело… В час полуденной молитвы от устада Али Кули пришел человек и сказал: «Ядро готово, какой будет приказ?» Я велел: «Пусть стреляет этим ядром, а к тому времени, когда я приеду, подготовит другое ядро». Во время послеполуденной молитвы я сел в маленький бенгальский челнок и направился к тому месту, где был устроен парапет. Устад снова выстрелил крупным ядром и еще несколько раз выстрелил из пищали. Бенгальцы славятся своим умением стрелять. На этот раз мы хорошо их наблюдали: они не стреляют в одно место и бьют по всем направлениям».
Между тем отряды Аскари переправлялись через Гогру чуть севернее этого места. Из-за стычек и перестрелок между лодками на реке царил хаос, то тут, то там бенгальцы пытались прорваться вперед. Бабур отправил несколько отрядов, которые должны были отогнать неприятельский десант, а затем подняться по реке, чтобы присоединиться к Аскари. Моголы устремились по направлению к переправе у Халди.
В начале третьего дня поступили известия, которых с таким нетерпением ожидал Бабур, продолжавший разыгрывать свою партию с артиллерией и лодками. «Все вражеские лодки спустились по течению. На другом берегу стояли наши отряды; они не потеряли ни одного человека в этом бою. Теперь к ним направлялись бенгальские всадники».
Бабур оставил свой челнок и пересел на коня, разослав ко всем полководцам, остававшимся на полуострове, своих ясаулов с приказом переправляться через реку, притом немедленно и всем одновременно. В предрассветных сумерках это было, должно быть, впечатляющее зрелище. Воины набивались в лодки и принимались отталкиваться шестами, всадники скучивались в челноках, держа поводья плывущих следом лошадей. Лахорцы и хиндустанцы оставляли свои позиции и брались за весла, пробираясь сквозь заросли тростника. «Да поможет нам Бог!» – напутствовал их Бабур. Он заметил, как один из воинов, не умевший плавать, перебрался на другой берег, держась за повод своего коня.
Это был непростой момент. Бенгальцы скопились у самого берега, приготовившись к встрече неприятеля, приближающегося к берегу на лодках и всеми другими способами. Бабур с одобрениями следил за действиями военачальника, который вывел на берег несколько всадников и атаковал пеший отряд бенгальцев, не дававший подойти к берегу лодке, битком набитой воинами. Постепенно импровизированная флотилия достигла противоположного берега. Бабур отправил на восточный берег ясаула с приказом: «Соберите тех, кто переправился, подойдите к отряду, стоящему напротив, обойдите их с боку и вступайте с врагами в бой».
Чудо, которое было так близко, наконец, совершилось. Конные воины переправились через реку под прикрытием вооруженной ружьями пехоты. Оказавшись на другом берегу, конница сплотилась и обрушилась на тылы и фланги Назрат-шаха, оттесняя его навстречу отрядам Аскари.
Бабур не сомневался, каким будет последнее действие этого спектакля. Большая часть бенгальского войска, атакованного с трех сторон, обратилась в бегство в единственном оставшемся ему направлении. Султаны Лоди, спасая жизнь, бежали прочь от бенгальских штандартов. Бабур снова вернулся на лодку, на этот раз – чтобы переправиться на противоположный берег и осмотреть брошенный лагерь неприятеля.«Во время полуденной молитвы, когда я совершал омовение, прибыли султаны. Похвалив и одобрив их действия, я внушил им надежду на милость и ласку. Между тем Аскари тоже явился ко мне. Аскари впервые был в деле; его поведение было хорошим предзнаменованием на будущее».
Несколько мятежных афганских вождей явились к Бабуру, чтобы заявить о своей покорности. Щадя чувства Назрат-шаха, Бабур написал ему, что стремился прежде всего к миру и теперь, когда для этого сложились все условия, он будет, наконец, достигнут.
Через несколько дней к падишаху явились два тайных гонца, сообщивших, что царь Бенгалии готов принять любые условия для заключения мирного договора. Почти одновременно с ними прибыли известия от Чин Тимура, которому удалось оттеснить белуджей за Инд и дальше к западу. Военные действия на востоке и западе были завершены.
Теперь никто не мог оспаривать власть падишаха над землями Северной Индии. Бабур не скрывал, что эти известия «успокоили» его.«Мы выехали как будто для набега»
Бабур немедленно поспешил в Агру. Дожди прекращались, однако бури налетали одна за другой. Оставалась нерешенной одна задача: следовало очистить от мятежников все очаги сопротивления, расположенные вдоль берегов Ганга, а также организовать преследование Баязида и бежавших султанов Лоди. Однако Бабур не переставал думать об Агре, куда вот-вот должны были прибыть Махам и его дочери. Преследование ускользнувших вождей Бабур поручил Аскари и другим полководцам восточной армии. Услышав о том, что один из них остановился, не решаясь переправляться через полноводную реку, охваченный яростью Бабур направил ему приказ: «Переправляйтесь любыми способами. Если вы встретите сопротивление, воспользуйтесь поддержкой других отрядов, но проявите решительность и будьте хозяином положения».
Этот приказ почти дословно повторял те указания, которыми он напутствовал своих людей во время переправы через Гогру, и в полной мере отражал основные принципы, которых придерживался сам Бабур, вынужденный уже тридцать лет вести непрерывные боевые действия.
На обратном пути предстояло переправляться через реки, разлившиеся после дождей. В эти суматошные дни он заносит в дневник лишь обрывочные наблюдения, описывая свое путешествие на борту «Полезного», превращенного в его командный пункт, сообщает о том, что в последнюю ночь Рамазана на затянутом тучами небе так и не показалась молодая луна [56] , о том, как ночную стоянку на острове затопила разлившаяся река и всем пришлось перебираться на другой остров, и о встрече с рыбаками, – увидев, что они ловят рыбу голыми руками, приманивая ее зажженным над водой факелом, Бабур последовал их примеру и тоже занялся рыбной ловлей.
«Успокоившись относительно положения дел в этих краях, мы в канун вторника, через один гари после третьего паса, спешно выступили в Агру. На следующий день, пройдя шестнадцать курухов пути, мы около полудня остановились в уделе Баладар, зависящем от Калпи. Задав коням ячменя, мы выступили в час вечерней молитвы. В эту ночь мы прошли тринадцать курухов и к концу третьего паса стали лагерем у могилы Бахадур-хана Сирвани в уделе Сугандпур в Калпи. Мы поспали там и выступили после утренней молитвы; пройдя шестнадцать курухов, мы в полдень достигли Атавы. Махди-ходжа прибыл нам навстречу. После первого вечернего паса мы вышли оттуда и, немного поспав по дороге, пришли в Фатхпур в Рапари, пройдя шестнадцать курухов. На следующий день в час полуденной молитвы мы снова выступили из Фатх-пура и, пройдя семнадцать курухов пути, во время второго ночного паса пришли в сад Хашт-Бихишт в Агре.
В пятницу утром Мухаммед Бахши и еще кое-кто пришли засвидетельствовать свое почтение. Около полуденной молитвы я переправился через Джамну… после этого я поехал в крепость и повидался с госпожами, моими тетками.
Один огородник из Балха, которого я поставил, чтобы сажать дыни, вырастил несколько дынь и теперь принес их мне. Очень хорошие оказались дыни. Я посадил в саду Хашт-Бихишт несколько кустов винограда. Шейх Гуран тоже прислал мне корзину винограда; неплохой был виноград. В общем я был очень доволен, что в Хиндустане оказались такие дыни и виноград.
В ночь на воскресенье, после второго паса, прибыла Махам. Мы отправились к войску десятого числа месяца первой джумады. По странному совпадению обстоятельств Махам покинула Кабул в этот самый день».После неистовой скачки – за 48 часов он преодолел расстояние в 156 миль – Бабур вернулся в Агру как раз вовремя, чтобы успеть встретить свое семейство, выехавшее из Кабула пять месяцев назад.
С этого момента, – очевидно, также по странному совпадению обстоятельств, – воспоминания сводятся к разрозненным записям, иногда датированным определенным числом. Из них становится известно, что во время поединка борцов прибыл Чин Тимур, а Рахимдад, правитель Гвалияра, был заподозрен в предательстве, и Бабур уже намеревался выехать к нему, но отказался от своего намерения благодаря вмешательству Халифы. Однако в дневнике нет никаких сведений ни о Хумаюне, – за исключением упоминания подарков, которые привезла для него Махам, – ни о Хиндале (после того как Хумаюн втайне от отца вызвал его к себе в Бадахшан). Последняя запись датируется 7 сентября 1529 года: «…Рахимдад получил полное прощение за свое преступление. Чтобы рассеять его опасения, я во вторник, пятого зу-ль-хиджже, послал в Гвалияр Hyp-бека [того самого, что доставил Бабуру семена лотоса и виноград]».
Этими словами заканчивается повествование Тигра. О дальнейших событиях рассказывает в своих воспоминаниях Гульбадан, а также некоторые историки, как, например, Хондемир, нашедший себе приют при дворе падишаха великого Хиндустана. В то время Гульбадан находилась в доме отца, и в ее воспоминаниях отразилось восприятие последних событий глазами женской половины дворца.Не приходится сомневаться, что именно счастье от встречи с отцом придавало сил девочке, оказавшейся в новом и чужом для нее месте. Во время нескончаемого путешествия под охраной вооруженных воинов ее сердце переполнял страх от предстоящего знакомства с царственным родителем, однако, после того, как он заключил ее в свои объятия, она прониклась к нему крепкой привязанностью, свойственной детям ее возраста.
В тот период, пока высокородное семейство обживалось на новом месте, Гульбадан особенно остро нуждалась в поддержке, – девочку разлучили с ее матерью, Дильдар, а также и с братом Хиндалом; она находилась под опекой Махам, которая была подвержена приступам мрачного настроения и раздражалась, стоило ее о чем-нибудь попросить. Особенное негодование вызывали у нее две юные чужестранки из гарема Агры. Это были светлокожие черкешенки, гордо встряхивавшие своими распущенными волосами и не обращавшие никакого внимания на Махам, что объяснялось их положением любимиц падишаха, а также тем, что их прислал ему не кто иной, как сам шах Тахмасп, государь Персии. У них были имена-перевертыши, Гульнар и Наргуль [57] . По ночам они часто исчезали из гарема, вызванные в покои падишаха.
Гнев, который вызывали у Махам черкешенки, не отвлекал ее от других проблем, частично связанных и с Гульбадан. Разлука с Хумаюном мучила ее до тех пор, пока она не отправила ему письмо с приглашением прибыть ко двору Агры. Встретившись с супругом после долгих лет разлуки, Махам обнаружила в нем несомненные признаки помрачения ума, – он изнурял себя постоянными походами и сражениями, лечил нарывы с помощью адского настоя перца и отдавал несомненное предпочтение Аскари – сыну другой женщины. Все это пугало Махам, которая не могла похвастаться таким же благородным происхождением или образованностью, как Ханзаде и старшие тетки. Все эти годы, проведенные в Кабуле, она была одинока в кругу своей семьи и все еще горевала о сыне, который умер при рождении три года назад, – теперь она стала суеверной и совсем потеряла голову, инстинктивно ощущая, что над ее семьей, достигшей небывалого величия, нависла некая угроза, близости которой Бабур не замечает. Гульбадан едва ли осознавала, что происходит вокруг нее, однако, несомненно, чувствована настроение Махам. Боясь навлечь на себя гнев Махам, она вынуждена была скрывать порывы восторга, охватывавшие ее при встречах с несравненным отцом. И однажды Гульбадан стала свидетельницей того, как Махам обратилась к ее царственному родителю с тщетными увещеваниями.
«Все эти годы, что мой отец провел в Агре, каждую пятницу он отправлялся навестить своих теток [они прибыли к его двору раньше остального семейства]. Однажды стояла необычайная жара, и Госпожа воскликнула: «Ветер такой знойный – что, если вы не поедете к ним в эту пятницу. Госпожи не станут сердиться». Его Величество ответил: «Махам! Меня удивляют ваши слова. С ними нет ни отца, ни братьев. Если я не позабочусь о них, кто сделает это вместо меня?»
К тому времени при дворе ожидали прибытия остальных женщин, включая Ханзаде и Биби Мубарику. Бабур все подготовил к их приезду, который нисколько не улучшил настроения Махам.
«Прошел слух, что царевны [как сообщает Гульбадан] находятся на пути из Кабула. Мой царственный отец выехал им навстречу и остановился у Новых бань, чтобы подобающим образом приветствовать Любимую Госпожу [Ханзаде], мою старшую тетку и старшую сестру моего отца. Царевны, которые ехали вместе с ней, засвидетельствовали свое почтение падишаху. Они были очень счастливы и пали ниц, вознося благодарственные молитвы, после чего все вместе двинулись в Агру. Падишах позаботился о жилище для каждой из них».
Однако Ханзаде недолго восхищалась великолепием Агры и вскоре направилась к своему супругу, темпераментному Махди-ходже, правителю Итаваха, расположенного на главной дороге, связывавшей восточные и западные области. Вероятно, Ханзаде присутствовала при том, как Бабур сопровождал вновь прибывших, показывая им новые сооружения, воздвигнутые в соответствии с его замыслом создать в Агре новый Кабул. Гульбадан находила, что ее новообретенный отец создал настоящие чудеса.
«На одном берегу реки Агры он приказал построить для себя каменный дворец, с одной стороны которого был сад, а с другой – гарем… Он взял с собой в Дхалпур Ее Высочество и Махам, чтобы показать им резервуар, вырубленный в сплошной скале и имевший в поперечнике около семи шагов. Когда-то он говорил: «Когда работа будет закончена, я наполню бассейн вином». Однако так как перед битвой против Рана Санги он отказался от вина, то наполнил резервуар лимонным соком…
В Сикри [неподалеку от места последнего сражения] Его Величество приказал сделать резервуар, воздвигнув посередине его возвышение, и, когда все было готово, он часто отдыхал там или упражнялся в гребле… В саду Сикри, устроенном моим отцом, есть величественный каменный павильон, в котором он любил сидеть и работать над своей книгой. Однажды я с моей афганской няней сидела на нижнем ярусе, когда Госпожа пришла для молитвы. Я сказала няне: «Подними меня». Она стала меня поднимать, и моя рука выскочила из сустава. Силы покинули меня, и я начала плакать. Послали за костоправом, и только после того, как мне вправили руку, падишах удалился».
В памяти Гульбадан остался не только этот случай, когда отец терпеливо дожидался, пока не уляжется ее боль. Она упоминает и о приступах усталости, которые время от времени овладевали Бабуром.
«Несколько дней спустя он навестил сад Хашт-Бихишт. Там был источник, чтобы совершать омовения перед молитвой. При виде его он сказал: «Мое сердце переполняет усталость, вызванная государственными заботами. Я хотел бы удалиться от дел и поселиться в саду, как живет хранитель чаши Тахир. А все свое царство я отдал бы Хумаюну».
При этих словах Госпожа вместе с детьми принялись горевать и восклицать сквозь слезы: «Да поможет вам Всевышний в мире и спокойствии править вашей страной еще долгие, долгие годы». Госпожа сказала: «Пусть и ваши дети после вас доживут до преклонного возраста!»
Незадолго до этого случая в Агру неожиданно прибыл Хумаюн. В сохранившихся записях падишаха и мемуарах его дочери не упоминается ни дата его приезда, ни его подробности. Возможно, Бабур сознательно не упомянул об этом событии, верный своей привычке представлять в благоприятном свете заблуждения своего наследника. Находившийся в Кашгаре царевич Хайдар слышал – не от самого ли Хумаюна? – что падишах вызвал своего сына в Агру. Другие авторы цитируют слова Бабура, в которых он сообщал о встрече с сыном, однако есть сомнения, что это более поздний вымысел.«Когда он вошел, я был занят беседой с его матерью. Его появление тронуло наши сердца и заставило глаза заблестеть. У нас было принято ежедневно накрывать стол для гостей, однако в тот день я устроил праздник в его честь, чтобы показать ему свое расположение. Некоторое время мы провели вместе, связанные истинной дружбой. Воистину, разговаривая с ним, чувствуешь его обаяние и непревзойденную мужественность».
Возможно, Бабур и не произносил этих слов, но, несомненно, отнесся к Хумаюну со всем великодушием, – после того, как пришел в себя от удивления по случаю, что его сын бросил свой пост и, не спросив позволения, явился ко двору. Бабур удовлетворил любовь Хумаюна к уединению и пожаловал ему Самбхал, один из наиболее богатых уделов Хиндустана, расположенный вверх по реке в двух днях пути от Агры, откуда уже были видны заснеженные хребты Гималаев. Там Хумаюн окружил себя собственным двором и приближенными.
Хайдар вспоминает, как Бабур отозвал из Бадах-шана десятилетнего Хиндала, заменив его более старшим Сулейманом, сыном своего самаркандского родственника, Тощего бека, которому Бабур в свое время пожаловал земли Бадахшана, однако за давностью события никто не вспоминал об этом. «Сулейман, – писал он Хайдару, – мне как родной сын». Возможно, обдумывая эти слова, он вспоминал о непокорном Хумаюне? Во всяком случае, Махам поддерживала добрые отношения с Хумаюном во время его визита в Хиндустан.
Однако вскоре дурные предчувствия Махам начали сбываться. Влажный и жаркий климат индийской равнины наваливался на прибывших с прохладных гор домочадцев Бабура, собирая с них дань в виде неизбежных болезней. Бабур давно страдал от перемежающейся лихорадки и дизентерии. Следующей жертвой стал ребенок Дильдар – матери Гульбадан, от которой ее забрали в раннем детстве. Это случилось через несколько дней после семейных рыданий в Золотом Саду. Вот что сообщает об этом Гульбадан:«Через несколько дней заболел царевич Альвар. Его болезнь выражалась в кишечном расстройстве, которое становилось все хуже и хуже, несмотря на все старания, прилагаемые врачами. В конце концов он покинул нас и отправился в небесный дворец. Его Величество очень горевал и печалился. Царевна Дильдар обезумела от горя по своему сыну, поскольку в ее возрасте не имела других детей. Ее скорбь не знала границ, и Его Величество сказал Госпоже и другим царевнам: «Вам следует повидать Дхалпур». Он отправился туда по реке в лодке, и царевны просили также разрешить им путешествовать в лодке».
Затем болезнь нанесла по семье новый удар. Приближался жаркий сезон, и вскоре Махам услышала о том, что недуг сразил ее единственного сына – Хумаюна.
Жара сдавила задыхающуюся страну в своих тисках и загнала женщин в тенистые сады, раскинувшиеся по берегам рек. Падишах по-прежнему не искал себе убежища и не прерывал своих трудов, – следовало проводить Сулейман-шаха в его горные владения, предпринять поездку в граничащие с Китаем области, куда его настоятельно приглашали родственники по монгольской линии, – по дороге туда необходимо было заглянуть в удушливые долины Лахора и подавить возникшие там беспорядки; кроме того, предстояло собрать на совет ясаулов Камрана из Кандагара, съездить на охоту в прохладные горы возле Сихринда – цитадели бежавших султанов, затем отправить экспедицию в Кашмир и вновь проверить записи в своей книге, после чего отправиться в Сикри и отдохнуть, катаясь на лодке по озеру.
Письмо из Дели вырвало женщин из сонного оцепенения. Об этом мы узнаем от Гульбадан. «От Мауляны из Дели пришло письмо, в котором было сказано: «Царевич Хумаюн болен, и болезнь его необычна. Ее Высочество Биким следует незамедлительно прибыть в Дели. Царевич очень обессилел».
Доставивший письмо гонец пояснил, что Мауляна, ближайший советник царевича, выехал в Дели водным путем, решив доставить туда заболевшего царевича.
«Услышав эти известия, Госпожа была бесконечно встревожена и устремилась в Дели, как жаждущий стремится к воде. Они встретились в Матхуре. Своим опытным глазом она тотчас заметила, что он сильно ослабел и нездоров – гораздо сильнее, чем ей об этом говорили. Из Матхуры они оба, мать и сын, как Мария и Иисус, отправились в Агру. Когда они приехали, ваша покорная слуга вместе со своими сестрами как могли ухаживали за царевичем.
Казалось, что он слабел на глазах. В минуты просветления, когда язык мог повиноваться ему, он говорил: «Сестры мои, как я рад вас видеть. Подойдите поближе и обнимите меня. Я не поздоровался с вами». Наверное, три раза он поднимал голову и повторял эти слова.
Когда Его Величество вошел и увидел больного, его лицо омрачилось и стало видно, что его охватил ужас.
Тогда Госпожа сказала: «Не волнуйтесь за моего сына! Вы – государь, и не должны горевать. У вас есть и другие сыновья. Я горюю оттого, что у меня нет больше сыновей».
Его Величество отвечал: «Махам! Это правда – у меня есть и другие сыновья, но только одного Хумаюна мы оба можем назвать нашим сыном. Я молюсь, чтобы он остался в живых и выполнил все свои желания и прожил долгую жизнь. Ведь ему я передал свое царство, а не другим, среди которых ему нет равных».Несмотря на то что врачи не отходили от Хумаюна, его состояние не улучшалось. Махам и остальным женщинам, ухаживавшим за царевичем, стало ясно, что медицина бессильна против его болезни; для них было несомненно, что его жизнь или смерть зависят от соизволения Всевышнего. Не выходя из затемненной комнаты, женщины возносили молитвы – молча, чтобы не потревожить больного.
Наступил вторник. Бабур распустил врачей, заявив, что следует возлагать надежды не на лекарства, а на милосердие Бога.
Среди его народа существовало древнее поверье, зародившееся еще до того, как Авраам решился на всем известное жертвоприношение. Это был верный способ заручиться милостью Бога. Человек, пожертвовавший ему самое дорогое, что у него было – вплоть до своего первенца, – мог не сомневаться, что получит эту милость.
Во внешних покоях дворца собрались ученые мужи, пытавшиеся увещевать падишаха. Они убеждали его в том, что никто не возьмется предсказать последствий, которые может повлечь за собой исполнение этого старинного обряда. Ходжи призывали падишаха сотворить совместные молитвы, произнося вслух все девяносто девять священных имен Аллаха, считая этот способ куда более действенным. Советники же подсказывали падишаху, что если уж он настаивает на обряде, то в качестве жертвы можно предложить Всевышнему величайший алмаз «Кохинор». «Я не стану предлагать Господу камень», – ответил им Бабур.«В тот вторник, – вспоминает Гульбадан, – и последующие дни Его Величество ходил вокруг Хумаюна, читая молитву. Он поднимал голову, прося заступничества милосердного Аллаха. Погода была необычайно жаркой, и его сердце и все внутренности горели. Обходя с молитвой вокруг ложа, он говорил примерно такие слова: «Господи! Если ты можешь дать одну жизнь в обмен на другую – я, Бабур, даю свою жизнь и всего себя за моего сына, Хумаюна».
Наконец, все собравшиеся в комнате услышали, как Бабур воскликнул: «Я вымолил его!» Гульбадан пишет, что к вечеру падишах ослаб и слег, тогда как Хумаюн, которому положили на лоб смоченное водой полотно, смог приподняться. Женщины молча молились во мраке душной спальни, с ужасом ожидая последствий этого жертвоприношения.
Хумаюн поправился, и по приказу отца через несколько дней вернулся в Самбхал, вновь приступив к своим обязанностям. Бабур больше не выезжал из Агры, и самые наблюдательные из приближенных догадались, что его вновь охватил приступ лихорадки, и он бережет силы, избегая лишнего беспокойства.
Они также припомнили, как часто падишах страдал от лихорадки и нарывов. И как часто он вновь поднимался и садился в седло или лодку или отправлялся полюбоваться новыми садами.
Как голуби, которые инстинктивно находят дорогу к дому, военачальники и полководцы оставили свои посты и потянулись к воротам Агры. Чин Тимур, состарившийся Турди-бек, Хинду-бек и другие собрались на совет. Бабура с ними не было. Говорили об отчужденности между Хумаюном и его отцом и о том, что Хумаюн слаб, чтобы взять на себя обязанности государя. Однако было несомненно, что теперь, после своей молитвы, падишах привязался к Хумаюну так, как никогда не был привязан раньше. Снова возник спор – одни, подобно Ходже Калану, предлагали управлять государством из Кабула, другие же разделяли убеждение падишаха и считали, что столицей следует сделать Агру. Напряженный и встревоженный Халифа, сидевший среди знатных беков, настаивал на том, что Хумаюн беспечен и нерешителен и обязан всем лишь постоянной поддержке Бабура. Согласятся ли присутствующие, спрашивал Халифа, выполнять распоряжения Хумаюна? Не лучше ли отправить царевича на старые территории, а падишахом Хиндустана выбрать какого-нибудь мужественного человека? Как раз таким человеком был Махди-ходжа, супруг царевны Ханзаде! Однако, когда на совет пригласили Махди-ходжу, этот легкомысленный здоровяк повел себя как осел в пещере со львами и сообщил собравшимся бекам, что в первую очередь избавится от этой старой развалины, Халифы, которого почему-то называют Опорой власти. После этого Халифа мог лишь умыть руки.
Оставалось только ждать и надеяться на выздоровление Бабура. Гульбадан пишет об этих днях: «Поскольку его состояние ухудшалось, отправили гонцов за Хумаюном, который в те дни находился в поездке, направляясь в Калинджар. Он немедленно приехал. Засвидетельствовав свое почтение падишаху, он отметил, что отец очень слаб, и все спрашивал присутствующих: «Как случилось, что он ослабел так быстро?» Потом он послал за врачами, говоря: «Я оставил его в добром здоровье. Что случилось?»
Мой царственный отец все время спрашивал: «Где Хиндал?» Через некоторое время кто-то вошел и доложил ему, что Барди-бек из охраны царевича ждет позволения войти. Мой отец взволновался, послал за ним и спросил: «Где Хиндал, когда он приедет?» Барди-бек отвечал: «Царевич достиг Дели. Сегодня или завтра он будет у вас». Мой царственный отец возразил: «Злосчастный! Я слышан о вашей свадьбе в Лахоре. Из-за праздников вы и задержали моего сына и заставили меня пережить столько тяжелых часов! Говорите – сильно ли вырос царевич Хиндал, как он выглядит?»
К счастью, на Барди-беке была одежда царевича, и он показал ее моему отцу и сказан: «Этот ханат ваш покорный слуга получил в подарок от царевича».
Его Величество велел ему подойти поближе и попросил: «Дай мне взглянуть, какого он роста и насколько он вырос» – и продолжил расспросы о том, когда прибудет царевич».Беспокойство об отсутствующем сыне сменилось тревогой за будущее старших сестер Гульбадан, и падишах тотчас же назвал имена двух полководцев, которых предназначал им в мужья, предварительно посоветовавшись с Ханзаде и убедившись, что она одобряет его выбор.
«Тем временем его болезнь, сопровождавшаяся нарывами, становилась все тяжелее. Врачи посоветовались между собой и сказали нам, что их лекарства не приносят пользы и нам следует уповать на милость всесильного Господа. Каждый день ему становилось все хуже, и его лицо изменялось.
Настал день, когда он призвал своих приближенных и сказал им следующее: «Сердце давно подсказывало мне, что следует передать престол царевичу Хумаюну и удалиться от дел, обосновавшись в Золотом Саду. Божьей милостью я был щедро награжден судьбой, однако это мое желание осталось неисполненным. Теперь, когда моя болезнь затянулась, я поручаю вам провозгласить моим преемником Хумаюна. Храните ему верность. Будьте единодушны. Верю, что, Божьей милостью, он изменит свое поведение к лучшему».
Затем он остался с Хумаюном и сказал ему: «Я поручаю тебе заботы о твоих братьях. Будь к ним справедлив, как и ко всему народу».Когда домочадцы и все, кто жил в гареме, услышали об этих словах, мы были ошеломлены, принялись плакать и скорбеть.
Три дня спустя он покинул этот мир и переселился в небесные чертоги. Его смерть произошла в субботу [25 декабря 1530 года].
Позвали Любимую Госпожу и наших матерей, сказав, что пришли врачи. Мы все поднялись. Нас, наших матерей и царевен отвезли в большой дворец… в этот день скорби каждая хотела забиться в какой-нибудь укромный уголок».Из воспоминаний Гульбадан известно, что в течение некоторого времени смерть Бабура держали в тайне, поскольку домочадцы и знатные беки опасались волнений в народе. «Правитель Хинда Ара-иш-хан, – вспоминает Гульбадан, – сказал всем нам: «Нельзя держать его смерть в тайне, поскольку, заподозрив несчастье с государем Хиндустана, простой народ начнет по своему обыкновению предаваться грабежам и бесчинствам. Да не допустит Господь, чтобы они подняли руку на жилища ничего не подозревающих моголов. Будет лучше, если мы оденем кого-нибудь в красные одежды и, посадив на слона, поручим ему оповестить народ, что падишах Бабур удалился от своих трудов и избрал удел дервиша, передав престол Хумаюну».
Так и было сделано. Судя по всему, Хумаюна не было в Агре в момент смерти отца. Но уже через три дня он вышел к народу в Золотом Саду и, согласно обычаю, бросан собравшейся толпе деньги, истратив таким образом немалую сумму. Из этого можно заключить, что вопрос о преемнике был решен. Великие эмиры остались верны традициям, благодаря которым и сам Бабур в свое время взошел на андижанский престол. Народ Хиндустана против их выбора не возражал. В конце концов, появился и Хиндал, которого с таким нетерпением ожидал Бабур. Камран вместе с Ходжой Каланом, написавшим скорбную оду на смерть своего государя, не оставил своего поста в Кабуле. Под умелым и решительным руководством Ханзаде семейство поначалу дружно держанось вместе, а Хумаюн строго следовал заветам, которые его отец оставил своим сыновьям. Лишь Халифа, в течение последнего времени находившийся под подозрением, в один прекрасный день исчез в неизвестном направлении, хотя его сыновья по-прежнему продолжали нести государственную службу.
Судя по летописным источникам, в давно минувшем шестнадцатом веке ни Азия, ни Европа не знали других случаев подобной сплоченности правящей фамилии и ее единодушия с влиятельными вельможами. Разногласия, начавшиеся между Камраном и Хумаюном несколько лет спустя, а также мятеж в Хиндустане, возглавляемый умным и опасным Шер-шахом, привели к бегству падишаха из страны – сначала в Кабул, а затем в Персию, ко двору шаха Тахмаспа Сефеви. Гульбадан, возвращенная своей матери, сопровождала падишаха в скитаниях и незадолго до его кончины вместе с ним вернулась в Агру, где и написала «Хумаюн-наме» – историю жизни своего отца и сводного брата, первых представителей династии Великих Моголов Индии.
Не совсем обычна и история могилы Бабура. Его тело предали погребению в саду Агры, напротив того места, где позднее был возведен Тадж-Махан. Здесь в течение последующих девяти лет и находилась его усыпальница. Однако, судя по всему, еще при жизни Бабур дал указания на этот счет Ходже Калану или кому-то другому, поскольку, спустя некоторое время после бегства Хумаюна и его двора из Хиндустана, в Агре появилась Биби Мубарика, потребовавшая выдать ей прах ее супруга и сопроводившая его через горные перевалы в Кабул. Там, возле «Ступеней», где так любил отдыхать падишах, была воздвигнута новая усыпальница, от которой открывался вид на каменную крепость и заснеженные вершины Пагмана. Неподалеку от надгробной плиты протекал ручеек, впадавший в реку.
Сейчас над плитой сооружен навес, опирающийся на стройные каменные колонны, однако раньше она находилась под открытым небом. Шах-Джахан выстроил на склоне горы небольшую мечеть, а Джахангир [58] установил мраморную плиту с надписью. Из современного Кабула вид на серые камни скалы, заросшие лишайником и цветущим кустарником, скрыт деревьями и горной крепостью. Этот сад называется просто Могилой Бабура и служит излюбленным местом отдыха жителей Кабула.
Тридцать шесть из сорока восьми отпущенных ему лет жизни Бабур провел у руля своего государства. Двадцать лет он сражался, пытаясь вернуть себе самаркандский престол, но в конце концов основал в Индии собственную новую империю, хотя и не дожил до эпохи ее расцвета и наибольшего могущества. Империя Великих Моголов окончательно сложилась лишь после 1556 года, когда на ее престол взошел его внук Акбар, однако именно во время его правления государство встало на путь, предначертанный Бабуром.
Следуя этим путем, государство, прославившееся вошедшим в поговорку богатством Великих Моголов, во многом опередило свою эпоху.
Тигр провел черту по линии горного барьера и, разделив Индию надвое, соединил Кабул и Кашмир с реками Пенджаба и бассейном Ганга, положив конец феодальной гегемонии султанов Лоди и царей Раджпута, а заодно и конфликтам на почве религии. Он восстановил единовластие, в котором Индия нуждалась долгие годы. Его государство отвернулось от прошлого и смотрело в будущее, сохранив при этом местные традиции и экономику. Государственная власть была сосредоточена в руках придворных министров, над которыми стоял сам монарх, оставлявший за собой право выносить суждения о деятельности своей администрации, поэтому подданные могли обратиться к нему и оспорить решения местных правителей. В Акбаре, так же как и в Бабуре, ощущался дух царя-каландара.
Его методы правления – безжалостность, с которой он стремился к победе в очередном захватническом походе, и неожиданная мягкость после того, как цель была достигнута, наводят на мысль о верности традициям его предков – монгольских ханов. Так же поступали и Газан-хан, и Менгу-Тимур, и Хубилай [59] . Часто говорят, что Бабур создал себе репутацию деспотичного благодетеля на целое столетие раньше, чем эту роль примерили на себя европейские монархи. Каждый его поступок несет отпечаток личности.
С приходом Бабура Индия узнала отличавшую Тимуридов любовь к музыке и поэзии, а также и к вину; из-за страсти к устройству садов в самых неожиданных местах народ наградил его прозвищем Царь-Садовник. Однако в память о нем остались не только тенистые сады Агры. Там, где проходили Моголы, поднимались выстроенные из красного и белого камня дворцы, величественные мечети и усыпальницы. Бабуру удалось построить в Индии новый Самарканд, хотя это случилось уже после его смерти.Повсюду возникали новые империи, в отличие от прежних, они становились центрами цивилизованного общества, а не варварских орд. Узбекские ханы, удерживавшие власть над Самаркандом и соседними областями до конца шестнадцатого века, были лишь бледной тенью своих монгольских предшественников. Истинные же кочевники отступили далеко в степи. В 1550 году, когда началось правление Акбара, прославившегося своей терпимостью, между шахом Сефеви и тюркскими султанами был заключен мир, в то время как пушки московского царя Ивана Грозного выбили из расположенной на волжском берегу Казани последнего татарского хана.
В человеческом потоке, испокон веков направленном с востока на запад и протекавшем через районы Центральной Азии, наметился поворот. Благодаря переселениям кочевых народов – начиная с полчищ гуннов и монголов Чингисхана – от восточных степей до Европы ощущалось влияние китайских традиций. Теперь на пути, соединявшем Китай со странами Запада, расположились целых три государства: Османская (или, как ее называли в Европе, Оттоманская) империя, Московская Русь и империя Великих Моголов.
Окончилась эпоха всадников, вооруженных луками, целое тысячелетие господствовавших в Центральной Азии. Цивилизации окрепли и окончательно одержали верх над варварскими ордами.
В эти переломные годы в Азии началась эпоха открытий; взгляды европейских исследователей приковывали тайны Тибета, возвышавшегося подобно крепостной стене; странствующие проповедники вошли в морские ворота Китая, убедившись, что империя маньчжуров не имеет ничего общего с «Катаем», описанным Марко Поло. Решительный англичанин Энтони Дженкинсон выехал из Москвы и вступил на караванную дорогу, ведущую в Самарканд. В город, столетие назад завоеванный турками-османами и считавшийся столицей Сулеймана Великолепного, прибыли послы из Парижа и Лондона.
Еще много лет, вплоть до 1600 года, первооткрыватели новой английской морской державы будут прибывать ко двору Моголов, наступая на пятки португальцам и датчанам, и государство Бабура станет радушно приветствовать западных негоциантов. В эти годы будет основана Вест-Индская компания, имевшая своей целью развитие торговых отношений и через два столетия поработившая Индию. Однако почтенная компания, пытавшаяся внести свои изменения в разнородную экономику и культуру восточных колоний, добилась куда более скромных успехов по сравнению с Тигром, позволявшим народу жить в соответствии со своими традициями.Оригинал рукописи Бабура, составленный на чагатайском наречии тюркских языков, утрачен. Однако еще при его жизни с него были сделаны копии на персидском. Судя по всему, одна из них находилась в руках Ходжи Калана, а другая – у царевича Хайдара Дуглата. Хумаюн также распорядился снять для него копию, которую дополнил некоторыми пояснительными замечаниями, оставив в тексте все критические слова отца в свой адрес – даже случай с ограблением сокровищницы Дели. Гульбадан, конечно, встречалась с персидской копией «Бабур-наме». Библиотека Шах-Джахана обладала ее полным списком, оформленным с большим вкусом.
Не вызывает сомнения, что эти воспоминания были дороги его домочадцам и внушали почтение другим копиистам. В результате до наших дней они практически не публиковались и не подвергались фальсификации. Разница между широко распространенными копиями – на тюркском и персидском языках – заключается в словах, но не в смысле, в них сохранены все пробелы, оставленные Бабуром в оригинальном тексте. Мы можем не сомневаться, что сегодня читаем именно те строки, что вышли из-под его пера четыре с половиной столетия назад, за исключением, может быть, некоторых подробностей.
Первый падишах Индии, живший настоящей минутой, никогда не предпринимал попыток произвести пересмотр своих записей, – возможно, он вообще не собирался объединять их в книгу. К тому же он никак не озаглавил свое повествование, впоследствии получившее название «Бабур-наме». Книга не содержит предыстории и начинается с сообщения о том, как двенадцатилетний Бабур стал царем Ферганы; за этим следует безмятежное описание его родной долины, портреты близких людей, в том числе отца и его приближенных. Позднее, уже в Кабуле, Бабур сделал несколько примечаний к этому тексту, среди них и то, в котором сообщил, что «всегда имел намерение покорить Хиндустан». Даже решения, принятые с расчетом на внешний эффект, – что невольно проливает свет на характер Тигра, – и часто с трудом доведенные до конца, он жизнерадостно представляет своим давним замыслом. Время от времени он позволяет себе опускать неприятные для него эпизоды – например, не сообщает о том, при каких обстоятельствах вынужден был отдать Ханзаде Шейбани-хану. Однако он был единственным монархом, имевшим мужество откровенно сообщать о своих неудачах, поражениях, пьянстве и опрометчивых решениях и умел с юмором отнестись к собственному поведению.
Совершенно очевидно, что существовали и утраченные части его книги, восстановить которые не представляется возможным. Нередко повествование возобновляется с середины строки, а затем Бабур часто возвращается к событиям, о которых сообщают пропавшие страницы. Кроме того, едва ли Тигр мог сознательно не упомянуть о рождении сыновей – Камрана и Аскари – или о неожиданном приезде Хумаюна в Агру незадолго до смерти самого Тигра. Он также не мог обойти молчанием и поражение узбеков у Каменного моста, о котором мы узнаем из воспоминаний Хайдара, или о том, как он впервые попробовал вино и какие ощущения испытал при этом. Он набрасывает лаконичные портреты женщин, окружавших его в ранней юности, однако почти ничего не сообщает о своих близких в кабульский период, даже о том, как в его жизни появились Дильдар-биким и Махам, о происхождении и пристрастиях которых нам ничего не известно. Начиная с 1525 года, когда состоялся индийский поход, мемуары становятся разрозненными и время от времени прерываются. В те дни Бабур был изнурен болезнью. К счастью, с момента прибытия в Агру его домочадцев с историей семьи нас знакомит Гульбадан. Приступив к своим мемуарам уже после того, как ее семья стана правящей династией, она пишет о Хумаюне с искренней человеческой теплотой.
Очевидно, в своих воспоминаниях Гульбадан старалась подчеркнуть достоинства отцовского любимца и его законного наследника, поскольку Бабур не мыслил себе другого преемника.Примечания
1
Римский мир (лат.).
2
Алтын У р у к – золотой род, золотое племя (монг.). (Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. ред.)
3
Перевод О. Румера. Сарра комментаторы возводят к слову «Сарай», как называли ставку Батыя. (Примеч. перев.).
4
Современные языковеды называют этот язык староузбекским.
5
«Ш а х н а м е» («Книга царей») – поэма великого персидского поэта Абулькасима Фирдоуси, мифологизированная история древнего Ирана.
6
Б а б у р – видоизмененное в соответствии с тюркской фонетикой слово, означающее тигра и заимствованное из персидского языка.
7
Дата приводится по летосчислению хиджры, принятому у мусульман.
8
Бачи – мальчик для любовных утех.
9
Самарканд под названием Мараканда известен с 329 г. до н. э.; Искандер – Александр Македонский.
10
Ханафитский толк (аль-ханафита) – один из правоверных толков ислама; его придерживаются мусульмане России и исламских стран СНГ.
11
Кёк-Сарай – Голубой дворец.
12
Месяц зу-ль-када соответствует июню.
13
Достархан (перс.) – буквально: обеденная скатерть; в переносном смысле – угощение.
14
X а н а к а – общежитие дервишей (нищенствующих монахов).
15
Д а р у г а – правитель, градоначальник.
16
Б у с т а н-С а р а й – дворец в саду.
17
Р у б а и – в поэзии Востока четверостишие афористического типа (рифмуются 1-я, 2-я и 4-я строки).
18
Г а з е л ь – монорифмическое лирическое стихотворение, включающее от 5 до 12 двустиший (бейтов).
19
Д и в а н – присутственное место для правителя и его приближенных, государственный совет. Слово в переводе с персидского означает «собрание».
20
Куш-Тигирман – по-тюркски «птичья мельница».
21
А й в а н – небольшое возвышение, помост, как правило, глинобитный.
22
С а й – пересохшее русло ручья или реки.
23
Поэма, написанная в 1506 г., принадлежит перу Мухаммеда Салиха (1455–1535). Это один из крупнейших памятников узбекской литературы.
24
X у т б а – здесь: речь или проповедь, произносимая правителем по особо важным поводам; произносить хутбу от своего имени – упоминать в ней себя как независимого властителя.
25
Гюльхане – в переводе с фарси означает «дом цветов».
26
«Ответ» на чьи-то стихи, будь то двустишие или большая поэма, – общепринятый жанр в поэзии большинства стран Востока.
27
Г а з н а (Газни) – в X–XII вв. столица государства газневидов, наиболее могущественным правителем которого был Махмуд Газневи (998—1030); при нем в государство входил Афганистан, ряд областей Ирана, Средней Азии и Индии.
28
С у ф а – глинобитное возвышение во дворе или в саду, на котором отдыхают, подстелив ковры или одеяла.
29
Ханифиты – последователи особого толка ислама, получившие название по имени основателя толка Абу Ханифы; толк возник в VIII в., отличался относительной терпимостью и потому приобрел широкое распространение.
30
А л и ш е р-б е к – знаменитый поэт и ученый Алишер Навои.
31
Д и в а н (перс.) – здесь в значении: сборник стихов.
32
Тахаллус (ар.) – поэтическое имя, псевдоним.
33
Месяц зу-ль-хиджа соответствует нашему маю.
34
Стихи в переводе Д. Самойлова.
35
Бехзад Камалиддин (ок. 1455–1535/36) – прославленный мастер миниатюры гератской школы.
36
М и р х о н д Мухаммед ибн Хавандшах (1433–1498) – иранский историк, как и Хондемир (1475 – ок. 1535), автор труда «Друг жизнеописаний».
37
То есть Данте Алигьери, бессмертный автор «Божественной комедии».
38
То есть «проклятая пещера» (фарси).
39
Здесь автор приводит историческую реминисценцию: Генрих Наваррский, переходя в католичество по чисто политическим соображениям, будто бы произнес ставшие впоследствии крылатыми слова «Париж стоит мессы», то бишь католической церковной службы.
40
Маджун – сладость, сдобренная гашишем. (Примеч. авт.)
41
М и р-и-ш и к а р (фарси) – начальник царской охоты.
42
Для арабского алфавита характерно большое разнообразие различных почерков, точнее, пошибов, каждый из которых имеет свое название.
43
Годы указаны по хиджре – мусульманскому летосчислению.
44
Ради истории (фр.).
45
Имеется в виду Инд.
46
А ш р а ф и – персидская золотая монета высокого достоинства.
47
Более точное произношение «Кох-и-Нур», что значит в переводе «око света».
48
Устад (перс.) – мастер.
49
Б а к а у л (тюрк.) — «отведыватель пищи».
50
Т о л а – мера веса, чуть больше двух мискалей, то есть около 9 г. Мискаль = 4,25 г.
51
Ю з б е г и (тюрк.) – сотник.
52
Муамма (ар.) – загадка, один из поэтических жанров восточных литератур, отличающийся большой сложностью построения и богатый трудно понимаемыми иносказаниями.
53
Джагирдар (перс.) – сборщик податей.
54
X и я б а н (перс.) – аллея, место прогулок.
55
Это название переводится как «Смелый». (Примеч. авт.)
56
Появление на небе молодой луны в последний день Рамазана знаменует окончание мусульманского поста, который длится месяц.
57
Оба имени в переводе на русский язык имеют одно значение: «цветок граната».
58
Речь идет не об умершем раньше Бабура его младшем брате, а о правителе империи Великих Моголов; Джахангир (1569–1627) правил с 1605 г.
59
Г а з а н – ха н (1271–1304) – монгольский правитель Ирана с 1295 г.; в целях сближения с иранской знатью принял ислам. М е н г у-Т и м у р (?—1282) – хан Золотой Орды с 1266 г., внук Батыя. X у б и л а й (1215–1294) – пятый монгольский великий хан с 1260 г., внук Чингисхана; в 1279 г. завершил завоевание Китая.