Книга: Почему языки такие разные. Популярная лингвистика

Почему языки такие разные. Популярная лингвистика
Введение — об этой книге. Язык и наука о языке
Прежде чем сказать, о чём эта книга, попробуем ответить на такой вопрос:
Что самое удивительное в человеческом языке?
Ответить на него, конечно, непросто. Так много загадочного в языке, этом даре, объединяющем людей в пространстве и времени, что, пожалуй, было бы справедливо удивляться решительно всему, что имеется в языке и составляет его сущность. И всё-таки, даже согласившись, что в языке удивительно всё, можно заметить одну его особенность, которая всегда бросалась в глаза и занимала разум и воображение людей с древности.
Мы начали со слов человеческий язык.
Действительно, так часто говорят и пишут. Но ведь на самом деле у людей нет одного общего языка. Люди говорят на разных — и даже очень разных — языках, и таких языков на земле очень много (сейчас считается, что всего их около пяти тысяч или даже больше). Причём есть языки, похожие друг на друга, а есть такие, которые совсем, кажется, не имеют ничего общего. Конечно, и люди в разных частях земли не похожи друг на друга, они отличаются ростом, цветом глаз, волос или кожи, наконец, обычаями. Но разные люди, где бы они ни жили, всё же отличаются друг от друга гораздо меньше, чем могут отличаться друг от друга разные языки.
Вот это, может быть, и есть самое удивительное свойство — необыкновенное разнообразие человеческих языков.
О нём и пойдёт речь в этой книге, которая так и называется — «Почему языки такие разные?». Мы поговорим о том, какие бывают языки в разных странах, чем они отличаются друг от друга, как друг на друга влияют, как появляются и исчезают — ведь языки, как и люди, могут рождаться и умирать. А ещё они, тоже как люди, могут быть «родственниками» — и даже образовывать «семьи».
Ответы на эти вопросы (и многие другие, связанные с языком) ищет наука, которая называется лингвистика. Современная лингвистика — сравнительно молодая наука, по-настоящему она начала развиваться лишь в XX веке. Конечно, люди всегда интересовались языком, пытались составлять грамматики и словари, чтобы им было легче изучать чужие языки или понимать, что написано в старинных книгах. Составление грамматик помогло возникнуть лингвистике, но лингвистика не сводится к составлению грамматик: чтобы ухаживать за домашним попугаем, полезно знать кое-что из биологии, но ведь биология — это не наука о том, как ухаживать за попугаями. Вот и лингвистика — это не наука о том, как изучать иностранные языки.
Почему же она возникла так поздно? Причина — ещё в одной загадке языка. Каждый из нас с самого рождения в совершенстве знает по крайней мере один язык. Этот язык называют родным языком человека. Младенец рождается немым и беспомощным, но в первые годы жизни в нём словно бы включается некий чудесный механизм, и он, слушая речь взрослых, обучается своему языку.
Взрослый человек тоже может выучить какой-нибудь иностранный язык, если будет, например, долго жить в чужой стране. Но у него это получится гораздо хуже, чем у младенца, — природа как бы приглушает у взрослых способности к усвоению языка. Конечно, бывают очень одарённые люди (их иногда называют полиглотами), которые свободно говорят на нескольких языках, но такое встречается редко. Вы почти всегда отличите иностранца, говорящего по-русски (пусть и очень хорошо), от человека, для которого русский язык — родной.
Так вот, загадка языка в том, что в человеке заложена способность к овладению языком, и лучше всего эта способность проявляется в раннем детстве.
А если человек может выучить язык «просто так», «сам по себе» — то нужна ли ему наука о языке? Ведь люди не рождаются с умением строить дома, управлять машинами или играть в шахматы — они долго, специально этому учатся. Но каждый нормальный человек рождается со способностью овладеть языком, его не надо этому учить — нужно только дать ему возможность слышать человеческую речь, и он сам заговорит.
Мы все умеем говорить на своём языке. Но мы не можем объяснить, как мы это делаем. Поэтому, например, иностранец может поставить нас в тупик самыми простыми вопросами. Действительно, попробуйте объяснить, какая разница между русскими словами теперь и сейчас. Первое побуждение — сказать, что никакой разницы нет. Но почему по-русски можно сказать:
Я сейчас приду,
— а фраза
Я теперь приду
звучит странно?
Точно так же в ответ на просьбу
Иди сюда!
мы отвечаем:
Сейчас!
— но никак не
Теперь!
С другой стороны, мы скажем:
Лиза долго жила во Флориде, и теперь она неплохо знает английский язык,
— и заменить теперь на сейчас (…и сейчас она неплохо знает английский язык) в этом предложении, пожалуй, нельзя. Если вы не лингвист, вы не можете сказать, что в точности значат слова теперь и сейчас и почему в одном предложении уместно одно слово, а в другом — другое. Мы просто умеем их правильно употреблять, причём все мы, говорящие на русском языке, делаем это одинаково (или, по крайней мере, очень похожим образом).
Лингвисты говорят, что у каждого человека в голове есть грамматика его родного языка — механизм, который помогает человеку говорить правильно. Конечно, у каждого языка есть своя грамматика, поэтому нам так трудно выучить иностранный язык: нужно не только запомнить много слов, нужно ещё понять законы, по которым они соединяются в предложения, а эти законы не похожи на те, которые действуют в нашем собственном языке.
Говоря на своём языке, мы пользуемся ими свободно, но не можем их сформулировать.
Можно ли представить себе шахматиста, который бы выигрывал партии в шахматы, но не мог при этом объяснить, как ходят фигуры? А между тем человек говорит на своём языке приблизительно так же, как этот странный шахматист. Он не осознаёт грамматики, которая спрятана у него в мозгу.
Задача лингвистики — «вытащить» эту грамматику на свет, сделать её из тайной — явной. Это очень трудная задача: природа зачем-то позаботилась очень глубоко спрятать эти знания. Вот почему лингвистика так долго не становилась настоящей наукой, вот почему она и сейчас не знает ответа на многие вопросы.
Например, нужно честно предупредить, что по поводу языков мира лингвистика пока не знает:
— почему в мире так много языков?
— было ли в мире раньше больше языков или меньше?
— будет ли число языков уменьшаться или увеличиваться?
— почему языки так сильно отличаются друг от друга?
Конечно, лингвисты пытаются ответить и на эти вопросы. Но одни учёные дают такие ответы, с которыми другие учёные не соглашаются. Такие ответы называются гипотезами. Чтобы гипотеза превратилась в верное утверждение, нужно убедить всех в её истинности.
Сейчас в лингвистике гораздо больше гипотез, чем доказанных утверждений. Но у неё всё впереди.
А теперь — поговорим всё же о том, что нам известно про разные языки.
Глава первая. Как изменяются языки
Языки бывают совсем непохожи друг на друга, а бывают, наоборот, очень похожи. Иногда два языка настолько похожи, что тот, кто знает один из этих языков, может понять всё или почти всё, что сказано на другом языке. Например, русский и белорусский — разные языки, но они очень похожи. Ни один язык так не похож на русский, как белорусский. Для тех, кто знает русский язык и учился писать по-русски, белорусский текст выглядит немного непривычно, но если вдуматься, то в нём можно понять почти всё. Вот начало одного белорусского стихотворения (в котором я на всякий случай поставил ударения, чтобы читать было удобнее):
Стая́ла я́блыня ля вёскi,
як падаро́жнiк miж даро́г.
Вясно́ю па́далi пялёсткi,
нiбы сняжы́нкi, на муро́г…
Попробуйте сначала сами догадаться, что значит это четверостишие. Какие отличия белорусского языка от русского удаётся здесь заметить?
А теперь будем разбираться вместе. Прежде всего, оказывается, многие белорусские слова просто пишутся по-другому, а звучат так же, как русские. Например, первое слово в нашем стихотворении и русские, и белорусы произносят одинаково, но по-русски мы напишем: стояла. Ещё сразу бросается в глаза, что вместо русской буквы и по-белорусски пишется «латинская» буква i Действительно, буква и в белорусском языке не используется, а i читается так же, как русское и. Поэтому белорусское слово падарожнiк, если его просто прочесть вслух, сразу окажется знакомым нам русским словом подорожник. Кстати, в русском языке до 1918 года использовались обе буквы: и наряду с i; буквы эти читались одинаково, и в конце концов оставили только одну из них. Так же поступили и создатели белорусской письменности. Но букву выбрали другую.
До сих пор мы обсуждали не столько различия между двумя языками, сколько различия в том, как в них принято записывать слова. Лингвисты называют это различиями в орфографии. Орфография — это всё-таки не сам язык. Если бы между русским и белорусским были только орфографические различия, то это был бы, строго говоря, один и тот же язык. Но русский и белорусский языки различаются, конечно, не только орфографией. Во-первых, легко заметить, что некоторые белорусские слова хотя и похожи на русские, но всё же произносятся чуть-чуть иначе. Слово яблоня по-русски произносится приблизительно как яблАня, а по-белорусски — яблЫня; слово весною по-русски произносится приблизительно как вИсною, а по-белорусски — вЯсною (именно так, как написано). Есть и более сложные случаи: интересно, узнали ли вы в белорусском пялёсткi русское лепестки?
Во-вторых, некоторых белорусских слов в русском языке вовсе нет, и в этом-то случае нам как раз трудно догадаться, что они значат. Например, ля — это предлог со значением «возле, около, близ», а вот что такое вёска? Это значит «деревня», но в русском языке есть только слово весь, и то оно употребляется обычно только в составе выражения по городам и весям (не все русские теперь даже хорошо понимают, что это значит на самом деле «по городам и деревням»). Исчезло в русском языке древнее слово весь, а в белорусском осталось, только в своей уменьшительной форме — вёска. А вот для перевода слова мурог помощи, пожалуй, мы уже не найдём. Это слово значит «луг»; было когда-то в русском языке старинное слово мур «трава», от которого образовано сохранившееся в современном языке (хотя тоже редкое) слово мурава.
Вот полный перевод этого четверостишия:
«Стояла яблоня возле деревни, как подорожник меж дорог;
весною падали лепестки, будто снежинки, на луг».
Так что, как видите, похожи-то языки похожи, и даже очень, а не всё так просто для русских в белорусском языке, оказывается.
Все похожие друг на друга языки устроены приблизительно так же, как русский с белорусским: многие слова совпадают, другие слова произносятся чуть-чуть по-разному и, наконец, есть слова совсем разные, но таких не очень много. И главное, почти целиком совпадает их грамматика, а это и позволяет говорящим на похожих языках легко понимать друг друга: те же окончания у глагола в прошедшем времени, те же падежи у существительных, и так далее… Хотя и здесь бывают небольшие сюрпризы: например, мы говорим по-русски: добр-ЫЙ, но молод-ОЙ, а в белорусском языке правильными формами будут добр-Ы и малад-Ы.
2. Какие языки похожи друг на друга?
Как видим, определить, похожи два языка или непохожи, в общем, достаточно легко. Но само по себе сходство языков может иметь разные причины, и лингвисты не придают большого значения сходству языков как таковому. Гораздо интереснее понять, почему два языка похожи.
Здесь, как мы уже говорили, языки ведут себя совсем как люди. У людей похожими друг на друга бывают прежде всего близкие родственники. Хотя это и не обязательно: разве мало мы встречали сестёр и братьев совсем разных — и по виду, и по характеру. С другой стороны, нередко бывает, что люди, которые вовсе не родня друг другу, но долго живут вместе, становятся удивительно похожими, даже больше, чем братья (не зря говорят: с кем поведёшься, от того и наберёшься).
Так же и языки. Похожие языки могут быть родственниками — чуть позже мы подробнее объясним, что это значит. Но далеко не все родственные языки похожи, и некоторые похожие языки не родственны. Языки тоже могут становиться похожими оттого, что они долго живут вместе и много слов из одного языка попадает в другой язык.
Как это бывает? Вот, например, английский язык. У него очень сложная и своеобразная история. Это сейчас по-английски говорит чуть ли не весь мир (по-английски говорят целые государства и в Америке, и в Австралии, и в Азии, и в Африке, — а в других странах, как в России, почти во всех школах школьники его хоть немного, но изучают) — а когда-то (ну, скажем, лет семьсот назад) это был язык, на котором говорили только на нескольких островах на северо-западе Европы — одном большом и нескольких поменьше; эти острова называются Британскими. Народами этих островов управляли завоеватели, сначала (не очень долго) датские, а потом (уже гораздо дольше) нормандские. Датские завоеватели говорили на древнем языке, похожем на нынешние датский или шведский, а нормандские — на другом древнем языке, похожем на нынешний французский. Он называется старофранцузским. В результате в современном английском языке оказалось очень много слов, похожих на французские слова, хотя ближайшими родственниками английского языка считаются языки нидерландский и немецкий. Давайте для примера сравним несколько очень употребительных нидерландских, немецких, английских и французских слов (так как некоторые из уважаемых читателей, может быть, не очень хорошо владеют нидерландским или старофранцузским; на всякий случай под каждым словом русскими буквами я записал его примерное произношение)[1]:
(значение) (нид.) (нем.) (англ.) (стар. фр.) (франц.)
орёл: adelaar (а́делар), Adler (а́длер), eagle (игл), aigle (а́йгле), aigle (эгль);
гора: berg (берх), Berg (бёрк), mountain (ма́унтин), montaine (монта́йне), montagne (монта́нь);
цветок: bloem (блум), Blume (блу́мэ), flower (фла́уэр), flour (фло́ур), fleur (флёр);
голубь: duif (дёйф), Taube (та́убэ), pigeon (пи́джин), pigeon (пиджо́н), pigeon (пиджо́н);
воздух: lucht (лухт), Luht (луфт), air (э́ар), air (айр), air (эр);
стул: stoel (стул), Stuhl (штул), chair (чэ́ар), chaire (ча́йре), chaire «престол» (шэр);
мир: vrede (фре́дэ), Frieden (фри́дэн), peace (пис), paiz (пайц), paix (пэ).
Не правда ли, хорошо видно, насколько подвергся английский язык французскому влиянию, отдалившись от своих немецких и нидерландских родственников? При этом заметьте, что облик английских слов ближе именно к старофранцузскому варианту, чем к современному французскому: ведь французские заимствования в английском языке очень древние. Например, в старофранцузском языке сочетание ch обозначало звук ч, а современные французы произносят его как ш; англичане же во французских словах по-прежнему произносят этот звук так, как его произносили далёкие предки нынешних французов.
Конечно, английский язык похож и на своих близких родственников — это видно по другим английским словам, которые в нашу таблицу не попали. Вот, например, «мышь» по-нидерландски будет muis (мёйс), по-немецки Maus (маус), и по-английски тоже mouse (маус); а по-французски это слово звучит совсем по-другому: souris (сури). Но важно, что английский язык оказался похожим и на французский — причём, конечно, похож он на него гораздо больше, чем нидерландский и немецкий языки, вместе взятые.
Бывает и наоборот — лингвисты знают, что два языка родственны, но похожие слова в них — на поверхностный взгляд — едва можно определить. Вот у французского языка тоже есть близкие родственники — например, итальянский или румынский языки. Однако попробуем сравнить наугад несколько французских слов с их румынскими и итальянскими «братьями»[2]:
(значение) (франц.) (рум.) (итал.)
вода: eau (о), а́рã (апэ), acqua (а́куа);
коза: chèvre (шэвр), caprã (ка́прэ), capra (ка́пра);
молоко: lait (лэ), lapte (ла́пте), latte (ла́ттэ);
огонь: feu (фё), foc (фок), fuoco (фуо́ко);
орех: noix (нуа́), nucã (ну́кэ), noce (но́че);
палец: doigt (дуа́), deget (де́джет), dito (ди́то);
печень: foie (фуа́), ficat (фика́т), fegato (фега́то);
телёнок: veau (во), viţel (вице́л), vitello (витэ́лло);
чёрный: noir (нуа́р), negru (не́гру), nero (нэ́ро).
Сходство между румынскими и итальянскими словами очень велико (как и положено настоящим близким родственникам — точно так же обстояло дело, если вы помните, в случае русского и белорусского языков): только некоторые гласные и согласные (интересно, сможете ли вы точно сказать какие?) чуть-чуть различаются. А вот французский язык отличается очень сильно. Если не знать, что он родственник итальянского с румынским (а откуда лингвисты это знают — мы расскажем в следующей главе), то такие пары, как о — акуа или во — вицел, едва ли наведут на такую мысль. Посмотрите, как французские слова почти всегда оказываются короче румынских и особенно итальянских и как сильно меняются в них звуки.
Что же мы выяснили? Языки бывают похожими и непохожими; в похожих языках большинство слов или совсем одинаковые, или чуть-чуть отличаются в произношении; похожа у таких языков и грамматика. Если языки очень похожи, они скорее всего родственные, но это не обязательно: бывают непохожие друг на друга родственники, бывают неродственные, но похожие друг на друга языки.
Через некоторое время мы попробуем выяснить, что же такое родственные языки и почему одни родственные языки больше похожи друг на друга, а другие — меньше. Но вначале нам понадобится узнать о некоторых важных свойствах всех языков вообще.
Я надеюсь, вы уже привыкли к тому, что в языке много загадочного. Поэтому вы не удивитесь, если я скажу, что родство языков тоже связано с одной очень загадочной особенностью, которая присуща всем известным на земле языкам. Любому языку.
Эта особенность состоит в том, что язык постоянно изменяется. Проходит немного времени («немного» для языка — это лет сто или двести) — и язык уже не совсем тот, что был. Проходит ещё немного времени — и язык меняется ещё больше. И вот уже, если мы сравним то, что было, скажем, восемьсот лет назад, с тем, что есть сейчас, — мы просто не поверим, что возможно столько превращений. Предок и потомок — два совершенно разных языка.
И так происходит всегда и везде, с любым языком, каким бы он ни был и кто бы на нём ни говорил. Ну, может быть, одни языки будут меняться чуть медленнее, чем другие, вот и всё. Но постепенных превращений не избегает ни один язык. Это неумолимый закон.
Опять-таки лингвисты пока не очень хорошо понимают, почему так происходит. Но мы твёрдо знаем, что это происходит обязательно.
А что значит, что язык изменяется? Давайте посмотрим внимательнее на то, что было написано на русском языке чуть больше ста пятидесяти лет назад (мы нисколько не сомневаемся в том, что это ещё — или уже — был современный русский язык). Вот, например, несколько отрывков из хорошо знакомых вам сказок Пушкина:
Там лес и дол видений полны,
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой…
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И, блистая сединами,
Дядька впереди идёт
И ко граду их ведёт.
…А у князя жёнка есть,
Что не можно глаз отвесть…
…Князь Гвидон тот город правит,
Всяк его усердно славит;
Он прислал тебе поклон,
Да тебе пеняет он:
К нам-де в гости обещался,
А доселе не собрался…
…Та призналася во всём:
Так и так. Царица злая,
Ей рогаткой угрожая,
Положила иль не жить,
Иль царевну погубить.
Попробуйте сами определить, что вам кажется в этих строчках непохожим на тот язык, на котором мы с вами говорим сегодня.
Изменения, которые произошли в русском языке с тех пор — за неполных двести лет, — в общем, небольшие. Но если посмотреть на них внимательно, то окажется, что они очень типичны: такие или примерно такие изменения происходят и во всех других языках. Есть несколько разных типов изменений языка.
4. Об изменениях в языке: изменения значений слов
Самый очевидный и самый частый тип изменений связан с тем, что слова в языке перестают иметь своё прежнее значение. После этого со словом могут происходить две вещи: либо оно продолжает употребляться — но в другом, новом значении (отличающемся от старого или незначительно, или порой даже очень сильно), либо это слово исчезает из языка вовсе. В приведённых строчках Пушкина мы встречаем, например, слово рогатка, которое означает кандалы особого рода (надевавшиеся на шею), — в современном языке ни сам этот предмет (к счастью), ни слово рогатка в таком значении не известны. Однако неверно думать, что слова изменяют своё значение (или исчезают) только потому, что изменяются (или исчезают) вещи, для обозначения которых они служат. Конечно, такие случаи бывают, но их ничтожно мало по сравнению с основной массой изменений. Глагол положить у Пушкина значит «решить, поставить целью»; в современном языке он в этом значении не употребляется (хотя мы говорим и полагать, и предположить, и даже положим в значении «допустим») — это, конечно же, не свидетельствует о том, что люди стали думать и принимать решения как-то иначе, чем раньше. Пушкин нередко использует вместо современных слов лоб, пальцы и щёки старинные чело, персты и ланиты, а ведь эти «объекты» — части тела человека — остаются неизменными с незапамятных времён. Так что дело здесь отнюдь не в том, что какая-то вещь вдруг исчезает или появляются новые вещи, которые люди не знают, как назвать. Дело в том, что срок жизни любого слова в любом языке ограничен — рано или поздно слову придётся исчезнуть, уступив своё место другому (которое в принципе ничуть не лучше и не хуже своего предшественника). Бывает так, что это новое слово берётся из другого языка — обычно это язык соседнего народа или просто широко распространённый (в ту эпоху) язык; такие слова называют заимствованиями.
Про некоторые слова мы сами ещё понимаем, что они «чужие»: они, так сказать, пока живут в языке как гости, полуиностранцы. В основном это слова, которые вошли в язык недавно. Всякий скажет, что эксперимент или компаньон — слова не русские; это действительно так. А знаете ли вы, что когда-то были русским языком заимствованы такие слова, как блюдо, буква, изба, осёл, хлев (из древнегерманского), грамота, свёкла, тетрадь (из греческого), алый, башмак, богатырь, колчан, лошадь (из тюркских языков)? Во всяком языке заимствований очень много: языки, живущие по соседству друг с другом, легко проникают друг в друга и, так сказать, обмениваются своими словами. О французских заимствованиях в английском языке нам уже приходилось говорить; но в современном французском языке (как и во многих других, в том числе и в русском) теперь немало английских заимствований.
Любопытна, например, история слова шапка. Несколько сот лет назад оно было заимствовано русским языком (через польский и немецкий языки) из французского (старая форма chape, современное французское chapeau) в значении «головной убор европейского образца». Однако позднее французский язык сам заимствовал это слово из русского: теперь наряду со словом chapeau в современном французском языке есть и слово chapka, которое обозначает… тёплый головной убор на меху «русского образца»! Этот случай не такой редкий, как может показаться: есть довольно много примеров того, как языки «обмениваются» одним и тем же словом поочерёдно.
А почему слова в языке не живут вечно? Каков «срок жизни» слова? У всех ли слов он одинаков? Это очень интересные вопросы, но, к сожалению, у лингвистов пока нет на них ясного ответа. Можно с уверенностью сказать одно: у разных слов срок жизни разный. В каждом языке есть своя группа «слов-долгожителей», и в очень многих языках (хотя, быть может, и не во всех) долгожителями оказываются близкие по смыслу слова — такие, например, как отец, мать, вода, камень, сердце, кровь, весь, белый, идти, пить, два, три и некоторые другие. Удалось, например, заметить, что слово один живёт в языках меньше, чем слово два, а слово хороший — меньше, чем слово новый. Около пятидесяти лет назад американский лингвист Морис Свадеш, опираясь на такие наблюдения своих предшественников, обследовал много разных языков и составил список ста самых «устойчивых» слов. Этот список часто так и называется — «список Свадеша» (или ещё «стословный список»). Слова этого списка исчезают из языка очень медленно: например, считается, что за тысячу лет в среднем должно исчезать всего около пятнадцати слов из ста.
Слова-долгожители очень важны для лингвистов: именно на эти слова лингвисты смотрят в первую очередь, когда хотят понять, являются ли языки родственными и насколько тесно их родство.
Изменения значений, появление и исчезновение слов — очень важные изменения в языке. От того, все ли слова в языке нам понятны, прямо зависит то, хорошо ли мы поймём сказанное (вспомните-ка, из-за чего вам труднее всего было расшифровать белорусский текст в самом начале этой главы). Но эти изменения — далеко не единственные, которые бывают в языках.
5. Ещё об изменениях в языке: изменения в произношении слов
Бывает так, что слово может некоторое время сохранять своё значение, но изменять своё звучание. То же самое слово начинает произноситься немного по-другому, с другими звуками или, например, без некоторых звуков: они как бы проглатываются, стираются, как монета от долгого употребления.
Как и изменения в значении, изменения в звучании тоже происходят постепенно, причём в языке бывают периоды «звукового спокойствия», когда может пройти триста-пятьсот лет без каких-либо значительных изменений, а бывают периоды «звуковых бурь», когда за сто пятьдесят — триста лет язык меняется до неузнаваемости. «Бурные» периоды в истории языка часто совпадают с бурными периодами в истории народа, говорящего на этом языке (завоевания, переселения, растворение среди других народов и т. п.).
В истории русского языка бурная эпоха приходится на XII–XIV века (время татарского нашествия и образования Московского государства — ключевой период русской истории); затем наступает эпоха относительного спокойствия и плавных, малозаметных изменений. Русский язык XVIII века, в общем, уже можно считать современным русским языком, но и многие документы, например, XV века современный русский может понимать без перевода (это не сложнее, чем понимать современные белорусские тексты). Зато русский язык XI–XII веков нам уже просто так понять не удастся, для нас это в каком-то смысле иностранный язык. И дело не в том, что в нём много незнакомых слов, — даже сохранившиеся в современном языке слова звучали совсем иначе.
Конечно, такое случалось не только с древнерусским языком, подобные изменения обязательно происходят в истории любого языка, и для любого языка такие изменения звуков (конечно, если мы возьмём достаточно большой отрезок, по меньшей мере четыре-пять веков) играют большую роль. Посмотрите ещё раз, например, на таблицу, в которой приведены английские и французские слова. Вы видите, какая большая разница имеется в произношении старофранцузских (приблизительно XI–XIII века) и современных французских слов. О переходе ч в ш (не отражённом на письме: французская орфография «застыла» где-то на уровне XVI–XVII века, а то и более раннем) мы уже говорили; какие ещё переходы вы можете заметить?
А теперь давайте сделаем небольшое отступление от нашего рассказа про родственные языки и немного подробнее поговорим про историю русского языка.
6. Отступление: как изменялось произношение слов в русском языке
Начнём с того, что попробуем понять, как обстоит дело со звучанием слов в языке Пушкина. Вернёмся назад, перечитаем внимательно наши стихотворные отрывки. На первый взгляд никаких отличий вроде бы нет. Но прислушайтесь — и некоторые мелочи вам удастся подметить.
Вы, конечно, заметили, что отличия касаются прежде всего ударения в словах. Ведь ударение тоже может меняться с течением времени. Пушкинские ударения в словах и́дут или седина́ми — более древние; в XIX веке ещё говорили так. А ещё вы могли заметить, что на конце некоторых слов появляются как бы «лишние» по сравнению с современным языком гласные (призналася), а на конце других слов гласной, наоборот, «не хватает» (отвесть). В древнерусском языке конечные гласные были всюду: говорили призналася и отвести. В среднерусский период (XV–XVII века) некоторые гласные на конце слов уже начали отпадать, но во времена Пушкина люди говорили и так, и так (это зависело главным образом от местности). Так получилось, что в современном языке в некоторых случаях «победили» более новые формы (призналась), а в некоторых случаях — остались старые (отвести). В языке Пушкина соотношение старых и новых форм, как мы убедились, немного другое.
Итак, мы видим, что со времён Пушкина в нашем языке «потерялись» некоторые гласные на конце слов и немного меняется ударение. Это продолжается и до сих пор: вспомните, что бывают такие слова, в которых и вам самим не очень просто поставить «правильное» ударение. Как надо сказать: зво́нит или звони́т? включа́т или вклю́чат? творо́г или тво́рог? Вы знаете, что некоторые люди произносят эти слова одним способом, а другие люди — ина́че (или, может быть, и́наче?). А это и значит, что произношение слова медленно меняется. Лет через сто скорее всего «победит» какой-нибудь один вариант, как это произошло, например, со словом призналась.
По крайней мере последние триста лет русский язык не знает более крупных изменений звуков, чем те, которые мы только что могли наблюдать. А вот раньше в русском языке происходили изменения куда более серьёзные.
Может быть, вы знаете, что в старых русских книгах была особая буква — буква ять (Ѣ). Например, слово семя раньше писали как сѣмя, а слово семь писалось через е, как в современной орфографии. Орфография часто отражает то произношение, которое имелось у слов в глубокой древности; произношение меняется быстрее, чем люди меняют правила письма. Так и в случае с буквой Ѣ: когда-то (приблизительно до XVI века) она обозначала особый звук, близкий к современному русскому [йе] и отличавшийся оттого звука, который записывали буквой е; но писать её в России перестали только после 1918 года.
Очень важное изменение в истории русского языка касается произношения безударных гласных: теперь в безударных слогах мы можем произносить только [а], [и] и [у], хотя на письме звук [а] могут передавать буквы а и о, а звук [и] — буквы и, е и я. Но произносить о, е и а (после мягких) без ударения мы не умеем: мы говорим кАро́ва, а не кОро́ва, тИну́ть, а не тЯну́ть. Потому-то обучение русской орфографии доставляет сегодня школьникам столько неудобств: написание гласной во многих словах надо просто запоминать или же выбирать нужную гласную, привлекая сложные и не всегда последовательные правила.
Оказывается, и здесь орфография «запаздывает» по сравнению с изменением живого произношения. Конечно, вы уже догадались, что раньше в русском языке без ударения могли произноситься все гласные: и о, и е, и а (после мягких). В древнерусском произношении слова в парах лИса́ и лЕса́, вОлы́ и вАлы́ — звучали по-разному. Да и сейчас во многих русских диалектах к северу от Новгорода, Ярославля и Костромы говорят так. А шестьсот-семьсот лет назад на всей территории России говорили (и писали) кОро́ва, а не кАро́ва, корма́н, а не кАрма́н, пОро́м, а не пАро́м, тЯну́ть, а не тИну́ть, сЕло́, а не сИло́ и т. п. (Как видите, современная орфография иногда всё-таки следует за произношением: пишущие как бы «забыли» древнее произношение слов паром и карман.)
Поэтому, между прочим, диалектное «оканье» нельзя представлять себе так, что говорящие на окающих диалектах просто произносят безударное о там, где мы пишем букву о (а произносим звук а). На самом деле наша современная орфография очень сильно поддалась влиянию «акающего» произношения. Вот, например, известные строки русской народной песни:
Во сумерки буен ветер загулял,
Широки мои ворота растворял.
В каком-нибудь из окающих диалектов они вполне могли бы быть произнесены так: вО сумЁрки буЁн ветЁр загуля́л, ширОки́ мОи вОро́та рОствОря́л…
О других звуковых изменениях в истории русского языка мы расскажем позже.
7. Ещё об изменениях в языке: изменения в грамматике
Нам осталось узнать ещё об одном, последнем типе языковых изменений. Те изменения, о которых мы говорили раньше (если помните, это были изменения значений и изменения в произношении), — это изменения, которые касаются прежде всего отдельных слов: мы узнали, что слова могут изменять или свой облик, или своё значение, или, разумеется, и то и другое одновременно. Но бывают изменения, которые касаются всего языка, или, как говорят лингвисты, строя языка; другими словами, это изменения в грамматике.
Мы уже говорили, что в самом общем виде к грамматике относится всё то, что нужно знать, чтобы уметь соединять слова в языке друг с другом. Есть ли в языке падежи, и если да, то сколько их и как они употребляются? Какие времена бывают в языке у глаголов? Есть ли там предлоги, какие они? Всё это (и очень многое другое) и составляет предмет грамматики. Вы прекрасно понимаете, что, не зная грамматики, нельзя ни правильно говорить на языке, ни хорошо понимать сказанное. Грамматика — основа языка, его «скелет».
Но оказывается, и грамматика языка изменяется с течением времени. Обратимся снова, в последний раз, к строчкам Пушкина. Не кажутся ли вам немного странными такие, например, сочетания, как о заре (в смысле «на заре; с наступлением зари») или Князь Гвидон тот город правит (в смысле «правит тем городом»)? Или вот ещё, в «Сказке о рыбаке и рыбке», можно прочесть такие строки:
Перед ним изба со светёлкой,
<…>
С дубовыми, тесовыми вороты.
Кажется, будто бы эти строчки написал иностранец, который немного путается в русских падежах: почему с вороты, а не с воротами, почему правит город, а не правит городом?
Все эти отличия не случайны. В древнерусском языке, как и в современном русском, тоже были падежи, однако многие окончания были не такими, как сейчас, да и употреблялись многие падежи не так, как сейчас. Во времена Пушкина большинство этих отличий уже исчезли, но некоторые ещё оставались. Вот например, творительный падеж множественного числа слов типа город раньше звучал не городами, а городы. Поэтому, когда Пушкин пишет изба с вороты, — это, конечно, не ошибка, а остатки древнего склонения. Надо сказать, что даже в нашем теперешнем языке есть одно выражение, которое — в окаменелом виде — сохранило этот древний творительный падеж. Это оборот со товарищи (который значит приблизительно «не в одиночку; вместе с помощниками», то есть попросту «с товарищАМИ»); мы не очень вдумываемся в эту странную форму — ну, говорят так, и всё. А на самом деле этот оборот — редкая окаменелость, в которой отпечатались черты древнего русского склонения — точно так же, как в настоящих окаменелостях отпечатываются очертания древних моллюсков.
Ещё один пример. На вопрос, сколько чисел у существительного в русском языке, любой школьник сразу ответит: конечно, два — единственное и множественное, разве может быть иначе? Оказывается, может. И как раз в древнерусском языке у существительных было ещё одно, третье число. Оно называлось двойственным и употреблялось, когда речь шла только о двух предметах. Например, один сосед назывался по-древнерусски сусѣдъ, много соседей — сусѣди, а вот если их было двое, то говорили — сусѣда (моя сусѣда переводится на современный язык как «два моих соседа»).
Двойственное число в русском языке исчезло приблизительно шестьсот лет назад. Это тоже было грамматическим изменением. Но вы, наверное, уже поняли, что изменения в грамматике происходят не совсем так, как изменения с отдельными словами. Древние грамматические особенности не исчезают бесследно, от них, как правило, остаются какие-то следы, какие-то осколки. Лингвист, как археолог, может, внимательно изучая какой-нибудь современный язык, довольно много сказать о его прошлом.
Вы спросите меня — неужели в современном русском языке осталось что-то напоминающее о двойственном числе? Да, как это ни удивительно, осталось. И этих остатков даже довольно много. Ну, прежде всего: ведь мы же говорим почему-то два соседА, а не два соседИ? Здесь спрятана та самая древняя форма. (Правда, мы теперь говорим также и три соседа, и четыре соседа, чего не было в языке наших предков, однако это уже другая история.) Но и это не всё. Какое «нормальное» окончание множественного числа у слов среднего рода на −о? Правильно, −а, как, например, в паре веслО́ — вёслА. А почему мы не образуем таким же образом множественное число от слов плечо́ или у́хо? Мы ведь говорим не пле́ча, а пле́чи, не у́ха, а у́ши. Да, и здесь замешано древнее двойственное число. Формы плечи и уши — древние формы двойственного числа, которые в современном языке победили «правильные» формы множественного числа (не потому ли, что, когда мы говорим, например, уши, мы обычно имеем в виду всё-таки пару ушей?). Хотя и эта победа была одержана не сразу: например, форма плеча ещё в XIX веке употреблялась достаточно широко. Например, в знаменитом стихотворении Фета «На заре ты её не буди…» (это середина XIX века) мы читаем:
И подушка её горяча,
И горяч утомительный сон,
И чернеясь бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон…
Даже в стихах Блока (написанных в самом начале XX века) ещё можно встретить плеча.
В грамматике могут происходить и более серьёзные изменения. Например (если по-прежнему говорить о падежах), слова одного склонения могут заимствовать окончания у слов другого склонения. В древнерусском языке последовательно различались окончания так называемого «твёрдого» и «мягкого» склонения существительных. Вот как это выглядело (я приведу, конечно, не всю таблицу склонения, а только один небольшой её фрагмент; падеж, который в древнерусском языке назывался «местным», в общем, соответствует тому падежу современного русского языка, который в учебниках обычно называют «предложным»)[3].
[Падеж] Твёрдый тип («стена»), Мягкий тип («земля»)
[Родительный] (у) стѣн-ы, (у) земл-ѣ;
[Местный] (на) стѣн-ѣ, (на) земл-и.
В современном языке мягкий тип просто исчез: стало на одно склонение меньше. Слова мягкого типа утратили свои особые окончания и приобрели взамен окончания твёрдого типа: сейчас мы говорим у земл-и — как у стен-ы, на земл-е — как на стен-е. Но некоторые русские диалекты распорядились иначе: в каких-то из них, например, тоже вместо двух типов склонения остался только один, но за счёт того, что слова твёрдого типа потеряли свои окончания и приняли окончания мягкого типа! В таких диалектах говорят: у стене, у земле. Таких изменений в истории русского языка было очень много; знакомы они и почти всем другим языкам, различающим несколько типов склонения: в ходе истории эти типы обязательно начинают, так сказать, «смешиваться» друг с другом.
А могут ли падежи вообще исчезнуть? Бывает и такое. Существительные в языке вообще перестают склоняться и в любом месте в предложении начинают выступать в одной-единственной форме. Это и значит, что падежей в таком языке нет — как, например, в английском или французском. Кстати об английском и французском: ведь и в том, и в другом языке падежи тоже были! И в старофранцузском, и в староанглийском (точнее, в древнеанглийском, как принято говорить). Правда, например, в старофранцузском их осталось всего два — а в латыни, которая была предком старофранцузского языка, падежей было целых пять даже в позднюю эпоху. Если в языке из пяти падежей осталось только два, то ясно, что жить им осталось недолго. Но всё же лет двести или триста язык с двумя падежами во Франции просуществовал.
Исчезли падежи и в болгарском языке. У болгарского языка такой же предок, как и у русского, — праславянский язык. А падежей в этом языке (да и в древнеболгарском, тексты на котором сохранились) было не меньше, чем в русском. Зато теперь от них не осталось и следа. Судите сами: например, «стол» по-болгарски будет маса; «на стол» и «на столе» будет на маса, «под стол» и «под столом» — под маса и так далее. Слово употребляется только в одной форме — совсем как в современном английском или французском.
Изменения в грамматике больше всего отдаляют одно состояние языка от другого. Ведь если слова звучат чуть-чуть иначе или некоторые из них имеют другое значение — это разница не такая заметная. А вот если в языке, например, меняется склонение — это затрагивает его целиком, и настолько глубоко, что мы сразу говорим: да, древний язык и новый, его наследник, — это действительно два разных языка…
8. Что мы узнали об изменениях в языке?
Теперь вы — в общих чертах — уже представляете себе, как изменяется язык. Прежде всего, непрерывно меняется значение слов; одни слова исчезают, на смену им приходят другие — нередко это бывают слова, заимствованные из языков других народов. Изменяется звучание, произношение слов; могут исчезать одни звуки и появляться новые. Наконец, разнообразными способами изменяется грамматика языка, самая его основа.
Что касается русского языка, то в его истории, как и в истории других языков, все эти изменения происходили тоже. О многих из них нам уже приходилось говорить. Русский язык первых памятников (приблизительно XI век) совсем непохож на современный язык, и нам его очень трудно понимать. Это трудно даже лингвистам, специально занимающимся историей русского языка.
Я не стану, пожалуй, приводить сейчас отрывки на древнерусском языке — вам было бы слишком сложно в них разобраться, ведь даже многие буквы, которые тогда употреблялись, вам незнакомы. Но мы можем поставить более простой опыт.
Когда поэт Алексей Константинович Толстой написал балладу о князе Курбском и царе Иване Грозном, он решил передать речь Курбского так, чтобы она была как можно более далека от современного языка и как можно более напоминала ту старинную эпоху (хотя время Ивана Грозного — это не XII и не XIII, а «всего лишь» XVI век). Вот что у него получилось:
«Безумный! Иль мнишись ничтожнее нас,
В небытную ересь прельщённый?
Внимай же! Приидет возмездия час,
Писанием нам предречённый,
И аз, иже кровь в непрестанных боях
За тя, аки воду, лиях и лиях,
С тобой пред судьёю предстану».
Так Курбский писал к Иоанну.
Интересно, всё ли вам удалось понять в этом отрывке? Наверное, не всё. Но не так всё просто обстоит с тем языком, на котором он написан (точнее — с тем языком, под который он «подделан» поэтом). Это не совсем русский язык, это — русский язык, смешанный со старославянским (не путайте его, пожалуйста, с праславянским, о котором мы только что говорили!). Впрочем, наш современный литературный русский язык по своему происхождению точно такой же. Если бы не было старославянского языка, мы не имели бы, может быть, трети тех слов, которыми пользуемся.
Но вы, наверное, хотите спросить, что такое старославянский язык и почему он так сильно повлиял на русский.
Это очень интересный вопрос, и знать ответ на него очень важно для тех, кто хочет правильно представлять себе историю русского языка.
Но для подробного на него ответа требуется много дополнительных знаний.
Поэтому мы вернёмся к старославянскому языку через некоторое время — в третьей главе.
А пока — как и было обещано, поговорим о родственных языках.
Глава вторая. Родство языков и языковые семьи
1. Как возникают родственные языки?
Мы так долго говорили в предыдущей главе об изменениях в языке не случайно. Ведь постоянные изменения в языке — основная причина того, что возникают родственные друг другу языки.
Какая же здесь связь? Очень простая. Представьте себе, что мы на протяжении многих лет наблюдаем жизнь какого-нибудь народа. Назовём этот народ… ну, например, эндорским — и представим себе, что он живёт в государстве Эндора и говорит на эндорском языке. Если эндорский язык устроен так же, как все остальные языки на земле, то он будет непрерывно изменяться всеми теми способами, о которых мы уже знаем. Слова в этом языке через какое-то время начнут произноситься иначе, чем раньше; некоторые слова исчезнут вовсе, другие слова изменят своё значение. Наконец, изменится грамматика: у глаголов появятся новые окончания, падежи существительных будут употребляться не так, как прежде, а может быть, и вовсе исчезнут, и так далее. Самых разных изменений будет много, и чем больше времени будет проходить, тем больше этих изменений будет накапливаться.
Если государство Эндора маленькое и если его историческая судьба складывается благополучно, без войн, катастроф и переселений, то это означает, что все эндорцы веками живут там, где жили, и сохраняют возможность постоянно общаться друг с другом на своём языке. Единственное, что происходит с этим языком, — он постепенно превращается… ну, скажем, из староэндорского в среднеэндорский, а из среднеэндорского — в новоэндорский. Фактически староэндорский и новоэндорский — это уже два совершенно разных языка, так что эндорские студенты в эндорских университетах должны будут с большим трудом обучаться грамматике староэндорского языка, чтобы уметь читать староэндорские рукописи.
История разных государств на земле, конечно, далеко не всегда складывалась так, как только что было изображено. И всё же, если люди, которые говорят на определённом языке, на всём протяжении своей истории могут беспрепятственно общаться друг с другом, картина развития этого языка будет очень похожей на наше эндорское государство. Язык просто постепенно перейдёт из своей древней стадии в новую (с бо́льшими или меньшими изменениями), и ничего другого с ним не произойдёт. Главное для этого — чтобы на протяжении всей истории языка между говорящими на нём людьми сохранялся, как выражаются лингвисты, постоянный контакт.
А что же произойдёт, если это условие не будет выполнено? Ведь таких случаев в истории человечества тоже было очень много. Представьте себе, что в глубокой древности часть эндорцев села на корабли и уплыла далеко в неизвестные страны, где основала какую-нибудь Новую Эндору. Или ещё: нашу Эндору могли завоевать какие-нибудь грозные пришельцы и разделить её на два государства (например, Западную Эндору и Восточную Эндору); граница между этими государствами могла бы стать очень прочной, и каждое из них потом стало бы развиваться совершенно изолированно от другого. Да разве мало ещё что могло бы произойти, в результате чего единый прежде народ разделился бы на несколько групп?
А между тем именно это событие — деление одного народа на несколько изолированных групп — и есть самая главная причина того, почему возникают родственные друг другу языки. Я думаю, вы уже догадались, в чём здесь дело.
Язык не просто постоянно изменяется — он в принципе способен изменяться разными способами. Может получиться так, что, например, звук [м] на конце всех слов станет произноситься как [н], а может получиться так, что этот звук вообще исчезнет. Слово со значением «падать» может изменить своё значение на «случаться» (ср. в русском: мне выпало на долю), а может изменить своё значение на «не получаться» (как это произошло с близким по смыслу русским словом проваливаться, ср.: он сдавал экзамен, но провалился). В каждый момент своей истории язык похож на знаменитого витязя на распутье: перед ним одновременно множество дорог. По какой из них язык пойдёт — зависит от многих сложных причин; в какой-то степени, может быть, это ещё и игра случая.
Теперь представим себе, что единый прежде народ разделён на две области, две страны. Его единый прежде язык продолжает изменяться, потому что язык ни одного дня не существует без того, чтобы хоть немного не измениться (так же как наше сердце, пока мы живы, ни одной секунды не может не биться). Но доро́г-то множество! И если в одной из стран язык пошёл по одной дороге, то ведь в другой стране он вполне может пойти по другой дороге! А дальше — различия будут всё больше и больше накапливаться, и в конце концов части когда-то единого языка разойдутся так далеко, что никто, кроме лингвиста, и не скажет, что некогда они были одним целым.
Возникнут два разных языка, и люди, на них говорящие, даже не смогут понимать друг друга. Но мы помним, что эти два языка когда-то были одним языком: они произошли из одного и того же языка, потому что народ, говорящий на нём, разделился.
Такие языки и называются родственными. Теперь скажем об этом же немного точнее. Когда староэндорский язык, постепенно изменяясь, превращается в новоэндорский, мы говорим, что староэндорский язык — предок новоэндорского языка. Про всякий язык можно сказать, кто его предок. Бывают такие языки, у которых предок один и тот же. Родственные языки — это и есть языки, у которых один и тот же предок. Почему так получается — об этом мы уже сказали.
Итак, история языка (и говорящего на нём народа) может складываться так, что контакты между всеми говорящими никогда не прерываются и язык просто изменяется от древнего состояния к современному. Такой путь прошёл, например, русский язык, развиваясь от древнерусского (XI–XII века) к современному русскому (XVIII–XXI века); такой же путь прошёл, например, испанский язык, развиваясь от староиспанского к современному испанскому. Ни русский, ни испанский язык с того момента, как они образовались, больше не делились на родственные языки.
А вот судьба латинского языка была совсем иной. Как вы, наверное, знаете, на латинском языке говорило большинство населения древней Римской империи (которая существовала вплоть до V века). Это было огромное государство, простиравшееся от Северной Африки до Британских островов, от берегов Атлантического океана до берегов Чёрного моря. После того как Римская империя была завоёвана германскими племенами, она распалась на множество мелких областей, население которых в ту эпоху, естественно, не могло поддерживать контакты между собою. И в каждой из этих областей латинский язык продолжал изменяться по-своему. В результате этого получилась целая большая группа родственных языков. Это языки, у которых есть один общий для всех предок — латинский язык. Лингвисты называют их романскими языками (romanus по-латыни значит «римский»). Самые известные романские языки — это итальянский, испанский, португальский, французский и румынский. Все они и сейчас распространены в Европе на тех территориях, которые когда-то были римскими провинциями.
Таких примеров тоже очень много — когда единый язык перестаёт существовать и распадается на несколько самостоятельных родственных языков. Лингвисты говорят, что такие языки-потомки образуют группу родственных языков.
2. Как определить родственные языки?
Этот вопрос может вас удивить. Мы же только что договорились, что родственными называются языки, у которых есть общий язык-предок (его ещё называют праязык).
Так-то оно так, но как узнать, есть у каких-то двух языков общий предок или нет?
Конечно, в некоторых случаях нам может повезти, и мы благодаря сохранившимся документам, хроникам, памятникам и другим свидетельствам сумеем совершенно точно восстановить события, которые происходили с народом, говорившим на некотором языке. Мы будем точно знать, что этот язык распался, будем знать, когда он распался и на сколько языков.
В случае с латинским языком лингвистам, можно сказать, повезло. Современные люди довольно много знают про историю Римской империи и населявших её народов. Во всяком случае, у нас нет никаких причин сомневаться в том, что испанский или итальянский языки произошли от латинского.
Но так бывает очень редко. Возьмём, например, славянские языки. Это группа родственных языков, а значит, когда-то должен был существовать единый народ древних славян, говоривших на славянском праязыке. Но историкам ничего не известно ни про такой язык, ни про такой народ — несмотря на то что вообще история жизни разных славянских народов (чехов, поляков, сербов, русских) известна с довольно давнего времени. То же самое мы наблюдаем и в случае с германскими языками. Про историю германских народов мы тоже знаем довольно много, но все эти знания относятся к тому периоду, когда германцы уже были разделены на группы, жившие порознь.
Есть немало и таких народов, про прошлое которых нам совсем ничего не известно.
Тем не менее лингвисты находят способ говорить о родственных языках даже жителей Амазонки, даже жителей Тропической Африки, об истории которых они не знают совсем (или почти совсем) ничего.
Как же они это делают? Оказывается, такую возможность им даёт сам язык. Если внимательно сравнить два языка, они почти всегда дадут ясный ответ — родственны они друг другу или нет.
Дело в том, что язык изменяется не произвольно, а по определённым правилам. И, кроме того, в языке почти всегда остаются следы произошедших изменений (по крайней мере, если речь идёт об изменениях относительно недавних, возрастом двести-четыреста лет). Помните, как мы находили в современном русском языке следы старого двойственного числа?
В лингвистике есть специальные методы, которые позволяют восстанавливать тот облик, который имел язык несколько сот лет назад — перед последними изменениями. Эти методы называются реконструкцией.
Предположим, лингвист исследует какие-то два языка и видит, что их можно реконструировать так, что их более древний облик окажется одним и тем же. Это и означает, что у двух таких языков имеется общий предок, а сами эти языки — родственны. Только от этого языка-предка ничего не сохранилось — ни длинных рукописей, ни коротких текстов, ни даже просто записанных кем-то когда-то отдельных слов. Никто не засвидетельствовал его существование. Поэтому такой язык называют реконструированным.
Если реконструкция выполнена хорошо, то реальность реконструированного языка-предка почти не вызывает сомнения. Хотя не надо забывать, что его существование всё-таки остаётся гипотезой (пусть часто это очень правдоподобная гипотеза). Чем дальше мы отходим от нашего времени, тем менее надёжны наши реконструкции. И когда лингвисты начинают рассуждать о языках, на которых люди могли говорить десятки тысяч лет назад (а люди ведь говорили тогда на каких-то языках, не правда ли?), то уже едва ли найдутся два лингвиста, которые согласились бы друг с другом полностью. Ну что ж, в науке такое бывает часто.
Но мы ещё не узнали ничего существенного про метод реконструкции. Конечно, я не стану излагать его целиком — это слишком сложно, да и заняло бы слишком много места. Но про самую главную его особенность, думаю, рассказать будет очень полезно. Она касается того, как следует сравнивать разные языки, чтобы получить достоверные результаты.
Лингвисты, которые занимаются индоевропейскими языками (о том, что это за языки, вы узнаете в следующем разделе), утверждают, что слова, которые обозначают число 100 и звучат как сто в русском языке, centum (ке́нтум) по-латыни и çatam (ща́там) в санскрите, — родственны друг другу. Иначе говоря, все эти слова имеют одно и то же слово-предок в индоевропейском праязыке, которое по-разному изменялось в каждом из языков-потомков.
На первый взгляд, эти три слова совсем не похожи. Точно так же, как не похожи французское дуа́ и румынское де́гет, про которые лингвисты тоже говорят, что эти слова родственные.
С другой стороны, слово со значением «плохой» звучит, можно сказать, почти одинаково и в английском языке, и в персидском. По-английски оно пишется bad, а произносится приблизительно как бэд; по-персидски оно пишется (если писать латинскими буквами — хотя в Иране обычно пишут арабскими) bäd и произносится приблизительно так же. И английский, и персидский — индоевропейские языки, тем не менее лингвисты категорически отказываются считать английское bad и персидское bäd словами-родственниками. Лингвисты говорят, что их сходство — случайное совпадение.
Значит, дело совсем не в том, похожи ли внешне слова одного языка на слова другого языка. Впрочем, в этом мы убедились ещё раньше, когда сравнивали родственные языки.
До сих пор многие люди, не знакомые с методами научного изучения языков, пытаются доказывать родство самых далёких друг от друга языков, просто подбирая похожие слова. Оказывается, что некоторые слова африканского языка хауса похожи на слова английского языка, а то и языка древних египтян или шумеров. Или два-три слова из языка жителей какого-нибудь из островов Полинезии вдруг почти совпадут со словами древнегреческого языка.
Однако такие совпадения ничего не доказывают. Вообще, во всех языках мира так много слов (а звуков довольно мало), что нет ничего удивительного, если вдруг из десяти-двадцати-тридцати тысяч слов пять-шесть слов в разных языках окажутся похожими.
Нужно всегда помнить: в родственных языках слова не обязательно похожи (особенно если речь идёт о дальнем родстве), а похожие слова в разных языках — не обязательно родственны. Это — одно из самых главных положений сравнительного языкознания (специальной отрасли лингвистики, занимающейся сравнением разных языков для того, чтобы установить степень их родства).
Так как же определить родственные языки? Всё дело в том, что между всеми родственными друг другу словами родственных языков должны существовать особые отношения. Лингвисты называют их регулярными звуковыми соответствиями.
Что же это такое? Речь идёт вот о чём. Когда в языке происходят звуковые изменения (то есть слова начинают произноситься не совсем так, как прежде), то оказывается, что эти изменения обладают одним удивительным свойством, которое, надо сказать, очень облегчает работу лингвиста. Не будь этого свойства — мы, наверное, не смогли бы так хорошо восстанавливать облик исчезнувших языков. Свойство это состоит в том, что изменения звуков регулярны. Проще говоря, если, например, мы видим, что в каком-то одном слове звук [п] изменился в [б], то это значит, что и во всех остальных словах этого языка должно было произойти то же самое изменение: то, что произносилось как [п], теперь произносится как [б].
Впрочем, это можно сформулировать точнее. Неверно, что во всех словах один и тот же звук всегда изменяется одинаково. А верно то, что один и тот же звук всегда изменяется одинаково в одинаковых условиях. Или, как говорят лингвисты, в одинаковых контекстах. Например, может оказаться, что [п] изменяется (ещё говорят: «переходит») в [б] только в положении между двумя гласными: какое-нибудь слово плим так и продолжает произноситься плим, а вот слово упум превратится в слово убум. Но зато все слова, в которых звук [п] — между двумя гласными, должны будут изменить своё произношение.
Поэтому главное для лингвиста — обнаружить такие звуковые соответствия. Если он видит, что во многих словах двух разных языков повторяются одни и те же сходства и различия звуков, то это — очень верное доказательство того, что перед нами действительно родственные языки. И не так уж важно, похожи ли они друг на друга. Звуковые изменения могут быть очень большими и менять облик слова до неузнаваемости. Обратимся ещё раз к французскому языку (среди других языков именно французский известен тем, что пережил необычайно сильные изменения звуков: на территории других римских областей произношение латинского языка менялось заметно меньше). Узнаём ли мы с ходу в современном французском chaud «горячий» (произносится: шо) его предка — позднелатинское caldu− (произносится: калду−)? Вряд ли, и, наверное, очень удивимся, если нам скажут, что это — исторические родственники.
Однако посмотрим внимательнее на судьбу других латинских слов, оставшихся во французском языке. Первый звук в латинском слове «горячий» — звук [к]. Посмотрим, что произошло с другими латинскими словами, которые начинались с [к][4].
Поздняя латынь, Французский язык
цепь: cadena− (кадэна), chaine (шэн);
волос: capillu− (капиллу), cheveux (швё);
коза: capra− (капра), chèvre (шэвр);
главарь: capu− (капу), chef (шэф).
Оказывается, во всех случаях, когда слово начиналось с [к] (точнее, [к] с последующим [а] — это и был тот самый контекст, в котором обязательно происходило изменение), — это [к] переходило во французском языке в [ш]! (Вы уже знаете, что у этого изменения была промежуточная ступень: сначала [ш] произносилось как [ч], но сейчас это для нас не важно.) Каким бы странным нам ни казалось это изменение — оно совершенно регулярно, а следовательно, свидетельствует о родстве слов в каждой из этих пар.
Кстати, из приведённых примеров видно и то, что латинское конечное [у] во французских словах отпадало. Что касается конечного [д], то во французском слове оно пишется, но не произносится. Ещё совсем недавно (несколько веков назад) его произносили, но потом французы перестали произносить почти все конечные согласные в своих словах. Следы его ещё заметны — например, форма женского рода («горячая») звучит как шод — в этой форме [д] ещё произносится, потому что в ту эпоху, когда конечные согласные исчезали, форма женского рода была длиннее и д не находился на конце слова.
Итак, [к] (перед а) всегда даёт [ш], конечные [у] и (следом за ним) [д] — всегда отпадают. Нам осталось не так много: понять, что происходило с латинским сочетанием [ал]. Ну что ж, повторим наш опыт, рассмотрев ещё несколько слов[5].
Поздняя латынь, Французский язык
известь: calce− (калке), chaux (шо);
мальва: malva− (малуа), mauve (мов);
прыгать: saltare (салтарэ), sauter (соте).
Не правда ли, во всех словах имеется регулярное соответствие латинского [ал] — французскому [о]?
Значит, калду превратилось в шо абсолютно закономерно. Ни в какое другое слово оно и не могло превратиться — таковы были законы звуковых изменений в истории французского языка. Им подчинялись все слова, какими бы они ни были.
Впрочем, тут нужно сразу предупредить, что, говоря «все слова», я всё же не совсем прав. Небольшое число слов в истории языка нередко представляют собой исключения: звуковые изменения либо не происходят в них вовсе, либо происходят иначе, чем в большинстве других слов. Однако обычно и эти исключения можно объяснить действием каких-то других законов, которые просто отменяют «основные». Как бы то ни было, при сравнении языков немногочисленные исключения всё равно нельзя принимать в расчёт — их нужно потом исследовать и объяснять отдельно.
Конечно, на самом деле установление звуковых соответствий — гораздо более сложное занятие. Но в общих чертах всё происходит именно так, как мы показали. Обнаружить регулярные звуковые соответствия между словами двух языков — это и есть главная задача лингвиста, если он хочет понять, родственны два языка или нет.
Попробуйте сами, взглянув ещё раз на таблицу с французскими, румынскими и итальянскими словами, определить хотя бы некоторые регулярные соответствия между этими языками.
Собственно, это почти всё, что можно сказать о методе сравнения языков, если не касаться более сложных подробностей. Поиск регулярных соответствий — главное средство избежать опасности случайного сравнения похожих слов.
Но есть ещё одна опасность, более коварная. Помните ли вы пример из английского языка? В английском и французском языках много похожих слов, между ними вполне можно установить звуковые соответствия (английское [ч] = французское [ш] и т. п.). Но ведь эти слова — не родственные, они не развились из общего англо-французского праязыка (такого никогда не было), они были просто заимствованы английским языком из французского. Это не родные братья: у них нет общего отца. Это скорее сбежавшие из своего дома в чужой пришельцы.
Как отличить этих пришельцев от настоящих родственных слов? И тут нам на помощь приходит ещё одно удивительное свойство языка, которое тоже немало помогает лингвистам. Оказывается, что далеко не все слова могут быть заимствованы. Помните, мы с вами рассуждали о том, что срок жизни каждого слова в языке ограничен, рано или поздно любое слово исчезнет из языка. Но есть слова, которые считаются более устойчивыми, чем другие; самые устойчивые слова входят в список Свадеша, о котором мы говорили выше. Так вот, слова из списка Свадеша почти никогда не заимствуются, и начинать сравнение языков надо именно с них.
Тогда меньше всего риска поддаться обману пришельцев-заимствований, «замаскированных» под родственников.
Значит, сравнивать языки и определять их родство можно, если помнить о двух вещах: сравниваются самые устойчивые слова и доказательством родства должны быть только регулярные соответствия, а не случайные сходства в звучании отдельных слов.
Итак, один язык может, разделившись, дать начало нескольким родственным между собой языкам-потомкам. Такие языки, имеющие общего предка, называются группой родственных языков.
Родственные языки, принадлежащие к одной группе, как правило, похожи друг на друга — конечно, не всегда так сильно, как, например, русский и белорусский языки, но, во всяком случае, их сходство обычно видно, так сказать, «невооружённым глазом». Любой испанец (даже если он далёк от лингвистики) скажет вам, что испанский и итальянский языки «очень похожи», а французский язык, конечно, не так похож на испанский, но и по-французски он иногда «почти всё понимает». Так или примерно так говорящие на родственных языках одной группы всегда будут оценивать языки своих лингвистических «родственников». Примерно то же русский скажет о болгарском и польском языке, датчанин — о шведском и исландском языке, бенгалец — о языках гуджарати и маратхи (все они распространены в разных штатах Индии, а бенгальский, кроме того, ещё и в Бангладеш; вы, может быть, никогда не слышали таких названий, а между тем на родственных языках индоарийской группы говорит почти восемьсот миллионов человек), эстонец — о финском и карельском языке и т. д.
Тут, может быть, кому-то из вас станет интересно, у всех ли языков мира есть такие близкие родственники. Оказывается, не у всех (хотя и у очень многих). У каждого языка есть какой-то предок, но, как у людей бывают семьи с одним ребёнком, так и язык может не оставить много потомков. Кроме того, другие родственные языки могут со временем исчезнуть, так что наш язык и останется один на белом свете, без ближайших родственников (о дальних — разговор особый, об этом немного погодя). Такой язык будет образовывать группу, состоящую из него одного. Вот, например, современный греческий язык (он называется «новогреческий») образует греческую группу, в которую, кроме него самого, больше никто и не входит (если, конечно, не считать древнегреческий и новогреческий язык двумя разными языками, но мы всё-таки говорим о языках современных).
Теперь представим себе, что мы исследуем две разные группы родственных языков. Ну, например, ту, которую лингвисты называют славянской, и ту, которую лингвисты называют балтийской.
К славянской группе, кроме русского, белорусского и украинского, относятся ещё польский, чешский, словацкий, болгарский, македонский, сербскохорватский, словенский и некоторые другие; все славяне живут на западе Восточной Европы (или на востоке Западной — как кому больше нравится думать), а русские живут ещё и в Сибири, на Урале, в Средней Азии — всюду, где простирается Россия, и даже за её пределами.
Балтийская группа сейчас состоит всего из двух языков — литовского и латышского. Они тоже похожи друг на друга: например, «медведь» по-литовски будет lokys (читается локи́с), а по-латышски — lãcis (читается ла́цис); правда, понять друг друга латышу и литовцу «с ходу» будет трудновато.
Мы знаем, что у всех славянских языков есть общий предок — праславянский язык. Когда-то народ, говоривший на нём, разделился на несколько групп, и так возникли современные славянские языки. Есть, конечно, общий предок и у литовского языка с латышским. Это прабалтийский язык.
А что получится, если мы попробуем сравнить праславянский язык с прабалтийским? Оказывается, эти два языка будут очень похожи — гораздо больше, чем похожи друг на друга любой славянский язык с любым балтийским. Праславянский и прабалтийский языки похожи друг на друга так, как бывают похожи языки, принадлежащие к одной языковой группе.
А это значит, что прабалтийский и праславянский языки тоже родственны между собою, что они принадлежат к одной группе и у них был общий предок — балтославянский язык.
Правда, это мы уже не можем утверждать с полной уверенностью. Ведь чем дальше в глубь веков, тем больше простора для гипотез, окончательно не доказанных. Есть лингвисты, которые думают об отношении балтийских и славянских языков иначе.
Впрочем, для нас это пока не важно. А важно вот что: среди групп родственных языков, безусловно, могут найтись такие, языки-предки которых тоже родственны между собою.
Вот такие группы образуют новые большие группы «дальнеродственных» языков. Их в лингвистике принято называть семьями.
Если про два языка внутри одной группы почти всегда можно с уверенностью сказать, что они очень похожи, то про два языка, принадлежащие к одной семье (но к разным группам) этого уже просто так не скажешь. Их родство — не лежит на поверхности, ведь оно, так сказать, двоюродное или троюродное. Поэтому лингвисты специальным образом его доказывают. Слова из языков, принадлежащих к разным группам одной семьи, нельзя сравнивать непосредственно друг с другом — нужно сначала понять, как выглядели эти слова в языках-предках каждой группы, а потом уже сравнивать древние слова между собой. Именно поэтому не стоит сопоставлять персидские слова с английскими — нужно сравнивать предка английского и других германских языков (это прагерманский язык) с предком персидского и других иранских языков (это праиранский язык).
Сейчас на земле насчитывается не менее двадцати разных языковых семей. Конечно, возникает вопрос о том, могут ли быть родственны друг другу уже целые семьи языков. То есть можно ли сравнивать друг с другом праязыки, из которых эти семьи возникли? Действительно, некоторые лингвисты пытаются это делать. У них получаются макросемьи, в которые входят семьи родственных (по их мнению) языков. Но эти макросемьи должны были возникнуть из праязыка, возраст которого — десятки тысяч лет. Трудно сказать, насколько надёжны гипотезы, которые касаются такой древности: ведь в ту эпоху в Европе, например, люди ещё ходили в шкурах и пользовались каменными топорами. Но некоторые результаты, полученные при изучении дальнего родства языков, очень интересны.
Однако вернёмся к более изученной области — к существующим семьям языков (кстати, почти ни одна из них не изучена досконально, а многие изучены совсем поверхностно). Самая известная семья языков, наверное, — индоевропейская. Она названа так потому, что охватывает языки, на которых говорят во всей Европе и на значительных пространствах Азии — вплоть до Индии. Славянские языки тоже входят в индоевропейскую семью.
Предполагается, что некогда был единый индоевропейский праязык, который позднее распался на много языков-потомков, а те дали начало разным языковым группам внутри индоевропейской семьи. В истории индоевропейских языков ещё много неясного, хотя сейчас, пожалуй, ни одна другая семья языков не изучена лучше.
Лингвисты начали заниматься индоевропейскими языками ещё в XVIII веке, когда англичанин сэр Уильям Джоунз обратил внимание на то, что древнеиндийский язык санскрит (который играл в Индии приблизительно ту же роль, что латынь в Европе — язык религии, философии, литературы, общения между разными народами) содержит много слов, поразительно похожих на латинские и древнегреческие. Совпадений было так много и они были такими явными, что это сходство, конечно, не могло быть случайным. Оставалось одно — предположить, что и санскрит, и древнегреческий, и латынь, и язык древних германцев, и язык древних славян, и многие другие языки, обнаруживающие те же черты сходства, — что все они имеют одного общего предка, один язык, из которого все они когда-то произошли. Так возникла наука о родстве языков — сравнительное языкознание, или компаративистика.
Со времён Джоунза, конечно, было сделано немало открытий, да и про сами индоевропейские языки стало известно намного больше. Сейчас в индоевропейскую семью объединяют семь крупных групп и некоторые отдельные языки, у которых нет близких родственников. Вот что это за группы (перечислим только те языки, на которых говорят в современную эпоху).
Прежде всего, это уже известные нам славянские и балтийские языки. Другие важные самостоятельные группы образуют: в Европе — германские (немецкий, нидерландский, английский и др.), романские (итальянский, французский, испанский, португальский, румынский и др.) и (увы, близкие к исчезновению) кельтские языки; в Южной Азии — иранские и индоарийские языки.
Кроме того, к индоевропейским языкам, не имеющим близких родственников и образующим каждый свою отдельную группу, относятся албанский, армянский и греческий языки.
Народы, говорящие на этих языках, занимают сейчас огромные пространства на территории нескольких континентов. Индоевропейская семья — одна из самых больших в мире, и входящие в неё языки на редкость разнообразны. А ведь мы перечислили далеко не все из них. И совсем ничего не сказали о мёртвых языках — например, о загадочном хеттском языке, тексты на котором на несколько веков древнее даже санскритских. Это самый древний из известных нам индоевропейских языков, а говорили на нём в Малой Азии, на территории современных Турции и Сирии, начиная по крайней мере с XVIII века до н. э.
Но есть ещё много других языковых семей. Например, афразийская семья включает самые разные языки Северной Африки и Восточного Средиземноморья — от древнеегипетского до арабского, языков берберов Северной Африки и даже языка хауса, на котором говорят в самом сердце Тропической Африки — в Нигерии, Нигере и соседних странах. Большая алтайская семья языков включает группу тюркских языков (турецкий, татарский, казахский, киргизский, узбекский, чувашский и многие другие), распространённых по всей Азии — от Якутии до Турции, а также монгольский язык и, может быть, даже японский и корейский языки (хотя ещё не все лингвисты с этим согласны).
Уральская семья языков включает две группы, из которых вам наверняка известны языки большой финно-угорской группы. В неё входят финский и венгерский языки (одни из немногочисленных не-индоевропейских языков Западной Европы); у финского языка есть много близких родственников, в числе которых прежде всего эстонский и карельский языки, а также саамский язык на самом севере Европы и языки народов, живущих по берегам Волги, Камы и Печоры, — марийский, мордовский, коми, удмуртский. А вот у венгерского языка родственники очень неожиданные. Это языки хантов и манси, живущих в Сибири, у реки Обь. Когда-то они с венграми составляли единый народ, да вот как далеко разошлись за два последних тысячелетия.
Но и это ещё далеко не всё. Назовём только самые крупные языковые семьи мира. Народы, говорящие на языках австронезийской семьи, живут в Индонезии, на Филиппинах, на Мадагаскаре, на островах Полинезии в Тихом океане. Языки китайско-тибетской семьи распространены, как легко догадаться, в Китае и в горах Тибета (конечно, самый знаменитый из них — это китайский язык, превосходящий по числу говорящих все другие языки мира). Большинство населения Тропической Африки говорит на языках семьи нигер-конго (например, народы банту, населяющие почти всю территорию Африки к югу от экватора). А сколько ещё разных языковых семей есть на Кавказе, в Сибири, в Южной и Северной Америке, в Австралии! Впрочем, на этом сейчас лучше поставить точку. Подробнее о языках разных континентов будет рассказано позже.
Так что, как видите, лингвисту есть чем заняться. До сих пор в некоторых труднодоступных уголках нашей планеты продолжают открывать новые, прежде никем не изучавшиеся языки.
Мы уже знаем, что языки мира, в общем, очень непохожи друг на друга. Но чем же всё-таки они отличаются? И как можно их сравнивать друг с другом?
Об этом мы поговорим во второй части нашей книги.
Глава третья. Разные языки разных людей
Раньше мы много говорили про изменение языка во времени. Но ведь каждый язык существует не только во времени, но и в пространстве. И если во времени язык меняется непрерывно, то и в пространстве он тоже не остаётся неизменным.
Мы часто отвлекаемся от этой разницы и говорим просто: русский язык, английский язык. Иногда добавляем: современный русский язык; русский язык XVIII века. Делая это, мы хотим подчеркнуть, что понимаем, как язык меняется с течением времени; и язык XVIII века хоть и называется тоже русским, но всё же не совсем тот, что современный. Русский язык в деревне под Москвой, в деревне под Рязанью и в деревне под Вологдой — это тоже не совсем один и тот же язык, а может быть даже — совсем не один и тот же. Английский язык в Австралии, в Индии и в Америке — тоже, можно сказать, разные языки, австралийцу и американцу не всегда будет просто понять друг друга при встрече. А если вы хорошо знаете немецкий язык и разговаривали с немцами, то, должно быть, вы знаете, как важно понять, откуда родом ваш собеседник: баварец из Мюнхена говорит совсем не так, как житель Берлина, а речь берлинца, в свою очередь, отличается от речи жителя приморского Гамбурга. Да, в общем-то, во всех тех языках мира, которые занимают сколько-нибудь обширное пространство, вы найдёте мелкие, не очень мелкие или даже очень крупные отличия, свойственные языку в разных «точках» этого пространства.
Ничего удивительного в этом нет. Ведь даже в нашу эпоху жители одного города не так уж много общаются с жителями другого города, даже соседнего, не говоря о более отдалённых. А уж раньше, когда не существовало ни компьютеров, ни телефона, ни телеграфа, ни быстроходных машин и самолётов, ни радио с телевидением (совсем недавно, между прочим), — общение людей в разных частях даже единой страны, особенно живших в сельской местности, было очень ограниченным. Вот и получалось, что изменения, возникавшие на одном участке языка, отличались от изменений, возникавших на другом его участке.
Такие страны, как Германия и Италия, вплоть до XIX века состояли из множества мелких государств (часто это были просто отдельные города с прилегающими деревнями). Каждое государство жило своей замкнутой жизнью, и потому-то именно немецкий и итальянский языки в Новое время оказались наиболее «разнородными», как бы собранными из разных лоскутов. Поэтому было очень трудно определить, что же такое «стандартный», или литературный, немецкий или итальянский язык. Англичанам, французам, русским было проще: стандартный английский язык — это такой, как в Лондоне; стандартный французский — такой, как в Париже, ну а стандартный русский — конечно, такой, как в Москве. А как быть в стране, где совсем недавно не было единой столицы и где речь, например, жителей Рима кажется ничем не хуже и не лучше речи жителей других городов? В конце концов оказалось, что литературный итальянский язык больше всего похож на речь жителей Флоренции, а литературный немецкий — на речь жителей южной и особенно средней Германии; это объяснялось разными особенностями истории этих стран.
Мы привели этот пример для того, чтобы легче было понять: язык, неоднородный в пространстве, — такая же проблема, как и язык, неоднородный во времени.
Разные варианты одного и того же языка, распространённые в разных географических «точках», называют диалектами этого языка. Есть русские, немецкие, итальянские диалекты. Да, собственно, очень мало найдётся в мире языков, у которых вообще диалектов нет. Может быть, такими будут только языки одного селения (как это бывает в горах Дагестана): тут уже диалекту взяться неоткуда. А если селений хотя бы два — пожалуйста. По крайней мере, в Дагестане, где так трудно добираться из одного горного аула в другой, в разных селениях обязательно будут говорить если не на разных языках, то уж точно на разных диалектах одного языка.
2. А чем язык отличается от диалекта?
Действительно, чем? Почему мы говорим, что в Вологде — вологодский диалект русского языка, а не вологодский язык? Почему итальянцы говорят про сицилийский диалект итальянского, а не про сицилийский язык? Ведь они же разные!
Вы можете сказать, что они не такие уж разные. Ведь москвич понимает вологодца, а миланец — сицилийца.
Ну, во-первых, понимать-то понимает, да только не всегда так уж хорошо. А во-вторых, русские и белорусов тоже понимают не хуже, и даже поляков — не так уж плохо. А белорусский и тем более польский — конечно, отдельные языки, а не русские диалекты.
А с другой стороны, бывает, например, так, как в Китае. Там тоже есть диалекты китайского языка. Но когда житель Пекина слышит речь уроженца китайского юга — он может вообще не понять в ней ни слова. А всё равно мы говорим о диалектах.
Зато датчане прекрасно понимают язык норвежцев. И норвежские газеты могут читать почти так же свободно, как свои, датские. Однако никто почему-то не называет норвежский язык — диалектом датского или наоборот. А в Китае никто не говорит о «пекинском языке».
Почему? Вы, наверное, скажете на это: да очень просто! Все китайцы живут в одной стране и все русские в одной стране — вот у них поэтому и язык один и тот же. А датчане с норвежцами, русские с поляками — в разных странах. Значит, и языки у них считаются разными.
Очень хорошо. Предположим, вы правы (доля правды в таком утверждении действительно есть). Но скажите тогда, почему австрийцы, живущие в Австрии, говорят на австрийском диалекте немецкого языка, а не на австрийском языке? А бразильцы в Бразилии — на бразильском диалекте португальского (или, как иногда говорят, на «бразильском варианте» португальского), но уж никак не на особом бразильском языке? Тем более не существует ни австралийского, ни канадского, ни американского, ни прочих отдельных языков, а есть только разновидности английского языка во всех этих странах.
Не правда ли, найти простой ответ не удаётся? Отчасти, конечно, потому, что названия язык и диалект употребляются не всегда последовательно. Но главным образом потому, что эти названия в общем случае не имеют прямого отношения к степени лингвистической близости и вообще ни к каким «внешним» данным. Отличие языка от диалекта нельзя измерить никаким прибором. Когда лингвисты решают, как называть речь жителей определённой местности — отдельным языком или диалектом другого языка, — они опираются прежде всего на то, что жители этой местности сами думают о своём языке.
У диалекта есть два главных признака. Во-первых, все диалекты некоторого языка, конечно, должны быть лингвистически (близко родственны друг другу (вспомните, что вы читали о родственных языках в первых двух главах). На севере России встречаются деревни, в которых живут русские и карелы. Русский и карельский язык много столетий сосуществуют друг с другом как соседи, но мы никогда не скажем, что русский и карельский — диалекты одного языка. Русский язык относится к славянским, а карельский — к финно-угорским языкам (ещё раз загляните во вторую главу!), и это исключает всякую возможность считать их диалектами друг друга.
Во-вторых, диалект всегда используется говорящими не так, как «полноправный» (или «стандартный», или «литературный») язык. Если вы говорите на литературном языке, то вы можете использовать его в любой ситуации: и дома, и разговаривая с друзьями, и в школе, и на работе; тот же язык звучит по радио, используется в книгах и газетах, и т. д. В своей стране, в своём «доме» у литературного языка, как правило, нет конкурентов: этот язык может (и должен) использоваться везде, в любой сфере. (Впрочем, из этого правила бывают некоторые интересные исключения — о них мы подробнее расскажем немного позже. Но обычно дело обстоит именно так.) Иначе используется диалект: на нём не издают газет и обычно вообще не пишут (а если начинают писать, значит, это уже, так сказать, не совсем диалект), на нём не говорят по радио (по крайней мере, обычно не говорят дикторы радио), на нём вообще редко говорят за пределами своего дома, своего села, своей местности; при этом на диалекте говорят друг с другом только жители этой местности и только когда они считают, что идёт разговор «между своими». «С чужими» или «в официальной ситуации» (назовём это так) использование диалекта сразу становится невозможно. А использование литературного языка возможно всегда. Не правда ли, отношения между диалектом и литературным языком не симметричны: одному позволено всё, а другому достаётся только ограниченная область применения? Лингвисты так часто и называют это явление — функциональная асимметричность (то есть неравноправие функций, сфер применения).
Итак, чтобы речь жителей какой-то местности называлась, например, диалектом немецкого языка, нужно, чтобы она:
— была ближайшим образом родственна литературному немецкому языку (а это, кстати, совсем не значит, как вы помните, что она всегда будет очень похожа на немецкий язык!);
— использовалась только как речь «среди своих», а в остальных случаях уступала место литературному немецкому.
Обычно говорящие хорошо осознают такое положение дел. И поэтому, например, баварцы на вопрос о том, на каком, собственно, языке они говорят, без колебаний ответят: конечно, на немецком. Это последняя, но очень важная особенность диалекта: говорящие на нём часто как бы «не замечают», что их диалект не совпадает с литературным языком. Жители Баварии считают себя немцами, хотя речь жителей Баварии отличается от речи жителей Берлина куда больше, чем речь норвежца от речи датчанина. Но норвежцы не считают себя датчанами, и норвежский язык используется в Норвегии абсолютно везде — от книг и газет до школьных дворов.
Это очень важная разница: что люди думают о своём языке, как они его оценивают. И лингвисты, употребляя термин диалект, стремятся эту разницу учитывать. Поэтому таким запутанным кажется на первый взгляд отношение между языками и диалектами в разных странах.
Образование диалектов — своего рода промежуточный этап на пути от единого языка к группе родственных. Раньше мы много рассуждали о том, как из одного языка-предка может получиться несколько языков-потомков. Но такой распад языка не происходит внезапно. Он уже во многом подготовлен тем, что и до распада язык обычно неоднороден: в разных точках своего распространения он имеет разные варианты.
Таким образом, можно было бы считать, что диалект — это будущий самостоятельный язык (или пока ещё не полностью выделившийся самостоятельный язык). Однако здесь многое зависит от исторических обстоятельств. На самом деле диалекту далеко не всегда «удаётся» стать полноправным языком. Причина этого — в той неполной самостоятельности, функциональной ущербности диалекта, о которой уже шла речь.
Диалект нередко оценивается говорящими на нём (а тем более не говорящими на нём) как речь в какой-то степени неполноценная, вторичная по отношению к «правильной». На самом деле это, конечно, не так: мы уже говорили, что в языке бывают только изменения от одной системы к другой, а не изменения от «плохой» системы к «хорошей» или наоборот. Но так уж устроен человек, что, поскольку он находит где-то в мире (например, в поступках других людей) «плохое» и «хорошее», «правильное» и «неправильное», ему хочется то же самое находить и в языке. Диалект, конечно, не «лучше» и не «хуже» литературного языка. Но он функционально ограничен, и это ему мешает.
Люди, когда они много общаются друг с другом, стремятся всё же обходиться единым языком: это гораздо удобнее. Поэтому языки дробятся сильнее в те эпохи, когда общение между людьми становится более слабым; а в те эпохи, когда связи между людьми в разных местах усиливаются, дробление языков замедляется. Изменение языка невозможно остановить полностью, так как изменяться — это глубинное свойство всякого живого языка; но изменение и распад языков можно сильно замедлить. Периоды разделений и ускоренных изменений чередуются в истории языков (и народов) с периодами объединений и замедленных изменений.
Например, лингвисты и историки сейчас думают, что после образования Русского государства (IX–XII века) диалектов на его территории постепенно становилось меньше и они становились более похожими друг на друга. Это была «объединительная» эпоха. К концу её язык на территории Русского государства стал более однородным. Да и сейчас, надо сказать, современный русский язык на удивление однороден — особенно если подумать о том, на какой большой территории он распространён. Русские диалекты по степени отдалённости от литературного языка нельзя даже сравнивать с итальянскими или немецкими — этими европейскими «рекордсменами» по части разнородности и раздробленности.
Вместе с тем и в истории Русского государства были периоды большей раздробленности. Самый значительный из них наступил после монгольского нашествия и последовавших за ним изменений в судьбе самых разных народов и государств. Именно в это время (XIII–XIV века) окончательно оформилось новое разделение объединённого и «выровненного» до этого языка — на русский, украинский и белорусский. Большинство современных русских диалектов начали формироваться тогда же. А древние диалекты, существовавшие до «объединительной» эпохи, успели к тому времени исчезнуть. Например, в Новгороде в древности говорили на таком языке, который отличался от соседних гораздо сильнее, чем современные новгородские диалекты отличаются, например, от современных среднерусских. Это стало ясно после исследований новгородских берестяных грамот, сохранивших для нас множество образцов подлинной речи людей двенадцатого и последующих веков.
При образовании единого государства различия между диалектами на его территории всегда сглаживаются. Образуется единый язык, как часто говорят, наддиалектная норма. Но при распаде государства прежние различия могут ожить и дать начало нескольким разным родственным языкам. Здесь почти всё зависит не от языка, а от условий, в которых он развивается.
Интересно, к какому периоду ближе всего наша современная эпоха? Наверное, всё же она больше похожа на период объединения: слишком многое сейчас помогает разным людям поддерживать друг с другом контакт, даже если они сами к этому не очень стремятся. Впрочем, на этот вопрос мы сможем с уверенностью ответить только лет через двести.
До сих пор мы говорили о языках и государствах, как если бы дело всегда обстояло так: в одном государстве — только один язык (не считая его диалектов, конечно). Но такого почти никогда не бывает. На одной и той же территории обычно «сосуществуют» (причём, к сожалению, далеко не всегда мирно) много десятков разных языков. И в их сосуществовании, в их влиянии друг на друга тоже есть определённые закономерности. Их изучает особая отрасль лингвистики — социолингвистика. Вы помните, что современная лингвистика очень молодая наука: современным методам изучения родства языков — чуть более двухсот лет, изучения грамматики языков — немногим менее ста (конечно, не надо забывать, что и в прошлом — например, в античности или в Древней Индии — возникали замечательные догадки об устройстве языка). Но социолингвистика — ещё моложе: пристально изучать влияние языков друг на друга лингвисты стали всего около сорока лет назад (хотя, конечно, и здесь у них были предшественники — ведь в науке почти ничего не возникает «на пустом месте»).
В сущности, социолингвистика возникла из нескольких очень простых (на первый взгляд) вопросов.
Вспомним наш придуманный эндорский язык. Мы можем изучать его структуру, его грамматику. Мы можем написать о том, что нам удалось узнать, целую книгу, и она так и будет называться: «Грамматика эндорского языка». Мы можем сравнивать грамматику этого языка с грамматиками других языков. (Об этом мы ещё будем говорить во второй части книги.) Это значит, что мы займёмся «обычной» лингвистикой (её ещё иногда называют внутренней лингвистикой — наверное, потому, что она изучает язык как бы «изнутри», его скрытые пружины, внутреннее устройство). Мы можем, кроме того, пытаться выяснить, есть ли у нашего языка родственники, в какую группу и семью он входит, как давно он отделился и начал существовать как самостоятельный язык. Всё это будет значить, что мы занимаемся исторической лингвистикой (или сравнительной — потому что мы сравниваем историю разных языков; впрочем, чаще всего такую лингвистику называют на всякий случай сразу сравнительно-исторической). О проблемах исторической лингвистики мы говорили в первой и второй главах.
Но мы можем пытаться ответить и на другие вопросы. Где, в каких странах и областях говорят на этом языке? Есть ли у этого языка письменность и как давно она возникла? Говорят ли люди, владеющие этим языком, ещё и на других языках? Если да, то когда и с кем они говорят на каждом из этих языков? Наконец, все ли говорящие на этом языке говорят на нём одинаково: мужчины и женщины, молодые и старики, люди разных профессий и занятий? Вот это и будет значить, что мы занимаемся социолингвистикой. Мы изучаем язык не «изнутри» и не с точки зрения его истории и структуры, а, так сказать, «извне». Мы задаём про этот язык много вопросов и выясняем всё, что нам известно о «поведении» этого языка в мире людей.
Конечно, это совсем не то, что выяснять, как в этом языке спрягаются глаголы и склоняются существительные. Но «внешние», социолингвистические сведения тоже могут быть очень важными и интересными. Правда, с их помощью нельзя выучить язык. Но, зная их, можно научиться правильно использовать язык — то есть в нужное время, в нужном месте и в нужной форме. А иначе вас поймут совсем не так, как вы хотели. И в лучшем случае будут смеяться — как, например, в такой истории, которую я слышал от своих друзей-лингвистов.
Один иностранный профессор приехал в Россию. Он был специалистом по русскому языку и знал русский язык очень хорошо. Он знал даже такие слова, которые ещё не успели попасть в словари. Однажды, войдя в комнату, он спросил: «А у вас тут смолить можно?» Он имел в виду — не разрешат ли ему закурить. Конечно, среди говорящих по-русски некоторые люди в некоторых ситуациях говорят смолить вместо курить. Но совсем не тогда и не так, как наш иностранный профессор. Он не учёл как раз социолингвистических сведений: с кем и в какой ситуации можно и нужно употребить данное слово. И не понял, почему все начали смеяться после его вопроса. Конечно, потом ему объяснили его ошибку, и, поскольку он был всё-таки хороший лингвист, он сразу всё запомнил и больше уже не просил разрешения немного посмолить.
Для нас в первую очередь интересен тот случай, когда в одном государстве используется несколько разных языков. Таких многоязычных государств в современном мире очень много, но их было много и в прошлом. Почему так происходит? Причин несколько.
Во-первых, в одном государстве могут просто жить много разных народов. И это относится не только к большим или очень большим государствам, которые всегда многонациональны (как Россия, Индия, Канада, Бразилия), — даже в маленьких странах часто живут несколько народов. В Бельгии живут валлоны, говорящие по-французски, и фламандцы, говорящие по-нидерландски. В Испании — кроме, конечно, испанцев — живут ещё галисийцы (говорящие на галисийском языке, близком к португальскому), каталонцы (говорящие на каталанском языке, который тоже относится к романской группе и немного похож на французский) и баски (язык которых не похож ни на один из известных науке). В Финляндии, кроме финнов, живут шведы (ведь ещё двести лет назад Финляндией управляли шведские короли) и саамы (саамский язык родствен финскому, но довольно сильно от него отличается; больше всего саамов — их ещё называют лопарями или лапландцами — живёт в Норвегии; есть они и в Швеции, и на севере России, на Кольском полуострове). А вот в маленькой Швейцарии (которая возникла в XIII–XIV веках как объединение нескольких независимых областей — кантонов) говорят даже на четырёх языках: немецком (большинство населения), французском, итальянском и ретороманском (этот язык близок к итальянскому, небольшое число говорящих на нём живут в Швейцарии и на севере Италии). На швейцарских деньгах, например, обязательно делают надписи на всех четырёх языках, но в «общегосударственной» жизни самым употребительным из этих четырёх языков остаётся всё же немецкий. Правда, тот немецкий диалект, на котором говорят в швейцарских кантонах, отличается от литературного немецкого языка гораздо больше, чем, например, нидерландский, который считается самостоятельным языком (вот и ещё один случай, когда разные языки ближе друг к другу, чем диалекты одного и того же языка). Но если вы знаете немецкий, не отчаивайтесь: в Швейцарии вас поймут. Литературный немецкий там изучают в школах, на нём пишут в книгах и газетах. Правда, в швейцарской деревне вам всё равно придётся трудновато.
Государственные границы часто разделяют единый народ, и люди, говорящие на одном языке, оказываются жителями разных стран. Именно так обстоит дело с саамами, о которых мы только что говорили; а баски живут не только в Испании, но и во Франции.
Даже если народ имеет своё государство, большие группы говорящих на том же языке людей нередко оказываются за его пределами — уж очень сложной была история многих стран и народов. Например, венгры живут не только в Венгрии, но и в Румынии, на Украине (в Закарпатье), в Словакии; итальянцы (говорящие на разных диалектах итальянского языка) — живут не только в Италии, но и в Австрии, Швейцарии, на принадлежащем Франции острове Корсика. (Этот остров, наверное, более всего известен тем, что на нём родился император Наполеон Бонапарт; мы привыкли произносить его имя и фамилию на французский лад, а на самом деле фамилия его итальянская и звали его по-итальянски так; Наполеоне Буонапарте.) Раньше почти во всех многонациональных государствах в общественной жизни использовался только один язык — или самого многочисленного народа, или народа-завоевателя; проще говоря, язык правителя и был языком государства. В современном мире положение постепенно меняется, и многие государства стремятся обеспечить равные возможности для языков всех своих народов. Например, в Финляндии двести лет назад основным языком был шведский (хотя основным населением были финны); теперь же, когда Финляндия стала независимой страной, там два государственных языка: финский и шведский. Если вам когда-нибудь попадётся упаковка от товара, изготовленного в Финляндии, обратите внимание на надписи на ней: они обязательно будут на двух языках — финском и шведском. (А знаете, как отличить надписи на этих языках друг от друга? В финском больше длинных слов и часто попадаются двойные гласные — aa, yy и т. п.; а в шведском больше коротких слов и ещё есть особая буква å, которая не употребляется в финском.)
Но несколько разных языков могут использоваться не только в многонациональных государствах. Бывает так, что в стране государственным оказывается такой язык, который вообще не является родным ни для кого из коренных жителей этой страны. И бывает это не так уж редко. В чём здесь дело? Обычно такие страны в недавнем прошлом были колониями, и язык бывших правителей остался им как бы «в наследство» — в Индии, Нигерии, Кении продолжают пользоваться английским, а на Мадагаскаре или в Сенегале — французским, хотя англичане и французы уже несколько десятилетий не управляют этими странами.
А почему же английский и французский языки остались в этих странах государственными? На то было несколько причин. Во-первых, местные языки этих стран часто не имели письменности, не было традиции использовать эти языки для создания всего того, что люди обычно закрепляют на бумаге: законов, правил, новостей повседневной жизни (в газетах), научных открытий и гипотез (в научных журналах и книгах), наконец, художественного вымысла (в произведениях литературы). Такая традиция создаётся постепенно, а пока её нет, приходится обходиться другими языками, где уже есть в готовом виде нужные слова и выражения, которые приспособлены ко всем этим задачам. В принципе к этому можно приспособить любой язык — ведь любую мысль можно выразить на любом языке, но для этого надо, чтобы все говорящие на этом языке привыкли к новым словам и понятиям и стали ими свободно пользоваться, а это тоже не происходит быстро. Когда-то и английский, и французский языки находились примерно в таком же состоянии, как многие современные языки Африки или Азии. Лет шестьсот-семьсот назад образованные люди в Европе были абсолютно уверены, что учёные, юристы, поэты могут писать только на латинском языке, поскольку их родные языки для этого «не приспособлены». Пригодность французского или английского языка для науки или художественной литературы приходилось долгое время доказывать в ожесточённых спорах (не правда ли, теперь нам это кажется довольно странным?) — и те же споры вновь приходится слышать уже в наше время, например, в молодых государствах Африки.
Есть ещё одна причина, которая затрудняет переход на местные языки в этих странах. Местных языков в большинстве из этих стран слишком много: десятки и даже сотни (как, например, в Нигерии или в Индии: в Индии это, пожалуй, основная проблема, так как там многие местные языки как раз имели свою письменность, причём очень древнюю). Сделать государственными все сразу — невозможно (по крайней мере пока); сделать только два или три — значит вызвать обиды со стороны других народов. Вот и остаётся государственным «ничей» английский или французский язык — он для всех чужой, и поэтому никому не обидно.
Мы видим, что для оценки места языка в обществе очень важно, какие функции он может выполнять. Самый ограниченный набор функций — у «домашних» языков, на которых можно говорить только дома, в семье, в своей деревне, среди своих. На них уже нельзя объясниться даже в соседнем городе (потому что там люди говорят на других языках) и, конечно, нельзя ни писать, ни читать. Диалекты, о которых мы говорили в начале этой главы, по своим функциям — тоже своего рода «домашние» языки.
Поднимемся на одну ступеньку выше — и найдём там языки «уличные» (их ещё иногда называют «региональными»). Это языки, на которых говорят уже целые большие области; приехав в город из деревни, на таком языке вполне можно объясняться. Но за пределами «своей» области этот язык уже мало кто понимает; обычно (хотя и не всегда) на таком языке только говорят, но не пишут или пишут очень мало.
И только на последней, самой верхней ступеньке находятся языки, которые способны к любому использованию: на них можно объясняться в любом месте своей страны (а нередко и в чужой стране), на них можно писать и рассуждать о чём угодно, издавать книги и журналы — и так далее. Это национальные и государственные языки, языки, как говорят лингвисты, «функционально развитые».
Языку не так-то легко подняться на самую высокую ступеньку функционального развития (хотя любой язык по своей природе к этому, безусловно, способен). Иногда для этого требуются не годы и не десятилетия, а века. Люди часто предпочитают использовать пусть и чужой, но уже «развитый» язык, чем развивать свой собственный. Так было с латинским языком в средневековой Европе. Так теперь происходит с английским и французским языком в бывших колониях.
А как обстояло дело с использованием русского языка? Оказывается, и русский язык часто в своей истории уступал место другим языкам, в ту эпоху функционально более развитым.
Славяне получили письменность (вместе с христианством) от греков, из Византии, которая в ту пору была могущественным государством, наследницей Римской империи на Востоке. Вначале письменность получили южные славяне, предки современных болгар и македонцев. Их язык называют старославянским — это самый древний из известных нам по письменным памятникам славянский язык (если помните, мы немного говорили о нём в первой главе). Это язык первых переводов Нового Завета и других христианских книг, которые были сделаны Кириллом и Мефодием и их учениками, жившими приблизительно в районе современной северной Греции; язык, на котором они писали, был более близок к древнеболгарскому языку, чем к древнерусскому. Например, слова, которые у древних болгар (как и у других южных славян) звучали приблизительно как брег, влас, град, ношть, прах, у древних русских (и у других восточных славян) звучали приблизительно как берег, волос, город, ночь, порох — и т. п. Из старославянского языка в русский попали такие слова, как время, глагол, гражданин, мощь, награда, пещера, храм, — и многие десятки других. Как видите, старославянский язык был и похож, и не похож на тот язык, на котором говорили восточные славяне от Новгорода до Киева (язык этот теперь называют древнерусским). Достаточно похож, чтобы легко стать литературным языком Древней Руси, быстро подняться на самую верхнюю ступеньку. Не на древнерусском, а на старославянском языке было принято и молиться, и, например, писать летописи, на него переводили с греческого языка важные книги. Вообще, чаще всего писали именно на нём, хотя по-древнерусски предпочитали писать многие «деловые» документы: судебные решения, описи имущества и т. п. Конечно, старославянский язык очень сильно влиял на древнерусский. Можно даже утверждать, что тот современный русский язык, на котором мы говорим (и особенно пишем), — это смешанный язык, это, так сказать, сплав двух родственных языков: он возник из древнерусского, но подвергся мощному южнославянскому влиянию. Достаточно сказать, что, например, все окончания русских причастий на — щий — старославянские по своему происхождению: формы типа бегущий или горящий на самом деле — заимствования. Собственно русские формы — это нынешние прилагательные типа бегучий или горячий, в современном языке в целом довольно редкие.
Таким образом, в древнерусском государстве на самой верхней ступеньке стоял старославянский язык. Древнерусский язык какое-то время стоял на одну ступеньку ниже. А вот начиная с XVIII века в России на верхнюю ступеньку забирается… французский язык. В ту пору Франция была одним из самых влиятельных государств Европы. Постепенно сложилось так, что образованные люди в России стали предпочитать писать и говорить друг с другом по-французски; во многих дворянских домах по-русски обращались только к слугам. Это постоянное присутствие французского языка в русском «высшем обществе» хорошо передал Лев Толстой в романе «Война и мир»: там есть целые страницы, где герои говорят друг с другом по-французски. Положение постепенно изменилось лишь к середине XIX века; к тому времени — после Пушкина, Лермонтова, Гоголя — уже, бесспорно, существовал русский литературный язык (собственно, он начал складываться ещё в XVII веке). Но многие письма Пушкина написаны по-французски, и даже планы своих будущих произведений он иногда писал по-французски — наверное, так ему легче было думать. А вот что Пушкин пишет про Татьяну в «Евгении Онегине»:
Она по-русски плохо знала,
Журналов наших не читала
И изъяснялася с трудом
На языке своём родном.
Это можно было сказать про многих русских дворян той эпохи.
В истории очень многих стран были периоды, когда на самой верхней ступеньке находился какой-нибудь чужой язык. Помните, что было рассказано в первых главах про историю английского языка? Несколько веков высшие слои английского общества говорили на старофранцузском языке. В Венгрии несколько веков говорили по-немецки, а, например, в древней Польше… по-чешски (потому что чешские короли были в ту эпоху очень могущественными и польские земли от них зависели). Для многих стран Востока «верхним» языком долгое время был арабский. Конечно, в языках сохраняются следы такого положения — прежде всего в виде многочисленных заимствований. Ведь заимствуются чаще всего слова в направлении «сверху вниз» — из языка, стоящего на верхней ступеньке, в языки, стоящие на нижних ступеньках. Это не значит, правда, что не бывает других заимствований — например, заимствований «снизу вверх» или из социолингвистически равноправных языков — друг в друга. Но заимствований «сверху вниз» всё-таки больше.
В заголовке этого раздела — два лингвистических термина. Оба они имеют одинаковое значение: «двуязычие». Только первое слово составлено из греческих корней, а второе — из латинских.
Два разных слова специально придуманы потому, что двуязычие может быть разным. Это — одно из первых открытий, которое сделала социолингвистика. Бывают двуязычные люди, а бывают — двуязычные государства, которые ведут себя совсем не так, как люди. Потому-то и понадобились два разных слова. Кстати, и люди, и государства бывают не только двуязычными, но, как мы уже знаем, и трёхъязычными, и даже, может быть, сорокаязычными. Но мы будем для простоты говорить пока только о двуязычии: этот случай самый наглядный.
Диглоссия — это состояние, которое может быть только в двуязычном государстве (при этом — ещё далеко не во всяком двуязычном государстве!); оно тоже связано с функциональным неравенством языков. При диглоссии язык, стоящий на самой верхней ступеньке, не пускает наверх другой, «нижний» язык. Образуются целые зоны, в которых можно использовать только «верхний» язык. Например, писать на нём. Или обращаться к правителю этой страны. Или молиться. Или петь песни… Не так важно, какая это будет зона. Важно, что один из языков не пускает в неё другой.
Диглоссия была в древнерусском государстве; была она и в Российской империи XVIII и начала XIX века (какие языки участвовали в этом, вы уже можете сказать сами). Диглоссия, конечно, была и в Англии после нормандского завоевания, и в средневековой Европе. А вот, скажем, в современной Бельгии диглоссии нет, несмотря на то что в этом государстве тоже два языка — французский и нидерландский (фламандский). Просто в одних районах Бельгии предпочитают говорить по-французски, а в других — по-фламандски. Но эти языки функционально, в общем, равноправны: читать и писать можно и на том, и на другом, слушать лекции в университете — тоже (правда, «французские» и «фламандские» университеты обычно находятся в разных городах Бельгии), разговаривать с полицейскими, выступать в парламенте и так далее. Нет такой области жизни, куда французский язык «не пускал бы» фламандский — и наоборот.
В отличие от диглоссии билингвизмом называется двуязычие отдельного человека, такого, как мы с вами. Если человек одинаково хорошо владеет двумя языками, он называется билингвом. Правда, заслужить это название не так просто. Если, например, вы выучите английский язык (пусть даже очень-очень хорошо) — вас всё равно билингвом не назовут. И дело не в том, что вы говорите по-английски хуже, чем англичане, американцы, австралийцы или канадцы. Дело в том, что быть билингвом — это значит постоянно пользоваться обоими языками в повседневной жизни. Например, дома говорить на одном языке, а на улице, в магазине, на работе — на другом. И при этом легко, без затруднений переходить с одного языка на другой, часто даже не замечая этого перехода.
Билингвом трудно стать взрослому человеку, если до этого он жил в одноязычной стране. Билингвом лучше всего — родиться. Вернёмся опять в Бельгию и представим себе, что у вас отец — француз (точнее, валлон — вы помните, что именно так называются бельгийцы, говорящие по-французски), а мать — фламандка. Тогда с самого рождения в доме будут звучать два языка и ребёнок привыкнет обращаться к отцу на одном языке, а к матери — на другом. И во дворе он будет играть с детьми, которые говорят то по-французски, то по-фламандски. Так он и привыкнет постоянно пользоваться двумя языками сразу — и вырастет настоящим билингвом. Но, конечно, те, кто родились в обычной фламандской семье, где-нибудь на севере Бельгии, билингвами не будут: они всё равно научатся говорить по-французски, для любого бельгийца это обязательно, но будут пользоваться им гораздо реже и знать его не так хорошо.
Многие образованные африканцы, живущие в городах, тоже билингвы: дома они обычно говорят на своём местном языке, а на работе (особенно если это государственная служба) — пользуются французским или английским. Да и с детьми, например, они могут говорить то на своём языке, то на английском, так что дети тоже почти с самого рождения привыкают свободно переходить с одного языка на другой. А вот в африканской деревне, где большинство жителей пока ещё не умеют ни читать, ни писать, такого билингвизма, конечно, не будет. Правда, не надо забывать, что ребёнок, родившийся в африканской деревне, может свободно говорить на трёх-четырёх местных языках; мы уже обсуждали раньше, как это бывает.
Теперь, когда вы уже немного разбираетесь в проблемах двуязычия, я хотел бы, чтобы вы попробовали ответить на такой вопрос: в государстве с диглоссией — все ли люди билингвы? Это совсем не простой вопрос, поэтому не торопитесь отвечать сразу «да». Казалось бы, раз диглоссия требует от человека непременного знания одного языка для одних занятий и другого языка — для других занятий, то все люди должны быть в такой стране двуязычными. И всё-таки на самом деле это не так. Потому-то, в частности, и понадобились лингвистам два разных слова, что диглоссия в государстве не обязательно предполагает билингвизм всех его жителей. А дело здесь в том, что круг занятий у каждого человека ограниченный. И можно прожить всю жизнь, ни разу не испытав потребности проникнуть в те области, где командует «второй» язык. Это было особенно заметно в средневековых государствах, где люди более резко делились на сословия и группы и даже по одежде можно было сразу отличить крестьянина от купца, солдата от придворного, шута от лекаря. Государство с диглоссией немного напоминает слоёный пирог: одни занятия внизу, в одном слое, другие — наверху, в другом слое. Но жители этого государства не обязательно помещаются одновременно в двух слоях: можно спрятаться в нижнем слое и не подниматься наверх, можно расположиться в верхнем и не спускаться вниз. Вспомните к тому же, что диглоссия часто связана с письменным языком, то есть языком, на котором пишут, — а ведь грамотных людей раньше было не так уж много. Вот и получается, что древнерусские крестьяне могли почти совсем не пользоваться старославянским языком, а древнеанглийские крестьяне (их называли йоменами — вы должны знать это слово, если читали книги про Робин Гуда или романы Вальтера Скотта), как правило, имели очень отдалённое представление о французском языке. И наоборот, нормандские бароны-завоеватели часто даже не считали нужным знать английский язык: пусть слуги понимают их французскую речь, это казалось им вполне достаточным.
8. Мы говорим на разных языках…
Если я долго убеждаю другого человека в чём-то для меня важном, а он со мной не соглашается, я могу сказать ему в конце концов: «Мы с тобой говорим на разных языках». Хотя мы оба говорим по-русски. Но вы уже знаете, что русский язык (как и любой другой) бывает разным: он разный в разных точках пространства. А в одной «точке» — например, в одном и том же городе? Все ли его жители говорят одинаково? А вы и ваши друзья? Вы и ваши родители? Вы и ваши дети?
А может быть, каждый из нас говорит на своём особом языке? Но тогда как же мы понимаем друг друга?
Оказывается, что все мы действительно говорим на разных языках. Речь каждого из нас имеет особые, неповторимые признаки. Но различия эти не настолько велики, чтобы мешать нам понимать друг друга, — зато они вполне достаточны для того, чтобы узнавать друг друга так же, как мы узнаём близких людей по голосу или по походке. Лингвисты не очень любят обращать внимание на такие различия — они им обычно мешают, поэтому лингвисты делают вид, что их нет.
Конечно, когда мы пишем «Грамматику эндорского языка», придуманного нами, нам совершенно необходимо сделать вид, что все эндорцы говорят одинаково, — иначе никакой грамматики у нас не получится. Не можем же мы написать столько грамматик, сколько есть на свете эндорцев. Да и если бы даже могли, то все эти грамматики получились бы очень похожими друг на друга, а иностранцы не знали бы, какую из них им читать, чтобы лучше научиться говорить по-эндорски.
Но сейчас мы с вами говорим не о грамматике, а о социолингвистике. Поэтому мы имеем полное право думать о различиях внутри одного языка — это ведь и есть главный предмет социолингвистики.
Представьте себе, что вам объясняют, как найти дорогу в незнакомом месте. Вам долго объясняли, а потом спросили: «Ну как, доберётесь?» Что бы вы ответили в таком случае (если вы считаете, что поняли объяснение и что найти дорогу будет не так уж трудно)?
Обычно человек, говорящий по-русски, скажет в таком случае что-то вроде: «Конечно», «Разумеется», «Естественно». Это самые обычные, как говорят лингвисты, нейтральные ответы: их можно ожидать практически от любого говорящего. Но этими ответами ещё далеко не исчерпывается список того, что можно услышать. Например, можно услышать: «Натурально», «Спрашиваешь!», «Ясное дело». Это ответы тоже довольно распространённые, но встретиться они могли бы уже не во всяком разговоре. Скорее всего так ответит молодой человек своему сверстнику. Напротив, от людей постарше мы бы ожидали услышать что-то вроде: «Не сомневайтесь» или «Непременно». Молодые люди так теперь, пожалуй, не говорят.
Все эти ответы по-прежнему характерны для многих людей (хотя уже и не для всех). Но вы хорошо знаете, что почти у каждого из нас есть какие-то свои любимые словечки; иногда они бывают общими для небольшой компании друзей и не употребляются другими людьми — пусть даже того же возраста, той же профессии и так далее. Например, мне рассказывали про одну компанию, в которой было принято говорить не «Ясное дело», а «Ясная поляна». Может быть, в первый раз кто-то так пошутил, но постепенно этот ответ просто вошёл в привычку и стал уже не шуткой, а скорее отличительным знаком этой компании. А ещё есть такой вариант: «Ясный перец». Вы не слышали?
Подходя у себя дома к телефону, мы говорим «Алло!» (чаще всего), иногда — «Слушаю» или просто «Да». Но у меня был один знакомый, который неизменно снимал трубку со словами «Крылов у аппарата!». Потом, правда, это у него прошло.
Всё это — и многое другое, конечно, — образует то, что называется индивидуальными речевыми различиями. То, что отличает речь каждого отдельного человека от речи всех других людей, говорящих на том же языке.
Индивидуальные особенности речи легко запоминаются: человека можно, как мы уже говорили, узнавать по ним, можно пытаться копировать, передразнивать и так далее. Это особенности, которые бывают очень важны для психологов, для актёров или для писателей: для всех тех, чья профессия связана с человеческой личностью.
Но лингвисты интересуются не столько отдельными личностями и их причудами (хотя, конечно, и это может иметь значение), сколько тем, что можно было бы считать закономерностью. То есть особенностями речи не столько отдельных людей, сколько групп людей. Речь разных групп лингвисты изучают много и охотно и даже придумали для неё специальное название. Если это язык замкнутой группы людей, объединённых общими внешними признаками (например, профессией), то обычно его называют жаргоном.
9. Речь разных групп людей. жаргоны
Раньше нам приходилось много рассуждать о том, как различия языков мешают людям общаться и как люди стремятся преодолевать эти различия. Это — одно из основных желаний человека: чтобы его понимали.
Однако бывает у человека, оказывается, и другое желание, полностью противоположное: чтобы его не понимали. Кто не должен понимать? Конечно же, «чужие», «враги». А как быть, если «чужие» говорят на том же самом языке? Выход один — надо изобрести особый язык, понятный только «своим». На этом языке можно будет разговаривать о самом важном, о самом тайном — о «своём», о том, что «чужим» не положено знать.
Из этого желания и рождаются особые языки отдельных групп — жаргоны. Языки, которые не положено знать всем тем, кому не положено. Обычно жаргон не отличается от «большого» языка по грамматике, зато отдельные слова в нём совсем не похожи на слова «большого» языка. Они могут заимствоваться из других языков (из одного или сразу из нескольких), могут браться из «большого» языка, но в изменённом значении, могут (реже) — специально переделываться из слов большого языка. В жаргоне может быть немного собственных слов (только для самых важных понятий, о которых и идёт обычно речь между «своими»), но может быть и так, что почти все слова в нём отличаются от слов «обычного» языка. Тогда это уже скорее не жаргон, а особенный тайный язык. Такие тайные языки были широко распространены в Средние века, когда разные группы людей вообще, как вы помните, сильнее отличались друг от друга.
Самые известные жаргоны — воровские, преступные: эта группа людей всегда была больше других заинтересована в том, чтобы не быть понятой «чужими». Есть такие жаргоны и сейчас. Раньше, кроме того, у разных преступников были разные жаргоны: например, особым был жаргон карточных шулеров (выражение втирать очки пришло в русский язык именно оттуда: если незаметно втереть очки, например, в шестёрку — её можно превратить в восьмёрку или десятку). В современном русском языке, особенно в нашу эпоху, прижилось немало слов и выражений из языка преступного мира; теперь они стали понятны практически всем говорящим по-русски. Это катить бочку («несправедливо обвинять»), стоять на стрёме («на страже»), стучать (в значении «доносить»), раскалываться (в значении «признаваться»), тусовка («сборище „своих“; компания») и многие, многие другие.
Другая известная группа жаргонов — профессиональные. Они касаются прежде всего той области, с которой имеют дело люди одной профессии (бывает жаргон моряков, солдат, торговцев и так далее); за пределами своей профессии моряки или торговцы обычно говорят (даже друг с другом) так же, как все остальные люди. В старину на Руси был известен жаргон (или даже тайный язык — это как раз тот случай) бродячих торговцев, коробейников (их называли офенями); это один из самых богатых и самых загадочных жаргонов (между прочим, одним из слов «офенского языка» было хорошо знакомое теперь многим клёвый «отличный, замечательный»).
В нашу эпоху среди других профессиональных жаргонов (помимо богатого армейского жаргона) выделяется, пожалуй, жаргон музыкантов.
Впрочем, профессия (или, точнее, род занятий) — не единственное, что может объединять людей, говорящих на жаргоне. Важным признаком бывает возраст говорящих: во всём мире известны молодёжные жаргоны (или, например, школьные; впрочем, школьник — это не только возраст, но и занятие). Молодёжные жаргоны — не последний источник языковых изменений: ведь, вырастая, говорящие на этих жаргонах не всегда забывают их, и каким-то «молодёжным» словам вполне может повезти — они останутся в «большом» языке. Кто знает, вдруг популярные сейчас молодёжные жаргонные тормозить (в значении «плохо соображать; замедленно действовать») и тормоз (соответственно «тот, кто склонен тормозить») когда-нибудь войдут в «настоящий» русский язык, и никто не будет удивляться такому, например, объявлению в газете:
Даю уроки латинского,
и греческого языка.
Уникальная современная методика.
Особая программа для занятий с тормозами.
Ведь такой была судьба очень многих слов. Даже привычное из привычных русское слово глаз когда-то было таким же жаргонным, как нынешнее слово тормоз. «Нормальным» словом было око (оно и сейчас широко употребляется практически во всех славянских языках — например, в украинском, польском, болгарском), а глаз вплоть до XVI века был известен только в значении «шарик, камушек». Позднее это слово почти полностью вытеснило слово око из русского языка. Первоначально же называть «очи» «глазами» было примерно то же самое, что называть «глаза» «шарами» (как это, кстати, принято в ряде русских жаргонов и до сих пор).
Так бывает не только в русском языке. Во многих романских языках слово со значением «голова» восходит к латинскому слову testa (например, французское tete [тэт] и др.). Однако в латинском языке голова называлась словом caput, а слово testa появилось в латыни позднее и означало нечто вроде «черепок; твёрдая скорлупа» (так и в современных русских жаргонах голова называется то котелок, то черепок или просто череп).
Так что никто не может знать заранее судьбу того или иного жаргонного слова. Слово может забыться и потеряться уже через десять-двадцать лет, а может остаться в языке надолго. Слово может долгое время прозябать где-то на обочине языка, а потом вдруг «ожить» и снова стать употребительным (как это произошло, например, со словом клёвый).
По-разному на одном и том же языке говорят не только жители разных местностей, не только представители разных профессий, не только люди разного возраста. Оказывается, по разному говорят ещё мужчины и женщины. Впрочем, в европейских языках это различие обычно не столь заметно, хотя лингвистам в последнее время и здесь удалось обнаружить мелкие, но любопытные отличия. Они проявляются главным образом в выборе отдельных слов. Например, женщины, говоря по-русски, чаще употребляют уменьшительные суффиксы (хорошенький, миленький, славненькая сумочка); слова отличный или здоровенный скорее встретятся в речи мужчины, а какое-нибудь прелестный или безумно очаровательный мы почти наверняка услышим только от женщины. Есть и другие отличия. Конечно, не следует забывать, что в реальной жизни бывают разные мужчины и разные женщины, со своими особыми привычками (в том числе и речевыми привычками — мы не зря начали наш рассказ с индивидуальных отличий говорящих); у нас же речь идёт прежде всего о типичных мужчинах и типичных женщинах.
Бывают, однако, языки, в которых речь мужчин и женщин различается гораздо сильнее — вплоть до того, что выделяют особые женские и мужские языки внутри одного и того же языка. Это различие может проявляться в выборе отдельных слов: например, мужчины называют дом одним словом, а женщины — другим; но оно может проявляться даже в грамматике: женщины употребляют особые формы существительных или глаголов, которые не встречаются в языке мужчин.
Значительные различия между речью мужчин и женщин характерны для языков Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока (в том числе, например, для японского языка), встречаются они и в языках Австралии, в языках американских индейцев, в языках народов Дагестана. Например, в небольшом андийском языке (на нём говорят жители горного села Анди в Северном Дагестане и ещё нескольких соседних сёл) слова «я», «ты», «человек», «убивать» и некоторые другие звучат по-разному в речи мужчин и женщин: женщинам положено употреблять одни слова для выражения этих понятий, а мужчинам — другие.
Откуда возникают такие грамматические различия между мужской и женской речью? Лингвисты иногда объясняют их обычаем брать жену из другого племени или народа — обычаем, который был когда-то довольно широко распространён. Естественно, женщины сохраняли какие-то элементы своего родного языка, которые постепенно стали восприниматься как признаки особой «женской» речи. Впрочем, такие объяснения годятся далеко не во всех случаях.
Различия между мужской и женской речью — тоже предмет социолингвистики; сейчас появляется много исследований на эту тему.
Нас с детства учат, что надо вести себя «вежливо». Но попробуем задуматься о том, что же это на самом деле значит — быть вежливым? Это тем более важно, что представления о вежливости (более или менее похожие в своей основе) есть, по-видимому, во всех без исключения культурах, во всех человеческих обществах, известных нам на сегодняшний день.
Начнём с самых очевидных наблюдений. Прежде всего, человек не может быть вежливым сам по себе. Он может быть вежлив (или невежлив) только по отношению к другому человеку (или другим людям). Значит, вежливость — это некоторый способ относиться к другим людям. Точнее, не просто относиться. Правильнее будет сказать, что это некоторый способ вести себя по отношению к другим людям. Можно даже сказать — некоторый способ общаться с другими людьми.
Мы (ограничимся пока русской культурой) довольно легко можем определить, вежлив ли тот или иной конкретный человек, просто наблюдая, как он общается с другим человеком. Мы можем легко это определить, но не так легко будет объяснить, почему мы так считаем. Тем не менее отметим пока это важное наблюдение — вежливость связана с общением, а значит — и с языком. Потому-то мы и говорим о ней в этой главе.
Конечно, можно проявить вежливость (или невежливость), и не вступая непосредственно в общение, под которым мы обычно понимаем обмен словами. Например, не вернуть вовремя взятую у кого-то книгу — безусловно, невежливое поведение. Прочесть чужое письмо — тоже невежливо. Всё это поступки, которые касаются других людей, но они не входят в то, что обычно называют общением. Нас же (поскольку мы занимаемся лингвистикой) в первую очередь будут интересовать те проявления (не)вежливости, которые как-то отражены в словах, в языке. Эти проявления очень разнообразны.
Например, мы знаем, что вежливый человек специально употребляет некоторые «вежливые» слова: спасибо, пожалуйста, простите. Кажется, эти слова почти ничего другого и не выражают, как только желание сообщить другому человеку о своём (к нему) вежливом отношении. Кроме того, вежливость часто проявляется в том, как человек обращается к другим людям, то есть как он их называет. Например, я полагаю, вам нетрудно будет догадаться, что из двух следующих способов привлечь внимание собеседника:
Эй, Санька!
и
Александр Николаевич, позвольте вас отвлечь на секунду!
— второй способ вежливее первого. И тут мы обнаруживаем ещё одну любопытную закономерность, касающуюся природы вежливости. Оказывается, быть вежливым особенно важно по отношению к незнакомым людям. Это не означает, конечно, что со своими знакомыми надо вести себя грубо. Ваш приятель не только не обидится, если вы к нему обратитесь первым способом (из приведённых только что), но и сочтёт это абсолютно нормальным; более того, он, пожалуй, мог бы обидеться, если бы вы применили к нему способ номер два (в лучшем случае он бы решил, что вы странно шутите).
Почему это так? Наверное, всё дело здесь в том, что ваш приятель давно и хорошо знает вас и знает, как вы к нему относитесь. Вам не надо каждый раз об этом ему специально напоминать. А незнакомый человек этого не знает, и ваша задача (особенно если вы к нему обращаетесь впервые) — показать ему, что вы относитесь к нему хорошо (или, по крайней мере, не относитесь к нему плохо, то есть не желаете ему зла). А если он этого заранее не знает, то откуда же ему это и узнать, как не из ваших самых первых слов, обращённых к нему?
Итак, мы можем сказать, что вежливость — это способ показать незнакомому человеку, что говорящий относится к нему хорошо (или не относится к нему плохо, что почти одно и то же). Не случайно в мире так распространены приветствия (а ведь приветствие — это первое, что незнакомые люди слышат друг от друга), которые состоят из пожеланий чего-то хорошего. Например:
— Мир вам! (а по-арабски это звучит примерно так: Ас-саламу алейкум!);
— Хорошего (вам) дня! (это в точности немецкое Гутен таг! или французское Бонжур!);
— Будьте здоровы! (кстати, именно по такому образцу, в сущности, устроено и русское Здравствуйте!).
Но если бы дело ограничилось только этим, всё было бы слишком просто. На самом деле вежливость — это далеко не только доброжелательное отношение к незнакомым.
Вернёмся ещё раз к нашим двум примерам. Представьте себе, что Александр Николаевич — это ваш преподаватель математики. Вы можете его знать очень давно и хорошо, но, даже если вы с ним знакомы с самого раннего детства, я сомневаюсь, что вы (будучи в здравом уме) можете применить к нему способ номер один. Это будет, мягко говоря, не очень вежливо. А вот сам Александр Николаевич, между прочим, вполне может назвать одного из своих учеников просто по имени. И никто не упрекнёт его в недостатке вежливости.
В чём же здесь дело? Дело в том, что люди, принадлежащие к одному обществу, к одному человеческому коллективу, считают, что между ними существуют различия. И эти различия делают людей в каких-то отношениях неравными. Они как бы образуют длинную лестницу (учёные ещё говорят: иерархию), в которой одни группы людей занимают нижние ступеньки, а другие группы — верхние. Помните, как мы похожим образом рассуждали об отношениях между разными языками в обществе? Конечно, взрослые и дети в любом обществе стоят на разных ступеньках (увы, взрослые — выше), и тем более это относится к преподавателям и их ученикам. От учеников общество требует, чтобы они были согласны признать «превосходство» учителей, так же как дети должны быть согласны признать «превосходство» взрослых. И это согласие выражается, между прочим, в том, что чем выше по отношению к тебе находится на воображаемой общественной лестнице твой собеседник, тем вежливее ты должен вести себя по отношению к нему. Заметим, что обратное, вообще говоря, неверно.
Значит, вежливость — это ещё и способ показать человеку, что он находится выше тебя на общественной лестнице.
В русском языке (и во многих других языках) способы выражения вежливости по отношению к вышестоящему и по отношению к незнакомому почти во всём совпадают. Это и понятно: про незнакомого человека мы заранее не знаем, кто он, поэтому вежливее всего предположить, что он — уважаемый и знатный господин. Вежливость — это как раз такой замечательный способ общения, где всегда лучше пересолить, чем недосолить.
Теперь, когда мы в общих чертах представляем себе, что такое вежливость, нам легче ответить на вопрос, с кем же надо быть особенно вежливым.
Общий ответ здесь очень простой: с теми, кто стоит выше тебя.
А как узнать, кто стоит выше? А вот это уже вопрос не такой простой. Это в сильной степени зависит от общества, в котором мы живём, от той культуры человеческих отношений, которая там принята. Такая культура есть в любом обществе, и на юге Африки она не менее сложна, чем на севере Европы. И разные культуры дают на этот вопрос очень разные ответы.
Хотя можно попытаться выделить и некоторые общие черты. Во всех обществах взрослый стоит выше ребёнка и вообще старший по возрасту — выше младшего по возрасту. Начальники стоят выше подчинённых (будь то предводители воинов, деревенские старосты, верховные жрецы или директора заводов). В остальном — возможны варианты. Могут различаться позиции на общественной лестнице для мужчин и женщин, близких и дальних родственников, вдов и незамужних женщин, земледельцев и воинов; одни профессии или занятия могут считаться «низкими», а другие — «благородными»; многое ещё может иметь значение. В качестве общего правила, пожалуй, можно принять, что в современных обществах таких различий между людьми становится меньше — люди в большей степени готовы осознавать себя равными; в обществах, похожих на те, которые существовали в Средние века в Европе (историки часто называют их «феодальными»), таких различий было очень много.
Чем больше таких различий в обществе — тем больше в языке имеется средств для выражения вежливости. Особенно знамениты в этом отношении, как мы уже говорили, языки Юго-Восточной Азии и Дальнего Востока — например, японский, тайский (на котором говорят в Таиланде) или яванский (на котором говорят жители острова Ява). У японских глаголов, например, имеется даже несколько специальных грамматических категорий, связанных с выражением вежливости (об этом мы ещё немного расскажем и во второй части книги).
А как вообще выражается вежливость в разных языках? Об особой системе приветствий (существующей в каждом языке) и об особых формах обращений мы уже говорили. Чтобы правильно поздороваться со своим собеседником и правильно обратиться к нему, вам совершенно необходимо знать, что говорящие на этом языке считают вежливым, а что — нет; чтобы вас должным образом поняли и не вышло недоразумений, это так же необходимо знать, как правила употребления падежей или глагольных времён в этом языке.
Вот, например, как устроена (в самом общем виде) система обращений в русском языке. Мы можем обратиться к человеку на «ты» или на «вы»; мы можем назвать его по имени (при этом имя может быть полным: Послушай(те), Александр — или уменьшительным: Послушай(те), Саша), а можем — по имени-отчеству; наконец, мы можем назвать человека просто по фамилии (без имени и отчества), но зато в этом случае можем ещё кое-что добавить перед фамилией, например: Петров, к доске! — или: Гражданин Баранов, пройдите к третьему окошку! (Как-то неприятно это звучит; я, например, не люблю, когда ко мне обращаются просто по фамилии: часто ничего хорошего это не сулит.)
Чтобы выбрать, какое обращение в каждом из этих случаев годится, говорящие по-русски должны знать очень многое. Дети обращаются к взрослым на «вы», но со своими родителями они обычно на «ты» (когда-то это было иначе). Младшие обращаются к старшим на «вы» и называют их по имени-отчеству; старшие обращаются к младшим на «вы» или на «ты» (это зависит от степени близости, от степени «фамильярности» и других причин), но называют их обычно только по имени. Так, студент может сказать преподавателю что-то вроде:
— Простите, Александр Николаевич, я сегодня не успел подготовить эту главу о поверхностном синтаксисе.
(На всякий случай я могу сказать, что поверхностный синтаксис — это сложный лингвистический термин; может быть, когда-нибудь вы узнаете, что это такое.) А преподаватель (если он добрый), скорее всего ответит так:
— Ну что же, Миша, к следующему разу постарайтесь (может быть даже: постарайся) обязательно подготовить!
Интересно, что не все сочетания здесь одинаково возможны. Так, в стенах университета мы вряд ли услышим обращения типа Ты, Александр Николаевич или Ты, Николаич. Во всяком случае, иностранца я бы так говорить не учил. Уж если ты с человеком на «ты» — так называй его просто по имени. Такова современная норма, хотя, например, в деревне (да, пожалуй, и кое-где в городе) и сейчас такие обращения встречаются часто.
Русская система кажется довольно сложной, но системы многих других языков во много раз сложнее. В русском языке всего одно «вежливое» местоимение (Вы), а есть языки, в которых до десятка таких местоимений: одними пользуются дети, когда обращаются к взрослым, другими — слуги, когда обращаются к хозяевам, третьими — жёны, когда обращаются к мужьям, и т. д. и т. п. Кстати, почему сказать человеку «вы» (как бы считая, что здесь не один человек, а много) — это вежливее, чем сказать ему «ты»? Некоторые причины для этого, конечно, есть, но во многом это просто культурная условность («Так просто вежливее, и всё», — скажет вам говорящий по-русски). А в итальянском языке «вежливым» местоимением является не столько «вы», сколько «она», «Lei» (первоначально — «она, ваша милость»). Желая вежливо предложить вам сесть, итальянец так и скажет: «Она хочет сесть? Она не устала?» Это значит просто: «Вы хотите сесть? Вы не устали?» Но во многих языках вообще нет «вежливых» местоимений, зато вместо них имеются специальные вежливые слова-обращения. Так, в Польше вежливые люди никогда не будут говорить вам «вы», а скажут «пан» или «пани»: «Пан не хочет сесть? Пан не устал?»
Зато в современном английском языке (особенно в США) система явно проще, чем в русском. Нет двух разных местоимений — «ты» и «вы», — и поэтому что к кошкам и собакам, что к королю и королеве англичане обращаются одинаково — you. И приветствие в Америке есть одно, почти универсальное — короткое Hi! («Хай!»). И студент преподавателю говорит «Хай!», и преподаватель — студенту. Легко, и никаких проблем, правда?
Но вернёмся к языкам со сложно устроенной вежливостью — для лингвиста они интереснее. До сих пор мы говорили только об одном типе вежливости — по отношению к собеседнику. Мы выяснили, что собеседника можно по-разному называть и по-разному к нему обращаться. Но ведь в языке это далеко не единственный способ быть вежливым. Например, в японском языке можно (и даже нужно) быть вежливым, рассказывая о ком-то или о чём-то отсутствующем. По-русски мы можем сказать:
Вчера я купил эту книгу для профессора Баранова;
Вчера мой друг купил эту книгу для меня/для профессора Баранова;
Вчера профессор Баранов купил себе эту книгу.
Во всех этих случаях мы употребляем одну и ту же глагольную форму (купил), и это кажется нам абсолютно естественным. А вот для японца такое почти немыслимо. Как профессора Ивана Ивановича Баранова русский студент никогда не назовёт, например, «Ваней Барановым», так же точно японский студент не скажет, что его профессор что-то «купил», используя ту же глагольную форму, что и говоря о себе или своём друге. Например, во всех трёх приведённых выше предложениях ему понадобятся разные формы одного и того же глагола. Если очень приблизительно передать это по-русски, то получится что-то вроде следующего (только не забудьте, что по-японски будут просто разные формы глагола «купить»):
Вчера я сподобился купить эту книгу для профессора Баранова;
Вчера мой друг купил эту книгу для профессора Баранова;
Вчера профессор Баранов-сан изволил купить себе эту книгу.
О себе в связи с вышестоящим (в данном случае профессором) японец всегда говорит чуть-чуть уничижительно, о близком друге — нейтрально, как о равном, а о профессоре самом по себе — с подчёркнутым уважением.
Этот пример интересен ещё и тем, что показывает другую сторону вежливости. Оказывается, вежливость может заключаться не только в повышенном внимании к собеседнику — она может проявляться и в том, что говорящий как бы готов пренебречь собой; он намеренно ставит себя на низкую ступеньку общественной лестницы (может быть, гораздо более низкую, чем та, на которой он на самом деле находится). Такой тип вежливости свойствен многим восточным культурам, но можно вспомнить и русскую старину: ведь когда русский боярин (человек, понятно, не последний в государстве) обращался, например, с просьбой («челобитной») к царю, он писал нечто вроде: «…Бьёт тебе челом холоп твой, Гришка…» Заметьте: обращение на «вы» («возвеличивающее» собеседника) тогда не было принято (даже царю говорили «ты»!), а вот «уничижительная» форма вежливости была очень распространена. Зачастую говорящий «принижал» не только себя (называя себя «холопом», «рабом», «Гришкой», а не, например, «Григорием» или тем более «Григорием Романовичем») — уничижительная форма распространялась на всё, что его окружало или имело к нему отношение. Вот, например (в несколько упрощённом виде), очень характерный отрывок из одной челобитной XVII века (пишет стрелецкий полуголова — то есть важный чин! — царю Алексею Михайловичу):
.. А как я, холоп твой, дочеришку свою за него, Василья, замуж выдал, и он, Василей, мне, холопу твоему, с дочеришкою моею свиданья мне и по сё число не даст…
Здесь говорящий не только себя называет «холопом», но и дочь свою — «дочеришкой»; обычная форма «дочь» в такой челобитной выглядела бы — по нормам того времени — невежливо и даже вызывающе. А если бы он вёл речь о своём доме, то должен был бы назвать его — «домишко», двор — «дворишко», ну и так далее. Вежливость бывает и такой тоже.
Глава четвёртая. Как сравнивать разные языки? сравниваем звуки
Мы видели, как язык сравнивают с другими родственными ему языками и как сравнивают его в его собственных границах, так сказать, самого с собой — то есть в разные моменты его истории (например, мы можем сравнить древнерусский и современный русский язык). Всё это делается для того, чтобы узнать историю языка и понять, как этот язык изменялся. Кроме того, лингвисты сравнивают изменения, происходившие с разными языками, чтобы научиться понимать и предсказывать, что происходит и произойдёт с человеческим языком вообще, пока он живёт, — то есть пока люди говорят на нём между собой.
Но можно сравнивать и такие языки, которые не родственны друг другу, у которых нет общего предка. Лингвисты сравнивают их уже не для того, чтобы узнать что-то относящееся к истории; сравнение неродственных (или, точнее, не обязательно родственных) языков делается, чтобы понять законы, по которым устроены человеческие языки вообще (независимо от их происхождения и от того, кто на них говорит). Например, необходимо знать, что в языке бывает всегда, что встречается редко, а что — никогда не может встретиться ни в одном языке. Зная это, мы легко сможем отвечать на вопросы (которые часто приходят в голову даже тем, кто специально лингвистикой не занимаются) — ну, например, такие:
Может ли быть язык, где все слова — из одних гласных? Или — где совсем нет глаголов? Может ли в языке слово стоять сразу в двух падежах — именительном и родительном? Обязательно ли в каждом слове есть корень?
Именно поэтому лингвисты стремятся изучить и описать как можно больше разных языков. Ведь в каждом новом языке может обнаружиться что-то такое, чего не было ни в одном из известных раньше! И вовсе не обязательно, чтобы это был язык, на котором говорит много людей или на котором написаны знаменитые книги. На очень ценных и важных для лингвистики языках могут говорить люди только одной деревни, затерянной где-нибудь в горах. Точнее, правильно будет сказать, что для лингвистики просто нет «неценных» языков. Потому-то лингвисты так заботятся о сохранении «малых», исчезающих языков, снаряжают экспедиции в самые труднодоступные уголки за ещё не описанными языками, стараются спасти и сохранить то, что ещё можно, — ведь языки (об этом мы уже говорили) могут не только рождаться, но и умирать.
Но мы сейчас не будем касаться очень редких и сложных языков. Для того чтобы понять, как можно сравнивать языки, нам лучше начать со сравнения языков более привычных. Поэтому возьмём пока только русский и английский.
А начнём мы их сравнивать — со звуков.
1. Как сравнивают звуки разных языков
Если вы хоть как-то знакомы с английским языком, вы не станете спорить с тем, что в английском много «странных», новых для русского человека звуков. Вспомните, например, звук, который записывается как th и произносится с языком, зажатым между зубами (он встречается в таких распространённых английских словах, как the или they). Или звук, который записывается как w и для произнесения которого надо сильно вытянуть сложенные трубочкой губы вперёд, как для русского «у», и при этом попробовать произнести русское «в» (этот звук встречается в таких английских словах, как «почему» — why, «окно» — window или «ветер» — wind). Или звук, который записывается как ngи звенит как колокольчик в конце таких английских слов, как song «песня» или ring «кольцо». Русские «н» и «нь» так звенеть не умеют, поэтому русское «динь-дон» получается, пожалуй, менее музыкальным, чем его английский перевод: ding-dong.
Если же вы давно знакомы с английским языком, то скорее всего вы знаете и то, что гласные в нём бывают долгие и краткие. Это значит, что, во избежание недоразумений, некоторые слова нужно специально «тянуть», а другие произносить резко и быстро. Иначе совершенно разные (для англичанина) слова друг с другом перепутаются, и англичанин вас не поймёт. Вы, наверное, знаете, что в словах sea «море», tree «дерево» или wood «лес» гласный долгий, так что если бы мы попробовали записать их произношение русскими буквами, то получилось бы что-то вроде: (сии), (трии) и (вууд). А в словах big «большой» или run «бежать» гласный произносится коротко: [биг], [ран]. Для нас научиться правильно произносить в нужных случаях долгие и краткие звуки, конечно, трудно: ведь в русских словах долгих гласных нет. Если вдруг почему-то нам захочется, мы можем сказать какое-то слово быстро или, наоборот, потянуть его в своё удовольствие, ну, допустим, так:
Ма-ама, смотри, какой у нашей розы огромный ши-ип! — или так:
Мама-а, смотри, какой у нашей розы огро-омный шип!
Сказано-то вроде по-разному, а получилось, в общем, одно и то же — по крайней мере, мама вас поймёт одинаково. Но если бы это была не русская, а английская мама, она бы очень удивилась, если бы в английском слове, звучащем приблизительно как «шип», её собеседник попробовал растянуть гласную. Удивилась и ничего бы не поняла, потому что получилось бы совсем другое слово, ведь в коротком виде это слово значит «корабль» (ship), а в длинном — «овца» (sheep). И всё это потому, что в английском языке два «и» — одно долгое, одно короткое, а для английского уха долгие и краткие гласные такие же разные, как любые другие разные гласные.
Что же, получается, что в английском языке гораздо больше звуков, чем в русском? Но и в русском есть звуки, которых не встретишь в английских словах, — например, «щ» или мягкие согласные, как «м» в слове мять, «п» в слове степь, «в» в слове вьюга и многие другие. А главное, что если хорошенько прислушаться, то оказывается, что и те звуки, которые в этих двух языках кажутся похожими, всё равно произносятся очень по-разному. Это хорошо заметно, когда произносят русское и английское «х», как в русском слове хобот или английском hat (переводится «шляпа», а если записать русскими буквами, то получится «хэт»): русское как будто хрипит, а английское как будто вздыхает (этот звук иногда так и называется: придыхание). Известна и разница между нашими «р» — русское как будто рычит, а английское картавит (кто-то давно уже верно заметил: словно горячая картошка во рту). Но и «л», «м», «п», «в» и другие согласные — тоже произносятся в каждом языке по-своему! В русском, как мы говорили, эти звуки или твёрдые, или мягкие, а в английском — не твёрдые и не мягкие, а как бы посередине. Для того чтобы так произнести их, нам нужно специально стараться, иначе, чем мы привыкли, сложить губы, расположить язык и т. д. Так как говорящий по-английски «услышит» чужой звук и догадается, что с ним говорит иностранец с русским акцентом — то есть просто подставляет в английских словах русские звуки на место английских.
Но и англичанину трудно перестроиться на русские звуки — у него получается английский акцент: нам тоже странно, когда иностранец говорит что-то вроде «льюблью» или «ньет». Значит, когда мы учим английский язык, мы должны не только выучить слова, но и освоить, как говорят лингвисты, новую для нас систему звуков. Отдельные звуки разных языков могут быть похожи (и даже очень похожи), но система звуков у каждого языка всё равно своя. Даже в таких близких к русскому языках, как украинский или белорусский, системы звуков другие. Вы, наверное, слышали, как звучит характерное украинское «г»: такой звук произносится, пожалуй, только в одном слове русского языка — в слове господи! (да и то не всеми русскими), зато украинцам непривычно наше обычное «г».
Мы произносим звуки с помощью гортани, языка, губ. У всех людей гортань, язык и губы устроены одинаково. Человек не может произнести абсолютно любой звук (например, запеть как скрипка или защёлкать как соловей): природа накладывает на нас ограничения. Но и тех звуков, которые любой человек (в принципе) способен произнести, — для одного языка слишком много. Каждый язык выбирает из этого множества свои звуки — и создаёт из них особый, неповторимый набор — звуковую систему данного языка. Именно поэтому звуки разных языков могут быть похожи, а системы звуков — отличаться друг от друга. Как в калейдоскопе из цветных стеклышек складывается каждый раз новый узор, так и разные языки из одних и тех же исходных звуков образуют разные звуковые системы.
2. Какие звуки бывают в разных языках
Теперь мы можем поговорить о том, какие звуки человек способен произносить — и использовать для того, чтобы складывать из звуков слова.
Во-первых, звуки делятся на гласные и согласные. Нет такого языка, в котором были бы только одни гласные, и нет такого, где были бы только одни согласные. В каждом языке есть и те, и другие. Разница между ними в том, что при произнесении гласных звуков воздух выходит изо рта свободно, а при произнесении согласных — он встречает преграду. Произнесение человеком гласного звука можно сравнить с игрой на дудочке: во время игры мы вдуваем в неё воздух, а потом меняем её форму, закрывая пальцами разные дырочки. От этого получаются звуки разной «высоты». В сущности, то же самое происходит и когда мы говорим: из лёгких через горло воздух попадает в полость рта (как внутрь дудочки), а человек потом меняет её форму — то вытягивает губы вперёд, то растягивает их «в улыбку», то открывает рот широко, то не очень. В зависимости от этого (можете легко убедиться сами!) получаются «у», «и», «а», «э» и все остальные гласные.
По-русски, когда мы произносим слова типа «лак», у нас губы раскрыты больше всего; а когда мы произносим слова типа «лук» — меньше всего. Но это вовсе не предел: например, французское имя Люк (пишется: Luc) французами произносится с губами, вытянутыми гораздо сильнее, чем в похожем русском слове «люк»; таких, как говорят лингвисты, «узких» гласных в русском языке нет. Нет в русском языке и некоторых «широких» гласных — например, таких, как английское «э», которое звучит в словах cap («кепка», читается приблизительно «кэп») или rat («крыса», читается «рэт»): чтобы правильно произнести эти английские слова, рот нужно открыть гораздо шире, чем в русском слове «это». А для произнесения звука, который был в древнерусском языке и обозначался буквой ять, нужно было сказать что-то среднее между «и» и «е» — такого гласного звука в современном русском языке тоже нет. Кроме того, как мы уже знаем, в языке могут различаться долгие и краткие гласные, а ещё могут быть гласные носовые — они произносятся как бы в нос — таких гласных тоже нет в русском языке, нет их и в английском, но зато они в большом количестве есть во французском. Например, в современном французском языке слово bon «хороший» содержит только два звука: согласный b и гласный o, произносящийся через нос. Носовые гласные бывают ещё в польском, португальском, хинди и многих других языках.
И всё же главное, что объединяет все гласные разных языков, какими бы разными они ни были, — это то, что проход для голоса при их произнесении у человека остаётся всё время открытым, — так же как открыто выходное отверстие дудочки. Именно поэтому и говорят иногда, что «гласные можно петь».
Что же касается согласных, то их произнесение нужно сравнивать уже не с игрой на дудочке, а, например, с игрой на барабане, когда звук возникает как шум от резкого соприкосновения двух поверхностей — удара палочки о барабан; характер звука меняется в зависимости от места удара, расположения палочки, её формы и формы барабана — и тому подобных вещей. Все согласные — в основном тоже «шумные» звуки: они образуются благодаря тому, что во рту мы устраиваем преграду для воздуха, соединяя губы или дотрагиваясь до нёба разными частями языка: попробуйте сами сказать «б», «т», «к» и посмотрите, что при этом происходит у вас во рту.
Конечно, такие звуки нельзя ни петь, ни тянуть, как гласные. Но можно устроить во рту другую преграду — например, сделать очень-очень узкую щель для воздуха, и тогда воздух будет выходить из неё, но не «голосом», а свистом или шипением (попробуйте сказать: «с», «з», «ш»). Тянуть эти согласные можно, но петь, конечно, уже нельзя.
И всё-таки некоторые преграды, которые мы устраиваем во рту при произнесении согласных, позволяют звучать и «голосу»: получаются такие «промежуточные» согласные, у которых преграда не задерживает (точнее, не слишком уж задерживает) голос. Это бывает, например, когда воздух проходит через нос, как при произнесении «н» или «м», — или огибает язык с разных сторон, как при произнесении «л» или «р». Вот такие согласные можно и петь! Лингвисты называют их «сонорные» (то есть буквально «звучные», «звучащие»). А ещё принято говорить о согласных свистящих, шипящих, губных, зубных, носовых — думаю, теперь вы сами легко догадаетесь, какие звуки при этом имеются в виду. Все эти названия связаны с местом и способом образования преграды во рту. (Английское «th», конечно, называется межзубным!)
Между тем в языках мира бывают самые причудливые согласные звуки. Например, в арабском, аварском, датском и многих других языках есть звук, который называют «гортанной смычкой»: когда он встречается в середине слова, кажется, что говорящий как бы останавливается или заикается в этом месте — но, конечно, для араба ничего в этом странного нет: это обычный звук его языка. Мы произносим очень похожий звук, когда вместо «нормального» нет отвечаем не-a: здесь гортанная смычка как бы обозначена чёрточкой. Очень необычный (с русской точки зрения) звук встречается в качестве обычного согласного во многих языках Южной Африки (зулу, бушменских и др.). Мы его произносим, когда хотим языком изобразить цоканье лошадиных подков, а африканцы используют его в обычных словах своего языка. Такие звуки называют «щёлкающими», хотя, может быть, правильнее было бы назвать их «чмокающими», — удивительно звучит речь, где они встречаются часто (мне доводилось слышать).
Конечно, все способы образования согласных звуков мы перечислить не сможем: языки в этом отношении необыкновенно изобретательны, да и описывать звуки на бумаге трудно — лучше, наверное, слушать. Но если вы когда-нибудь попадёте, например, в Дагестан, где вместе живут люди, говорящие на разных языках, совсем не похожих на русский, — послушайте внимательно их речь, и вы услышите множество новых для вас хитроумных звуков: свистящих, щёлкающих, шипящих, гортанных, хрипящих. Вы убедитесь, что язык, губы, зубы и рот, данные животным, прежде всего, чтобы есть и дышать, у человека — специально чтобы он имел возможность выражать свои мысли вслух — натренированы необыкновенно и превратились в настоящий, как говорят лингвисты, речевой аппарат.
3. Ещё немного о разных звуках
Известно, что русские согласные различаются по звонкости-глухости и, как мы уже говорили, по мягкости-твёрдости. А что значит различаются? Это значит, что два слова, которые совпадают с точностью до одной согласной (например, в одном слове согласная мягкая, а в другом — твёрдая, или в одном глухая, а в другом — звонкая), для русского уха звучат как разные. Сравни: «вяз» и «вязь», «сыр» и «сир»; «том» и «дом», «борт» и «порт». Таких пар можно придумать очень много, правда, не со всеми согласными это будет легко, а с некоторыми, может быть, и вовсе не получится, но нам сейчас важно, что мы понимаем слова в этих парах по-разному благодаря тому, что слышим в них разные звуки.
В самом начале этой главы мы говорили, что англичане могут придумывать такие пары разных слов с долгими и краткими гласными. Это потому, что в английском языке долгие и краткие гласные воспринимаются говорящими как разные звуки. Они, как говорят лингвисты, «противопоставлены», то есть различаются в английском языке в каком-то смысле точно так же, как в русском языке согласные различаются по твёрдости-мягкости или глухости-звонкости. А ведь не в каждом языке говорящие «слышат» эту разницу. Англичане, например, глухость и звонкость — различают (по-английски ведь тоже можно придумывать пары типа big «большой» — pig «свинья»), а вот мягкость и твёрдость, как мы уже знаем, — нет. Есть очень небольшое число языков (на них говорят в Северной и Центральной Америке, на Новой Гвинее и в некоторых других местах), где не различаются даже глухие и звонкие согласные. Что это значит? Это значит, что говорящим на таких языках (например, индейцам племени делавэр или тамилам Южной Индии) трудно уловить разницу в произнесении русских «том» и «дом», так же как говорящим на английском и многих других языках — разницу между русскими «вяз» и «вязь». А один мой знакомый африканец жаловался мне, что никак не может понять, почему в начале совершенно одинаковых русских слов тесный и честный пишутся разные буквы. Теперь-то вам сразу должно быть ясно, что в его родном языке тоже «не было» мягкости, и звук типа «ть» он «слышал» как (действительно очень на него похожий) звук типа «ч» (такой звук в его языке был).
Каждого человека его родной язык очень жёстко приучил одни различия «слышать» хорошо, а другие — не замечать. Про это я могу рассказать ещё одну смешную историю. Поехали мы как-то в дальнюю экспедицию. Ехать надо было далеко — сначала на поезде, потом на вертолёте, а потом ещё на машине. Ехали мы долго, несколько дней, и, когда приехали, всем сразу захотелось рассказать своим домашним в Москве, что путешествие закончилось и всё в порядке. Для этого мы пошли на почту отправлять телеграммы домой. Одна из телеграмм — самая короткая — пришла быстрее всех. Вот что в ней прочли в Москве:
ПРИБИЛИ БЛАГОПОЛУЧНО
Конечно, отправитель имел в виду не совсем это; но, к счастью, его догадливые домашние «расшифровали» текст и поняли, что телеграфист просто перепутал одну букву. Очень легко угадать какую: не «прибили», а «прибыли»! Да, в этом далёком селе жили люди, которые говорили совсем на другом языке. Но наш телеграфист русский язык знал очень хорошо — гораздо лучше, чем многие русские люди знают иностранный язык, который они изучают много лет. Он не сделал ни одной ошибки ни в адресе, ни в фамилии, и телеграмма дошла в Москву, а не вернулась обратно. Он почти правильно написал и то русское предложение, которое составляло текст нашей телеграммы. Просто в том языке, на котором он привык говорить всю жизнь, не было мягких и твёрдых согласных, и он «не слышал» разницу между этими двумя русскими словами. Ещё раз обращаю внимание, что никаких других букв он не перепутал — это был исключительно аккуратный и грамотный телеграфист. Виноват оказался не он, а… его язык!
Но ведь и мы, говорящие на русском языке, слышим далеко не все возможные противопоставления гласных и согласных.
Например, говорящие на многих языках Индии (хинди, маратхи, бенгали и др.) различают просто глухой согласный и глухой согласный, произнесённый с «придыханием»: например, р и ph. Есть языки (в частности, финский, эстонский), где различаются «слабо» и «сильно» (или «напряжённо») произнесённые согласные, а в некоторых языках (особенно много их в Тропической Африке и на Новой Гвинее) обычному способу произнесения противопоставлено произнесение с лёгким носовым призвуком (получаются пары разных звуков, что-то вроде «б» и «нб»). Во многих кавказских, африканских, индейских языках обычному способу произнесения согласных противопоставлен способ произнесения, так сказать, с остановкой (вроде гортанной смычки), как если бы мы говорили что-то вроде «п-ар», «к-урица», при этом согласный надо сделать чуть более резким и напряжённым, так что в конце слышится даже лёгкий щелчок. Такие согласные обычно называются «абруптивными».
Теперь мы знаем не только как образуются разные звуки в разных языках. Мы знаем и то, как они используются. Они используются для того, чтобы строить из них слова; разными звуками оказываются такие, которые в языке различают хотя бы два слова. В каждом языке своя система звуков и свои различия между ними, но общее число звуков в языках мира различается не так уж сильно: в среднем пять-десять гласных и двадцать-сорок согласных (обычно бывает так: чем больше разных гласных, тем меньше разных согласных — и наоборот).
Чтобы правильно произнести русское слово, нужно не только правильно произнести те звуки, из которых оно состоит (не перепутав твёрдые с мягкими, глухие со звонкими и т. п.). Нужно ещё правильно поставить в нём ударение. Русский относится к тем (многочисленным) языкам, в которых ударение играет очень важную роль для правильного произношения слов и восприятия их на слух.
Но что это такое — ударение? В любом языке слова делятся на слоги; каждый слог обычно состоит из гласной и одной или нескольких согласных. В принципе все слоги в слове могут произноситься одинаково, но бывает и так, что в словах языка всегда выделяется какой-то один из слогов (обязательно один!) и противопоставляется всем остальным слогам. Так вот, ударение — это как раз способ выделить один из слогов в слове; обычно для этого гласный такого слога произносится громче или дольше, чем в других слогах. Отсюда ясно, что бывают языки вообще без ударения — в них никакой слог не выделяется по сравнению с другими. Но во многих языках ударение всё же есть.
Итак, ударение — это специальный способ произнесения гласного звука в одном из слогов слова. Поэтому говорят, что ударение падает на гласный. В русском языке ударение может падать на разные гласные в слове — и начальные, как в слове «гласный», и конечные, как в слове «лицо», и в середине слова, как в самом слове «ударение». В английском языке ударение тоже может появляться в разных местах слова: в начале (robin «малиновка» — любимая птичка англичан), в конце (begin «начинать», kangaroo «кенгуру»), в середине (container «ящик»), хотя чаще всего английское ударение всё-таки встречается в начале слова. А есть языки, где ударение в слове всегда находится на одном и том же месте, например:
— во французских словах оно всегда на последнем гласном;
— в чешских, финских или венгерских — на первом гласном;
— в лезгинских — обычно на втором гласном от начала;
— в польских — обычно на втором гласном от конца.
От места ударения очень сильно зависит, так сказать, внешний вид слова: например, француз не сможет правильно произнести русское слово, если в этом слове ударение не на конце, поэтому мы с трудом узнаём на слух русские заимствования в произнесённых по-французски «шапка» и «спутник» — ударение у них будет обязательно в конце. А русское слово «Калинка», тоже известное во многих языках, будет звучать непривычно для нас не только во французском варианте, но и в чешском или венгерском — с ударением на первом слоге.
В таких языках, как русский, у ударения есть ещё одна особенность. Оно не только может падать на разные слоги в разных словах — даже у форм одного и того же слова оно может быть то в начале, то в конце, то в середине. Конечно, так бывает не всегда: например, в слове лестница мы всегда ставим ударение на первый слог, в какой бы форме это слово ни стояло. Но вот в слове трава ударение падает на последний слог только в формах единственного числа (траве́, травы́, траво́й…), а в формах множественного числа — ударение уже перемещается на первый слог (тра́вы, тра́вами, тра́вах…). А бывают слова с ещё более причудливыми перемещениями ударения — например, слово голова[6]:
[Падеж], Ед. ч., Мн. ч.
Им. пад.: голова́, го́ловы;
Вин. пад.: го́лову, го́ловы;
Род. пад.: головы́, голо́в;
Дат. пад.: голове́, голова́м.
В таком неустойчивом ударении (его ещё называют «подви́жным») есть своя логика: разные формы одного и того же слова лучше отличаются друг от друга; особенно это важно для тех форм, которые имеют одинаковые окончания, например, травы́ и тра́вы, о́зера и озёра, (по) кру́гу и (в) кругу́ и т. п. Но для тех, кому русский язык не родной, такое ударение, конечно, доставляет немало неприятностей: ведь для каждого слова надо не только запоминать, на какой слог падает ударение (то ли на первый, то ли на последний, то ли куда-то в середину) — надо ещё запоминать, как оно «прыгает» внутри этого самого слова в разных его формах!
Такое «трудное» ударение, как в русском, в языках встречается, пожалуй, редко (из языков, где дело обстоит отчасти похожим образом, можно назвать, например, литовский или древнегреческий). Неудивительно поэтому, что ошибки в русском ударении — одни из самых распространённых, их делают даже те иностранцы, кто давно учит русский язык.
Ещё одна особенность русского ударения в том, что в русском языке под ударением произносится больше разных гласных, чем без ударения. Например, в русских словах никогда не бывают безударными «о» и «е». Если ударение в слове «переходит» на окончание, как это происходит со словом кот (кот — коты́), то «о», которое было в основе, заменяется звуком, похожим на «а»: мы произносим кАты, а не кОты, как следовало бы из написания. Вы уже знаете, что в древнерусском языке это было не так, и до сих пор в северных областях России сохранилось старое «окающее» произношение. Такое исчезновение некоторых гласных в безударной позиции есть и в белорусском языке, и в некоторых других языках, от русского далёких (например, в английском или португальском), — там ударных гласных тоже больше, чем безударных. Зато, например, в испанском языке (в отличие от португальского или русского) любая гласная может быть и ударной, и безударной. Поэтому испанец, изучающий русский язык по книгам, долгое время будет произносить вместо хАро́шие кАты́ — хОро́шие кОты́, а мы так только пишем. Зато русскому школьнику приходится специально учить написание безударных гласных в словах: ведь, например, безударная гласная, которую мы произносим как И, может записываться по крайней мере тремя способами — как И (вино́), Е (вено́к) или Я (вяза́ть). И наоборот, при изучении многих иностранных языков нам приходится старательно «забывать» о том, что гласные типа О без ударения произноситься не могут: ведь, например, по-французски valet (произносится вАле́) и volet (произносится вОле́) воспринимаются на слух как совершенно разные слова: первое означает «слуга» (отсюда и русское слово «валет»), а второе — «ставень, створка окна».
Мы помним, что ударные гласные в русском языке произносятся дольше и громче, чем безударные. Но не все языки похожи в этом отношении на русский. В некоторых языках ударение имеет совсем особую природу. Такое ударение называют музыкальным или тоновым. Тоновое ударение тоже падает на гласный (как и всякое ударение), но только, произнося гласный, в таких языках нужно не усиливать или удлинять его, а повышать или понижать голос, как если бы для каждого слова существовали специальные «ноты» и его надо было бы петь по особой «мелодии».
В русском языке мы тоже иногда используем такой способ произнесения, но не для того, чтобы отличать одни слоги в слове от других, а для того, чтобы отличать одни предложения от других. Например, в вопросах у нас голос обязательно повышается — именно по этому признаку мы отличаем предложения-вопросы типа Он ушёл? от предложений-сообщений типа Он ушёл. В последнем случае голос к концу не повышается, а понижается.
В языках с тоновым ударением тот или иной тон (высокий, низкий или «скользящий» — снизу вверх или наоборот) всегда связан с ударным слогом. Ни при каких обстоятельствах тон ударной гласной изменить нельзя, иначе получится неправильное произношение или просто совсем другое слово, точно так же, как это происходит с различием долгих и кратких гласных в английском языке или твёрдых и мягких согласных в русском. У всех ударных слогов в языке с музыкальным ударением тон может быть одинаковым (например, высоким), но может быть так, что на одних ударных слогах тон, например, повышается, а на других — понижается. Тогда, чтобы правильно говорить на таком языке, нужно запоминать не только место ударения в слове, но и тип этого ударения. К таким языкам (с музыкальным ударением нескольких типов) относился древнегреческий язык, а из живых языков к ним относятся литовский и сербскохорватский языки. Музыкальное ударение (немного более простого типа) имеется также в шведском языке.
Интересно, что есть и такие языки, в которых с тем или иным тоном произносится не один ударный слог слова, а каждый слог! Речь говорящих на этих языках ещё больше напоминает пение по нотам. Так устроены большинство языков Юго-Восточной Азии (китайский, бирманский, тайский, вьетнамский), очень многие языки Тропической Африки (самые крупные из них — ха́уса и йо́руба в Нигерии) и другие языки мира. Эти языки сами называются тоновыми, потому что в них тонируются все гласные в слове. Получается, что каждый слог по-своему выделен, отличен от соседних. Про такие языки можно сказать, что в них ударение на каждом слоге — или что в них нет ударения. Последнее, конечно, более точно. Ведь если в языке нет ударения, это значит, что в словах такого языка не выделяется какой-то один слог, по произношению отличающийся от остальных. А это, в свою очередь, значит одно из двух: либо в этом языке каждый слог выделяется как-то по-своему (это и есть случай тоновых языков), либо в этом языке ни один из слогов слова никак не выделяется, все слоги произносятся, так сказать, одинаково ровно и отчётливо. Так устроены, например, чукотский или грузинский язык.
Глава пятая. Сравниваем грамматику
Из звуков складываются слова. В разных языках слова разные, поэтому лингвисты тщательно собирают и составляют словари разных языков. А как составить такой словарь? Кажется, просто: возьмём книжки на этом языке и будем выписывать из них все слова подряд, а потом расположим эти слова в алфавитном порядке. Но настоящие словари оказываются устроенными гораздо сложнее. К примеру, в книжке на русском языке вполне может встретиться такое предложение: Мне понравились ваши задачи. Интересно, что ни одно слово из этого предложения нельзя поместить в словарь в том виде, в котором оно встретилось. Ни в одном словаре русского языка вы не найдёте слово мне или слово ваши; в самых подробных может оказаться отсылка: «см. я» — или: «см. ваш». А вместо слов понравились и задачи в словаре мы найдём понравиться и задача. Всё это происходит потому, что, когда мы строим из слов предложения и тексты, эти слова меняют свою форму — в книгах (то есть в текстах, как говорят лингвисты) встречаются не слова, а формы слов, или, как их ещё называют, словоформы. Словоформ у слова может быть очень много, и все их в словаре записать невозможно, кроме того, они образуются по определённым правилам. Правила эти записываются отдельно — в грамматике языка. Очень важно представлять себе, что языки могут различаться не только тем, какие слова входят в их словари, но и тем, какие правила «использования» этих слов написаны в их грамматиках. Мы уже немного говорили об этом в первой части, когда обсуждали, как изменяются языки с течением времени. А теперь вы уже знаете достаточно, чтобы мы могли поговорить о том самом главном, что всегда интересовало лингвистов, — чем отличаются друг от друга грамматики разных языков и как их можно сравнивать между собой.
Представим себе двух детей — русского и английского школьников, которые пишут друг другу письма. Русский школьник может сказать о себе:
Я написал письмо
— если он мальчик
— и:
Я написала письмо
— если это девочка.
Английские мальчик и девочка скажут одинаково:
I wrote a letter,
— и это не будет выглядеть смешно, как если бы мы по-русски услышали Петя написала или Маша написал. Так что если из письма английского школьника, в котором будет написано такое предложение, мы не поймём, кто он — мальчик или девочка (разве что — по подписи внизу), то из письма русского — поймём сразу. Всё дело в том, что в русском языке формы некоторых слов (написал/написала — из их числа) обязательно указывают, какого рода существительное стоит с ними рядом: мужского, женского или среднего. Например, мы должны сказать: камень упал — скамейка упала — дерево упало, и никак иначе. У живых существ грамматический род чаще всего совпадает с их полом — значит, автор русского предложения, хочет он того или нет, указывает пол того, кто писал письмо. Ну а если он не знает, какого пола человек писал письмо? Всё равно от выбора рода нам никуда не деться. В таких случаях мы говорим:
Какой-то человек написал письмо;
Какой-то школьник/ребёнок написал письмо (всё это в мужском роде) —
или:
Какая-то растяпа/шляпа написала письмо с кучей ошибок (в женском роде) —
и даже:
Какое-то удивительное существо написало письмо странными значками (в среднем роде).
Мы можем сказать и вовсе неопределённо:
Кто-то же написал это письмо — или:
Кто-нибудь уж, конечно, написал, —
и всё равно мы указываем род: просто неопределённые местоимения в русском языке — всегда мужского рода.
Англичанину (или, скажем, китайцу) это бы не всегда казалось очень удобным (зачем, например, указывать род для слова кто-то, которое явно «никакого» рода), но так уж устроена русская грамматика — ничего не поделаешь.
Как видим, в отношении рода и пола английский язык оказывается более «скрытным», чем русский. Зато русский, пожалуй, будет не таким точным, как английский, в отношении времени. Например, по-русски мы говорим написал независимо от того, когда именно в прошлом это событие произошло. Нам важно только, что оно уже случилось, потому что в русском языке обязательно указывать, к прошлому, настоящему или будущему относится действие, в зависимости от этого выбирается форма прошедшего, настоящего или будущего времени: написал, пишу, напишу. В английском эти значения тоже обязательны. Но интересно, что, если действие относится к прошедшему времени, английский язык требует обязательного указания на то, как давно это случилось. Для англичанина важно, было ли это давно, только что или до какого-то другого прошлого события. Так, по-русски в предложениях:
Он только что написал письмо своему лондонскому другу;
В прошлом году я написал ему письмо с поздравлениями к дню рождения;
Перед тем как лечь спать, он написал письмо своему дедушке в Манчестер —
мы употребляем одну и ту же глагольную форму написал, а англичанин в этих случаях скажет по-разному: если имеется в виду «только что написал» (и даже ещё не успел отправить), то по-английски будет сказано скорее всего has written, если написал в прошлом году — то это будет wrote, если написал перед тем, как сделал что-то ещё, — то had written. И всякое английское предложение с глаголом в прошедшем времени требует обязательного уточнения на этот счёт — уточнение состоит в выборе правильной формы глагола.
Ещё одно известное свойство английского языка (доставляющее нам много неприятностей) — это обязательное указание на «определённость» или «неопределённость» того предмета, о котором мы говорим. Ведь при каждом английском существительном в предложении мы должны поставить одно из двух коротких слов-«артиклей»: a или the (можем ещё и не ставить никакого, но тоже только в специальных случаях). Сообщая по-русски: Я написал письмо, — говорящий может и не уточнять, какое именно письмо имеется в виду: то, о котором уже шла речь (например, то, которое его уже две недели просят написать), или совершенно неизвестное собеседнику (вот взял и захотел написать какое-нибудь письмо). Англичанин же обязан ясным и недвусмысленным образом об этом сообщить, сказав либо a letter (какое-то новое, неизвестное письмо), либо the letter (то самое, известное письмо). Как видим, грамматические правила в языке действуют так же строго (и даже, может быть, ещё строже), как и обычные, неязыковые, правила — правила поведения, игры в шахматы, уличного движения и т. д., то есть предписывают, что говорить и о чём молчать. Язык следит буквально за каждым нашим словом, и стоит нам умолчать о чём-нибудь с его точки зрения обязательном, как нам говорят: «Так нельзя сказать, это не по-русски (не по-английски, не по-фински и т. п.)». При этом, как мы убедились, в разных языках обязательным оказывается разное, и в этом состоит главная трудность изучения чужой грамматики.
3. Обязательное — значит грамматическое
У каждого языка есть грамматика. А это значит, как мы теперь понимаем, что в каждом языке есть такие особые правила, которые заставляют говорящих сообщать то, что в этом языке считается обязательным — то есть грамматическим. Причём от желания говорящих это совершенно не зависит: грамматика их об этом не спрашивает.
Допустим, мы решили рассказать о каком-то событии. Оказывается, помимо того, что мы сами хотим о нём рассказать, говоря на том или ином языке, мы обязаны (просто чтобы это было правильное предложение на данном языке!) сообщить что-то о времени события (в прошлом или в настоящем оно произошло, давно в прошлом или не очень давно, окончилось оно или всё ещё продолжается), о числе его участников, о том, были это люди или не люди, мужчины или женщины; или о том, наблюдал ли это событие сам говорящий, или ему об этом кто-то рассказал, и т. д. и т. п. Что именно из этого списка мы обязаны сообщить — зависит от конкретного языка, на котором мы говорим. Даже на примере одного короткого русского и английского предложения мы видели, что различия между языками могут быть довольно большими.
Главное, чем языки отличаются друг от друга, — это то, что грамматика каждого языка заставляет нас делать. Языки отличаются друг от друга не тем, что на одном языке о чём-то можно говорить, а на другом нельзя: давно известно, что на любом языке в принципе можно выразить любую мысль. Дело обстоит иначе: языки отличаются друг от друга теми сведениями, которые, говоря на каждом из них, нельзя не сообщать — то есть, иными словами, тем, о чём на этих языках сообщать обязательно. В нашем столетии эта мысль была отчётливее всего сформулирована знаменитым русским лингвистом Романом Осиповичем Якобсоном.
Теперь самое время выяснить, какие же именно сведения заставляют нас обязательно сообщать грамматики разных языков (лингвисты обычно говорят в этой связи о грамматических значениях — ведь они входят в грамматику каждого языка).
Для существительных такими значениями чаще всего являются привычные нам число, падеж, род.
Число является обязательным и в русском, и в английском, и во многих других языках. В первую очередь оно обозначает количество, то есть сколько предметов — один или много — обозначает данное слово: письмо — письма, ребёнок — дети, конфета — конфеты и т. д. В каких-то случаях нам, безусловно, хотелось бы не уточнять количество, ну, например, говоря: «Мама, я хочу конфету» — или: «Я хочу конфет» — ведь не всегда заранее знаешь, окажутся ли они вкусными. Но языки — и русский, и английский, и французский — здесь одинаково строги: по отношению к числу действуют правила обязательности, так что ничего не поделаешь — или один, или много. А что такое много? Много — это два или больше. В некоторых языках есть специальное двойственное число (кстати, о двойственном числе в древнерусском языке мы уже говорили в первой главе), совсем редко — тройственное; кроме того, в некоторых языках (например, в Дагестане или в Полинезии) специальной формой может обозначаться несколько предметов — кроме единственного и (обычного) множественного там есть ещё, так сказать, «несколькное» число — множественное «небольшого количества».
Но, конечно, из редких значений числа самое известное и изученное — двойственное. Оно было во многих древних индоевропейских языках (санскрите, древнегреческом, старославянском), но со временем исчезло почти во всех их потомках; осталось оно в двух славянских языках — словенском (это южнославянский язык, на нём говорят в самостоятельном государстве Словения, образовавшемся недавно из самой северной республики бывшей Югославии) и лужицком (это западнославянский язык, на котором говорят в небольшой области на востоке Германии). Из других языков двойственное число сохранилось, например, в корякском, ненецком; есть двойственное число и в таком крупном мировом языке, как арабский.
И всё-таки почему же таким распространённым оказалось именно двойственное, а не тройственное или нигде почему-то не засвидетельствованное пятерное, шестерное, семерное? Дело в том, что в жизни человека очень многие предметы встречаются парами, — например, многие части его собственного тела: руки, ноги, глаза, уши, губы, ладони, пятки (да и это далеко не всё!). Кроме того, раз есть много парных частей тела, то и многие предметы и части одежды оказываются парными — рукава и рукавицы, всякая обувь или, например, коньки и лыжи, некоторые украшения (например, серьги). Своих соседей-животных человек тоже воспринимал, как себя самого, — те же два уха, два глаза, два крыла, две передние и две задние лапы. Да ведь и неодушевлённые предметы оказывались похожи на людей! У них обычно две стороны, или два бока — правый и левый, есть верх и низ (опять два!), перёд и зад. А те предметы, которые человек изобретал и изготавливал сам, он тем более старался приспособить к себе, чтобы их было удобнее использовать: так появлялись, например, две ручки у плуга, две створки дверей, ставен, ворот, два весла и прочее. И в древних представлениях о мире устанавливалась магическая парная симметрия: день и ночь, белое и чёрное, добро и зло, мужское и женское, солнце и луна, небо и земля (ведь мы с вами до сих пор говорим не только «Между двух огней», но и «Между небом и землёй»), а в сказках злые колдуны «уравновешиваются» добрыми волшебниками и ведьмы — феями.
Конечно, парные предметы — вот что стало причиной того, что в человеческом языке появилась и стала такой значимой именно форма двойственного числа. Там, где двойственное число пропало, всё равно обязательно есть специальные слова, такие, как оба, пара, чета (а в английском, например, both, a pair of и др.). Но вот что интересно: в корякском языке — языке, как мы знаем, с двойственным числом — именно при обозначении парных предметов оно как раз и не используется! Так что, если мы говорим по-корякски:
По улице идут дети (вдвоём; это слово, конечно, добавляется
только в русском переводе), —
число будет двойственное — детей именно двое, а не просто много, а если добавим:
Один мальчик спрятал руки в карманы, —
то, хотя рук тоже две (и карманов — два), число будет — просто множественное: наверное, корякский язык решил, что рук, дескать, и так ясно, что две, — и «сэкономил».
Теперь поговорим о множественном числе. С ним тоже не так всё просто. Ведь в действительности не только не всё хочется считать, но и не всё возможно посчитать, а в языках с обязательным числом — всё равно приходится. Приходится ставить в единственное и множественное число имена действий и ситуаций (вздох — вздохи, сон — сны, работа — работы и т. д.), веществ (сок — соки), даже сами множества (толпа — то́лпы, заросль — заросли) да ещё запоминать, что это значит, а это непросто, потому что здесь грамматика часто начинает капризничать и происходит полнейшая путаница: единственное употребляется вместо множественного, множественное вместо единственного, а в каких-то случаях одно из чисел не употребляется вовсе — помните, наверное, из уроков русского — ножницы, сани, грабли, листва, солома? Или из уроков английского — oats («овёс», только множественное), wheat («пшеница», только единственное), advice («совет», только единственное)?
По-русски мы говорим:
Ну и студент нынче пошёл!
— в единственном числе, а имеем в виду, конечно, много студентов. Или:
В дверь стучат;
У нас гости.
В дверь, конечно, при этом стучать может только один человек, да и гость тоже может быть только один, но мы привыкли к такому употреблению — с точки зрения русского языка оно совершенно правильно, тогда как, например, В дверь стучит — вообще по-русски нельзя сказать, по крайней мере про живое существо. Да и знаменитое Ходят тут всякие обычно тоже ведь адресовано кому-то одному, вполне определённому. А вот, например, в турецком языке, чтобы правильно сказать Я люблю цветы, лучше употребить слово цветы в единственном числе (хотя множественное число у этого слова тоже есть). Зато по-турецки в таком, например, предложении, как Все дети одновременно подняли голову, у слова голова не может быть единственного числа (как это допускается в русском, английском, французском) — число должно быть только множественное (детей-то много, и у каждого — своя голова!). Мы с вами уже не должны этому удивляться — мы знаем, что правила употребления числовых форм очень причудливые и разные в разных языках. Одно дело — сколько предметов на самом деле, один или много, и совсем другое дело — как распоряжается сообщать об этом грамматика языка.
Теперь поговорим о том, зачем языку падежи. Будем считать, что всякое предложение описывает какое-то событие, или, как говорят лингвисты, ситуацию. При этом называет саму ситуацию, то есть описывает, что именно случилось (или происходит в данный момент, или ещё только собирается происходить), — сказуемое этого предложения, обычно — глагол. А с глаголом-сказуемым связаны разные существительные, и эти существительные называют разных «действующих лиц» (впрочем, не обязательно лиц — это могут быть и предметы, и вообще что угодно) — участников ситуации. Возьмём, например, простую ситуацию, которая обозначается в русском языке глаголом ловить. В ней может одновременно быть несколько участников — пусть это будут «старик», «рыба», «невод». Это разные участники ситуации, и не только потому, что выбранные нами имена существительные обозначают непохожие друг на друга существа и предметы, но и потому, что они в этой ситуации делают совершенно разные вещи — так сказать, играют разные роли, совсем как на театральной сцене. Старик в нашей ситуации — самое активное действующее лицо, он единственный что-то в прямом смысле делает, а в своей деятельности он использует невод. Невод, следовательно, выполняет другую роль — роль инструмента для старика. С помощью невода старик специальным образом воздействует на совершенно пассивную рыбу (точнее, рыб — здесь по-русски опять-таки единственное число подразумевает множество!) — рыбы эти вообще ничего специального не делают, может быть, они даже не подозревает о существовании старика, который собирается их поймать. И вот эти-то разные роли язык и выражает с помощью разных падежей — именно для этого в языке падежи и нужны. В русском языке в таком, например, предложении все роли будут различаться:
Старик ловил неводом рыбу.
Здесь самая главная, активная роль (роль старика) обозначена самым главным — именительным падежом; пассивная роль (роль рыбы) — винительным падежом, а роль инструмента — творительным. Мы могли бы взять других участников этой ситуации, например: «мальчик», «сачок», «бабочка». Участники другие, и деятельность их другая — ведь бабочек ловят совсем не так, как рыб, но роли у них, согласно русскому языку, оказываются такими же: активная, пассивная и инструмента, поэтому падежи в этом новом предложении будут теми же:
Мальчик ловил сачком бабочку.
Им. п. Твор. п. Вин. п.
Кроме того, мы можем взять совсем другую ситуацию, — например, ситуацию еды, вот такую:
Африканцы едят просо руками.
Здесь происходит нечто уж совсем непохожее на всё предыдущее, и тем не менее, роли участников этой ситуации совпадают с теми, о которых мы говорили прежде: африканцы — активный участник (именительный падеж), просо — пассивный участник (винительный падеж), руки — своеобразный инструмент для еды (творительный падеж). Как видите, с точки зрения русского языка есть определённое сходство в том, как используются руки при еде, сачок и невод при ловле, или — в том, что происходит с просом при еде, а с рыбами и бабочками — при ловле.
Всё это, пожалуй, действительно напоминает распределение ролей в старом театре, где у каждого актёра было строго закреплённое за ним амплуа, то есть тип ролей, которые он всегда играл. Один был трагик, другой, наоборот, комик, третий — злодей, были красавицы, которых обычно в пьесах похищают злодеи, герои-красавцы, которые спасают красавиц и совершают подвиги, и так далее. Пьесы игрались разные, а амплуа всё равно сохранялись — независимо от того, какие там действующие лица и что происходит. Просто перед тем, как играть пьесу, актёрам нужно было договориться, кто в ней злодей, кто красавица — и т. п. Например, в сказке «Белоснежка и семь гномов» есть красавица (Белоснежка), герой-красавец (её жених) и злодейка (мачеха); в «Руслане и Людмиле» тоже есть красавица, герой и злодей, и в «Красной Шапочке» волка, конечно, играл бы актёр с амплуа злодея, а девочку — актриса с амплуа красавицы. Не правда ли, похоже? Меняются пьесы — как меняются ситуации или предложения, а набор амплуа, то есть типовых ролей, — как и набор падежей в языке — остаётся постоянным.
Чем больше в театральной труппе актёров с разным амплуа, тем больше у театра возможностей, ведь это значит, что одному и тому же актёру не придётся играть в одном спектакле разные роли. Так и в языке: если в нём мало падежей, им приходится обозначать «склеенные» роли — например, один и тот же падеж может обозначать и роль адресата (тот, кому что-то даётся, говорится и т. п.), и роль инструмента (именно так происходит в немецком или древнегреческом языке).
Легко себе представить театральные трудности: нужно играть пьесу, а в ней роль совсем не похожа на привычные амплуа: например, кто возьмётся сыграть Колобка или, скажем, Винни-Пуха? Не герой и не злодей! Тогда режиссёр обычно выбирает или актёра с близким амплуа, или просто самого способного, разностороннего актёра и поручает это ему. При этом, конечно, может случиться, что разные режиссёры сделают разный выбор, — в любом случае спектакль состоится. Удивительно, но именно так и происходит с падежами в языке.
В качестве простого примера мы возьмём ситуацию, которую описывает глагол видеть, и поговорим о её главном участнике. Какова его роль в этой ситуации? На самом деле она ни на что не похожа. Она не похожа на активную роль деятеля, которая в русском языке выражается именительным падежом, — ведь, когда человек видит, он ничего не делает. Заметим, что она не похожа и на роль пассивного участника ситуации — такого, как рыба, которую ловят, — потому что рядом с таким пассивным участником всегда предполагается активный, который на него как-то воздействует, а тут этого нет — человек видит сам, его никто не заставляет. Она не похожа и на роль адресата, или «получателя», как в предложениях дал мне, помог ему и под.
И всё-таки все языки мира (а именно они являются здесь Главными Режиссёрами) решили, что если эта роль и похожа на какую-то другую, то выбирать нужно из двух — деятеля и адресата, потому что с другими, такими, как, например, роль инструмента, или места, или времени, у неё совсем нет ничего общего. И вот русский язык признал её наиболее близкой к роли деятеля и «поручил» именительному падежу (мальчик видит, я вижу и т. п.). А такие языки, как аварский, лезгинский или грузинский, сочли, что лучше всего отдать эту роль падежу адресата (например, дательному): когда человек видит, он как будто бы получает то, что видит, воспринимает видимое им (в этих языках скажут мне вижу, мне боюсь, мне радуюсь, мне надеюсь, мне люблю и т. п.). Впрочем, и по-русски ведь тоже часто говорят так:
Мне видно/страшно/радостно/приятно —
а это значит, что и русскому языку бывает не чужда такая режиссёрская логика. А вот для современного английского языка подобные «адресатные» конструкции совершенно не характерны: в древнеанглийском они ещё были, а потом почему-то полностью исчезли. Об этих конструкциях мы ещё поговорим немного позже, когда речь пойдёт про дательный падеж.
Роль существительного в предложении, как мы уже сказали, зависит от глагола-сказуемого. Однако его может вовсе не быть в предложении, и тем не менее, говорящий легко «угадывает» роли и восстанавливает смысл предложения. Делает он это именно благодаря падежам, которые тогда становятся просто незаменимыми. Например, нам с вами, знающим русский язык, совершенно ясна расстановка ролей в таких безглагольных предложениях, как:
Срочно денег!;
Кто кого?;
Огнём и мечом;
Каждому — своё.
Вспомним и абсолютно понятные говорящему на русском языке пословицы типа:
В Тулу — со своим самоваром.
Правда, в этом случае определить роль существительного нам «помогает» ещё и предлог, но вот, например, древние греки формулировали своё похожее изречение, которое выглядело так:
Сову — в Афины, —
без предлога (слово Афины в этой пословице стояло просто в винительном падеже; на всякий случай стоит объяснить, что сова — любимая птица богини Афины, в честь которой был назван город Афины, так что везти её в Афины, сами понимаете, было совершенно лишним).
Сколько же падежей бывает в языках мира? Во-первых, не меньше двух, ведь один падеж для всех существительных — это всё равно что падежей нет вовсе, потому что в этом случае все слова стоят в одной и той же падежной форме. Именно такая ситуация, как мы знаем, имеет место в английском или французском языках (правда, только с существительными, — местоимения в этих языках по падежам изменяются).
Чтобы лингвисты признали в языке число, род, время, падеж грамматическими и, следовательно, достойными включения в грамматику, каждая из этих категорий должна уметь принимать и выражать разные значения: число — единственное и множественное, время — прошедшее, настоящее, будущее и т. п. Только тогда формы слов окажутся противопоставлены по этим значениям; таким образом, минимальное количество падежей в языке с падежами — два (основной — именительный падеж и падеж для всех остальных ролей, или, как ещё говорят, прямой и косвенный). Такая падежная система существовала, например, в старофранцузском языке. Три падежа имеются в арабском и румынском языках, четыре — в немецком, пять — в древнегреческом, шесть — в турецком и в русском (по той системе подсчёта, которая принята в школьных учебниках русского языка, а лингвисты считают, что в русском языке по крайней мере восемь или девять падежей), семь — в латинском (если считать самые редкие латинские падежи, а «обычных» падежей в нём тоже получается пять) и т. д. Приведённые примеры могут навести вас на мысль, что посчитать число падежей в языке не всегда бывает так уж просто — это действительно так, но у лингвистов есть способы преодолеть подобные трудности.
«Среднее» число падежей в языке — пять-шесть. Однако бывают языки, в которых есть и двадцать, и тридцать, и даже больше падежей. Как такое возможно? Откуда берётся столько ролей? Дело в том, что во всех этих языках существуют особые сложные способы для указания положения предмета в пространстве (системы пространственной ориентации), и это происходит за счёт введения разных дополнительных падежей. О том, как такие системы устроены, мы поговорим немного позже, а пока обратим внимание на то, что система падежных ролей «разбухает» всегда только в одной определённой зоне — не потому, что вместо одной роли — например, инструмента или адресата — возникает две или три, а только потому, что добавляются способы точного указания на местонахождение и направления движения участников ситуаций.
Такие системы характерны прежде всего для финно-угорских языков (финского, эстонского, венгерского и др.) и для языков горного Дагестана. Например, в финском языке пятнадцать падежей, в лезгинском — восемнадцать, а в родственном ему табасаранском языке падежей рекордное число — сорок шесть. Больше, кажется, нет ни у одного языка в мире. Иногда лингвисты связывали такую детально развитую систему пространственной ориентации с горными условиями, в которых живут говорящие на этих языках: такие дополнительные признаки, как «находиться выше/ниже», «находиться впереди/сзади», «находиться вплотную к/не вплотную к» и т. п., становятся там особенно важными. Впрочем, мы видели, что сходные системы (хотя, может быть, и не такие детальные) есть и у других народов, живущих далеко от гор.
Теперь надо сказать несколько слов о том, какие бывают падежи в языках мира.
Самый главный падеж — конечно, именительный (он же — номинатив). Если мы просто думаем о каком-нибудь предмете (вне связи с его конкретной ролью) или хотим ответить на вопрос «Как это называется?», то мы обязательно используем номинатив. Кроме того, номинатив во многих языках мира используется для обозначения роли одного из участников в стандартной ситуации «активного воздействия»: когда кто-то кого-то (или что-то) догоняет, ловит, ищет, берёт, бьёт, гнёт, режет, варит, ест, строит, лепит и т. п. Как вы думаете, какой именно роли в этом случае соответствует номинатив? Вы, конечно, сразу скажете — роли активного участника. Действительно, для русского языка это именно так и есть; и для очень многих других языков мира — тоже. Но, оказывается, так бывает совсем не всегда. В немалом количестве языков мира номинативом обозначается как раз вторая роль в этих ситуациях — роль пассивного участника, такого, который подвергается воздействию активного (в языках типа русского он обычно выражается винительным падежом, или аккузативом). А каким же падежом — спросите вы — выражается тогда роль активного участника, если номинатив уже «занят»? Оказывается, для этой роли используется особый падеж, который больше никакие другие роли не выражает. Он называется эргатив, а языки с такой логикой распределения ролей — эргативными языками. Уточним ещё раз, что эргатив соответствует не любому употреблению номинатива в языках типа русского, а только такому, когда номинатив выступает в паре с аккузативом и выражает особую роль активного участника, воздействующего на другого участника, изменяющего его. Например, если мы будем переводить на разные языки такие два русских предложения:
Коза убежала
и
Мальчик поймал козу —
то при переводе первого предложения слово коза окажется в номинативе в любом языке (если там вообще есть падежи), а вот при переводе второго предложения все языки разобьются на два класса: в таких языках, как русский, в номинативе будет мальчик, а в эргативных языках мальчик окажется в эргативе, а коза — в номинативе (если бы мы захотели передать такую конструкцию по-русски, у нас бы получилось что-то вроде Мальчиком поймано коза).
Эргативных языков на земле довольно много. К ним относится большинство языков, распространённых на Кавказе (дагестанские, грузинский, черкесский), многие австралийские языки, чукотский и корякский, хинди (один из немногих индоевропейских эргативных языков). В самой же Европе эргативный язык только один — это загадочный баскский язык.
Дательный падеж — тоже довольно частый в языках. Он хоть и называется «дательным», но обозначает не роль «давателя», а, как мы уже говорили, прежде всего роль «получателя», «адресата» (дать кому, послать кому, сообщить кому). Во многих языках, однако, он расширяет свои «амплуа» и обозначает, кроме того, «получателя чувств и впечатлений» — то есть того, кто их испытывает или воспринимает; нам уже приходилось говорить об этом. В русском языке такой дательный падеж встречается часто — либо наряду с именительным, либо даже как единственный вариант, ср.:
Мне нравятся кокосовые орехи. — Я люблю кокосовые орехи.
Мне страшно в темноте. — Я боюсь темноты.
Мне здесь холодно. — Я здесь мёрзну.
Отсюда мне всё будет видно. — Отсюда я всё увижу.
Мне не кажется это новым. — Я не нахожу это новым.
Мне трудно во всём этом разобраться. — Я с трудом во всём этом разбираюсь.
Мне весело от этой мысли. — ?
Мне грустно, что ты уезжаешь. — ?
Легко заметить, что даже в том случае, когда существуют оба варианта, они значат не совсем одно и то же. В конструкциях с дательным падежом от «меня» как будто меньше зависит: обстоятельства «сами» складываются таким образом, что «мне приходится» (кстати, ещё одна характерная конструкция, «не переводимая» в номинатив) думать и чувствовать так, а не иначе. Нет, не случайно всё-таки в русском языке номинативу досталась роль активного деятеля: хоть и приходится ему часто выполнять совсем другую работу, а истинная его природа всё равно заметна. Лингвисты давно обратили внимание на ещё одну конструкцию с дательным падежом, которая тоже есть именно в русском языке (и составляет очень яркую его особенность). Сравним такие пары предложений:
Последнее время я совсем не работаю. — Последнее время мне совсем не работается.
От этих мыслей я не сплю. — От этих мыслей мне не спится.
Всем говорящим по-русски понятно, что во втором предложении в каждой из этих пар (в отличие от первого предложения) человек не делает чего-то (не работает или не спит), так сказать, независимо от себя самого: какие-то внешние обстоятельства ему мешают — совершенно неожиданно и необъяснимо для него.
Дательный падеж в конструкциях чувства и восприятия — особенность не только кавказских и славянских языков (в последних — уже наряду с именительным); он встречается, например, в немецком языке (Mir ist kalt. — «Мне холодно»); во французском, испанском, итальянском такие «неноминативные» конструкции используются уже гораздо реже, в английском — их практически нет совсем. Кажется, что в Европе влияние дательного падежа уменьшается с юга на север и с востока на запад.
Очень часто в языках дательный падеж обозначает владельца объекта или его целое (если объект — часть). Например, во многих славянских языках, французском и немецком говорят, как в русском:
Мне пришили/оторвали пуговицу (то есть «мою пуговицу»)
— или:
Я ему все кости переломаю (то есть «все его кости»).
Обычно для обозначения владельца в языках (в том числе и в русском) существуют другие способы (мой; Петин); существует и особый падеж — родительный, или генитив; но когда владелец обозначается дательным падежом, это особый владелец — такой, я бы сказал, неравнодушный к тому, что происходит. Сравните такую пару предложений:
Лиза испачкала Наде тетрадь. — Лиза испачкала Надину тетрадь.
Я думаю, очень легко сказать, в каком случае Надя больше расстроилась: конечно, в первом, ведь это ей испачкали тетрадь! А если испачкали просто её тетрадь — так, может, она об этом даже и не знает ничего, правильно? В некоторых предложениях дательный падеж владельца по-русски даже обязателен (язык как бы считает, что владелец всегда имеет отношение к тому, что с ним происходит). Например, если мы услышим такое предложение:
Парикмахер постриг мою бороду (вместо: постриг мне бороду),
— то сразу поймём, что это, наверное, иностранец говорит. Так только по-английски будет правильно, а по-русски обязательно нужен дательный падеж: не может же человек не знать, что его бороду стригут!
Зато в чешском, польском, французском и немецком, в отличие от русского, можно сказать и нечто вроде Ему блестят глаза (в значении: Его глаза блестят; по-русски мы сказали бы: у него), а в чешском, литовском и латинском языках дательный обозначает и бывшего владельца утраченной вещи, так что в этих языках говорят не У меня, а Мне украли/взяли/похитили что-либо.
Творительный падеж, или, как его ещё называют, инструментальный, обычно в языках обозначает «орудие» — инструмент или средство: ударить палкой, перевязать верёвкой, приклеить клеем, нарисовать кисточкой (или: красками). Орудие похоже одновременно и на активного деятеля (которому «положен» номинатив), и на пассивный объект (которому «положен» аккузатив), поэтому иногда в языках (в том числе и в русском) эти падежи могут, так сказать, заменять друг друга. Вот несколько интересных случаев — поразмыслите над ними сами:
Я режу мясо ножом. — Мой нож режет мясо. — Мой нож хорошо режет.
(а предложение Я хорошо режу ножом звучит, пожалуй, даже странновато).
Ветер открыл калитку. — Ветром открыло калитку.
Кто-то бросил в окно камень. — Кто-то бросил в окно камнем.
Этот текст правил редактор. — Страной Эндорой правил князь.
Русский язык отличается от многих других языков тем, что в нём творительный падеж распространился очень широко и «захватил» много чужих ролей, в том числе и таких, которые не так уж близки к роли орудия. Творительный падеж может обозначать место, где что-то происходит или по которому кто-то движется, может обозначать время действия и даже — «образец для подражания», ср.:
Он шёл лесом;
Он мог часами сидеть на одном месте;
Местами там очень грязно;
Дорога вилась змеёй.
Между тем в падежных системах других языков творительный встречается не так уж часто, например, из индоевропейских языков он (не считая славянских) есть только в армянском и в санскрите. Ни классический латинский, ни греческий язык особого творительного падежа не знали.
Есть, конечно, и много других падежей, более редких. Вот, например, вряд ли вы когда-нибудь слышали про такие два падежа, как каритив и транслатив. Оба они встречаются в уральских языках. Первый можно было бы назвать по-русски «лишительным» — он указывает такого участника ситуации, без которого она происходит: если сочетание сапожник без сапог перевести на финский язык, то слово сапоги как раз будет стоять в каритиве. Название второго падежа можно было бы перевести как «превратительный»: он обозначает, коротко говоря, роль того, во что превращается участник ситуации, — например, Разобрали сарай на дрова— или: Шмелём князь оборотился (а в русском у нас опять вездесущий творительный!) и т. д.
Интереснейший падеж, которого тоже нет в современном русском языке, — это звательный, или вокатив; в этом падеже ставится слово-обращение (ведь обращение — это тоже такая роль, сходная, между прочим, с ролью адресата). В русском языке в торжественных случаях «вместо» вокатива можно использовать частицу о: О великий и могучий! О государь! Во многих древних языках — санскрите, древнегреческом, старославянском и древнерусском и других — звательный был полноправным членом падежной системы. В украинском звательный падеж остался до сих пор, а в русском — следы старого звательного видны в таких «окаменелых» формах, как Боже, отче, Господи. Когда у Пушкина золотая рыбка спрашивает:
Чего тебе надобно, старче?
— она тоже использует форму вокатива (я думаю, вы догадались, что номинатив этого слова — старец).
Только что мы сказали, что в современном русском языке вокатива нет. Между тем это не совсем точное утверждение. Действительно, старый вокатив в современном языке исчез, но буквально на наших глазах в нём формируется новый звательный падеж. Правда, он употребляется не со всеми существительными, а только с именами собственными (и тоже не со всеми) и редко выходит за пределы этого небольшого класса употреблений, но зато способ его образования — совершенно исключительный! Падежные формы этого нового русского вокатива образуются не присоединением окончания, как обычно, а отбрасыванием его. Вы уже догадались, конечно, что за формы имелись в виду? Ну да, Миш, Серёж, Маш, мам, пап — не правда ли, настоящий звательный падеж, только не для торжественных случаев.
Но больше всего всё-таки в языках мира разных местных, или локативных, падежей. В русском языке падеж, основной ролью для которого является местонахождение, называется предложным, так как он в этих случаях употребляется с предлогами — обычно на или в. В русском языке система локативных падежей не получила развития — точное указание места и направления русский язык полностью поручил разным предлогам: ведь даже единственный русский местный падеж самостоятельно — то есть без предлогов — не употребляется. Однако в древнерусском языке этот падеж вполне мог ещё выступать без предлогов: можно было сказать что-то вроде Онъ есть Новѣ городѣ, имея в виду «Он в Новгороде».
Именно так и употребляются «настоящие» местные падежи в тех языках, где они есть (как, например, в санскрите). Но и все индоевропейские языки в целом не очень охотно поручают падежам такую работу. Выражать место и направление движения в этих языках берутся самые разные падежи с самыми разными предлогами. Например, движение куда-то, в каком-то направлении выражается винительным падежом с предлогом типа в, на и др. (только в древних индоевропейских языках, таких, как санскрит и греческий, можно было обходиться винительным без предлога — помните наш греческий пример Сову в Афины?). А движение откуда-то, из чего-то часто выражается (как в русском) родительным падежом с предлогами из, от, с и др. Только в нескольких индоевропейских языках есть для этого особый падеж — отложительный, или аблатив (прежде всего, в санскрите и армянском; латинский падеж, который в грамматиках называется аблативом, на самом деле с тем же правом мог бы называться и творительным, и местным — слишком во многих разных амплуа выступает он одновременно).
Но в других языках разные местные значения выражаются именно падежами; понятно, что падежей для этого может понадобиться много — по крайней мере, не меньше, чем существует, например, в русском языке разных пространственных предлогов. Так и получается в этих языках особый под-падеж и над-падеж, из-падеж и из-под-падеж, за-падеж и перед-падеж и даже между-падеж. И ещё к тому же различается движение по направлению к, по направлению от, а иногда ещё и движение мимо или движение вплотную к — и т. п. Например, если мы переведём следующие четыре предложения на почти любой из дагестанских языков (будь то аварский, лезгинский, даргинский или табасаранский — я назвал только самые распространённые), то слово дом каждый раз будет стоять в своём особом местном падеже (зато никаких предлогов не понадобится!):
Змея ползёт к дому;
Змея заползла под дом;
Змея проползает под домом,
Змея выползла из-под дома,
Змея ползёт от дома.
Пожалуй, приходится удивляться, что при такой системе местных падежей их общее число в самом «богатом» на падежи табасаранском языке оказывается всего сорок шесть (из них местных — около сорока), а не пятьдесят и не сто! Ну а в финском и венгерском языках, как вы помните, местных падежей и того меньше — всего около десятка.
Существительные в языках изменяются по падежам и числам, но не по родам. Род — это постоянное свойство существительного — на всю его жизнь в языке. Слова, принадлежащие в языке к разным родам, могут на вид почти не отличаться друг от друга, как, например, русские папа и мама, мышь и конь, так что для иностранца выучить «чужой» род обычно очень трудно. Те из вас, кто изучал французский или немецкий язык, где (в отличие от английского) есть род, прекрасно это знают. Между тем выучить, какое существительное принадлежит к какому роду в языке, совершенно необходимо, если хочешь не делать на этом языке ошибок, — потому что сущность рода состоит в том, что слова разных родов требуют, чтобы связанные с ними соседние слова принимали разные формы. Например, в русском языке, как известно, слово стул мужского рода, а табуретка — женского, поэтому по-русски мы говорим этот стул, но эта табуретка, по-французски наоборот, стул (chaise) — женского рода, а табуретка (tabouret) — мужского, но и по-французски «этот стул» и «эта табуретка» тоже звучат по-разному: cette chaise и ce tabouret. И только в таком языке, как английский, где родов нет, слову «этот» (this) всё равно, какое слово стоит с ним рядом — «стул», «книга», «табуретка» или «кенгуру», — во всех случаях оно останется неизменным this. Зависимость от рода существительного (лингвисты называют её «согласованием по роду») может проявляться у прилагательных, местоимений, глаголов, артиклей и даже предлогов и наречий. И всегда это означает одно и то же: у глагола, или прилагательного, или артикля, или предлога столько форм, сколько родов существительных есть в этом языке. Например, в русских предложениях мы всегда выбираем между разными формами прилагательных (например, красный/красная/красное), местоимений (например, весь/вся/всё), глаголов — правда, только в прошедшем времени (пакет пришёл, телеграмма пришла, письмо пришло — но пакет/телеграмма/письмо приходит/придёт). Во французском и немецком глаголы вообще не согласуются по роду, зато в арабском глагол согласуется по роду во всех временах. Пример согласования артикля по роду дают как раз французский и немецкий — во французском по две формы каждого артикля, а в немецком — по три (а сколько родов существительных в этих языках, вы теперь легко догадаетесь сами). Но в дагестанских языках согласование по роду настолько распространено, что говорящий, например, на аварском языке должен выбирать форму для наречия домой в зависимости от того, мужчина шёл домой или женщина. А в некоторых чадских языках (в самом сердце Тропической Африки) и предлоги (например, с или от) принимают разные формы в зависимости от рода связанного с ними существительного.
Когда родов существительных в языке очень много, их называют классами. А сколько это — «много»? Во французском и шведском — два рода, в русском и немецком — три, в дагестанских и австралийских языках обычно четыре-пять классов, и это уже довольно много, но больше всего классов в языках Африки (особенно в языках банту), где, бывает, различается и пятнадцать, и двадцать классов существительных. Рекордсменом же среди африканских языков в этой области, бесспорно, является западноафриканский язык фула (или фульфульде), в некоторых диалектах которого лингвисты насчитывают двадцать пять классов. В языках банту согласование с существительным по классу распространяется почти на все другие слова в предложении — и прилагательные, и местоимения, и числительные, и глаголы (во всех формах). Вот, например, как выглядят несколько предложений с одним и тем же глаголом «упасть», числительным «один» и местоимением «этот» на языке суахили (это самый крупный и самый известный из языков банту)[7]:
Mtoto huyu mmoja ameanguka (класс «людей»):
Ребёнок этот один упал.
Mti huu mmoja umeanguka (класс «растений»):
Дерево это одно упало.
Chungwa hili moja limeanguka (класс «плодов»):
Апельсин этот один упал.
Kifuko hiki kimoja kimeanguka (класс «вещей»):
Кошелёк этот один упал.
Легко заметить, что в языке суахили принадлежность слова к тому или иному классу выражается прежде всего в том, как выглядят другие слова, связанные с этим словом в предложении. Так, например, если упал кошелёк (а слово кошелёк относится к так называемому классу «вещей»), то глагол упасть имеет в начале показатель ki-, а если упало дерево (это слово, само собой разумеется, относится к особому классу деревьев), то тот же глагол упасть будет иметь в начале уже не ki-, а u− и так далее. Похожие изменения будут происходить не только с глаголами, но и с прилагательными, числительными и местоимениями суахили. Показатели типа ki, u (в нашем примере встречаются ещё li, а и др., а вообще в языке суахили их гораздо больше) называются «классными показателями» и буквально пронизывают почти каждое предложение на суахили: без них нельзя построить практически никакого, даже самого простого высказывания.
И всё-таки как же слова в языке распределяются по разным классам? Это очень сложный вопрос для лингвистов, потому что, с одной стороны, никакой особенной «родовой» разницы по смыслу между стулом и табуреткой, конечно, нет, и примеров на то, как слова, обозначающие, в общем, похожие вещи, различаются по классу, причём по-разному в разных языках, очень много. Вот слово «письмо» в немецком языке мужского рода, во французском — женского, а в русском — среднего, а «книга» почему-то в немецком среднего, во французском — мужского, а в русском, наоборот, — женского.
С другой стороны, не случайно же эти группы слов называются «мужскими» и «женскими», ведь обычно во всех языках с системой родов существительные, обозначающие мужчин, и существительные, обозначающие женщин, относятся к разным родам. Бывает и так, что только благодаря роду названия людей различаются по смыслу (как, например, в русском: супруг и супруга). А в испанском языке, например, именно так устроены пары брат — сестра (herman-o — herman-a) и сын — дочь (hij-o — hij-a): каждый раз это как бы одно и то же слово, но, в зависимости от пола обозначаемого лица, оно или мужского, или женского рода. Конечно, было бы очень сильным преувеличением считать, что в каком-нибудь языке род полностью соответствует различиям по полу (вспомним наши примеры про табуретку, письмо и др.), но, тем не менее, язык обычно организует такие классы слов «вокруг» каких-то очень простых и понятных противопоставлений — иначе говорящим было бы очень трудно владеть всей этой системой. Если в языке два рода, то это обычно противопоставление «мужской» — «женский» (как, например, во французском или итальянском) или «человек» — «не человек» (как, например, в шведском); если три рода — то различаются «мужчины», «женщины» и «вещи» (неодушевлённые предметы среднего рода).
Если же родов, или классов, много, они противопоставлены более сложным образом: противопоставляются люди и животные, длинные, гибкие и круглые предметы (например, палки, верёвки, волосы и плоды деревьев), большие и маленькие предметы (например, великан и карлик, домик и домище), предметы, сделанные человеком, и природные объекты, жидкости и вещества и т. д. и т. п. Так, в языке суахили слово с корнем — ti-, который значит «дерево/древесина», может попасть в специальный класс растений, и тогда оно звучит mti и значит «(растущее) дерево», а если оно попадает в класс предметов, сделанных человеком, то оно звучит kiti и означает «стул».
До сих пор мы говорили о грамматических особенностях существительных, давайте теперь попробуем обратиться к глаголам и посмотреть, какие понятия в языках мира чаще всего оказываются обязательно выраженными в глаголе.
Одно из самых распространённых грамматических значений глагола — это, конечно, время. Ведь глагол обозначает событие, а всякое событие происходит когда-то. Поэтому все языки имеют средства определять время события, и в очень многих языках (в том числе в русском) результаты своих «измерений» говорящим приходится указывать обязательно, то есть каждый раз, когда они употребляют глагольные формы. Делается это с помощью специальных глагольных окончаний или суффиксов, — например, в русском: узна-л, узна-ети т. д.
Но ведь, чтобы что-то измерить, надо это «что-то» сравнить с эталоном меры. В самом деле, когда мы измеряем длину, у нас есть линейка, на ней отложены меры длины — эталоны (например, это могут быть сантиметры), и измерение длины или ширины какого-то предмета состоит в том, что мы сравниваем его длину с сантиметром или пятью, двадцатью и т. д. сантиметрами: больше она, меньше или в точности равна этой величине. И время мы с вами в жизни тоже обычно измеряем с помощью эталонов, только эталоны эти особые: число оборотов Земли вокруг своей оси (сутки) или вокруг Солнца (год). Но эти эталоны измерения времени человечество придумало не очень давно — значительно позже, чем возник язык. К тому же они используются не во всех культурах. До сих пор существуют культуры, не знающие этих эталонов (и вполне хорошо без них обходящиеся) — например, у многих австралийских и африканских народов нет того, что мы могли бы назвать «летосчислением». Но ведь языки-то есть у всех народов — и от того, есть в данной культуре летосчисление или нет, устройство языка, в общем, не зависит.
Всё дело в том, что в своих языках люди используют совершенно другой способ измерения времени — очень простой и общий у всех племён и народов: одно событие сравнивается с другим и определяется, раньше оно произошло или позже. Действительно простой способ, и никаких приборов для этого не нужно! Но с каким событием сравнивать лучше? Что выбрать в качестве эталона? И здесь все языки тоже сходятся: «главным» событием они выбирают момент речи, то есть тот момент, в который мы говорим об этом событии. Событие может происходить раньше этого момента — тогда мы говорим о нём в прошедшем времени; оно может происходить позже момента речи — тогда оно относится к будущему времени; наконец, оно может происходить одновременно с моментом речи — как раз в тот момент, когда мы о нём рассказываем, — это настоящее время. Как видим, других возможностей просто нет, поэтому в языках обычно три времени: настоящее, прошедшее и будущее.
Есть, правда, языки, которые объединяют настоящее и будущее: в японском и финском, например, дело обстоит именно так. Говорящие на этих языках должны обязательно различать только прошедшее и непрошедшее время, для этого они выбирают то или иное окончание глагола, а уточнять, произойдёт ли событие в будущем или уже сейчас происходит, они могут на своё усмотрение, по желанию, добавив, например, слово сейчас к форме непрошедшего времени глагола. Гораздо труднее найти в мире язык, где бы различалось только будущее и небудущее и говорящим было бы «не очень важно», сейчас происходит событие или произошло в прошлом. Тем не менее ещё в начале XX века знаменитый американский лингвист Эдвард Сепир нашёл такой язык у одного из племён североамериканских индейцев (в штате Орегон, на северо-западе США) и описал его. Этот язык называется такельма. Языка же, в котором бы противопоставлялось настоящее — ненастоящее время, то есть в котором бы прошлое объединялось с будущим, наверное, в природе нет, по крайней мере, до сих пор такого языка не найдено.
Таким образом, в языке может быть три или (гораздо реже) два времени. Но во многих грамматиках вы найдёте совсем другие цифры: пять времён, десять, двенадцать и даже, может быть, больше. Это значит, что автор грамматики одновременно с временем описывает что-то ещё, какие-то другие категории. Это может быть вид, о котором мы будем говорить в следующем разделе, а может быть, например, временная дистанция. Вот о том, что такое временная дистанция, мы и поговорим сейчас.
Грамматическое время только ориентирует событие относительно момента речи, то есть определяет, раньше оно произошло или позже. А ведь можно задать и другой вопрос — насколько раньше или позже произошло это событие. Понятно, что такой вопрос может относиться к глаголу лишь в прошедшем или будущем времени, но не в настоящем.
Событие, например, может быть очень близко от момента речи. Для прошедшего времени это значит «только что произошло», для будущего — «вот-вот произойдёт». В русском языке это всё равно прошедшее или будущее время, а вот, например, по-французски в первом случае с глаголом нужно употребить ещё глагол venir («приходить»), а во втором — глагол aller («идти, уходить»). Таким образом, сказанное по-французски Il vient de casser la tasse (буквально Он приходит от разбивания чашки) значит что-то вроде: «<Смотрите под ноги, кругом осколки!> Он только что разбил чашку»; Il va casser la tasse (то есть, Он идёт разбить чашку) — что-то вроде: «<Держите его>, сейчас он разобьёт чашку!»
Конечно, по-русски французские конструкции с «идти» и «приходить» выглядят несколько громоздко, но, между прочим, мы с вами в довольно похожих ситуациях употребляем выражения типа: Всё идёт к тому, чтобы… — или: Вышло так, что… Правда, в таких случаях речь вовсе не обязательно идёт именно о ближайшем будущем или недавнем прошлом, но, тем не менее, такого рода выражения в нашем с вами, русском, языке в какой-то степени помогают нам понять «логику» французского, — например, почему в подобных случаях он выбирает эти, а не какие-то другие глаголы.
Больше всего знамениты своей способностью выражать разные временные дистанции языки банту, особенно те из них, на которых говорят в Экваториальной Африке (в Заире, Кении и других странах). Там глагол имеет не одну, а несколько разных форм (главным образом в прошедшем времени — прошедшее вообще в языках оказывается важнее и значительнее будущего) в зависимости от временной дистанции. Например, глагол может иметь разные окончания в зависимости от того, произошло ли событие:
— только что,
— несколько дней назад,
— около месяца назад,
— очень давно (например, много лет назад), — да и это ещё не предел возможного для языков банту…
Вид — самая главная глагольная категория. Если в языке глагол имеет хоть какие-то грамматические формы, среди них обязательно есть видовые. С другой стороны, вид глагола тем или иным способом выражается, как кажется, абсолютно во всех языках. Даже в таких языках «без грамматики» (подробнее о них мы поговорим позже, в последнем разделе этой главы), как креольские или китайский, есть способы выразить вид глагола — таким образом, ни один язык без вида не обходится. Если бы мы пытались объяснить это обстоятельство, то в конце концов, наверное, сочли бы его вполне естественным. Действительно, ведь что такое «вид»? Вид — это как бы способ смотреть на ситуацию, способ «увидеть» её. Когда мы смотрим на какой-нибудь предмет (особенно если он большой или сложно устроенный), мы не можем сразу охватить его взглядом, поэтому мы обсуждаем его «вид спереди», «вид сзади», «вид сбоку» и т. д. Также и ситуация — обычно она, так сказать, «не помещается» целиком, в своём полном виде, в нашем предложении, поэтому мы и говорим, что употребляем не глагол, а какую-то из его разных видовых форм.
Конечно, пока что это очень расплывчатое описание того, что такое вид. Но, как всегда бывает, самое существенное и главное в языке (а значит, самое простое и естественное для говорящих на нём людей!) оказывается одновременно и самым сложным с точки зрения той науки, которая язык описывает, то есть лингвистики. Лингвисты до сих пор спорят, что такое, например, русский вид и какие значения он выражает. А ведь в разных языках значения вида, как правило, ещё и не совпадают (или не полностью совпадают) между собой!
Говоря о разных значениях вида (о разных «видах» вида), удобно вернуться к нашему простому сравнению: вот ситуация и вот мы на неё смотрим. Например, можно смотреть на ситуацию как бы «снаружи», «издалека»: мы наблюдаем её всю сразу, целиком, как обычный предмет, и можем, скажем, посчитать, сколько раз она повторяется, — почти так же, как мы считаем число предметов. Это значение глагольного вида очень близко к значению числа. В русском языке оно тоже встречается, — например, в таких довольно редких формах, как хаживал (то есть «приводил время от времени, много раз»), сиживал (= «сидел время от времени, много раз»). В других славянских языках (например, в чешском) такие формы «повторяющегося вида» у глаголов распространены больше. Зато в русском языке можно встретить видовые формы, выражающие не простую, а «ослабленную» повторяемость, — например, позванивать, почитывать. Ведь позванивать означает не просто «звонить несколько раз» — это значит «звонить время от времени, но не очень регулярно и не очень часто». Более «обычная», «стандартная» повторяемость в русском языке специального выражения не имеет.
Но таких языков, в которых простая повторяемость выражается особыми глагольными формами, в мире тоже немало. Например, в эскимосском языке повторяемость (частая или регулярная) — это очень характерное значение глагольного вида, так что, прежде чем перевести на свой язык, даже самые обычные русские предложения типа:
Я купаюсь в озере
или
Я пасу оленей
— эскимос должен уточнить («Прямо сейчас купаюсь/пасу — или время от времени, иногда?»), и, в случае если это действие тем или иным способом повторяется, он обязательно выберет специальную форму глагольного вида.
Ситуация может повторяться не полностью — например, одно и то же событие может происходить каждый раз с новыми участниками. Такая повторяемость значительно дальше от простого множественного числа, пересчитывающего одинаковые предметы. Мы говорим:
Слон перебил всю посуду в лавке
— или:
Когда он вошёл, все стаканы попадали с полки,
— как бы считая, что одно и то же действие произошло последовательно с разными объектами: они стали падать или разбиваться один за другим. Тем самым в этом смысле ситуация с точки зрения языка всё-таки повторилась, и то, что она повторилась, выражено в специальной форме глагола. В русском языке это прежде всего формы с приставками пере− и по-, они очень распространены, и вообще это значение вида (этот тип повторяемости ситуации) очень характерно для славянских языков.
Продолжим рассматривать «вид ситуации снаружи». Здесь может быть ещё одно очень важное различие, которое лингвисты называют различием актуальных и неактуальных ситуаций. При этом имеется в виду, в общем, очень простая вещь: любая ситуация (например, смеяться) актуальна, если она имеет место в строго определённый момент или промежуток времени. Про такую ситуацию мы, естественно, можем сказать, когда именно она происходила (не обязательно указывая точное время по часам и минутам, но всё же соотнося её с каким-то вполне определённым временем). Например, актуальны будут такие ситуации:
Смотри, вот сейчас он опять смеётся;
Вчера я проходил мимо его комнаты и слышал, как он смеялся.
С другой стороны, если ситуация не актуальна, то это значит, что она существует не сейчас, не в данную минуту и не существовала вчера — она как бы существует «вообще». Мы не можем точно указать, из чего и как она складывается (может быть, из многих мелких актуальных фактов), но в результате получается, что мы всё-таки знаем, что она существует. Например, мы можем сказать:
Я хорошо его знаю — он не плачет по таким пустякам;
Когда у человека горе — он плачет.
Эти ситуации неактуальны — мы не можем, например, услышав такие предложения, спросить: «Когда (не) плачет?» Единственный ответ, который можно дать на такой странный вопрос, — это «Как „когда“? Ну просто — вообще». Вот неактуальные ситуации — это и есть такие вообще-ситуации, всегда-ситуации. Их в нашей жизни бывает довольно много: в частности, когда мы говорим о чьих-то свойствах, привычках, отличительных признаках, мы, как правило, используем именно неактуальные глаголы.
Интересно, что есть ситуации, которые можно понять только актуально, а есть такие, которые допускают только неактуальное понимание. Возьмём такое предложение:
Лиза пишет диктант.
Скорее всего оно значит, что Лиза пишет диктант сейчас, в данный момент, то есть актуально. С другой стороны, если мы скажем:
Лиза пишет книгу,
— то, в отличие от предыдущего случая, это совершенно не обязательно будет значить, что Лиза пишет книгу именно сию секунду: книга — не письмо и не записка, её «одним духом» не напишешь, так что скорее всего наше предложение значит, что Лиза вообще (то есть неактуально) занята тем, что сочиняет книгу. Ну а если мы скажем так:
Лиза пишет книги,
— то в этом случае, понятно, актуальное осмысление становится почти невероятным. Ведь нельзя же, в самом деле, представлять себе, что Лиза, как Юлий Цезарь, склонилась над столом (хотя во времена Юлия Цезаря столов не было, но это я так, к слову) и одновременно пишет сразу несколько книг, пока мы за ней незаметно наблюдаем. Нет, конечно, когда так говорят, мы представляем себе совсем другое: мы понимаем, что Лиза — это известный писатель, она занята тем, что пишет книги, это её профессия — «вообще». А что она делала при этом вчера или делает сейчас — мы не знаем и не можем знать. Это наше незнание, надо сказать, очень характерно для неактуальных ситуаций. Почему? Очень просто — ведь общий смысл таких «неактуальных» ситуаций обычно никак не связан с тем, что именно человек делает в тот или иной конкретный, актуальный период времени. Если в ситуации «Лиза пишет диктант» мы легко представляем себе, что конкретно происходит: вот Лиза пишет слово, пишет другое, потом ставит запятую и т. д., то ситуация «Лиза пишет книги» настолько далека от какого-то конкретного момента, её «вид» так обобщён в нашем сознании, что трудно даже вообразить, чем именно занимается сейчас наша писательница — может быть, как раз сейчас она пишет, а может быть, куда-то идёт и по дороге обдумывает характер главной героини рассказа, может быть, она уснула, и ей снится новый роман, а может быть, она спит без снов — и нам, и языку это не важно, потому что всё равно по поводу Лизиной жизни в целом, оценивая её, так сказать, «с птичьего полёта», мы говорим: «Лиза пишет книги».
Надо сказать, что русскому языку всё это значительно более безразлично, чем многим другим языкам: ведь в русском языке и в актуальном, и в неактуальном употреблениях мы используем одну и ту же форму глагола: форму несовершенного вида настоящего времени (пишет, читает). Совсем иное дело в английском языке: там в зависимости от актуального или неактуального понимания выбираются разные видовые формы одного и того же глагола. Самый простой пример: предложение
Не is writing
означает, что он пишет сейчас (то есть актуально), а предложение
Не writes
означает, что он пишет вообще, это его свойство (может быть — умеет писать, может быть — в жизни много пишет и т. п.). Вспомните ещё примеры из любого учебника английского языка: предложение
Не is going to school — «Он <сейчас> идёт в школу»
сравнивается с предложением
Не goes to school — «Он ходит в школу» (то есть «он школьник»).
Первое из них — это актуальное хождение, второе — нет. Заметьте, что в русских переводах мы должны употребить разные глаголы, причём оказывается, что русский глагол ходить действительно чаще всего ведёт себя как неактуальный глагол, в отличие от идти. Конечно, и в английском языке тоже есть глаголы, которые в основном бывают неактуальными, это такие глаголы-свойства. Но для грамматики английского языка это имеет более серьёзные последствия, чем для русской: у английских неактуальных глаголов оказываются невозможными примерно половина форм — это как раз те, которые выражают актуальный вид! Так, от глагола to know «знать» в нормальном случае нельзя образовать форму is knowing: такая форма значила бы что-то вроде «как раз сию секунду он знает», но знание (по крайней мере, с точки зрения английского языка) устроено не так: знание ведь не пиджак, его нельзя то надевать, то снимать; если человек что-то узнал, то он уже в любой момент своей жизни будет (неактуально) знать это, это стало его свойством. Конечно, можно забыть то, что ты знал, но, между прочим, от человека это совершенно не зависит: нельзя ничего забыть нарочно, как бы нам этого иногда ни хотелось.
Вы видите, что актуальность и неактуальность — очень своеобразные видовые значения. Для тех, чей родной язык — русский, они, пожалуй, немного непривычны, но, вообще-то, это значения довольно типичные: кроме английского они присутствуют и во многих других распространённых языках мира, — например, в испанском или в тюркских.
До сих пор мы говорили только о таком взгляде на ситуацию, когда мы должны были немного отстраняться от ситуации и смотреть на неё издалека — чтобы определить, сколько раз она возникает или насколько она привязана к конкретному промежутку времени. Но есть и другой очень важный способ оценивать ситуацию, к которому мы сейчас и переходим. Этот способ предполагает, что говорящий не отстраняется от ситуации, а, наоборот, как бы пытается поместить себя «внутрь» неё, с тем чтобы выделить не всю ситуацию, а какую-то её часть, наиболее для говорящего важную. И вместо вопроса «Одна ситуация или несколько?», чтобы правильно выбрать форму такого «внутреннего» вида, говорящий будет задавать другие вопросы: «Вся ситуация или её часть?»; «Начало ситуации, середина или конец?».
Но для этого прежде всего необходимо, чтобы сама ситуация была устроена «удобно» — иными словами, ситуация должна продолжаться достаточно долго, чтобы у неё можно было различить начало, середину и конец. Между тем далеко не все ситуации в жизни устроены так. Точно так же, как раньше мы видели, что бывают преимущественно актуальные и преимущественно неактуальные ситуации (знать, ходить в школу, писать книги), теперь нам предстоит убедиться, что бывают, так сказать, ситуации-точки (у которых начало — это одновременно и конец, а середины нет вовсе) и ситуации-отрезки (у которых все эти части есть). Типичная ситуация-точка представлена в предложении:
Шар лопнул.
Действительно, о какой тут середине может идти речь, если, как говорится, и оглянуться не успеешь, как вместо шара у тебя в руках уже неизвестно что… Такую ситуацию-точку никак нельзя растянуть, сколько ни старайся. Но вот ситуацию-отрезок в принципе можно «сжать» до точки. Например, мы можем сказать:
Александр Македонский взял Афины.
На самом деле, конечно, такое событие (штурм и взятие целого города) не происходит мгновенно — оно может занимать даже многие месяцы. Но когда мы говорим взял — для нас это не важно, мы как бы соглашаемся забыть о том, что у взятия города было начало и был конец, мы «сжали» его до точки, которую теперь можем поместить в один ряд с другими такими же «сжатыми» точками. Этот ряд, например, очень естественно может образовать рассказ об истории Афин: в таком-то году город был построен (тоже дело долгое, а для нас — точка), в таком-то — стал столицей, тогда-то — участвовал в войне с персами… и, наконец, был взят Александром, с чего мы и начали. Много-много точек, и каждый раз нас интересует только одно: было или не было? Если было, мы ещё можем спросить, когда было, и указать дату или момент события в ряду других.
Во многих языках глаголы требуют в таком случае форм особого вида. Этот вид обычно так и называется — точечным. Есть у него ещё одно красивое греческое название — аорист.
В русском языке точечных форм «в чистом виде» нет (хотя такие глагольные формы, как взял, неплохо передают именно это значение — правда, не всегда). Но если мы опять-таки обратимся к английскому языку, то увидим, что точечный вид передаётся там так называемыми «простыми формами» (серии indefinite, как пишут сами англичане в своих грамматиках). Например, глагол «петь» в простой форме (прошедшего времени — собственно, именно прошедшее время здесь не обязательно, но по смыслу, пожалуй, наиболее уместно) выглядит так:
Lisa sang.
Что значит это предложение? На русский язык его не так-то просто перевести. Здесь возможно несколько вариантов: «Лиза спела» (допела до конца и больше петь не будет); «Лиза попела» (пела, а потом перестала — но, может быть, ещё споёт); наконец, «Лиза пела» (например, если я записываю в дневнике:
«28 июля. Был в гостях у Марины Анатольевны. Познакомился с Чарльзом Диккенсом и знаменитой певицей Лизой. Лиза пела. У неё чудесный голос»).
То общее, что объединяет все эти переводы, — идея представления события как точки в прошлом, в ряду других событий.
Итак, с ситуациями-точками (и со «сжатыми» до точки ситуациями) мы более или менее разобрались. А как могут выглядеть ситуации-отрезки?
Если ситуация предстаёт перед нами не «сжатой», а, наоборот, «растянутой», то нам легко «разглядеть» в ней начало, середину и конец. И вид глагола оказывается таким прожектором, который высвечивает нам эти фрагменты ситуации. Три основных значения, которые он при этом может приобретать, — это значения начинательности, длительности и завершённости (законченности).
Значение начинательности хорошо известно говорящим на русском и других славянских языках — украинском, польском, чешском, болгарском и др. Специальные формы глаголов, такие, как запел (от пел), замолчал (от молчал), пошёл (от шёл) и под., обозначают как раз начало ситуации. О том, что было дальше, при этом говорящий не сообщает — его «прожектор» сфокусирован только на начале, на том моменте, когда происходит переход от «события не было» к «событие есть».
Чаще всего в языках особыми видовыми формами передаётся значение длительности. Оно соответствует положению наблюдателя как бы «внутри» ситуации: в тот момент, когда мы о ней говорим, ситуация длится; иными словами, она началась раньше и закончится позже этого момента. Наш воображаемый прожектор направлен в обе стороны длинного тоннеля, и лучи его постепенно гаснут в темноте.
Интересное значение вида, которое можно было бы назвать «продолжательность», есть в дагестанских языках: там особая форма вида глагола — например, глагола со значением «работать», или «гулять», или «петь» и т. д. — выражает смысл «Он всё ещё работает (гуляет, поёт и т. д.)». Кстати, похожее значение в английском передаётся особым вспомогательным глаголом to keep (который вообще-то значит «держать»): предложение Lisa keeps working (буквально — «Лиза держит работу») как раз и означает «Лиза продолжает работать, не бросает работы» (между прочим, русское «не бросать» — это почти то же, что «держать», не правда ли?).
Обычно длительность противопоставлена завершённости (законченности) действия. В русском языке — где это противопоставление тоже есть — она отразилась даже в названиях видов: «несовершенный» (то есть описывающий длящееся — как бы незавершённое — действие) и «совершенный» (описывающий действие недлящееся). Сравним такую пару предложений:
Поезд медленно останавливался, приближаясь к станции;
Поезд подошёл к станции и остановился.
Несовершенный вид в первом предложении говорит о том, что действие длится: поезд начал останавливаться некоторое время назад и ещё продолжает двигаться, замедляясь. Во втором предложении ясно сказано, что ситуация «останавливаться» исчерпана: поезд уже остановился, больше движение продолжаться не может.
Конечно, русский совершенный и несовершенный вид устроены гораздо сложнее, чем здесь сказано. Оба они выражают и много других значений — этих значений так много, что лингвисты даже спорят друг с другом по поводу некоторых из них. Но основу русского вида всё-таки, пожалуй, составляют пары, похожие на те, что только что были приведены: несовершенный вид показывает нам середину без начала и конца, а совершенный — обычно конец ситуации или просто ситуацию-точку, которая не может длиться.
Длительность, конечно, выражается особым образом не только в славянских языках. В грамматиках французского, итальянского, испанского и других романских языков обязательно упоминается особая глагольная форма — имперфект. По сути дела, это не что иное, как длительный вид, но с некоторыми особенностями. Одной из них является то, что романский имперфект возможен только в прошедшем времени — а, например, в будущем времени эти языки не дают возможность выразить видовой характер ситуации. В русском языке мы можем свободно сказать в будущем времени и Поезд остановится (совершенный вид), и Поезд будет останавливаться (несовершенный вид). Правда, и в русском языке не все времена так снисходительно относятся к обоим видам. В настоящем времени совершенный вид оказывается невозможен: мы можем сказать только поезд останавливается (в несовершенном виде), а все попытки превратить останавливаться в остановиться неизбежно приведут к тому, что мы будем вынуждены поменять настоящее время либо на прошедшее, либо на будущее (попробуйте сами!). Попробовали? Ну, теперь вам уже, наверно, кажется не таким странным и то, что во французском особая форма для длящихся ситуаций возможна только в прошедшем времени. Зато в английском языке длительность выражается в любом времени: эти формы относятся в английских грамматиках к серии «continuous», нам уже приходилось о них говорить и раньше (поскольку длительные формы обычно соотносятся в английском с актуальными ситуациями).
Английский среди других европейских языков оказывается наиболее богатым видовыми формами. К простому («точечному») и «длительному» виду добавляются ещё формы перфекта. Перфект — это особый вид, противопоставленный и точечному, и длительному; он, с одной стороны, выражает тот факт, что действие завершилось в прошлом (и в этом отношении он немного похож на точечный), а с другой стороны, перфект утверждает, что последствия этого действия ещё существуют и в момент речи (и тут перфект отчасти сближается с длительным видом). Помните, как мы разбирали английский пример с написанным письмом: I've written the letter? Так мог сказать человек, который только что написал письмо (действие совершено), но ещё не успел отправить (даже, может быть, не успел положить его в конверт), так что результат действия писать (в виде написанного письма) в настоящий момент налицо. Так ведут себя «идеальные» глаголы в перфекте.
К сожалению, не всё в языках устроено так просто, особенно когда дело касается вида. Здесь многое (и в английском, и в русском языке) зависит от конкретных глаголов. Мы уже обращали на это внимание: одним глаголам нравится изображать точечные ситуации (и они не принимают показателей неточечных видов), другим глаголам — неактуальные ситуации. А бывает и так, что глагол принимает форму какого-нибудь вида, но настолько приспосабливает её к своим собственным потребностям, что первоначальное значение этого вида и узнать трудно. Возьмём, например, такое русское предложение:
Вот уже четыре года я живу в Африке.
Оно явным образом выражает длительную ситуацию, однако, если мы захотим перевести его на английский язык в длительном виде, это будет ошибка. На самом деле по-английски здесь нужно употребить перфект, который по своему основному значению («достигнутый результат»), казалось бы, не имеет к нашему предложению отношения. Тем не менее англичанин скажет именно так:
I’ve lived in Africa for four years.
Более того, даже мысль «Я (давно) это знаю» можно выразить в английском языке с помощью перфекта:
I've known it.
Как же такое оказалось возможно? Всё дело в том, что основное значение перфекта к этим глаголам вообще не подходит: ведь не у всякой ситуации может быть результат. И жить, и знать описывают нечто постоянное — процесс или положение дел, которые результата не имеют. Это отличает их от тех ситуаций, которые обязательно предполагают движение к какому-то результату: например, если мы читаем книгу или рисуем домик, то чем больше проходит времени, тем ближе мы к концу, к завершению этого действия.
Когда видовая форма не имеет возможности выражать своё основное значение, ей приходится как-то менять своё значение, приспосабливаясь к конкретному глаголу. Так происходит и с перфектом. У глагола «знать» нет результата, так что, когда мы употребляем его в перфекте, нам приходится «подгонять» значение перфекта к этому глаголу, — например, считать, что «знать» — это в каком-то смысле одновременно и ситуация, и её результат, так что I've known можно понять и как «Я знаю <сейчас, до сих пор> — в результате того, что я знал это раньше». Интересно, что по-русски мы иногда выражаемся очень похожим образом: Я всегда это знал — не правда ли, это значит и то, что я знаю это до сих пор? Нечто похожее происходит в русском языке с употреблениями обоих видов. Сложных случаев здесь много, но мы приведём только один пример. Мы уже знаем, что несовершенный вид должен выражать длительное нерезультативное значение. Нередко, однако, глаголы в несовершенном виде не обозначают ни длительности, ни незавершённости, а обозначают то же самое, что и в совершенном виде, то есть достигнутый результат. Например, скажем ли мы:
Я уже прочитал эту книгу
— или:
Я уже читал эту книгу,
— в обоих случаях мы понимаем, что книга уже прочитана, то есть результат достигнут. Получается, что в этом случае несовершенный вид уже не может выражать своё «идеальное» значение незаконченности, и различие между формами совершенного и несовершенного вида как бы вынужденно меняется, становится более сложным. Кстати, не так просто определить, во что это различие превращается. Даже нам, говорящим по-русски, и то не сразу ясно, какая разница между Я уже читал и Я уже прочитал. Но всё же разница здесь есть. Когда человек говорит Я уже прочитал, это значит, что известно, что он начал читать и уже какое-то время читал книгу; утверждается, что чтение закончено. Когда человек говорит Я уже читал, его собеседнику заранее ничего не известно — неизвестно (да и не важно), начинал он читать или нет.
Чтобы это стало яснее, рассмотрим такую ситуацию. Вы вдвоём с приятелем читаете эту книгу — переворачивая страницу за страницей. Прежде чем один из вас перевернёт страницу, он, естественно, спрашивает у другого:
Прочитал?
В этом случае как-то нелепо будет выглядеть вопрос:
Ты читал?
Ведь и так ясно, что ваш собеседник читает, нужно узнать только одно — насколько далеко он продвинулся в своём чтении. И наоборот, если вы показываете приятелю какую-то новую (по крайней мере, новую для вас) книгу, то совершенно естественно сказать при этом:
А это у меня «Дочь Монтесумы». Читал?
Ваш приятель скажет, что он не читал, и вы дадите ему почитать. Через некоторое время, встретив его, вы поинтересуетесь уже по-другому:
Ну как «Дочь Монтесумы?» Прочитал?
Сказать читал здесь будет уже неуместно. Таким образом, всякий раз форма типа прочитал заставляла нас проникать внутрь ситуации и разбираться в её внутренней структуре глубже, чем форма типа читал. Вот какое неожиданное и сложное различие может быть связано с русскими видами. И, добавим, различие очень редкое. Французский язык, например, не сможет различить эти две ситуации, француз в обоих случаях скажет одинаково: J'ai lu, что будет означать и «Я читал», и «Я прочитал». Даже в соседних славянских языках могут возникать трудности с переводом этих двух русских предложений.
Поэтому и считается, что вид — одна из самых главных трудностей при изучении иностранного языка, и ошибок, например, при употреблении русского вида даже самому искушённому в русском языке иностранцу избежать очень трудно.
До сих пор мы говорили о том, как глагольные категории описывают разного рода особенности ситуаций, совершенно упуская из виду, что ведь это не глагол сам по себе, а человек описывает ситуацию! Просто говорящий может из скромности делать вид, что его как бы не существует, он описывает действительность «как она есть». Но ведь человек вполне может и заявить о своём присутствии — и язык даёт ему для этого самые подходящие средства. Мы можем говорить о нашем отношении к тому, что происходит. Например, одно дело — просто сказать:
Пошёл дождь,
— это мы описали реальное событие. Совсем другое дело — сказать что-то вроде:
Эх, пошёл бы дождь!
В этом случае дождя нет, но мы хотим, чтобы он был, и наше желание в предложении специальным образом выражено. Категорию, которая «помогла» нам это сделать, древние грамматики называли модус, то есть «способ думать о ситуации», «отношение говорящего к ситуации». На русский язык это слово было переведено как наклонение — то, как говорящий скло́нен (или, как в старину говорили, наклонён) представлять себе ситуацию, что он о ней думает. А что он может думать?
Например, может ничего не думать. Это нейтральное, «никакое» — или, как его называют в грамматиках, изъявительное наклонение. Это самое скромное наклонение просто описывает реальное событие — и больше ничего.
Может оказаться, что событие, о котором идёт речь, на самом деле не имеет отношения к реальности; говорящий может только предполагать, что оно когда-нибудь произойдёт:
Если бы ночью светило солнце, а зимой распускались цветы…
Это ирреальное наклонение; в нашем русском примере оно выражено частицей бы, которая сочетается с формами прошедшего времени глаголов (в этом случае, конечно, они уже не имеют прямого отношения к идее прошлого).
Предположив существование какого-нибудь нереального события, мы можем рассуждать дальше: что произойдёт при таком условии? Во многих языках нам для этого понадобится особое условное наклонение:
Если бы Кролик
Был покрупнее,
Если бы Тигра
Был посмирнее,
Глупые игры
Нашего Тигры
Кролика бы
Не смущали нисколько…
В русском языке, как легко видеть, способ выражения ирреального и условного наклонений совпадает: это всё та же частица бы. Но, например, во французском языке мы должны будем во втором случае употребить форму особого условного наклонения, которое называется кондиционалис (а по-французски — conditionnel).
Но может быть и так, что сейчас события нет, а говорящий хочет, чтобы оно произошло. Что говорящему делать? Вообще-то, у него есть два пути. Он может «просто» хотеть — так сказать, пассивно; в крайнем случае, он может сообщить об этом своём желании вслух:
О, если бы кто-нибудь принёс мне аленький цветочек…;
Ах, хорошо бы сейчас искупаться в Чёрном море!
Это тоже будет (точнее, может быть) особое наклонение — оно называется оптатив. В русском языке, правда, такого особого наклонения нет — русский язык и тут не отказался от своей любимой частицы бы. Зато полноценный оптатив имелся в древнегреческом языке и в санскрите.
Другой вариант — говорящий хочет активно, то есть не только хочет и сообщает об этом, но и пытается одновременно заставить (или уговорить) кого-то исполнить его желание:
О дайте, дайте мне свободу…;
Опустите, пожалуйста, синие шторы!;
Не могли бы вы написать мне на память испанский сонет?;
Стоять смирно!
Как видите, способы, которые есть в этом втором случае в распоряжении говорящего, довольно разнообразны. И всё же обычно в языках мира для этого используется одно главное наклонение — догадались ли вы какое? Конечно, речь идёт о повелительном наклонении (оно же называется императив). Императив существует почти во всех языках мира, причём часто для выражения этого значения используется самая простая, исходная форма глагола (безо всяких суффиксов или приставок). Бывают языки, в которых различается сразу несколько императивов: например, вежливый и не очень вежливый, или «мягкий» и «категорический». Представляете, как удобно говорящим на таком языке родителям — вместо того чтобы произносить длинную фразу вроде:
Категорически в последний раз предупреждаю: немедленно безо всяких разговоров иди домой!
— им достаточно только поставить глагол «идти» в форму категорического императива — и эффект будет тот же самый (если будет).
В русском языке (в отличие, например, от японского или монгольского) таких особых наклонений нет, но из наших примеров вы могли заметить, что в русском языке существуют и более сложные формы для выражения просьб и требований. Это могут быть опять-таки формы с частицей бы (в этом случае они выражают особую вежливость: не могли бы вы… не были ли бы вы так любезны…), а могут быть, например, и формы инфинитива (молчать! — чем не категорический императив?)
Далее, говорящий может не знать точно, произошло событие или нет, и выражать сомнение по этому поводу — с помощью специального «сомневательного» наклонения. В русском языке мы и в этих случаях почти всегда используем нашу универсальную частицу бы, например:
Будто бы снег идёт?
или
— Вам понятно? — Как будто бы понятно…
Зато во многих языках мира такие случаи не только обозначаются с помощью особого наклонения, но иногда ещё и различаются причины, по которым говорящий сомневается. Особенно интересно, что бывают языки, которые обязательно заставляют говорящего сообщать, откуда он знает то, о чём он говорит.
Например, если сам он не видел, как происходило событие, то, может быть, он слышал об этом от других. Говорящие по-русски для того, чтобы выразить этот смысл, используют специальные частицы: мол, дескать, де:
…И царицу в тот же час
В бочку с сыном посадили,
Засмолили, покатили
И пустили в Окиян —
Так велел-де царь Салтан.
В болгарском же языке в подобных случаях используют особое «пересказывательное» наклонение.
Другая возможная причина неуверенности и сомнений говорящего: он только слышал, но не видел, как нечто произошло. Для выражения этого тоже может иметься особое наклонение глагола; такое «слышательное» наклонение есть, например, в ненецком языке. Ненец сидит внутри своего жилища, и дождь барабанит по крыше. Он говорит своему собеседнику-ненцу:
Дождь, слышь, идёт!
— но при этом смысл, который мы по-русски передали отдельным словечком слышь, в ненецком языке «встроен» в форму глагола, потому что он выражается с помощью особого наклонения.
Наконец, в некоторых языках американских индейцев наклонение используется в ещё более необычной ситуации: для обозначения события, которое можно «вычислить», логически рассуждая.
Вот идёт отряд индейцев, преследуя своих врагов, и вдруг один из индейцев видит в глубине леса, среди деревьев, следы костра. Он обращается к вождю и говорит:
Похоже, они прошли здесь неделю назад.
Впрочем, это мы с вами сказали бы так, а индеец, конечно, скажет это по-другому. Сейчас нам важно, что он сказал бы не только что-нибудь вроде одну луну вспять вместо неделю назад; самое главное, что вместо двух слов — похоже и прошли — он сказал бы одно: похоже-прошли, то есть к глаголу «пройти» он присоединил бы показатель такого необычного для нас «вычислительного» наклонения.
Как видим, языки необыкновенно разнообразны и изобретательны в этой области: если попытаться собрать все возможные значения категории наклонения в языке, их число окажется довольно велико — что-то около десятка. Но в конкретном языке — русском, французском, английском и т. п. — разных наклонений, как правило, не больше трёх-пяти. Дело в том, что многие, вообще говоря, различающиеся в языках значения оказываются «склеены» в одно. Именно так устроено, например, русское «сослагательное» наклонение (то есть наклонение с частицей бы) — оно выражает и условие, и желательность, и нереальность, и многое другое одновременно, то есть формы сослагательного наклонения глагола употребляются во всех этих (как мы убедились, разных) случаях. Следовательно, русский язык как бы «не видит» между ними различий; он выделяет реальное событие (изъявительное наклонение), побуждение к совершению действия (повелительное) и остальное — то есть всё нереальное, сомнительное, условное. Такое противопоставление встречается в языках довольно часто. Правда, наряду с языками типа русского известны и языки, которые организуют систему наклонений очень дробно: к таким языкам относятся многие языки индейцев или многие языки уральских народов, живущих на севере России (о ненецком языке мы уже говорили, близки к нему в этом отношении и такие, например, языки, как нганасанский и селькупский).
Мы рассмотрели далеко не все, а только самые основные и распространённые грамматические категории существительного и глагола. В большинстве языков к этим категориям добавляются ещё многие другие, — например, определённость/неопределённость имени (как в английском, французском и других) или категория лица глагола, как в очень многих языках, и, в частности, в русском (я пиш-у— ты пиш-ешьи т. д.). Есть, однако, и такие языки, где даже те немногие категории, которые мы успели обсудить, — число, род, время — отсутствуют. Представляете — в языке нет времени или числа! Конечно, мы готовы пожалеть говорящих на таком языке: ведь они не виноваты, что им достался такой бедный язык. Но если подумать, окажется, что жалеть нужно… скорее нас с вами.
Действительно, ведь если в языке нет грамматической категории времени, это вовсе не значит, что говорящие на нём не могут ответить на вопрос, когда произошло то или иное событие — до того, как о нём заговорили, или после. Это значит всего лишь, что говорящий не обязан каждый раз, употребляя какой-нибудь глагол, сообщать об этом, — он может делать это только тогда, когда это действительно почему-либо нужно самому говорящему. Как видите, в таком языке будет всего лишь больше свободы, чем у нас с вами: не надо — не говори. Язык с грамматикой можно сравнить с игрой, в которой требуется говорить исключительно в рифму. Так говорить можно, но довольно трудно; говорить без рифм или не обязательно в рифму оказывается, конечно, значительно легче.
Вернёмся к времени. В русском языке, как мы знаем, время грамматическое. Но — только для глагола. В формах имён существительных время грамматически не выражается. Конечно, многие существительные обозначают вещи и предметы, которые существуют «вне времени»: чашка, ложка или стол не связаны с моментом речи. Но ведь среди существительных есть и такие слова, как приезд, встреча, задержка, раздумье и т. п. Они так же, как и соответствующие глаголы (приехать, встретиться, задержаться, раздумывать) обозначают ситуации, протекающие во времени. Тем не менее грамматических средств, чтобы это время выразить, в русском языке нет. Но значит ли это, что мы не можем определить или указать время встречи, приезда и т. д.? Ведь мы говорим концерт состоится или состоялся, завтрашняя или вчерашняя встреча, прошлые неудачи, ожидаемые победы, старые раны, бывший тренер команды и многое другое — и во всех этих случаях мы указываем не что иное, как время ситуации. Но указание на время будет, во-первых, не обязательно; вместо:
Вчерашняя встреча с Чарльзом Диккенсом произвела на меня большое впечатление
— можно при желании сказать и просто:
Встреча с Чарльзом Диккенсом произвела на меня большое впечатление,
— ничего не говоря о том, когда она случилась. Во-вторых, время здесь выражено отдельным словом, а не особым показателем в составе существительного.
Таким образом, что такое язык без категории времени, можем легко представить себе даже мы, говорящие на русском языке.
Ещё легче представить себе язык без рода. Собственно, даже в английском языке грамматического рода почти нет: по-английски говорят одинаково — big («большой/большая/большое») или my («мой/моя/моё») и про лиц мужского, и про лиц женского пола, и про неодушевлённые предметы — с любым существительным употребляется одна и та же форма прилагательных или артиклей. «Остатки» рода можно найти в английском языке только у личных местоимений: если пришёл мужчина или мальчик, англичане скажут:
Не came,
— а если пришла женщина или девочка, то скажут:
She came.
Заметьте, что в отличие от русского языка в глаголе род того, кто пришёл, никак не отражается.
Про неодушевлённые предметы, с которыми что-то происходит, говорят it: It happens «Это случилось, произошло» (какое-то событие); It is red «Это красное».
По-русски надо уточнить, что именно красное, чтобы правильно перевести: «Он красный» — если это, например, карандаш или дом, «Она красная» — если это стена или роза, или, может быть, «Оно красное» — если это яблоко или перо.
Вы, наверное, знаете, что it положено обычно говорить и про животных, так что, если русское Он проголодался может относиться и к псу, и к его хозяину, английский язык в таких случаях вполне определённо говорит, о ком идёт речь: если речь о человеке, тогда —
Не is hungry,
— а если о собаке, то только —
It is hungry.
Есть языки, в которых даже личные местоимения не различают рода, — например, армянский язык. И «он», и «она», и «оно» в армянском языке обозначаются одним и тем же словом na. Точно так же устроены персидский, венгерский и тюркские языки — это языки, в которых грамматический род отсутствует полностью. Попробуйте-ка перевести на такой язык, например, заголовок газетной статьи вроде «Он и она» или название французского журнала «Elle» (то есть опять же «Она»)! Впрочем, с точки зрения некоторых языков с пятнадцатью-двадцатью классами и русский язык — очень бедный. Ведь когда сказитель западноафриканского народа фульбе (говорящего на языке фульфульде — помните?) произносит перед своими слушателями такую, например, строчку из баллады о герое прошлых дней:
Он опустил её на землю, он направил её к дому,
— никто не задаёт ему вопросов, всем всё ясно. А мы из буквального русского перевода можем только догадаться, что «он» — это, наверное, и есть герой, о котором идёт речь, но кто же «она»? Слушатели-фульбе это прекрасно понимают: в первом случае «она» — это «нога», во втором случае — «дорога»! Эти слова в языке фульфульде принадлежат к разным классам, и местоимения, соотносящиеся с ними, тоже будут иметь разную форму (первое будет звучать как ngal, а второе — как ngol, и, уверяю вас, фульбе ни за что их не перепутают). Если у вас в языке более двадцати классов, то очень легко бывает обходиться одними местоимениями (ведь сказать «он» тогда можно более чем двадцатью способами!). Русскому языку до такого богатства, понятное дело, далеко.
Язык без падежей, в общем, тоже легко представить: ведь в английском или французском нет падежей, если, конечно, не считать падежей уличных местоимений. Когда по-английски говорят:
Peter gave John a book,
— мы понимаем и переводим это единственным образом: «Питер дал Джону книгу». Значит, мы понимаем, что Питер и Джон — разные действующие лица в этой истории и роли у них разные. Именно это мы и обозначаем в русском языке, когда употребляем имя Питер в именительном падеже, а Джон — в дательном. Англичане эту разницу, конечно, тоже понимают. Ведь если они говорят то же самое, не называя имён, «Он дал ему книгу», то они, как и русские, выбирают разные падежные формы местоимений: Не gave him a book.
Но как же они обходятся без падежей существительных, распределяя роли в предложении? Во-первых, просто догадываются. Ведь в действительности не так уж часто встречаются ситуации, в которых роли можно перепутать. Если у нас предложение с глаголом читать и двумя существительными — девочка и книга, то довольно легко догадаться, кто что читает. Да и кто кого ловит, тоже легко догадаться — помните наше предложение с глаголом ловить и существительными старик, невод, рыба? Не может же, в самом деле, оказаться, что невод ловит рыбу стариком! Так что, если говорить честно, падежи нам не так уж и нужны. Хотя, конечно, бывают трудные случаи, и нам с вами они тоже известны, хотя и говорим мы на языке с падежами. Например, знаменитое предложение (его очень любят лингвисты):
Мать любит дочь.
Здесь два разных падежа, именительный и винительный, но формы их у данных слов совпадают, так что мы оказываемся в точности в положении англичан или французов с их «беспадежными» языками, и причём в абсолютно безнадёжной ситуации, когда угадать, кто кого любит, вообще говоря, никак нельзя. «И всё-таки скорее мать, — подумаем мы, — иначе бы, наверное, было сказано:
Дочь любит мать»,
— то есть слова в этом предложении были бы расставлены по-другому. И такое рассуждение в большой степени верно. Оно не совсем верно для русского языка только потому, что, если бы это предложение было произнесено не обычным способом, а со специальным ударением на первом слове, это значило бы, что понимать его надо наоборот:
Мать любит дочь (то есть «именно мать любима дочерью»).
Но верно, что порядок слов действительно является одной из основных «замен» грамматических падежей. И там, где падежей нет, порядок слов помогает понять соотношение ролей в предложении: сначала главное действующее лицо, потом объект, на который воздействуют, потом инструмент и так далее. В таких языках изменение порядка слов будет означать, что изменились роли у соответствующих «актёров».
Ещё одна область, где падежи «помогают» понимать ситуацию, о которой идёт речь, и где без них действительно приходится трудно, это, как мы уже не раз говорили, обозначение пространственных ориентиров. Например, возьмём предложение из двух слов: идти и дом. Что может иметься в виду? «Идти от дома» или «идти домой», «идти вдоль дома» или «идти мимо дома» и т. д. и т. п.? Здесь, как мы знаем, многие языки используют сложные падежные системы, но большинство — вместо падежей (как английский, французский и другие) или наряду с падежами (как русский) используют специальные слова — предлоги (они предшествуют существительным) или послелоги (они следуют за существительными). Предлоги уточняют не только положение в пространстве: мы говорим с Петей; для мамы; из-за плохой погоды и мн. др. С другой стороны, именно предлог — прежде всего предлог with — позволяет отличить в английском предложении инструмент от объекта:
John is drawing a pencil («Джон рисует карандаш»; карандаш — объект рисования),
но:
John is drawing with a pencil («Джон рисует карандашом»; карандаш — инструмент рисования).
Что касается языков без грамматического числа, то они действительно встречаются реже. Искать такие языки нужно прежде всего в Юго-Восточной Азии — в Китае, Бирме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме; есть они и среди индейских языков Северной Америки. Как же обходится язык без грамматического числа, то есть, например, без того, чтобы, говоря:
В комнате поставили стол(ы),
— не уточнить, один был стол или много? А очень просто — совершенно так же, как мы с вами обходимся, употребляя, например, слово лук. Говорящий по-русски скажет:
Я вижу лук,
— совершенно не заботясь о том, была ли это одна маленькая луковица, корзина лука или целая грядка. Если же ему зачем-либо понадобится уточнить количество лука — ну, например, в кулинарном рецепте, это легко сделать другими средствами, например, так:
«Для приготовления этого восхитительного блюда вам понадобится: моркови — 2 унции, черепахового бульона — 4 пинты, лука — три штуки [или: три небольшие луковицы]…»
Очень похожим образом (добавляя, например, специальные слова при счёте того, что нужно считать) и поступают китайцы, вьетнамцы или индейцы, говорящие на языках без числа. И кажется, ничуть от этого не страдают — скорее наоборот.
Выходит, что без любой грамматической категории язык вполне может обойтись. Пожалуй, исключением из этого правила будет вид. От вида язык никак избавиться не может. Вид есть даже в таких языках, где нет окончаний, приставок и суффиксов, как, например, во вьетнамском. Тогда значение вида выражают специальные слова. В таком языке, например, вместо
Поезд остановился
— скажут что-нибудь вроде
«Железный-конь останавливаться-кончиться»,
вместо
Поезд останавливался —
«Железный-конь останавливаться-длиться»,
а вместо
Поезд останавливался много раз —
«Железный-конь останавливаться-возвращаться».
Специальные глаголы (кончиться, длиться, возвращаться), которые будут использованы вместо показателей вида, — не что иное, как вспомогательные глаголы этих языков. Собственно, английское предложение:
Не used to sing at night,
которое лучше всего перевести на русский как «Он обычно пел по ночам» (а буквально оно значит «Он использовал петь на ночь»), содержит как раз такой вспомогательный «видообразующий» глагол. Между прочим, современный английский язык по своей грамматике вообще довольно сильно похож на китайский (только китайский проще) — лингвисты давно это заметили.
Отличие английского от китайского состоит в том, что в английском есть и другие средства для образования форм вида глагола, а в языках, где таких возможностей нет (они называются изолирующими, в следующей главе мы поговорим о них подробнее), вспомогательные глаголы — это единственный способ обозначить вид (совсем не обозначать его, как вы знаете, языки не могут). Кроме китайского и других языков этого региона так устроены, например, и многие западноафриканские языки, говорящие на которых живут на побережье Гвинейского залива, — из них самый известный, пожалуй, язык йоруба в Нигерии. Это и есть самые «бедные» с точки зрения грамматики языки. И, следовательно, как мы выяснили, самые, если так можно сказать, «демократичные» языки — по своему отношению к говорящим на них людям.
Глава шестая. Сравниваем слова
Итак, мы узнали, для чего служат в языках грамматические формы слов (они же словоформы). В этой главе мы поговорим о том, как устроены слова и как они образуются в разных языках.
Возьмём такое предложение:
Ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет.
Сколько в нём слов? Можно сказать, что семь, — между ними шесть пробелов и в конце стоит точка. А можно сказать, что пять, потому что ошибка, ошибке и ошибкой — это формы одного и того же слова. Такой ответ тоже будет правильным — всё зависит от того, что именно называть словом. Во втором случае нашими пятью словами будут такие: ошибка, сидеть, погонять, на, и.
Мы имеем право сказать, что в нашем предложении есть слово погонять, хотя в точности такого слова мы там не найдём. Мы найдём там только слово погоняет. Но так же точно мы не найдём слова погоняет и в словаре: вместо него надо искать слово погонять.
В чём здесь дело? А дело в том, что само слово «слово» мы понимаем двумя способами. Во-первых, слово — это та цепочка звуков (или букв), которая встречается нам непосредственно в тексте. Слово в тексте называется, как вы помните из начала предыдущей главы, словоформой (а иногда и просто формой); мы называем его так, потому что обычно это лишь одна из многих возможных форм — форм… чего? Тоже слова — но «слова» в другом своём значении. Для этого второго значения лингвисты придумали особый термин — лексема (от греческого léxis — «слово, речь»). Лексема состоит из нескольких (а иногда даже из многих) словоформ. Обычно лексему называют, используя какую-то одну из её словоформ, например, говорят: лексема «ошибка». Эта словоформа называется главной, или основной, или ещё исходной; именно она-то и помещается в словаре на первом месте.
Теперь мы можем совершенно точно сказать, что в нашем предложении — я приведу его ещё раз:
Ошибка на ошибке сидит и ошибкой погоняет —
содержится семь разных словоформ и пять разных лексем.
А вот в строчках Лермонтова:
Волна на волну набегала,
Волна погоняла волну
— содержится тоже семь словоформ, но разных словоформ при этом — всего пять, ведь, например, волна в первой и во второй строчке — это одна и та же словоформа (именительного падежа единственного числа). А разных лексем в этих строчках — всего четыре: (волна, набегать, погонять, на).
У каждой лексемы тем больше словоформ (или просто форм), чем больше в этом языке грамматических категорий. Сколько, например, словоформ у русской лексемы ошибка? Их столько, сколько в русском языке разных падежей, да ещё умножить на два числа — единственное и множественное.
Словарь всякого языка состоит из его лексем (или «лексики», как ещё говорят лингвисты). А много ли бывает слов-лексем в языке? Иными словами, насколько большим должен (или может) быть словарь языка? Чтобы прочесть достаточно простую книгу на иностранном языке и понять в ней каждое слово, нам нужен словарь, в который входит не меньше тридцати тысяч слов — при этом, конечно, самые редкие слова в такой словарь не попадут. Но, может быть, это и не нужно?
Всё зависит от того, как, с кем, о чём вы хотите говорить, какие книги читать.
Во всяком языке есть слова более употребительные и менее употребительные; есть такие, которые можно найти почти в каждом предложении (местоимения, предлоги, союзы, глагол быть), а есть такие, которые могут ни разу не встретиться даже в большой книге. Мы с вами, говоря по-русски, то и дело употребляем такие слова, как он, такой, в, на, не, и, очень, и гораздо реже (а может быть, и никогда?) — такое слово, как Минцветметпромстройбанк, хотя и те, и другие, безусловно, — слова русского языка.
Самых, как говорят лингвисты, частотных слов в языке не так много — около тысячи; для повседневного общения человеку нужно побольше — приблизительно восемь-двенадцать тысяч слов, но, конечно, чем больше слов человек употребляет в своей речи (иначе говоря: чем больше его словарный запас), тем интереснее его слушать, потому что говорит он тогда разнообразнее, необычнее и выразительнее. А ещё есть писатели, которые, как говорят, обладают «даром слова», и их речь, конечно, много богаче обыденного языка. Полный словарь развитого современного языка (английского, французского, русского и под.) обязательно должен включать ещё специальную, профессиональную лексику, то есть по крайней мере самые важные из тех слов, которыми пользуются математики, химики, лингвисты, медики, инженеры, охотники и т. д. А жаргоны, а разговорные словечки, принятые среди студентов, школьников, военных, музыкантов, хиппи? Ведь это тоже русский язык, пусть и в несколько непривычном для нас облике.
В одну книжку словаря вся эта лексика не поместится (хотя, как вы, наверное, знаете, многие словари — это, пожалуй, самые толстые книги, если, конечно, не считать энциклопедий; впрочем, энциклопедии — тоже в каком-то смысле словари. Только в словарях приводят те свойства слов, которые дают возможность понимать обычные тексты на этом языке, а в энциклопедиях объясняют, что значит это слово в языке науки. Именно поэтому наряду с обычными словарями существуют словари специальные, словари терминов в разных областях знаний, словари жаргонов и т. д. В самых полных словарях самых богатых современных языков число лексем заведомо превышает сто тысяч. Но язык, как вы уже хорошо знаете, продолжает развиваться и изменяться, ему по-прежнему нужно много слов — и тех, что есть, часто не хватает, поэтому требуются новые.
Итак: откуда берутся новые слова? Иногда, как мы знаем из третьей главы, они заимствуются из других языков, но это происходит далеко не всегда. Чаще всего язык строит новые слова из своих же старых. А как?
Самый простой способ: ничего со словом не делать, а просто использовать его как новое, другое слово. Такой способ нам часто бывает полезен и в жизни. Например, мальчик играет с приятелем в машины. И им не хватает грузовика. Они берут самый обыкновенный кубик и договариваются: пусть это и будет недостающий грузовик. У кубика, конечно, нет колёс или кузова, но в игре это не так важно, ведь его используют, как если бы это был настоящий грузовик; например, кубик движется по полу — значит, он «едет», на него посадили мишку — значит, он его «везёт», и т. д. Так что кубик как бы теряет свои «настоящие» свойства: его больше не используют по назначению (ничего из него не строят, никуда не кладут), — зато приобретает новые.
Этот способ хорош тем, что он — самый экономный; и интересно, что многие языки при изобретении новых слов действуют так же, как мы с грузовиком и кубиком. Есть особенно «экономные» языки, которые этот способ даже предпочитают всем остальным. Например, английский. Скажем, в английском языке есть всем известное слово water «вода». Это неодушевлённое существительное, оно может, как всякое существительное английского языка, быть, например, определённым и иметь при себе артикль the:
the water in the bottle «вода в бутылке».
Оно может употребляться с предлогами: in the water «в воде»; out of the water «из воды» и т. д. Но английский язык может взять и объявить это слово… глаголом. Получится такой новый глагол английского языка — to water. Это новое слово уже не может быть неодушевлённым и не может становиться определённым или неопределённым, оно не употребляется с предлогами или прилагательными. Зато — его можно употребить, как и положено глаголу, в прошедшем или будущем времени:
I watered— или
I shall water;
его можно спрягать (то есть изменять по лицам):
I water, he waters, we water… — или, например, поставить в повелительное наклонение, да ещё в отрицательной форме:
Please, do not water!
При этом с самим словом water ровным счётом ничего не происходит. В точности: взяли кубик, а получился… грузовик. И таким же образом в английском языке можно поступить с очень многими существительными, — например, со словом a hammer «молоток», «молот» или a nail «гвоздь»: получатся глаголы to hammer и to nail. Это будут уже другие слова английского языка, которые и значить будут другое, и, конечно, иначе переводиться на русский язык. И если даже вы не знаете этих слов, вы, наверное, можете догадаться как. Понятно, что to water — это что-то делать с водой, to hammer — что-то делать с молотком, a to nail — с гвоздями. Проще всего догадаться, что значат последние два слова, потому что с молотком и гвоздями делают обычно одну вещь: молотком бьют, поэтому to hammer и значит «стучать, забивать», а гвоздями прикрепляют (втыкая их во что-либо). Значит, to nail a picture на русский язык следовало бы перевести как «прибить картину (гвоздями)»; вообще-то, в русском языке есть даже специальный глагол пригвоздить, но почему-то он по-русски не значит «прибить гвоздями» — он значит, например, «остановить на месте — как бы крепко прибив гвоздями» (мы можем сказать Он пригвоздил меня взглядом, но не говорим Пригвозди-ка эту доску молотком, а то она плохо держится).
Чуть труднее с переводом слова to water, ведь воду мы используем самыми разными способами: пьём её, купаемся и плаваем в ней, моем и стираем ею — и всё это, вообще говоря, могло бы значить to water. Могло бы значить — но, оказывается, не значит: для глагола to water английский язык выбрал другое употребление — «смачивать; поливать» (тоже, конечно, возможное). Так что предложение:
Please, do not water our garden
— значит «Пожалуйста, не поливай наш огород».
Понятно, что не каждое слово в языке можно просто так взять и превратить в другое слово и не про каждое превращённое слово сразу ясно, что оно будет означать. Это и есть главная проблема для тех, кто изучает такой «экономный» язык, как английский. А лингвисты для такого способа получения новых слов придумали особое название: конверсия (это слово в переводе с латинского и означает «превращение»).
Если в английском конверсия для образования новых слов применяется, можно сказать, почти на каждом шагу, то в других языках дело может обстоять совсем иначе. В русском, например, конверсия — не такой уж частый приём. Правда, в одном случае русский язык использует её очень охотно — когда ему нужно прилагательное превратить в существительное. Ведь если в русском языке, например, существительное становится глаголом, то с ним обязательно что-нибудь происходит, или спереди, или сзади к нему что-нибудь присоединяется (как в парах чай — чаёвничать или дракон — раздраконить). А вот с прилагательными не происходит ничего. Посмотрите сами:
Золотой купол дворца Рейнфилла Первого был издалека виден каждому, кто вступал во владения короля Эндоры. — Буратино зарыл под деревом один золотой.
В первом случае слово золотой — прилагательное, во втором случае то же слово — существительное, которое обозначает золотую монету. Мы понимаем это только потому, что у этого слова другие соседи и ведёт оно себя так, как положено в русском языке существительному, а не прилагательному, вот и всё.
В русском языке есть много других способов образовывать новые слова, но они по сути своей очень отличаются от английской конверсии.
3. Новые слова — из старых частей
Дело в том, что в русском, как и во многих других языках мира, слова делятся на части, которые тоже что-то значат сами по себе, и такие значимые части слов лингвисты обычно называют морфемами. Слов (лексем) в языке, как вы помните, много (их число измеряется десятками тысяч), а морфем — немного (их число измеряется всего лишь сотнями или тысячами). Язык устроен экономно: из одних и тех же морфем он строит разные слова. Слова, таким образом, можно представлять себе как поезда с вагончиками — комбинируя разные вагончики, можно составлять разные поезда (недаром ведь железнодорожники называют поезда составами!). Главная часть поезда, конечно, паровоз: он везёт всё остальное, то есть вагоны, и без него поезд — не поезд, потому что ехать он никуда не может; паровоз же может ехать в любую сторону, прекрасно обходясь и без вагонов. И в слове тоже есть главная часть: это корень. Корень может составлять слово и один, сам по себе, а может — в сочетании с другими морфемами (их принято называть аффиксами); зато слов без корня, из одних только аффиксов, вообще говоря, не бывает. Это общее свойство разных языков мира. А вот присоединяются аффиксальные морфемы к корню в разных языках по-разному: здесь языки довольно сильно различаются, и их можно сравнивать, причём сравнивать их интересно сразу в двух отношениях:
— как ведут себя морфемы по отношению к корню
и
— как ведут себя морфемы по отношению друг к другу.
4. О порядке морфем, поездах, вагонах, буферах и прочем
Начнём с первой проблемы: как ведут себя морфемы по отношению к корню. Есть корень и другие морфемы — или, пользуясь нашим с вами сравнением, — паровоз и его вагончики. Как они могут располагаться друг относительно друга? Самый простой способ: паровоз, а за ним вагончики, но можно и наоборот: сначала вагончики, а потом паровоз, который их как бы толкает сзади. При образовании слов в языках мира используются оба способа, так что слова могут быть похожи и на паровоз с прицепленными к нему сзади вагонами, и на паровоз, толкающий их впереди себя. Правда, если один и тот же вагон поезда можно при необходимости в одних случаях везти, а в других — толкать, то морфемы в языке распределены очень строго: есть такие, которые могут стоять только перед корнем, и есть, наоборот, следующие за корнем. Морфемы этих двух групп никогда ни в одном языке не совпадают, как если бы у нас были, скажем, как в старину, вагоны первого и второго класса — жёлтые и синие, причём жёлтые присоединялись бы к паровозу только спереди, а синие — исключительно сзади. И раз уж эти морфемы различаются по своему положению относительно корня, лингвистам удобно и называть их по-разному, так что первый тип морфем, как вы, наверное, знаете из школьных учебников, называют приставками, или префиксами, а второй — суффиксами.
В русском языке довольно много и префиксов, и суффиксов: вы-, на-, под-, при-, из-, пере-, за-, по− и, с другой стороны, −ник, −чик, −тель, −оват, −ист, −енн — их настолько много, что даже просто все их перечислить у нас здесь не хватило бы места. Следовательно, русское слово может «расти», так сказать, и вперёд, и назад. Например:
говор
раз-говор
говор-и-ть
под-говар-ива-ть
до-говар-ива-ть-ся
не-до-говар-ива-ть и т. д.
На русский язык в этом отношении похож, например, венгерский и многие индоевропейские языки, такие, как немецкий, латынь, армянский. Но есть языки, где слова стремятся «расти» только в одну сторону — например, вправо, как это происходит со словами в тюркских языках, или влево, как в языках банту. В тюркских и дравидийских языках вообще нет префиксов, зато суффиксов много и они с лёгкостью образуют длиннейшие «поезда» (причём привычные настоящим железнодорожникам — с паровозом-корнем впереди), а в банту суффиксы есть, но они, в отличие от префиксов, используются не так уж часто. Зато префиксы языкам банту настолько нравятся, что те часто употребляют их вместо окончаний: достаточно сказать, что даже множественное число у существительных в банту выражается специальным префиксом (а не особым окончанием, как мы привыкли и как действительно это будет почти во всех языках мира). Посмотрите ещё раз на пример из языка суахили (это, как вы помните, самый знаменитый язык банту), который мы приводили в разделе б предыдущей главы, и вы убедитесь в этом сами. Есть, конечно, языки, в которых мало (или вовсе нет) и суффиксов, и префиксов, но речь сейчас не о них.
Итак, мы обсудили две возможности поведения морфем по отношению к корню и, соответственно, два типа таких морфем — префиксы и суффиксы. Эти два способа настолько хорошо известны, привычны и естественны (вспомним паровоз!), что кажется, других возможностей просто быть не может. Однако человеческий язык гораздо разнообразнее и изобретательнее: в языках мира (и в том числе, как мы увидим, в русском языке) встречаются и другие способы взаимного расположения корней и прочих морфем. Например, следующие четыре.
Морфема оказывается одновременно и спереди, и сзади корня, то есть она разрывается и как бы окружает корень, образует вокруг него кольцо. От латинского корня со значением «круг, кольцо» circ− (от него же образованы и циркуль, и циркулярная пила, и просто цирк — ведь арена в цирке круглая!) происходит лингвистическое название таких морфем: циркумфикс. В русском языке по крайней мере две такие морфемы: раз-…-ся и до-…-ся. Действительно, как, например, по-вашему, образовано слово разбежаться? Кто-то скажет: с помощью приставки раз-. Но ведь тогда в русском языке должно быть слово бежаться, а его нет. Другой кто-нибудь скажет: с помощью суффикса −ся. Но в русском языке нет и слова разбежать. Какой же выход? Считать, что раз− и −ся одновременно присоединяются к исходному бежать, другими словами, что разбежаться образовано от бежать с помощью циркумфикса раз-…-ся.
Всякая образующая слова морфема имеет какое-то своё значение: преобразуя исходное слово, она добавляет это новое значение, и слово меняется не только внешне, удлиняясь, но и, так сказать, внутренне, потому что значит уже другое. Разных значений у таких образующих новые слова морфем очень много. Есть, например, уменьшительные и увеличительные суффиксы, как в словах рука, ручонка и ручища или гора, горка и горища (правда, горка — это не всегда просто маленькая гора, но ведь и ручка — это не всегда просто маленькая рука). Часто уменьшительный суффикс значит не только (и не столько) то, что предмет очень маленький, а то, что мы к нему хорошо относимся, считаем привычным и милым: например, чаёк гораздо приятнее пить, чем просто чай, а Надя превращается в Наденьку не тогда, когда на неё смотрят сверху вниз, а когда, например, преподаватель Татьяна Михайловна ставит ей пятёрку по математике. А помните, как в рассказе Зощенко одну и ту же девочку называли и Лёля, и Лёлечка, и Лёлище?
В русском языке есть, как вы знаете, и особые «направительные» приставки; от одного глагола бросить (а это ещё далеко не самый плодовитый глагол) можно образовать целый длинный список новых глаголов с разным «направлением» или «способом» бросания, например:
за-бросить («далеко»)
вы-бросить («наружу»)
от-бросить («прочь»)
пере-бросить («через»)
с-бросить («вниз»)
под-бросить («вверх»)
до-бросить («до»)
на-бросить («сверху»)
раз-бросать («в разные стороны»)
и т. д. и т. п.
Можно было бы, наверное, устраивать олимпийские игры по придумыванию слов с разными приставками. Следовательно, наша новая морфема — циркумфикс раз-…-ся, если она действительно настоящая словообразовательная морфема, должна обязательно иметь какое-то своё значение. А для того, чтобы понять, есть такое значение или его нет, нужно сравнить между собой бежать и разбежаться, шалить и расшалиться, играть и разыграться, плясать и расплясаться, гореть и разгореться и другие подобные пары, а их в русском языке не так уж мало. И оказывается, что раз-…-ся имеет довольно сложное значение, которое можно попытаться описать, например, так:
«Начав делать А [А — это действие, которое обозначает глагол, к которому наш циркумфикс присоединяется], делать А всё более интенсивно и наконец довести А до очень высокой степени».
Следовательно, во-первых, если соседка звонит к вам в дверь и спрашивает:
Что это вы тут расшумелись?
— она имеет в виду, что вы начали шуметь, стали шуметь всё громче и громче и, наконец, довели шум до такой высокой степени, что у неё уже нет никаких сил это выносить.
Во-вторых, можно придумывать новые слова, — например, расшутился, разрисовался или какое-нибудь распрограммировался — и все догадаются, что это значит (а вы догадались?).
Наконец, в-третьих, в некоторых словах, — например, в слове разгримироваться в таком, скажем, употреблении:
«Всякий актёр обязан разгримироваться, и только после этого может появляться на улице и в присутственных местах» [из «Правил поведения актёра»]
— используется не циркумфикс раз-…-ся, а приставка раз-, которая прибавляется к глаголу гримироваться (образованному, в свою очередь, с помощью суффикса −ся от глагола гримировать), ср.: Он сначала загримировался, а потом разгримировался. Именно поэтому разгримироваться значит тут совершенно иное — «ликвидировать результат А». С другой стороны, представим себе главного режиссёра, который вбегает в актёрскую уборную и с порога кричит: «Сколько ждать можно! Третий звонок! Публика свистит и ногами топает, а вы тут — разгримировались, понимаешь!» Это гневное разгримировались будет значить уже не «сняли грим», как в предыдущем примере, а «до такой степени увлеклись гримированием, что…» — то есть как раз то, что и должен выражать наш с вами циркумфикс! Значит, разгримироваться (также как, например, расписаться и многие другие) — слово двусмысленное, или, вернее сказать, два разных слова, причём одно из них образовано просто приставкой раз-, а другое — циркумфиксом раз-…-ся.
Конечно, циркумфиксы встречаются довольно редко. В русском языке можно вспомнить, пожалуй, ещё до-…-ся (добегался, доигрался, досписывался…) со значением «делал А до тех пор, пока не достиг какого-то отрицательного результата В». И в других языках циркумфиксы не часто, но используются. В немецком языке с помощью циркумфикса (ge-…-t) даже образуется форма причастия: например, machen по-немецки значит «делать», а причастие «сделанный» будет выглядеть так: ge-mach-t.
Морфема может соединять два корня в единое слово, находясь при этом между ними (именно от латинского inter «между» образовано лингвистическое название таких соединительных морфем — интерфикс). Этот тип морфем вам, должно быть, лучше знаком, чем циркумфиксы, — вы, наверное, сразу вспомнили и водОлаза, и ледОход, и пылЕсос, и камнЕтёса, и многие другие слова. Действительно, в русском языке два интерфикса — о и е, а способ образования новых слов с помощью соединения корней довольно распространён. Этот способ образования слов широко использовался древними индоевропейскими языками — особенно много таких слов в древнегреческом и санскрите (об этом свойстве санскрита мы ещё поговорим позднее). Если вы читали русский перевод знаменитых поэм Гомера «Илиада» и «Одиссея», то, должно быть, заметили, что русские переводчики постарались передать эту особенность древнегреческого языка, эту его тягу к сложным словам — благо русский язык вполне позволяет это делать, хотя сам пользуется таким приёмом гораздо реже. Вот как это получается у В. А. Жуковского, переводившего «Одиссею»:
Так, постоянный в бедах, Одиссей отдыхал, погружённый
В сон и усталость. Афина же тою порой низлетела
В пышноустроенный город любезных богам феакиян,
Живших издавна в широкополянной земле Гиперейской…
Там —
Властвовал царь Алкиной, многоумием богу подобный.
(начало Песни шестой: Одиссей у феаков)
Многие «гомеровские» слова прижились и в русском языке. Так, мы, вслед за Гомером (и Жуковским), привычно называем Одиссея хитроумным, а олимпийских богов — небожителями.
Если говорить о современных языках, то одно из первых мест по количеству сложных слов занимает немецкий язык, причём в нём тоже есть несколько разных интерфиксов: −n−, −s− и др. Надо, однако, заметить, что интерфиксы в языке вовсе не обязательны, но, если их нет, это совсем не значит, что в языке нет сложных слов. Вот, например, венгерский язык ненамного отстаёт от немецкого по увлечению сложными словами, однако интерфиксами этот язык не пользуется. Да и в немецком языке есть немало сложных слов, образованных без интерфикса. Есть они и в русском, хотя русский язык старается такого избегать; но такие образования, как иван-чай или диван-кровать, являются именно сложными словами, хоть и маскируются русской орфографией подо что-то промежуточное. Тем не менее мы говорим: любуюсь иван-чаем, а не любуюсь иваном-чаем, так что это — самые настоящие сложные слова. Венгерские сложные слова все как раз такие, в них, если следовать нашему сравнению, один паровоз сразу цепляется за другой.
Только вот можно ли считать интерфикс настоящим вагоном между паровозами? Ведь он ничего не «везёт», потому что интерфиксы, в общем-то, ничего не значат. В русском языке, например, о или е не добавляют ничего нового к значению слова и «по смыслу» ничем друг от друга не отличаются (ведь ни у того, ни у другого собственного смысла нет). Нет, не похож интерфикс на вагон — скорее уж какой-нибудь буфер.
Морфема может вклиниваться внутрь корня, как бы разрывая его, — тогда она называется инфикс. Инфиксы используются в языках редко. Они были в латинском языке, где, правда, не передавали никакого самостоятельного значения, а только помогали образовывать настоящее время некоторых глаголов. Например, латинская глагольная форма fid-it означала «он расколол» (корень −fid− а форма того же глагола find-it означала «он раскалывает»: внутрь корня вставляется носовой инфикс −n−. Это — остатки древнего индоевропейского спряжения; интересно, что похожие инфиксы сохранились и в литовском языке, где, например, глагол lipti «прилипать» образует такую форму настоящего времени: limpu (−u− как и в русском, окончание первого лица единственного числа, а инфикс в этом слове −m−).
Похожим образом используются инфиксы и в других языках, где они есть, — например, в языках, на которых говорят очень далеко от нас, на Филиппинских островах в Тихом океане. Один из главных филиппинских языков — тагальский — как раз и знаменит (в числе прочего) своим пристрастием к разного рода инфиксам. Без инфиксов в тагальском языке не бывает ни прошедшего времени, ни настоящего. Вот, например, от глагола с корнем hanap (это значит «находить») форма прошедшего времени выглядит так: humanap. Сможете ли вы обнаружить в ней инфикс? А как будет выглядеть форма прошедшего времени от тагальского глагола sulat «писать»?
Морфема не только разрывает корень — она и сама разрывается. Таким экзотическим способом (для нас, конечно, а не для тех, кто говорит на этих языках) ведут себя трансфиксы. Корень и трансфикс представляют собой как бы две гребёнки, вставленные друг в друга зубцами (какие уж тут вагоны!). Чрезвычайно широко используют трансфиксы все семитские языки — арабский, древнееврейский и современный иврит, амхарский и др. В семитских языках корень может состоять только из согласных, а трансфиксы обычно (хотя и не всегда) содержат только гласные; получается, что слово может существовать, только если одно накладывается на другое по определённой схеме (семитологи так часто и говорят: схема образования множественного числа, настоящего времени и т. п.). Знаете ли вы, кто такой факир? Может быть, вы думаете, что это просто фокусник? Нет, по-арабски это слово означает прежде всего «бедняк», «(странствующий) нищий»; оно образовано от глагола со значением «быть бедным». Глагольный корень здесь состоит из трёх согласных: F-Q-R (q — особый гортанный согласный арабского языка, произносящийся глубже, чем русское «к»), а трансфикс, образующий существительные со значением «тот, кто…», — это −a−ii−. Если наложить корень и трансфикс друг на друга по определённой схеме, как раз и получится слово faqiir. Вот ещё некоторые слова с тем же корнем и другими трансфиксами:
faqura «он был бедным; он нуждался»;
afqara «он стал бедным, впал в нищету»;
ufqira «его довели до нищеты»;
fuqr «бедность, нужда»;
fuqaraa «бедняки, беднота».
Конечно, в арабском (и в других семитских языках) есть не только трансфиксы, но и префиксы с суффиксами, однако, даже присоединяя к корню, например, префикс, говорящие всё равно должны позаботиться о том, чтобы вставить в него и трансфикс — ведь иначе корень нельзя будет даже произнести! Возьмём другой арабский корень: Š-R-F, со значением «возвышаться; быть знатным, благородным» (именно с ним связано слово «шериф» — арабское sariif «знатный, благородный, честный»). Вот какие могут быть слова с этим корнем:
yaŝrufu «он благороден»;
istaŝrafa «он поднялся, взошёл»;
taŝriif «почёт, почести»;
mustaŝraf «терраса, балкон».
Как видите, арабское слово может иметь префиксы (уа-, ta-, ista-, musta-), но каждый префикс требует своего набора гласных, вставляемых между согласными корня (арабисты называют это «огласовкой»). Например, глагол «быть высоким» с помощью префикса ista− превращается в глагол «подниматься» (так сказать, «делать себя высоким» с точки зрения арабского языка), а этот глагол — с помощью другого префикса — в существительное «терраса» (так сказать, «место, куда поднимаются» — это ведь имеется в виду терраса в южных домах под жарким солнцем), но при этом огласовка корня тоже меняется. Арабские слова устроены чрезвычайно логично, просто эта логика использует несколько странные для нас средства. Но если привыкнуть, окажется, что трансфиксы — очень продуманная и красивая система.
5. Как сшить две морфемы. Агглютинация и фузия
Таким образом, теперь мы с вами умеем отвечать на первый из двух вопросов, которые мы задавали в разделе 3 этой главы, — напомню, это был вопрос о том, как ведут себя морфемы по отношению к корню. Оказалось, что все морфемы во всех языках строго делятся на группы, так что ни одна из них не оказывается в двух группах одновременно. При этом морфемы-представители одной группы могут только предшествовать корню (префиксы), другой — только следовать за ним (суффиксы); кроме того, морфемы могут обрамлять корень (циркумфиксы), вклиниваться в него (инфиксы), разрывать корень и одновременно разрываться сами (трансфиксы), соединять два разных корня друг с другом (интерфиксы).
Остался второй вопрос: об отношении морфем друг к другу, то есть о том, как они соединяются друг с другом внутри одной словоформы. Лингвисты говорят в таких случаях о проблеме «морфемных швов» и тем самым используют в разговорах о морфемах другое сравнение: целое слово как бы сшито из нескольких разных лоскутков-морфем (ведь и корень тоже — морфема). Но языки различаются тем, какие они предпочитают делать швы на стыке лоскутков. В некоторых языках все швы явные; можно было бы сказать, что лоскутки-морфемы не пришиваются, а просто прикладываются друг к другу или гладко приклеиваются: один лоскут кончается, потом начинается другой, они не мешают друг другу, и края их хорошо видны. Так (или почти так) устроены тюркские языки, индонезийский, эскимосский; близки к такому состоянию языки банту, финно-угорские языки, японский и многие другие языки мира.
А другие языки, наоборот, предпочитают скрытые швы, когда граница между морфемами оказывается незаметна. На стыках морфем в таких случаях происходят какие-то изменения, например, одни звуки заменяются на другие (это обычно называется чередованием), и в результате обе морфемы могут сильно изменить свой первоначальный облик, как бы сплавившись воедино — что-то похожее происходит, например, с металлическими деталями при сварке. Кроме того, морфемы в таких языках и более придирчивы по отношению к своим соседям-морфемам: далеко не все из них вообще соглашаются стоять рядом, и приходится искать им замену — другую морфему с тем же значением или менять соседнюю морфему до неузнаваемости.
Вот, например, есть в русском языке такие связанные друг с другом по смыслу слова, как рука, ручной и руководство. Они имеют одну общую корневую морфему, к которой присоединяются и разные другие — суффиксы и корни. Но посмотрите, что при этом происходит. Мы не можем просто так присоединить суффикс −н− к корню рук-: сло́ва рукной или рукный в русском языке не существует. И, кстати, вовсе не потому, что мы не можем выговорить сочетание −кн−: есть же в русском языке слова сукно, окно, толокно, стукнуть, крикнуть и многие другие с таким сочетанием звуков! Нет, такова воля именно этого суффикса −н-, образующего прилагательные от существительных: не хочет он стоять после звука −к−, изволь ему во что бы то ни стало поменять −к− на −ч−! Проверьте это по другим словам — убедитесь сами. И, кстати, выясните заодно, как относится этот суффикс к звуку г (например, в слове снег) и к звуку х (например, в слове пух).
Ну что ж, звуки мы поменяли — теперь слово у нас готово? Не тут-то было: ещё надо ударение поставить! И тут оказывается, что начинает капризничать не суффикс, а корень. Одни корни соглашаются, чтобы ударение падало на них (книжный, снежный, железный, водный, лунный, горный…), а другие — нипочём не желают и требуют, чтобы ударение стояло только на окончании (ручной, пушной, выходной, речной, лесной, головной…). Зависит это только от конкретного корня — и больше ни от чего. А в слове руководство с корнем −рук− вроде бы ничего особенного не происходит, зато корень −вод− так слился с суффиксом −ств−, что в произношении оказывается даже трудно понять, где кончается один и начинается другой: произносим-то мы что-то вроде рукаво́цтва. Вот и получается, что в русском языке соседние морфемы предъявляют друг к другу очень сложные требования, и если уж они соглашаются стоять рядом, то обычно так тесно сливаются друг с другом, что целое по своему внешнему виду становится непохоже на исходные части.
Морфема с одним и тем же значением может не только по-разному изменять соседние морфемы, но и сама по-разному изменяться в соседстве с ними. Возьмём окончание неопределённой формы глагола. Оно в русском языке может выступать по крайней мере в трёх разных видах, но и глагольному корню тоже от него достаётся. Судите сами:
нес-у — нес-ти (это самый «чистый» случай);
вез-у — вез-ти (оглушается звонкий согласный корня);
плет-у — плес-ти (оказывается, что −т− перед −ти неприемлемо — заменяем на другой согласный);
скреб-у — скрес-ти (и −б− перед −ти тоже не годится, а заменять его надо не, скажем, на −п− а на тот же согласный −с−);
пек-у — печь (тут уж вообще непонятно, где кончается корень и начинается суффикс: к− сливается с −т и превращается в −ч−; и куда теперь подевался конечный −и?);
стриг-у — стричь (всё то же самое, да ещё к тому же звонкий −г− оглушается);
плыв-у — плы-ть (а здесь конечный согласный корня просто выпадает).
Все эти чередования — ещё далеко не полный список того, что возможно в русском языке при соединении морфем друг с другом. А ведь бывают и такие случаи, когда морфема может просто исчезать, «не выдержав», наверное, суровости соседей: именно так и поступает показатель прошедшего времени у некоторых русских глаголов: ходи-ть — ходи-л, пляса-ть — пляса-л, но нес-ти — нёс, грести — грёб и т. п. (хотя в женском роде или во множественном числе это исчезнувшее −л− всё-таки появляется: нес-л-а, греб-л-и). Вот уж действительно скрытый шов — ни шва, ни морфемы!
Есть ещё одна особенность русских морфем: одно и то же значение при разных корнях часто выражают разные морфемы (хотя, вообще говоря, можно было бы обойтись и одной). Как, например, в русском языке выражается значение «тот, кто А» (где А — действие, обозначаемое каким-нибудь глаголом)? По крайней мере тремя главными суффиксами: −тель (хранитель, спасатель, сеятель), −чик (лётчик, грузчик, перевозчик) и −[ль]щик (рубщик, уборщик; плакальщик, ныряльщик, пильщик). Но бывают ещё суффиксы −ник (истопник, печатник, работник), −ец, (купец, жнец, певец) или −ок (стрелок, ходок), которые, правда, в основном употребляются с иными значениями. Есть и совсем редкие суффиксы, — например, −арь (писарь, косарь). И ещё не надо забывать об очень интересной группе слов с суффиксом −ун (бегун, шалун, хвастун) — большинство из них (хотя и не все) обозначают человека, который не совсем правильно (сточки зрения говорящего) себя ведёт. А какой суффикс в слове плакса? Кажется, он и создан-то специально для этого единственного слова; а ведь ещё можно и вовсе обойтись безо всякого суффикса (повар, трубочист)!
Почему так много морфем выполняют одну и ту же работу? Почему не говорят грузитель и нырятель? Или, например, хранильщик и грузильщик? Иногда, конечно, такое разнообразие полезно — например, мы можем различать слова рубильник (инструмент — правда, не для рубки) и рубщик (человек, который рубит), очиститель (вещество) и чистильщик (человек); купец и покупатель оба покупают, но один — по роду занятий, это его работа, а другой — только для себя; похожее отличие у значений слов стрелец и стрелок. А беглец и бегун хотя и занимаются оба бегом, но с совершенно разными целями. Так-то оно так — но уж окончание родительного падежа множественного числа зачем выражать тремя разными способами: дом-ов, кон-ей, стен-ой? Ведь вот творительный падеж во множественном числе выражается по-русски одинаково: дом-ами, кон-ями, стен-ами (и так же себя ведут дательный с предложным)!
Всё это в конечном счёте есть проявление одного и того же свойства — того, что морфемы в русском языке не могут просто так соседствовать друг с другом. Не все из них соглашаются стоять рядом, и, даже согласившись, они обязательно как-то влияют друг на друга. Зато словоформы, которые образуются из этих морфем, действительно оказываются крепко сбиты — на части не рассыпаются.
А теперь посмотрим, как устроен венгерский язык. Возьмём те же самые слова, что и в самом первом русском примере:
«рука» — kéz;
«ручной» — kéz-i;
«руководство» — kéz-i-kōnyv.
Суффикс, образующий прилагательные от существительных, в венгерском языке всегда выглядит как −i−, к чему бы он ни присоединялся; и соседняя морфема при этом остаётся такой же, как была. А слово «руководство» на венгерский буквально переводится как «ручная книга»: просто взяли ещё слово kōnyv «книга» и прибавили его к уже имеющейся части. И даже интерфиксов никаких не понадобилось. Потому-то в венгерском языке так много длинных слов: венгерские морфемы, как гладкие кубики, могут свободно соединяться и так же свободно рассыпаться, чтобы образовать новое слово. Например:
lehetetlenség «невозможность», то есть lehet «можно» + etlen «не, без» + ség «−ость, −ство» (образует существительные от прилагательных);
fószerkesztó «главный редактор», то есть fó «голова» + szerkeszt «редактировать» (это слово тоже состоит из двух морфем, szer «средство» и keszt) + ó «тот, кто…».
А вот как склоняются венгерские слова (посмотрим, как выглядят всего несколько форм уже знакомого нам слова konyv «книга»)[8]:
[Падеж] Ед. ч., Мн. ч.
Им. пад.: könyv, könyv-ek;
Вин. пад.: könyv-et, könyv-ek-et;
Дат. пад.: könyv-nek, könyv-ek-nek.
Да, в таком языке не придётся выбирать между тремя совершенно разными окончаниями одного и того же падежа, да ещё отдельно запоминать, как обозначаются падежи в единственном и во множественном числе!
Конечно, и в венгерском языке есть случаи негладкого присоединения морфем — так же как и в русском языке есть случаи сравнительно гладкого присоединения. Но вы уже понимаете, что и в том, и в другом языке такие случаи нетипичны: слишком уж явно отличается даже на первый взгляд внешний облик слов в языках «с гладкими швами» и в языках «без швов»: в одних — слова-кубики, в других — слова-слитки, в которых не всегда и морфемы-то друг от друга сразу отделишь.
Это действительно очень важное различие между языками, которое сразу бросается в глаза. Языки с «придирчивыми» морфемами, с негладкими швами, со словами-слитками обычно называются языками с фузией, фузионными (от латинского слова fusio «слияние, сплавление»); а языки с «покладистыми» морфемами, с прозрачными гладкими швами, со «словами-кубиками» обычно называются языками с агглютинацией, или агглютинативными (от латинского слова agglutinatio «приклеивание, прилепливание»). Действительно получается, что одни языки работают как бы сварочным аппаратом, а другие — клеем и кисточкой.
Понятно, в каком из двух типов языков слова будут длиннее: в агглютинативных языках так легко приставлять морфемы друг к другу, что можно делать это практически неограниченно и получать слова бесконечной длины (таких слов реально не встречается только потому, что кто же захочет иметь дело с человеком, который говорит и говорит, а ни одного слова ещё не сказал!). А в фузионных языках так много приходится работать над скреплением слов, что больше четырёх-пяти морфем к корню уж никак присоединять не захочется. Зато в фузионных языках сразу ясно, где кончается одно слово и начинается другое. А в агглютинативных языках сплошь и рядом не разберёшь, где предлог, а где приставка, где суффикс, а где просто частица. Например, когда по-турецки хотят сказать «дамы и господа», то вполне могут сделать это так:
bayan ve bay−lar
дама и господин мн. ч.
Что тут для нас необычного? Конечно, то, что показатель множественного числа употреблён только один раз, а относится — к обоим словам!
По-турецки можно сказать и так:
bayanlar ve baylar
— будет значить это то же самое и выглядеть для нас привычнее. Но турецкий язык вполне может на одном суффиксе сэкономить. Как это иногда делаем мы с предлогами: ведь по-русски можно сказать, например, так:
к дамам и к господам,
а можно (и даже лучше) так:
к дамам и господам.
Мы экономим один предлог — а турецкий язык экономит суффикс.
Значит, что слово, что часть слова — не очень для турецкого языка важно. Но по-русски нам никогда не придёт в голову сказать что-то вроде:
к дам− и господам,
— то есть чтобы один падежный суффикс (в данном случае окончание) работал сразу на два слова. Вот это и есть разница между морфемами агглютинативных и фузионных языков.
Агглютинация и фузия — это два разных принципа устройства слов в языке, и всё из-за того, что в одних языках морфемы придирчивые (но слитные), а в других — покладистые (но независимые друг от друга). Но, оказывается, это ещё не все возможные типы языков — в мире бывают и другие.
В самом деле, а что получится, если попробовать довести оба эти принципа до предела — могут ли, например, возникнуть языки со «сверхслитными» или «сверхнезависимыми» морфемами?
Вы, конечно, догадываетесь, что и такие языки тоже есть. Правильно. Давайте посмотрим, как они могут быть устроены.
Чем более независимы морфемы друг от друга, тем менее тесно они друг с другом связаны. Значит, предельно независимые морфемы — это те, которые вообще никак друг с другом не связаны! То есть в языке с такими морфемами каждая (или почти каждая) морфема будет одновременно и корнем, и отдельным словом; слова из двух морфем будут большой редкостью, а из трёх — и вовсе храниться в музее. Вот к чему приводит любовь к независимости — к полной изоляции друг от друга. Но как же такой язык будет обращаться со своими грамматическими значениями? Как он будет выражать число, вид, время, наклонение, если суффиксов и префиксов в его распоряжении — считаное количество?
Что ж, из такого положения есть два выхода. Во-первых, как вы знаете, без грамматических значений вполне можно обойтись. А на самый крайний случай — хватит и самого скудного запаса некорневых морфем. В предыдущей главе мы много говорили о том, как устроены «языки без грамматики» (такие, как вьетнамский, китайский, йоруба и другие) — и оказалось, что устроены они не хуже языков с грамматикой, а может быть, в каком-то смысле и лучше. В этих языках сбылась мечта свободолюбивых морфем о жизни в полной изоляции друг от друга. Потому и называют такие языки — изолирующими. В них почти все морфемы — корни, они же самостоятельные слова.
Ну хорошо, скажете вы, без грамматики обойтись можно. А как же эти языки поступают, когда им понадобится образовать новое слово? Неужели в этих языках есть только слово лететь и не может быть ни слова вылететь, ни слова прилететь, ни слова лётчик, ни слова полёт, ни слова самолёт? Конечно нет! Проще всего со словом полёт: оно получается из слова лететь с помощью конверсии — понятно, что в таких языках это просто незаменимое средство. Ну а остальные слова вполне можно образовать из имеющихся корней: нужно лишь соединить два корня — или даже просто поставить рядом — и получится что-то среднее между сложным словом и двумя отдельными словами. В изолирующих языках окажется, стало быть, очень много сложных слов — действительно, это одна из их главных особенностей. Сложные слова там часто появляются даже там, где мы бы их совсем не ожидали, — то есть где в русском языке употребляется простое слово. Например, мы скажем:
Он красивый,
— а по-китайски то же самое будет выглядеть буквально как:
Он хороший-смотреть.
Так же точно поступают изолирующие языки и с другими словами. Вот как обычный изолирующий язык мог бы построить слова, которые мы в русском языке образуем от глагола лететь:
вылететь = лететь-выйти;
прилететь = лететь-прийти;
лётчик = человек-лететь;
самолёт = машина-лететь (или: железо-птица-лететь).
Вот и всё! Признайтесь, это кажется даже как-то проще и понятней, чем наши запутанные суффиксы (да ещё если с чередованиями). В общем-то, одну и ту же идею ведь вполне можно выражать и корнем, и не корнем — особой разницы не будет. Разве Рязанская земля звучит хуже, чем Рязанщина? А маленький стакан — менее понятно, чем стаканчик?
Кстати, и в русском языке есть такие значения, которые передаются только корнями, тогда как другие языки поручают их некорневым морфемам. Вот, например, само слово «язык». Нам странно представить, чтобы в языке имелся, скажем, суффикс или префикс, который передавал бы именно это значение. А между тем бывает именно такой и суффикс, и префикс. Например, в языке суахили это префикс ki-. И сочетание «язык суахили» переводится на язык суахили одним словом — kiswahili. А «русский язык» — это kirusi. Ну а в чешском языке для этого же значения есть особый суффикс −ština, так что «русский язык» переводится на чешский как ruština, а язык суахили, естественно, — как suahilština. Надо сказать, что чешский язык вообще гораздо больше понятий выражает суффиксами, чем русский. Например, мы скажем «билет на самолёт» — а по-чешски это letenka, слово с глагольным корнем let− и специальным «билетным» суффиксом −enk(a). Надо ли теперь удивляться, что «входной билет» — это по-чешски vstúpenka!
А когда чехи спускаются в метро, то им нужна — что бы вы думали? — правильно Jizdenka!
Так что какие значения передавать корнями, а какие — нет, это личное дело каждого языка. Можно и одними корнями обойтись.
А теперь вернёмся немного назад. Мы сказали, что если в языке из морфем есть только корни, то у него два способа решить проблему грамматических значений. Первый способ — не выражать их вовсе, так получаются изолирующие языки. Но если есть первый способ, то, наверное, есть и второй? Правильно. Вот об этом втором способе тоже нужно сказать несколько слов.
Дело в том, что грамматические значения можно выражать не только суффиксами и префиксами. Их можно выражать и корнями. Только это будут особые корни. Они будут значить не «дом», «диван», «бежать», «думать», «мой», а — «прошедшее время», «дательный падеж», «условное наклонение»… Нам странно себе представить, что в языке могут быть слова с таким значением? Ну а русское слово бы — разве оно не такое? А слово буду, когда мы говорим буду спать, разве не выражает как раз значения «будущее время»? Так что даже в русском языке есть такие слова, хотя в русском их и немного. Называют же такие специальные слова, которые служат для передачи грамматических значений, — служебными словами.
Теперь вы понимаете, что я хочу сказать. В языке может не быть некорневых морфем, зато в нём могут быть служебные слова. И тогда он может выражать, если ему нравится, сколько угодно грамматических значений. Например, у глагола можно устроить хоть десять наклонений — просто надо иметь десять разных служебных слов (а не одно слово бы, как в русском).
Языки, в которых большая часть грамматики отдана на откуп служебным словам, тоже имеют своё название. Они называются аналитическими (а это их свойство — аналитизмом). Такие языки, как русский, в противоположность им называются синтетическими.
Аналитические языки похожи на изолирующие тем, что к их корням почти не присоединяются некорневые морфемы — некорневых морфем и в аналитических языках мало. А отличаются они от изолирующих тем, что в них всё-таки есть такие корни, которые выражают грамматические значения (и больше ничего другого!); стало быть, эти слова, хоть они и самостоятельные, но должны обязательно употребляться в предложении вместе с другими словами.
Образцовыми аналитическими языками являются английский и французский. В самом деле, возьмём такое английское предложение:
The dog of my father is barking.
Оно означает: «Собака моего отца лает». В русском переводе четыре слова, в английском предложении — семь. «Лишние» три слова — это и есть служебные. Слово the обозначает «определённость», слово of — «принадлежность», слово is — «настоящее актуальное» (то есть настоящее время длительного — или актуального — вида). Конечно, другой язык мог бы выразить всё это какими-нибудь окончаниями, но тогда бы он и не назывался аналитическим.
Аналитические языки есть не только в Европе. К ним относится, например, язык хауса в Африке (это один из самых известных языков Западной Африки, отдалённо родственный арабскому) и многие из тех языков, на которых говорят жители островов Полинезии: таитянский, гавайский, маори и другие.
Только что мы познакомились с языками, в которых самостоятельность морфем в слове была доведена до предела. Настало время посмотреть, во что может вылиться другая крайность — стремление морфем во что бы то ни стало соединяться друг с другом в одно слово.
По логике вещей, у нас должны получаться языки с очень длинными словами. Но какой длины может быть самое длинное слово в языке? Можно ли написать роман из одного слова — точнее, может ли одно слово быть равным по длине целому роману? Пожалуй, нет. А слово длиной в повесть или хотя бы в рассказ? Как-то не верится. Ну а размером с самый маленький рассказик? Ведь самый маленький рассказ — это просто предложение. Слова-то в языке прежде всего складываются в предложения! А есть ли языки, в которых слова, склеиваясь друг с другом, могут образовывать целые предложения?
Да, такие языки есть. Это не просто языки, которые любят сложные слова (как немецкий или венгерский), — это языки, в которых сложные слова такие длинные, что они сами по себе могут образовать целое предложение. Например, вместо:
Пошёл дождь
— в таких языках будет сказано нечто вроде:
Дождепошло,
— а вместо:
Сильный дождь прошёл над лесом — Лесосильнодождепрошло.
Пожалуй, ни в русском, ни в других европейских языках ничего похожего не встретишь — а ведь до сих пор нам как-то удавалось находить если не точно такие же, то хотя бы похожие примеры.
Называются такие языки с длинными словами-предложениями тоже длинно — инкорпорирующими (это название происходит от латинского глагола со значением «вставлять, внедрять» — одни слова в них как бы внедряются в другие).
Инкорпорирующие языки не такие уж редкие — к ним относится большинство индейских языков Северной и Центральной Америки (а это сотни языков!); кроме того, знамениты своей инкорпорацией корякский и чукотский языки (на крайнем северо-востоке нашей страны) и обширная группа эскимосско-алеутских языков (это Гренландия, Канада, Аляска и тоже северо-восток Евразии).
Итак, слова там длинные, потому что складываются друг с другом. Но ведь русские слова тоже складываются — паровоз, быстроходный и даже Мосавтолегтранс. И в древнегреческом, и в санскрите, как мы уже говорили, тоже было много сложных слов. Но всё дело в том, что сам способ словосложения в инкорпорирующих языках совершенно другой. Во-первых, и в русском, и в других индоевропейских языках сложные слова — прежде всего существительные или прилагательные, но не глаголы. Невозможно представить себе русское слово паровозить, быстроходить, рукомоить (при том, что в русском языке есть, например, слово рукомойник) или глазомерить (хотя есть слово глазомер). Наоборот, в инкорпорирующих языках сложные слова — это как раз глаголы, потому что получаются эти слова так. Есть исходная ситуация, о ней и обо всех её участниках мы хотим что-то сообщить. Как мы знаем, ситуацию обычно называет глагол, а её участников — существительные, помните:
Старик ловил неводом рыбу.
Так вот, в инкорпорирующих языках глагол (он же название ситуации) как бы вбирает в себя, «внедряет» всех участников ситуации — и предложение превращается в одно слово-глагол, что-то вроде старико-неводо-рыбо-ловилось. Впрочем, от слова-глагола часто отделяется подлежащее, но уж все остальные участники ситуации приклеиваются к нему прочно. Получается предложение всего из двух слов:
Старик неводо-рыбо-ловил.
Понятно, что всяческие местоимения и прилагательные (быстроловил, большерыболовил, рыбомнеловил и т. п.) вставляются туда же. Поэтому все эти не существующие в русском глазомерить или рукомоить — как раз очень похожи на корякские или эскимосские слова. Вместо русского: Я мою руки — эскимос, коряк или индеец-ацтек может сказать коротко и ясно одно слово: Рукомою. (Недаром все индейцы в романах такие немногословные: им легко — одно слово сказал, и уже целое предложение.) Конечно, языки с инкорпорацией не обязывают говорящих всегда выражать свои мысли так кратко (можно было бы ещё сказать — так односложно, но в данном случае, пожалуй, правильнее было бы — так однословно); во всех этих языках остаётся возможность строить нормальные (с европейской, конечно, точки зрения) предложения, но используется она говорящими на этих языках довольно редко, и только в особенных случаях. Инкорпорация же является для них обычным способом говорить (и, наверное, думать?).
Ещё одно важное свойство слов в инкорпорирующих языках — то, что все морфемы в них, на наш с вами взгляд, оказываются «в перепутанном порядке». Ведь существительные-то в них не просто присоединяются к глаголу, как это происходит в тех сложных словах, к которым мы привыкли. Нет! Существительные именно «внедряются», «вклиниваются» в глагольную словоформу, обычно куда-нибудь в середину, так что, например, показатели времени глагола оказываются перед существительным, а показатели вида или лица — после. Так что эскимос на самом деле скажет даже не что-то вроде вырукомылибы, а скорее уж что-то вроде бывылирукомы. Представляете?
Но и это ещё не все трудности инкорпорирующих языков. Во многих из них (особенно это касается языков индейцев) на стыках морфем происходят чередования не менее сложные, чем, скажем, в русском языке. То есть существительные не просто вклиниваются в середину глагола, но их ещё и узнать после этого нельзя!
8. Кое-что ещё о швах и языке санскрит
Когда (в разделе 5) мы говорили о «морфемных швах», то мы имели в виду, конечно, те швы, которые проходят внутри слова. В фузионных языках морфема, соединяясь с морфемой, вызывает многочисленные изменения у своих соседей и изменяется сама. Но после того, как морфемы образуют словоформу, с этой словоформой в предложении уже никаких изменений не происходит. Словоформы соседствуют друг с другом вполне мирно — например, если в русском языке слово кончается на гласный −о, то, какое бы слово ни шло за ним следом, окончание предыдущего слова не изменится. Можно сказать, что в русском языке очень требовательные морфемы, а вот словоформы — неприхотливы так же, как морфемы в агглютинативных языках.
Но не все языки устроены так. Некоторые идут гораздо дальше в своей требовательности. Вы помните — когда возросло стремление морфем сцепляться друг с другом, получились инкорпорирующие языки. А что будет, если возрастёт их требовательность друг к другу? Если уже не морфемы, а целые словоформы станут сверх-придирчивыми соседями?
Это тоже путь к образованию языков со сверхдлинными словами. Например, таких, как хорошо знакомый нам санскрит. Правда, про любовь санскрита к сверхдлинным словам мы ещё не говорили. Но надо знать, что это — одно из самых известных его свойств.
Итак, в санскрите «швы» (и ещё какие!) возникают не только внутри слова между морфемами: часто так крепко «сшиваются» между собой начало следующего и конец предыдущего слова, что трудно бывает сказать, где начинается одно и кончается другое. Например, если санскритское слово кончается на −a следующее за ним начинается на о−, то при слиянии этих слов на месте сочетания −ia оказывается −ya− (читается как русское «я»); если санскритское слово кончается на гласную, — например, на −o, а следующее начинается на такую же гласную — тоже на a−, то эти гласные как бы стягиваются в одну долгую (в санскрите, как и во многих других языках, есть долгие и краткие гласные), а если слово кончается на −a, а следующее начинается на i−, то на стыке и вовсе оказывается — e− (это вместо −ai−!). В последних двух случаях граница между словами исчезает совершенно — в точности как граница между морфемами в русском слове печь, которое мы обсуждали раньше. Надо сказать, что санскрит вообще чрезвычайно знаменит своими чередованиями — не только на стыках слов, но и на стыках морфем тоже, — настолько они сложные и запутанные. Например, есть санскритское слово bodha «пробуждение»; оно образовано от глагола с корнем bodh-, который значит «пробуждать». От этого же глагола с помощью суффикса −ta можно образовать причастие со значением «пробуждённый» — но выглядеть это причастие будет вовсе не так, как можно было бы ожидать (bodhta), а совсем по-другому. Во-первых, суффикс −ta потребует, чтобы в корне изменился гласный — с o− на u−. Во-вторых, на стыке морфем произойдёт следующее: глухой согласный −t− потребует, чтобы стоящий перед ним звонкий придыхательный −dh− стал непридыхательным, a −dh− в ответ на это, наоборот, превратит −t− в звонкий и к тому же придыхательный −dh−. Таким образом, −dh− + t− = −ddh−, и в качестве причастия мы получим слово Buddha (читается по-русски Будда); это имя, данное принцу Сиддхартхе Гаутаме, основателю учения буддизма (и значит оно — «Пробуждённый» или «Просветлённый»), Не думайте, однако, что вы уже знаете всё о санскритских причастиях. Возьмём другое знаменитое санскритское слово — yoga (читается «йога»), буквально — «соединение; сосредоточение». Оно образовано от глагола с корнем yuj− («йудж») «сопрягать, соединять»; причастие от этого глагола (с тем же суффиксом −ta) будет выглядеть уже как… yukta. В этом случае потребовалось, чтобы −j− перед −t− изменился в −g−, а потом этот звонкий звук оглушился. И вот, если поставить рядом слова buddha и yukta — трудно с первого взгляда определить, что перед нами одна и та же глагольная форма.
Надеюсь, теперь вы хоть немного представляете себе степень сложности чередований в санскрите. Для них с древнейших времён есть даже специальное название — сандхи, а придумали его индийские учёные-грамматики не менее двух с половиной тысяч лет назад, когда стали подробно описывать грамматику санскрита (это нужно было для того, чтобы как можно точнее произносить и понимать древние священные гимны, написанные на этом языке). Они, можно сказать, открыли сандхи в языке санскрит — так же, как древние астрономы открывали звёзды и планеты. И так же, как многими открытиями древних астрономов люди пользуются до сих пор, лингвисты до сих пор пользуются прекрасными древними грамматиками санскрита, где подробно описаны сандхи. А само слово «сандхи» из узкой области санскритоведения вошло в современную лингвистическую науку и стало общенаучным термином, так что статью под названием «О некоторых типах сандхи в ацтекском языке» с удовольствием примут в любой лингвистический журнал. А вот если вы напишете статью под названием «О некоторых типах сандхи во вьетнамском языке», то редколлегия, пожалуй, будет сильно удивлена. Если вы внимательно читали эту главу, вы, наверное, догадаетесь, почему так произойдёт.
Сандхи, как говорилось в древних грамматиках, бывают внешние и внутренние. Внутренние — это те, которые происходят на стыках внутрисловных морфемных швов (как в слове «Будда»), а внешние — между словами, и, как мы говорили, яркой особенностью санскрита являются именно они, внешние сандхи. Значит, в санскрите много сложных слов? Да, очень много. И чем дольше санскрит жил, тем больше говорящие на нём использовали этот способ образования слов — словосложение, точнее даже — словослияние. В поздних санскритских текстах складывалось несколько слов сразу — четыре, пять и даже больше, в общем-то, можно сказать, что целое предложение становилось словом. Похоже на эскимосский или корякский? И да, и нет — потому что в санскрите, в отличие от инкорпорирующих языков, предложение-слово получалось в основном не глагольное, а именное. Таким образом, древний индиец говорил что-нибудь вроде:
Его-быстроприхождение
— или:
Его-тигросмелоубивание,
тогда как эскимос или коряк скорее сказал бы как-нибудь так:
Быстроприоншёл
— или:
Смеломоржеуонбил.
(Не забудьте, что в инкорпорирующих языках морфемы всегда перепутаны!) В санскрите же морфемы в сложных словах всё-таки не перепутывались — потому что словосложение развивалось в нём постепенно, сливались рядом стоявшие в предложении слова, причём каждое — со своими готовыми морфемами. Что же касается чередований, то, как мы уже говорили, их и в инкорпорирующих языках тоже может быть много на стыках морфем: постоянное тесное соседство располагает к разного рода взаимодействию начал и концов корней, суффиксов и т. п. Так что в индейских языках, например, чередования лишь чуть менее сложные, чем в санскрите (потому-то название «Сандхи в ацтекском языке» и не удивит никого!).
Такими вот разными способами получаются языки с длинными словами-предложениями. Санскрит сцеплял друг с другом концы и начала слов (точно как морфемы), а инкорпорирующие языки вставляли существительные в середину глагола — при этом результат оказался почти одинаковым.
9. Свойства слов и свойства языков
Главный вывод, который можно было бы сделать из всего того, что рассказано в этой главе, — устройство слова (словоформы) очень много говорит о языке в целом. Как одна морфема в фузионном языке цепляется за другую, так и в языках мира одни свойства слова обязательно оказываются связанными с другими свойствами, причём не только слов, но и грамматики, всего облика языка.
Мы видели, что языки мира, хоть и кажутся бесконечно разнообразными, всё же могут быть разбиты на группы с похожими свойствами, причём появление этих свойств легко объяснить, и можно даже предсказать, какие ещё возможны типы языков.
Так, например, теперь мы понимаем, почему в агглютинативных языках слова обычно довольно длинные, а в фузионных — короткие, но не очень; почему в изолирующих языках слова очень короткие (зато много сложных слов), а в аналитических языках слова тоже короткие, но сложных слов может быть уже гораздо меньше. Или ещё: если в языке много коротких одноморфемных слов, то грамматики в нём может совсем не быть, а если это аналитический язык, то может быть и грамматика. Но вот если слова в языке длинные, то это точно значит, что в нём выражаются разные грамматические значения, скорее всего есть падежи, может быть, в глаголе много наклонений, и т. п.
Очень важно ещё и то, что похожие по своему устройству языки не обязательно являются близкими родственниками (с точки зрения происхождения — вспомните ещё раз первую и вторую главу); и наоборот, близкородственные языки не обязательно похожи. Например, турецкий язык устроен очень похоже на один из крупнейших языков Южной Индии — тамильский: оба с «прозрачными» морфемными швами, длинными словами и т. д. С другой стороны, английский, будучи, как вы помните, языком индоевропейским и германским (об этом сказано во второй главе), по своему устройству не похож не только на латынь, греческий, русский, но и даже на ближайше родственный ему немецкий; он, напротив, будет скорее близок к африканскому языку хауса или к китайскому: ведь в нём (в особенности по сравнению с его «близкими родственниками») возможность образовывать из одних слов другие довольно ограниченна. А среди славянских языков (близкородственных друг другу) выделяется своей непохожестью болгарский язык — он тоже скорее напоминает язык хауса, так как только в болгарском (и в очень похожем на него македонском), в отличие от других славянских языков, большинство грамматических значений выражаются служебными словами и вовсе нет падежей.
Именно поэтому, когда в поле зрения лингвистов попадает какой-то новый язык, они обычно стараются прежде всего обратить внимание на то, как, то есть по какому типу, в нём строятся слова, и говорят, что у языков с разными типами устройства слова — разный строй. А область лингвистики, которая занимается в первую очередь сравнением строя языков и, шире, — вообще сравнением разных свойств (неродственных) языков, называется лингвистической типологией. Так что эта глава, а также вся предыдущая (про грамматику), и предшествующая ей (про звуки), и — забежим вперёд — следующая глава (про то, как в разных языках строятся предложения) — это всё рассказ о типологии языков, а мы с вами сейчас — типологи (именно так называют себя лингвисты — специалисты в этой области). Типолог (в отличие от «просто» англиста, германиста, слависта, арабиста и т. д.) знает много разных языков — или, поскольку возможности человека ограниченны, а языков на свете огромное количество, по крайней мере знает многое про разные языки — так, чтобы иметь возможность их сравнить. Причём среди типологов, конечно, бывают и более «узкие специалисты»: одних больше интересует грамматика разных языков, других — порядок слов, третьих — звуки, но «словесный строй» языка — это, конечно, основа для любого такого сравнения, можно сказать, точка отсчёта.
10. Почему языки такие разные?
Итак, мы с вами типологи, сравниваем языки — и с каждой следующей главой нашей книги убеждаемся, какие они всё-таки разные (а ведь мы ещё далеко не всё даже упомянули!). Но мы уже знаем достаточно, чтобы в голову пришёл такой очень простой и наивный вопрос — почему же языки такие разные?
Как известно, на простые вопросы отвечать труднее всего. Но попробую ответить так: а почему языки должны быть одинаковыми?
Зачем нужен язык? Прежде всего — для того, чтобы превращать мысли в слова и предложения. Но разве слова и предложения должны быть для этого одинаково устроены?
Можно было бы решить так: язык должен быть устроен как можно более удобно для выражения мыслей. Поэтому если один язык удобнее другого, то такой язык лучше.
Эта мысль совершенно справедлива. Но дело вот в чём: знаем ли мы, что именно для наших мыслей удобно, а что — нет? И можем ли мы сказать, что в этом отношении одни языки лучше, а другие — хуже?
Этот вопрос давно приходил людям в голову. Конечно, люди давно заметили, что все языки разные, и пытались это как-то осмыслить. В древности проблему обычно решали просто: самый лучший язык — наш, а все остальные языки принадлежат варварам, их и языками-то считать нельзя. Потом люди задумались серьёзнее. В XVIII, XIX веках в Европе лингвисты считали, что самые совершенные языки — это древние индоевропейские языки, такие, как санскрит или латынь. Потом языки испортились: и форм у глаголов стало меньше, и падежи пропали, и слова стали короче… как-то это всё недостойно великих предков. Но вот в начале XX столетия знаменитый датский лингвист Отто Есперсен стал доказывать, что самый лучший язык — английский (надо отдать ему должное — всё-таки не датский; правда, Есперсен всю жизнь занимался именно английским и, должно быть, успел его полюбить; между прочим, его грамматика английского языка и до сих пор считается образцовой). Действительно, в аналитическом английском почти все значения выражаются служебными словами — просто, чётко, понятно, никаких тебе сандхи, никаких словоформ — а с другой стороны, и грамматика есть. Ведь «хорошему» языку, наверное, нужна какая-то грамматика? Долгое время так и считали, что если в языке нет грамматики, то он какой-то неполноценный, «неразвитый». Но мы-то с вами видели, что язык без грамматики едва ли не удобней для говорящих, чем язык с грамматикой. Нет, не так всё просто.
Современная лингвистика категорически отказывается считать, что есть языки удобные и неудобные, плохие и хорошие. Чем пристальней мы изучаем языки, тем лучше понимаем: все языки одинаково удобны, но каждый язык — по-своему. Дело в том, что язык — настолько сложная система, что он не может быть весь устроен одинаково. Язык состоит как бы из разных блоков — бывает система звуков, бывает — система слов и морфем, а ещё есть система предложений и система грамматических значений. Все они должны как-то приспособиться друг к другу.
И ещё одно — нельзя быть удобным для всего и для всех одновременно. Язык устроен так, что в нём всегда что-то одно удобно за счёт чего-то другого. И поскольку язык всё время изменяется, то получается, что и «зоны удобства» всё время меняются местами с «зонами неудобства» — было удобно одно, а стало другое.
Вот агглютинативные языки. Казалось бы, идеальная система: слова чётко делятся на части, можно построить слово с любым значением и по очень простым правилам — чего же ещё? Но плохо, что слова получаются в таких языках длинноваты — пока дойдёшь до конца, того и гляди, забудешь, с чего начал. И не держатся такие слова вместе, легко рассыпаются на части, и границы между ними слабые. Зато фузионные языки — в них слова хорошие, крепкие, не ошибёшься, где конец, где начало. И недлинные слова, как раз то, что надо. Всё бы хорошо, да очень уж чередования замучили. И на одно значение всегда столько морфем собирается, не знаешь, какую и выбрать.
То ли дело изолирующие языки — ни тебе чередований, ни длинных слов. Ставь себе корни рядом — и всё. Хорошо? Неплохо. Да только корней всё же не очень много, значений разных — гораздо больше. Получается, что каждый корень за двоих работает — да хорошо, если за двоих, а не за двадцатерых: он и вместо глагольной приставки, он и вместо показателя вида, он и вместо суффикса какого-нибудь привычного действия. А что делать — служебных морфем-то взять неоткуда. Вот и приходится в изолирующем языке вместо того, чтобы учить грамматику, учить наизусть — сразу весь словарь.
Так, может быть, прав профессор Есперсен, лучше аналитических языков и впрямь нету? И слова в них короткие, и грамматика есть, и чередования изгнаны? Всё верно, но и здесь без недостатка не обходится. Представьте себе, что у вас в предложении пять вспомогательных глаголов. Куда вы их денете? Будут они друг с другом путаться, пока разберёшься, какой глагол кому «помогает», — нет, подумаешь, уж лучше, пожалуй, сандхи.
Ну а инкорпорирующие языки? Они-то для кого удобны? Я скажу вам так — для говорящих на этих языках они очень удобны. Ведь не надо строить длинные предложения с разными словами и с паузами между ними, думать о падежах и предлогах — в одном слове-предложении сразу упакована вся мысль. А вот для слушающих, конечно, такие языки не подарок. Расшифровывать их труднее. Правда, если мы с вами давно друг друга знаем (или если я хорошо знаю, о чём речь), мне будет легче, поскольку я могу угадать какие-то части сообщения, а остальное можно и из слова-предложения по кусочкам выудить.
Сравнить такое положение говорящего и слушающего можно, пожалуй, с их отношением к аббревиатурам. На всякий случай поясню: аббревиатуры — это такие слова, которые образованы, например, из начальных букв слов какого-то сложного названия. Например, говорят МПС (вместо: «Министерство путей сообщения») или МГУ (вместо: «Московский государственный университет» или «Можайский городской универмаг»), С одной стороны, действительно, говорить так — удобно: и короче, и быстрее. А понимать? Если вы заранее знаете значение такого слова — так же как вы знаете слова стол, палка, медведь и все другие слова своего языка, — тогда это не очень трудно. Но если такого рода аббревиатуры ваш собеседник придумывает на ходу, процесс понимания становится похожим на дешифровку.
Представьте себе такую ситуацию: ко мне в гости зашёл эндорский посол из выдуманной страны Эндора. Мы выпили чаю, и он рассказал мне, что последнее время его всё больше занимает проблема энжелуэ и он даже задумал написать о ней в эсбо, да всё некогда: замучили дипломатические приёмы. Я, конечно, ему вежливо посочувствовал, но на самом деле ничего не понял (а вы бы поняли?). Мы попрощались, но загадочные энжелуэ и эсбо не давали мне покоя. Поразмыслив, я пришёл к выводу, что это какие-то общепринятые в Эндоре сокращения, а значит, надо догадаться, что такое НЖЛУЭ и СБО. Я промучился целый день. Каких только вариантов я не рассматривал — и Новые железнодорожные лишние утюги электричества, и Нижние жёлтые ловушки утренних этажерок — всё было не то. Пришлось обратиться в СБЭ (Справочное бюро Эндоры). Оказалось, что НЖЛУЭ — это Неопознанные животные лесных угодий Эндоры, а СБО — «Сфинкс Белого острова», ежегодная эндорская газета, название которой знакомо каждому эндорцу с пелёнок.
Эта история — пример того, с какими трудностями сталкивается «неподготовленный» слушатель аббревиатур. Аббревиатуры же, в свою очередь, служили нам примерами «сверхсокращений» в языке. Мы знаем, что в инкорпорирующих языках словосочетания и предложения тоже сокращаются, превращаясь в одно слово, и, хотя происходит это иначе, чем в аббревиатурах, при понимании таких слов с инкорпорацией у слушающего могут возникнуть, в общем, те же трудности. Вот потому и считается, что инкорпорирующие языки удобны для говорящего и не так удобны для слушающего.
Получается со всеми языками по пословице: хвост вылез — нос увяз, нос вылез — хвост увяз. Однако же язык за собой следит: не может у него быть слишком много недостатков. Для того он и изменяется, чтобы этого не допустить. Слова стали слишком длинные — появятся чередования, слова «ужмутся». Слишком много чередований, совсем в морфемах запутались? А ну-ка упростим грамматику, добавим три-четыре вспомогательных глагола — вот и легче станет. Слишком много корней, а суффиксов мало? А вот сделаем из десятка корней настоящие суффиксы — пусть знают своё место!
Так и перестраивается язык, как маятник: вправо-влево, от длинных слов — к коротким, от коротких — опять к длинным.
А человеку, конечно, привычней всего его собственный язык. В своём языке человек никаких неудобств не замечает.
Так что все языки одинаковы с этой точки зрения, ни один не лучше и не хуже.
Ну а почему же всё-таки язык не выберет что-нибудь среднее между тем и другим и не застынет в этом более или менее «удобном» состоянии?
Дело в том, что язык меняется ещё и потому, что находится в постоянном употреблении. В процессе использования морфемы «стираются» как монеты. Например, существовавшее когда-то «прозрачное» пожелание спаси Бог превратилось в загадочное спасибо, а слово здравствуйте в небрежной устной речи и вовсе сократилось в какое-то драсьть. Но это — одни из самых частых слов языка, другие слова стираются не так катастрофически. И всё же все морфемы постепенно укорачиваются — причём в первую очередь это касается именно концов морфем, а ещё чаще — концов конечных морфем. Поэтому первыми стираются окончания. Помните, в первой главе, обсуждая примеры из Пушкина, мы говорили, что русское −ти в глаголах со временем перешло в привычное нам −ть (раньше по-русски говорили не глядеть или гулять, а глядети и гуляти). Тогда мы не касались вопроса о том, почему так происходило, зато теперь мы уже умеем это объяснять.
Другой пример — судьба русской морфемы ся. Ещё недавно она была отдельным русским словом. Говорили не Он моется, а Он ся моет или Ему ся надо причесать (между прочим, в польском и в чешском так говорят до сих пор). Теперь же это часть глагола, морфема, которая произносится по крайней мере тремя разными способами: как −ся (в моешься), −сь (в моюсь), −ца (в моется).
«Стирание» морфем в языке — верный путь к тому, чтобы в нём возникли чередования и сандхи. Таким образом, например, язык из состояния «прозрачных» швов может превратиться в язык со скрытыми морфемными швами, то есть из языка типа турецкого в язык типа латыни. Но это если они «стираются» не до конца, а просто меняют свой внешний облик, укорачиваются и сливаются с идущими следом.
Между тем постепенно все полуистёршиеся морфемы могут «стереться» совсем и исчезнуть — это путь к языку с «прозрачными» морфемными швами или даже к языку с простейшими одноморфемными словами. Скажем, в древнегерманском было довольно много падежей: именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, звательный. Одновременно в этом языке было сильное начальное ударение. Безударные окончания «стирались» и отпадали. Из потомков древнегерманского остатки склонения сохранились только в исландском и немецком (в обоих по четыре падежа: именительный, родительный, дательный, винительный); что же касается таких языков, как, например, английский или похожий на него по «словесному строю» шведский, то там падежных окончаний в существительных нет вообще. Куда они делись? Истёрлись и отпали.
И вот представим себе, что в языке окончания полностью истёрлись и их нет. Что будет с таким языком дальше? Каким он станет через несколько сот лет? Какое-то время в «истёршемся» языке будет мало суффиксов и префиксов. Зато расплодятся служебные слова и словечки для обозначения времени, числа и других нужных в языке смыслов.
Вот эти полноценные слова, которые часто употребляются для выражения определённого смысла (например, будущего или иного времени), «привыкают» к своим соседям, притираются к ним и образуют новые суффиксы, префиксы и окончания.
Что же получается, язык движется по кругу — он возвращается к тому строю, от которого ушёл? В общем, да, но ввиду того, что предшествующее состояние его всё-таки уже больше не повторяется, лучше было бы говорить, что это движение не по кругу, а по такой кривой, которую в математике называют синусоидой, а я мог бы назвать «кривой Зализняка» (академик Андрей Анатольевич Зализняк — известный современный лингвист; когда-то я наблюдал, как эта кривая возникла на его лекциях, нарисованная мелом на доске):

У такой кривой, как вы видите, есть свои «пики», «вершины» и «впадины». Так вот, если условно принять, что «вершина» соответствует фузионному строю со «скрытыми» швами, а «впадина» — изолирующему строю со словами-морфемами, то получается, что прозрачные морфемные швы будут где-то на полдороге, а языки путешествуют по этой кривой: вверх-вниз, с горки на горку. Заметим только, что движение это происходит, по нашим, человеческим, меркам, крайне медленно — спуск или подъём может занимать многие сотни лет. Но ведь и для языка это срок немалый, — например, за это время, как мы знаем, из одного языка-предка может образоваться несколько языков-потомков. У каждого из них и свои типологические особенности, и своя собственная историческая судьба. Так какой же язык поднимется на «вершину»? Должно быть, уже совсем другой, чем тот, который шёл по склону.
И ещё одну особенность языковых изменений надо иметь в виду. Ведь на всех страницах этой книги речь, в общем, об одном: система языка очень сложная. А значит, и меняется, перестраивается она не сразу, а постепенно, медленно. Одна «зона» уже новая, а другая ещё сохраняет своё прежнее состояние. Например, в пятой главе мы обсуждали, что в английском в «зоне» существительных падежная система уже разрушилась полностью, а местоимения сохраняют противопоставление прямого и косвенного падежей. А что это значит? Это значит, что определить «местоположение» языка в целом на нашей условной картинке обычно довольно трудно. Кроме того, «целиком» язык, вообще говоря, не обязательно и доберётся до вершины или впадины — возьмёт и с полпути повернёт обратно. Так что абсолютно «чистых» представителей того или другого «словесного строя» найти среди языков не так уж легко.
Глава седьмая. Сравниваем предложения
До сих пор мы сравнивали разные языки, так сказать, не целиком, а отдельными порциями. Такими «порциями» были звуки, части слов и, наконец, слова этих языков. Мы убедились, что слова в разных языках устроены очень по-разному: они отличаются друг от друга и тем, что они значат, и тем, как они устроены, и тем, какие грамматические значения могут выражать.
Эти различия действительно очень велики, но различия между отдельными словами, оказывается, ещё далеко не все различия, которые бывают между языками мира.
Попробуем проделать простой эксперимент. Возьмём предложение на одном языке и будем переводить его на другой язык — слово за словом. Все те различия, которые затрагивают слова обоих языков, у нас будут учтены (слова мы будем переводить точно и аккуратно) — и всё же я почти уверен, что у нас ничего не получится (разве что случайно повезёт).
Чтобы вы в этом могли убедиться сразу, одно предложение я таким способом сейчас и переведу. Пусть это будет самое простое французское предложение, безо всяких изысканных и редких оборотов и прочего — ну, например, такое:
Ce matin, j'ai pris un train pour Paris.
Если переводить его так, как мы условились, — слово за словом, то получится вот что:
Это утро, я имею взятый один поезд для Париж.
Мы всё перевели аккуратно — но трудно даже понять, о чём идёт речь (я уж не говорю о том, чтобы это была правильная или тем более красивая русская фраза!). На самом деле переводить это предложение надо так (те из вас, кто знает французский язык, уже сделали это без труда):
Сегодня утром я сел в парижский поезд.
Для этого надо всего лишь знать, что «сегодня утром» по-французски будет буквально «это утро», что в поезда и автобусы во Франции не «садятся» — их «берут», что поезд «в» или «на» какой-то город — это по-французски поезд «для» и, наконец, что «иметь» — это во французском языке вспомогательный глагол, который образует прошедшее время. Вот и всё. Да, ещё надо помнить, что слово «один» на русский язык часто просто не переводится — в тех случаях, когда говорящий не имеет в виду, что поезд только один, а других не было, а хочет сказать, что это был какой-нибудь, любой, всё равно какой поезд. Если переводчик всё это (и кое-что ещё) знает — это и значит, что он владеет французским языком. А если он просто знает, что train — это по-французски «поезд», то до знания языка ему ещё далеко. (Кстати, train — по-французски не только «поезд», но ещё и «ход; движение», и «свита», и даже «система; механизм»: очень многое из того, что движется в сцеплении друг с другом, может быть названо этим словом, а «поезд» — только один, может быть, самый известный вариант такого движения.)
Значит, слово за словом переводить нельзя. Нужного смысла не получится (а скорее всего не получится и совсем никакого).
В чём здесь дело? Дело в том, что огромное количество различий между языками относится не к тому, как в них устроены сами слова, а к тому, как слова в них могут (или должны) соединяться друг с другом. Ведь человек говорит не словами, а целыми предложениями, даже не предложениями, а текстами, и язык предназначен в конечном счёте именно для сочинения самых разнообразных текстов. Значит, в языке должна быть не только грамматика слов, но и грамматика предложений и текстов. Посмотрим, какой эта грамматика в разных языках бывает.
Есть одна (очень очевидная) причина, которая мешает нам переводить все слова так, как они стоят в предложении. Ведь в разных языках слова стоят в предложении в разном порядке. Эта разница часто бросается в глаза, и вы, наверное, замечали, что в грамматиках иностранных языков почти всегда специально говорится о порядке слов — лингвисты так и называют этот специальный вид правил, которые предписывают, каким словам где в предложении стоять.
Слова могут значить абсолютно одно и то же, но в разных языках располагаться по-разному. Ведь когда человек говорит, он не может произнести все слова одновременно (хотя иногда очень хочется). Приходится устраивать очередь: сначала выпускаем на белый свет прилагательное, за ним — существительное, потом — глагол. Или наоборот — как в этом языке принято.
Что касается прилагательных и существительных, то тут есть две очевидные возможности: или прилагательное стоит впереди существительного (обыкновенный дракон), или наоборот (дракон обыкновенный). В русском языке обычно прилагательное-определение помещается впереди — это основной порядок для русского языка. Но в некоторых специальных случаях русский язык предписывает прилагательному располагаться после существительного. Например, встретив в джунглях дракона, вы внимательно посмотрите на него и скажете своему спутнику:
Не бойся, Вася, это же обыкновенный дракон!
Но в зоологическом музее рядом с чучелом дракона будут стоять таблички с надписью:
Дракон обыкновенный. Остров Борнео. Руками не трогать!
Не правда ли, в обоих случаях нужен именно такой порядок слов, а не другой? Ведь, говоря обыкновенный дракон, вы просто выражаете своё мнение об этом встреченном вами драконе, а дракон обыкновенный — это уже разновидность дракона, объективный научный факт. Обыкновенный дракон стоит в одном ряду с необыкновенным драконом, потрясающим драконом, невиданным драконом, невзрачным и тощим драконом и т. п. А дракон обыкновенный — в одном ряду с драконом китайским, драконом шестикрылым, драконом горным и другими видами драконов (я точно не помню, какие ещё они бывают, — можете посмотреть в энциклопедии или в учебнике по зоологии).
В других языках действуют другие правила. В английском языке мы помещаем прилагательное только перед существительными (big dragon); так же обстоит дело в китайском, венгерском, армянском и многих других языках. В языке суахили прилагательное всегда следует за существительным; таких языков меньше, но они тоже встречаются. Во французском языке положение отчасти напоминает русский: прилагательные могут помещаться и перед существительным, и после. Но, в отличие от русского, это разрешено только некоторым прилагательным и только в особых условиях. Большинство прилагательных помещаются после существительного (как в суахили), но самые употребительные и самые короткие из них (например, grand «большой», vrai «настоящий» и др.) могут стоять и перед ним. Изменение места прилагательного во французском языке может иметь довольно неожиданные последствия, так что не советую делать это не подумав:
grand homme — «великий человек», но —
homme grand — «человек высокого роста»;
vrai ours — «настоящий медведь», «просто медведь» (так скажут вам, если стул, на который вы сели, сразу сломался), но —
ours vrai — «медведь настоящий» (а не игрушка — близко лучше не подходить!) и т. д.
Всегда впереди существительного будут стоять во французском языке и слова «этот», «мой», «другой», — а в суахили и они помещаются после существительного. Так что про французский язык можно сказать, что он находится на полпути от английского к суахили.
Теперь посмотрим на то, как ведут себя глаголы. В предложении глагол-сказуемое связан прежде всего с двумя типами существительных: с подлежащим (кто?) и дополнением (кого?). В тройке П(одлежащее) — Д(ополнение) — Г(лагол) возможно шесть разных порядков (можете убедиться в этом сами), например: П-Д-Г: Рука руку моет; Г-Д-П: Моет руку рука; Д-Г-П: Руку моет рука и т. д.
Какие же из этих порядков встречаются в языках мира? Оказывается — все! Впрочем, одни из них встречаются гораздо чаще, чем другие. Почти две трети всех языков мира выбрали один из двух порядков: либо это порядок П-Д-Г («глагол в конце»: Рука руку моет), либо — П-Г-Д («глагол в середине»: Рука моет руку). Третий по распространённости порядок — это Г-П-Д («глагол в начале»: Моет рука руку).
Обратите внимание, что в самых распространённых порядках подлежащее всегда идёт раньше дополнения. Это и понятно, ведь что в предложении главное? Всякое предложение — это как бы подразумеваемый ответ на незаданный (а может быть, и заданный) вопрос. Или это вопрос «Что случилось?» (если мы совсем ничего не знаем), или это вопрос «С кем случилось?» (если мы уже знаем, что случилось что-то, но не знаем — с кем). А когда человек отвечает на вопрос, он, естественно, стремится начать с самого главного. Главное же — или название действия, то есть глагол, или название того, с кем это всё происходит, — в большинстве языков мира такой главный герой действия становится подлежащим. С него-то и начинают рассказ. Кроме того, подлежащее ведь надо как-то отличить от дополнения (чтобы точно знать, например, кто кого моет) — и если в языке нет падежей, то порядок слов становится для этого, как вы, может быть, помните из пятой главы, основным средством. Подлежащее должно быть первым, а дополнение — вторым, и лучше даже, если между ними ещё будет стоять глагол. Так именно и устроено большинство языков без падежей — от английского до китайского. А в языке с падежами глагол может либо спокойно отправляться в самый конец предложения (как в тюркских или дагестанских языках), либо гордо возглавлять его: смотрите, мол, сначала на меня, я скажу, что случилось, а детали — потом. Так устроены, например, арабский или ирландский язык.
А как же русский? Оказывается, в русском языке возможны все порядки — по крайней мере, все три основных. Только они встречаются в разных типах предложений. Например, когда мы начинаем рассказ и хотим сообщить только о том, что произошло, мы обычно начинаем с глагола:
Пришла весна;
Наступило утро;
Случилась со мной такая история: прихожу я как-то на приём к эндорскому послу по случаю Праздника Дракона…
Бывают целые длинные тексты, состоящие из таких «неожиданных новостей», в которых глагол неукоснительно занимает первое место. Они особенно характерны для устной речи, для рассказа. Ну например:
Ехал Грека через реку,
Видит Грека — в реке рак.
Сунул Грека руку в реку,
Рак за руку Греку — цап!
Обратите внимание, как строго русский язык соблюдает здесь правило: сначала — что происходит или произошло, потом — с кем произошло, и уже потом — всё остальное, «подробности».
Если бы в русском языке были возможны только такие предложения, то его порядок слов ничем не отличался бы от арабского. Но есть очень много разных случаев, когда, говоря по-русски, мы должны поставить глагол на последнее место в предложении:
Кто это сделал?;
Как тебя зовут?;
Твоё имя я так и не вспомнил.
И всё-таки самый частый случай для русского языка — это «глагол в середине». По крайней мере, в письменном тексте. Но — далеко не единственный.
Получается, что в русском языке порядок слов сильно зависит от того, что именно хочет говорящий: сообщить новость, задать вопрос, продолжить рассказ, уточнить сказанное… Такой порядок слов обычно называют «свободным», хотя на самом деле, как мы видели, он совсем не такой уж «свободный»: если я точно знаю, что я хочу сказать, я могу выбрать только тот порядок слов, который мне подходит. Конечно, по-русски можно сказать и так:
Зовут меня Лизой,
и так:
Лизой зовут меня,
и так:
Меня зовут Лизой,
— но в каждом конкретном случае нужно сказать только что-нибудь одно, иначе вас поймут неправильно. Например, если Лизин собеседник не понял, кого зовут Лизой — Лизу или её подругу Надю, то Лизе придётся ответить вторым способом. А если Лиза приготовилась рассказывать длинную-длинную историю о своей жизни и необычайных приключениях, то ей самое время воспользоваться первым способом. Ну и, наконец, если её просто спрашивают: «Девочка, как тебя зовут?» — то здесь третий способ подходит лучше всего. Так что если вам говорят, что в языке свободный порядок слов, то это означает не то, что слова в нём могут стоять как попало, а всего лишь то, что изменение порядка приводит в этом языке к изменению смысла. А вот в английском предложении мы просто не можем изменить раз и навсегда заданный порядок слов — потому-то он и называется в таких языках «жёстким».
Впрочем, и в языках с жёстким порядком слов возможны варианты. Но и в этом случае они зависят не от воли говорящего: просто одни слова автоматически должны выстраиваться одним способом, а другие слова — другим. Например, во французском языке, как и в английском, тоже действует порядок «глагол в середине». С одной оговоркой: если рядом с глаголом — настоящие существительные! Возьмём, например, предложение «Лиза дала дракону яблоко»:
английский —
Lisa gave an apple to the dragon.
Лиза дала яблоко дракону;
французский —
Lize donna une pomme au dragon.
Лиза дала яблоко дракону.
Порядок слов полностью совпадает. Но заменим теперь существительные на местоимения — «Она дала ему его». Вот что получится:
английский —
She gave it to him.
Она дала его ему;
французский —
Elle le lui donna.
Она его ему дала.
На этот раз во французском языке глагол оказался на конце — совсем как в турецком или в лезгинском. Но это всё равно жёсткий порядок слов — ведь каждый раз в получившемся предложении мы не можем переставить слова иначе, как бы нам этого ни хотелось. Похожие перестановки слов бывают и в немецком языке — тоже языке с «жёстким» порядком (несмотря на то что в немецком есть падежи и он мог бы позволить себе большую свободу). В обычном предложении немецкий язык строго предписывает придерживаться порядка «глагол в середине»; наше предложение про дракона, переведённое на немецкий, будет очень похоже на английское и французское:
немецкий —
Lisa gab dem Drachen einen Apfel.
Лиза дала дракону яблоко.
Но как только мы захотим сделать из этого предложения другое предложение, посложнее, так сразу же проявятся некоторые удивительные особенности немецкого языка. Оказывается, если мы захотим выразить такую мысль: «Надя знает, что Лиза дала дракону яблоко», то для этого нам обязательно понадобится переставить глагол «дать» в конец предложения! Иначе по-немецки просто нельзя сказать — будет ошибка. Выглядеть это будет следующим образом:
Nadja weiß, daß Lisa dem Drachen einen Apfel gab.
Надя знает, что Лиза дракону яблоко дала.
Значит, немецкий глагол всё-таки может перемещаться в конец предложения — но лишь при особых обстоятельствах. Более того, может он перемещаться и в начало. Если мы скажем вот так:
Gab Lisa dem Drachen einen Apfel?
— то у нас получится совершенно правильное вопросительное предложение. Потому что единственный способ по-немецки спросить «Дала ли Лиза дракону яблоко?» — это как раз поставить глагол в начало предложения. Так в немецком языке образуются вопросы.
И как же нам теперь считать немецкий порядок — жёстким или не жёстким? Вроде бы можно слова переставлять — и вроде бы всё же нельзя. Пожалуй, правильнее всего считать, что он тоже жёсткий — хотя, может быть, и чуть менее жёсткий, чем в английском.
Итак, чем больше пользуются языки перестановкой слов для передачи разных оттенков смысла — тем более свободным является в таких языках порядок слов. Вам, наверное, кажется, что свободнее порядка слов, чем в русском языке, и быть не может. (Например, только что написанная мной фраза может выглядеть и так: «Кажется вам, наверное, что и быть не может свободнее, чем в русском языке, порядка слов».)
Однако и русский язык — это ещё не предел словесной свободы. Один из признанных рекордсменов в этой области — классический латинский язык, такой, каким он дошёл до нас в произведениях античной эпохи (а не тот, на котором писали позднее в средневековой Европе, когда нормы порядка слов в латинском невольно «подстраивались» под новые европейские языки, где, как вы видели, не очень-то разгуляешься). Что же в латинском порядке могло оказаться «свободнее», чем в русском? А вот что. В русском языке, как бы мы ни переставляли связанные друг с другом слова, мы всё же стараемся не отрывать их друг от друга. Мы можем сказать пришла весна или весна пришла, синее море или море синее, но в русском предложении гораздо реже случается так, что, например, слово море окажется в его начале, а связанное с ним слово синее — в конце. В латинском же языке это было абсолютно нормальным явлением. И там это тоже имело свой смысл: чем дальше слово отрывалось от своих исконных соседей, тем, стало быть, важнее оно было для говорящего. И получалось, что вместо того, чтобы сказать что-нибудь вроде: Среди римлян он считался первым поэтом (как сказали бы мы), римляне говорили: Первым он считался среди римлян поэтом. Но хорошо, если у нас в предложении только одно прилагательное. А если их несколько?
В латинском языке было три рода и шесть падежей — определить, что к чему относится, можно было почти всегда. Вот и разбрасывали римские авторы свои прилагательные по всему предложению, особенно поэты в стихах старались — казалось, чем запутаннее узор из прилагательных и существительных выйдет, тем изысканнее получится стих. А нам, их поздним читателям, теперь приходится вылавливать из текста все эти разбежавшиеся слова и в уме расставлять их по местам — почти как при игре в «пазл» — знаете такую? Судите сами.
Вместо того чтобы сказать, например:
Стремительным шагом настигает его грозное возмездие, — латинский поэт скажет как-нибудь так:
Грозное стремительным его настигает возмездие шагом.
Если вы немного подумаете, вы вполне успешно «расшифруете» это предложение. И, может быть даже, оно покажется вам красивым, а наши смирные фразы с послушными словами — скучноватыми после него. Недаром Пушкин, когда писал о знаменитом римском поэте Овидии, сосланном императором Августом в полудикое Причерноморье, невольно (или, может быть, сознательно) воспроизвёл эту изысканную манеру латинских стихотворцев:
…И завещал он, умирая,
Чтобы на юг перенесли
Его тоскующие кости,
И смертью — чуждой сей земли —
Не успокоенные гости.
(То есть: гости сей чуждой [= «чужой»] земли, не успокоенные и смертью. Это совсем как могло бы быть в латинском языке.)
Вот что такое настоящий «свободный порядок слов»!
Мы убедились на многих примерах, что слова в предложении нельзя располагать произвольно — в каждом языке свои правила «порядка слов». Но, допустим, мы, переводя с одного языка на другой, расположили все слова правильно. Поймём ли мы сказанное?
Пока ещё — нет. Пока ещё, приходится признать, мы очень далеки от этого. Мало расположить слова в правильном порядке. И мало знать, что они значат сами по себе. Надо ещё знать, что слова разрешают делать своим соседям, а чего — не разрешают. Оказывается, в разных языках у слов очень разные требования к своим соседям. И чтобы язык понимать (и особенно — чтобы на нём правильно говорить), нужно знать не только смысл слова, но и те требования, которые оно предъявляет к другим, связанным с ним словам.
Больше всего таких требований у глаголов. Вспомните, ведь глагол обозначает ситуацию, и нам нужно как-то различить роли всех её участников: либо каждому из них присвоить свой особый падеж, либо — поставить рядом с ним нужный предлог или послелог, либо, наконец, присвоить ему постоянное место перед глаголом или после него. За всё это отвечает глагол; именно глагол в языке, так сказать, принимает окончательное решение по всем этим вопросам. И конечно, в разных языках глаголы могут принимать очень разные решения. Мы уже рассуждали об этом (в пятой главе), в основном касаясь крупных отличий; но в языках хватает и мелких.
Даже если набор падежей в двух языках примерно совпадает, это ещё не значит, что глаголы с одинаковым значением будут в этих языках, как говорят лингвисты, управлять одинаковыми падежами. По-русски мы поздравляем и благодарим кого-то, а по-немецки и по-чешски — кому-то, зато по-русски мы помогаем кому-то, а по-латыни — кого-то. С другой стороны, по-русски и по-немецки глагол «щадить» требует винительного падежа (щадить кого-то), а в латинском и в исландском языке правильным будет только сочетание с дательным падежом (щадить кому-то). Не легче обстоит дело и в том случае, когда глагол требует после себя какого-нибудь предлога: например, по-русски говорят заботиться о ком-то, по-немецки — для кого-то (это кажется даже естественнее), но по-французски этот глагол употребляется с дополнением без всякого предлога. С другой стороны, по-русски правильно сказать удивляться чему-то (с дательным падежом без предлога), по-немецки — удивляться через что-то (появляется предлог с винительным падежом), а по-французски — от чего-то (тоже нужен предлог, но совсем другой).
Один из самых знаменитых своей непредсказуемостью в разных языках — глагол бояться. По-русски скажут: Он боится грозы (с родительным падежом), по-немецки буквально — Он боится перед грозой, а во многих дагестанских языках необходимо будет сказать: Он боится от грозы или даже из-под грозы (конечно, слово гроза будет стоять при этом в одном из тех местных падежей, о которых мы так много рассуждали в пятой главе). В японском же языке этот глагол будет вести себя и вовсе загадочно — там говорят: Он боится гроза (со словом гроза безо всякого предлога и в именительном падеже!).
Таких примеров очень и очень много. В конце концов лингвисты скорее начинают удивляться совпадениям в поведении глаголов разных языков, чем их несходству. При изучении иностранных языков очень трудно не сделать ошибку на управление глагола: ведь человек в своём родном языке так привык к прихотям своих глаголов, что выполняет их механически, совершенно не задумываясь. Так что не удивляйтесь, услышав от вашего немецкого друга вежливое Благодарю вам! — просто он поступает с русским глаголом так же, как привык поступать со своим немецким.
Но требования к соседним словам умеют предъявлять не только глаголы (хотя глаголы, надо признать, самые большие мастера в этом деле). Тем не менее другие слова тоже отличаются в этом плане изрядной «капризностью». Взять, например, предлоги. По-русски мы говорим: Это было в три часаи в среду(почему-то оба раза в винительном падеже), — но: Это было в январе(здесь предлог уже требует предложного падежа); а в английском языке в этих случаях (во всех трёх!) даже предлоги будут разные: It was at three o'clock (как бы: «у трёх часов»); — It was on Wednesday (как бы: «на среде»); — It was in January (как бы: «в январе»). В русском языке предлоги никогда не соединяются с глаголами — им подавай только существительные. Например, мы можем свободно сказать перед уходом, для работы, но никогда не скажем перед уйти или для работать. Зато во французском языке предлоги спокойно соглашаются стоять рядом с глаголами: avant de partir как раз и переводится буквально «перед уйти», a pour travailler — «для работать».
Не отстают и прилагательные. Можно ли по-русски сказать: Эта кукла хорошая играть или Эта книга лёгкая читать? Конечно нет — русские прилагательные обычно запрещают формам глагола стоять рядом с ними (сказать нужно как-то по-другому: например, лёгкая для чтения, то есть превратив глагол в существительное). Но по-английски такое соседство прилагательного с глаголом (управление прилагательного глаголом, говоря лингвистическим языком) — вполне нормальное явление. По-английски буквально так и скажут:
This book is easy to read.
Много таких сочетаний и во французском языке. Например, магазины готового платья называются по-французски pret a porter (буквально — «готовое для носить», то есть «то, что уже можно сразу носить»). Видите, чтобы перевести это на русский язык, понадобилась довольно длинная фраза; может быть, именно поэтому наши модельеры предпочитают не переводить это название, а так и говорят: прет-а-порте. Это стало общепризнанным термином швейного дела.
Требования слов к своим соседям могут распространяться не только на отдельные слова, но даже на целые предложения. Например, по-русски мы говорим:
Я знаю, что ты придёшь.
Но, с другой стороны, мы должны сказать:
Я хочу, чтобы ты пришла.
Несмотря на то что событие, которого я жду или хочу, явным образом относится к будущему времени (человек хочет только того, что ещё не произошло, чего нет), — всё равно в предложении с глаголом хотеть я обязан, говоря по-русски, употребить форму сослагательного наклонения. По-русски нельзя сказать:
Я хочу, что ты придёшь.
Так же устроен глагол хотеть и подобные ему в других европейских языках — но отнюдь не во всех языках мира. Глаголы могут различаться не только тем, что после одних должно следовать предложение с союзом что, а после других — предложение с союзом чтобы. В латинском языке (а вслед за ним — во французском и, под его влиянием, в английском) легко можно встретить такое, например, предложение:
Царь видел её танцевать,
— что, как вы, наверное, догадались, означает «Царь видел, что она танцевала». В этом предложении как бы «склеиваются» две структуры: видеть кого-то (где объект выражается аккузативом, т. е. винительным падежом) и видеть что-то (где объект — наблюдаемая ситуация — выражается неопределённой формой глагола). Не правда ли, это очень ёмкий и лаконичный способ выражения, в котором нет абсолютно «ничего лишнего» — ни лишних союзов, ни других «вспомогательных» слов. Недаром латинский язык славился своей сжатостью и точностью. По-русски мы не можем повторить этот оборот буквально — нам приходится быть более многословными. Впрочем, справедливости ради заметим, что в некоторых случаях так можно говорить и по-русски — целый ряд русских глаголов разрешают такой способ выражения, например:
Царь попросил её уйти;
Царь заставил её уйти.
Мы к таким предложениям настолько привыкли, что не замечаем в них ничего особенного. Но латинское видел её танцевать построено по такой же схеме, просто в латинском языке эту схему разрешает гораздо большее число глаголов.
В общем, почти у каждого слова в языке оказываются свои требования к соседям. Цепочки слов, которые образованы в соответствии с такими требованиями, в лингвистике принято называть конструкциями. (Кто-то) видит (кого-то) что-то делать — это особая глагольная конструкция латинского языка (глагольная — потому что «командует» выбором форм у слов здесь, конечно, глагол). Латинский глагол видеть в такой конструкции, как говорят лингвисты, участвует, а, например, глагол любоваться — не участвует, для него нужна другая конструкция. Конечно, конструкции в языках бывают не только глагольные — бывают, например, разного рода предложные конструкции (вы уже приблизительно представляете себе, что это такое) и ещё многие другие. Конструкции изучает и описывает тот раздел лингвистики, который занимается не словами, а их связями друг с другом, — как видите, это тоже совершенно необходимая часть грамматики. Этот раздел называется синтаксис.
Различия между типами конструкций — очень важные и глубокие различия между языками. За тем или иным способом выстраивать слова скрываются многие существенные особенности языков, скрытые от поверхностного взгляда. Может быть, вы помните наше рассуждение о дательном падеже — о том, как частота употребления дативных конструкций (теперь мы уже можем говорить и так) уменьшается по мере движения с востока на запад и с юга на север Европы — и одновременно с этим у языков остаётся меньше возможностей для обозначения непроизвольных, беспричинных действий, того, что происходит «просто так». Все эти мне хочется, мне нравится, мне кажется — так удобно выражать их дательным падежом! И это совсем не то же самое, что я хочу или я полагаю! А теперь посмотрим, как устроены в разных языках похожие предложения, хотя и описывающие другую ситуацию — когда человек испытывает какое-то ощущение. В русском здесь тоже появится дательный падеж:
Мне холодно.
Похожим образом — с дательным падежом — это будет звучать и по-немецки. А во французском языке этому будет соответствовать другая конструкция:
J'ai froid,
— то есть буквально «я имею холод». Очень характерен для самого духа французского языка этот переход от «мне» к «я»: говорящий прямо и недвусмысленно объявляет себя главным действующим лицом того, что происходит (хотя, если разобраться, ни в нём, ни в мире почти ничего не изменилось, не «случилось» — просто он почувствовал изменение температуры). Почти то же самое, с таким же переходом от «мне» к «я», произойдёт при переводе этого предложения на английский язык, только выражена будет эта мысль чуть-чуть иначе:
I am cold,
— то есть буквально «я есть холодный»; идея ощущения передаётся не через идею обладания (как во французском), а через идею свойства: если я чувствую холод, это значит, что я сам изменился, я стал другим («холодным», точнее, «мёрзнущим»). А вот во многих не-европейских языках (например, в языках Африки) о том же будет сказано совсем иначе. Например, буквально так:
Холод меня взял.
Кстати, вспомните, ведь и в русском языке есть такие конструкции: мы говорим и Его взяла досада, и, например, Его охватила злоба — просто встречаются они реже. В этом случае человек, испытывающий какие-то ощущения, уподобляется пассивному объекту — не он чувствует нечто, а, так сказать, «его чувствуют».
Внимательное изучение конструкций может многое сказать о характере языка в целом, о его, как раньше говорили лингвисты, «строе» (помните, мы уже использовали это ёмкое понятие в шестой главе).
Вот ещё одно очень интересное отличие. Лингвисты давно заметили, что все языки можно разделить на иметь-языки и быть-языки. Первые языки выражают идею обладания с помощью особого глагола типа иметь (кто имеет что или кого), то есть с точки зрения синтаксиса приравнивают обладание к активному действию — такому же, как, например, брать, держать или класть. В этих языках (к ним опять-таки относится большинство европейских языков, в том числе английский, немецкий и французский) вам встретятся предложения, буквальный перевод которых будет выглядеть так:
Я имею кошку;
Я имею брата;
Я имею немного денег.
С точки зрения русского языка (хотя в нём и существует глагол иметь) эти предложения выглядят очень странно. Скорее всего, глядя на них, вы скажете, что их придумал какой-то иностранец.
Обладание очень редко выражается по-русски глаголом иметь — и обычно к тому же, когда речь идёт о несуществующем (воображаемом, желаемом и т. п.) обладании, «обладании вообще». Например:
Не имей сто рублей, а имей сто друзей;
Думайте сами, решайте сами: иметь или не иметь?;
Что имеем — не храним, потерявши — плачем.
В обычной ситуации мы говорим иначе:
У меня есть кошка;
У меня есть брат;
У меня есть немного денег.
Дело в том, что русский принадлежит ко второму типу языков, которые приравнивают обладание к свойству или даже, скорее, к местонахождению (что-то где-то есть — что-то у кого-то есть). Если в языках первого типа отношение Я имею кошку «конструктивно» уподобляется отношению Я держу кошку, то в языках второго типа это отношение уподобляется чему-то вроде Кошка находится или лежит около меня. Здесь есть тонкая разница. В первом случае тот, кто имеет, с точки зрения языковой структуры рассматривается как активная личность, как приобретатель (хотя, например, на то, есть у вас брат или нет, вы никак повлиять не можете — это условность языка: вполне можно приобрести мебель, но вряд ли можно приобрести брата). Зато во втором случае тот, кто имеет, рассматривается пассивно — скорее как хранитель и даже как хранилище. Мол, есть «около» тебя деньги, нет денег — всё это происходит по воле судьбы и от тебя никак не зависит.
Интересно, что к иметь-языкам относятся не только западноевропейские, но и почти все славянские: не только чешский и польский, но даже белорусский и болгарский. Только русский остаётся ярким представителем быть-языков — наряду со многими тюркскими, финно-угорскими, дагестанскими, японским и другими языками. Кстати, обладатель (превращённый, собственно, в «место обладания») в этих языках выражается по-разному: говорят и нечто вроде «на мне деньги есть», и «за мной деньги есть», и даже «мои деньги есть» — то есть просто есть, и всё, а где — не важно. А вот латинский язык был, пожалуй, одновременно и быть-, и иметь-языком; в классическом латинском языке было одинаково правильно сказать:
Habeo domum.
Имею дом
(то есть «я имею дом») и
Domus mihi est.
Дом мне есть
(то есть «мне/для меня есть дом»). И то, и другое значило — «у меня есть дом». Борьба между быть и иметь в латинском языке закончилась, как мы знаем, победой иметь во всех его языках-потомках. Вообще, считается, что древние индоевропейские языки чаще выражали идею обладания с помощью глагола быть, чем современные.
Теперь вы в общих чертах представляете себе, насколько велики различия между языками в том, что касается способов соединять слова друг с другом — синтаксических конструкций. А как обстоит дело с различием между смыслом соединяемых частей — насколько похожи (или не похожи) языки в этой области?
Это не такой простой вопрос, и ответ на него тоже будет непростой. Можно ответить так: смыслы слов и предложений в разных языках одновременно и похожи, и не похожи друг на друга.
Когда мы о чём-то рассказываем, мы с помощью слов описываем мир — точнее, пытаемся передать то, что мы думаем об этом мире. Но мир у всех у нас один и тот же, всем людям на земле светит одно и то же солнце, и думают все люди тоже похожим образом. Иначе говорящие на разных языках никогда не могли бы понять друг друга. Значит, смысл сказанного по-французски, по-китайски и по-болгарски должен быть одинаковым? В некотором смысле — да.
Но представим себе такую ситуацию. Вас попросили объяснить, что такое снег. И вы можете сказать так:
«Снег — это то, что зимой падает с неба»;
«Снег — это белое, холодное и рассыпчатое»;
«Снег — это то, что мешает видеть и ходить, но если у вас есть лыжи, то на них можно передвигаться по снегу очень быстро»;
«Снег — это то, из чего можно скатать снежки, слепить снежную бабу или построить крепость»;
«Снег — это то, что тает на солнце и превращается в воду»;
«Снег — это отряды Снежной королевы, которые она посылает, когда сердится на людей».
И ещё многое другое.
Всё, что вы сказали, будет правильно. Правильно хотя бы потому, что тот, кто это говорил, на самом деле так думал и так представлял себе снег. Значит, для одного снег — это рассыпчатое вещество, которое тает на солнце, а для другого — слуги Снежной королевы. Конечно, снег в некотором смысле один и тот же для всех людей на земле, но ведь это не мешает разным людям его себе по-разному представлять. Снег и представление о снеге — не совсем одно и то же. Так же как не одно и то же — дом и рисунок дома. Один и тот же дом можно нарисовать многими способами, с разных сторон и в разных видах. И, в общем-то, нельзя сказать, что какой-то из этих рисунков будет «неправильным» рисунком дома.
Рассказывать о снеге или рисовать дом могут люди, говорящие на одном и том же языке, и каждый может делать это по-разному. Это зависит только от их воображения, настроения, потребностей. Но оказывается, что разные языки тоже могут различаться точно так же, как разные люди. В каждом языке отражено своё представление о мире — и о том, что такое «вода», и о том, что такое «быстро», и о том, что такое, например, «понимать». Язык как бы отражает общие представления всех говорящих на нём людей — представления о том, как устроен мир. А эти представления, как вы понимаете, будут лишь одной из возможных «картин мира» и будут в разных языках различаться — иногда очень сильно, иногда едва заметно. Это будет зависеть от того, насколько совпадают культура, обычаи, традиции разных народов.
Так что язык — это своего рода зеркало, которое стоит между нами и миром; оно отражает не все свойства мира, а только те, которые нашим далёким предкам почему-то казались особенно важными. Конечно, зеркало это, так сказать, прозрачное. Зеркало — не каменная стена. Мы можем выучить другой язык и посмотреть на мир глазами другого народа. Даже находясь «внутри» своего языка, мы легко можем поменять свои представления. Кстати, именно это и делают учёные, когда рассуждают о своём предмете. Ведь одна из первых вещей, которую они делают, — это придумывают свой особый язык. Согласитесь, когда физик говорит о свойствах жидкостей и газов, его язык отличается от нашего обычного языка гораздо больше, чем русский язык отличается от английского: то, что физик называет «молекулой» или «теплоёмкостью», вряд ли имеет соответствия в нашем обычном языке и в нашей обычной картине мира.
Лингвисты считают, что каждый язык отражает свою собственную «картину мира». Это не мешает людям понимать друг друга, но создаёт очень интересные языковые отличия.
Например, как разные люди воспринимают время? Говорящие на русском языке — скорее как поток чего-то, что может двигаться с разной скоростью (время течёт или бежит, впрочем, иногда оно даже летит, зато иногда — еле идёт), но в любом случае — откуда-то издали — на нас. Будущее находится впереди, а прошлое — сзади. Мы говорим:
У тебя всё впереди (то есть «в будущем»);
Это было три дня назад (то есть «с того момента прошло три дня»);
Теперь, когда все испытания позади (то есть «в прошлом»), можно и отдохнуть.
Конечно, это ещё не все возможные картины из тех, что рисует русский язык. Как снег может быть одновременно слугою Снежной королевы и материалом для снежной крепости, так и в языке понятие может одновременно представляться по-разному. Мы могли бы вспомнить о том, что в русском языке время — это ещё и что-то вроде имущества, монет или сокровища, недаром его тратят (часто впустую), а также берегут и экономят, его можно кому-то уделить, а можно у кого-то отнять, его полезно рассчитывать. Но этого мало — иногда время оказывается живым существом, чуть ли не врагом, которого почему-то надо убивать (разве можно, например, убивать деньги?), и так далее. Всё это — образы времени в русском языке.
У европейских народов, чья культура близка к русской, время предстаёт в очень похожем виде (хотя мелкие отличия бывают и здесь). Но вот у народов других стран обнаруживаются просто поразительные отличия. Например, оказывается, что время может вовсе не течь из никуда в никуда, а — двигаться по кругу, всякий раз возвращаясь к началу, как сменяются времена года; и тогда оно будет похоже не на поток, а скорее на круг или на хоровод. А если даже оно течёт, то вовсе не спереди назад, а в обратном направлении — сзади вперёд, и будущим в таких языках окажется то, что «сзади» нас. Время может казаться то живым существом, то неодушевлённым предметом, но при этом совершенно не обязательно представляться как нечто ценное — и, значит, в таких языках его нельзя ни «украсть», ни «потратить», разве что просто «скоротать» (то есть «укоротить» — как верёвку) или «отрезать».
Есть много других примеров этого поразительного несовпадения разных «картин мира». Проявляются они обычно в том, как в языке одни слова связываются с другими по смыслу. Если в языке слово «назад» образовано от слова «спина», а слово «верх» или «над» — от слова «голова», то ясно, что этот язык ориентирует пространство вокруг человека и по образцу человеческого тела. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что так поступают абсолютно все языки, только в одних языках следы этой связи более явные, чем в других; детали этой «человекоподобной» ориентации тоже, конечно, могут отличаться. Но вас не должно удивлять, что в двух совершенно различных точках земного шара — в западноафриканском языке волоф (на котором говорят в Сенегале) и в персидском языке Ирана — выражение, звучащее буквально как «лицо дома», — одинаково означает «(пространство) перед домом» (кстати, в том же языке волоф слово «лицо» означает ещё и «будущее»).
Другой интересный случай — как разные языки представляют себе понимание. Глагол «знать» в языках мира обычно элементарен: он не образован ни от какого другого слова, знание является одним из основных понятий человеческой деятельности. А вот понимание (то есть приобретение знаний с помощью каких-то усилий) описывается разными языками почти так же красочно, как время, но ещё более разнообразно.
В русском языке сам глагол понимать почти утратил связь с другими словами, но всё же, если вдуматься, можно догадаться о его родстве с глаголом «брать» (древнее имати): сравните такие глаголы, как принимать, вынимать или отнимать. Та же идея в гораздо более ярком виде представлена в русском схватывать. Вообще, русскому языку очень близко представление о понимании как об «удержании» или «ухватывании» чего-то «неподдающегося»; но это и в целом довольно широко распространённый образ (глаголы такого рода есть и в немецком, и в латинском языке с его романскими потомками). Другой образ понимания связан с идеей «сортировки», «раскладывания по полочкам»: так устроено и латинское intellegere (от которого, кстати, образованы слова интеллект, интеллектуальный и интеллигентный), и русское разбираться. Все эти способы обозначать понимание свойственны в основном европейским языкам, но есть один очень характерный способ, который европейскими языками используется нечасто, зато крайне распространён в языках Африки и Америки: это знак равенства между «понимать» и «слышать». «Я услышал тебя», — говорит индеец, и это значит: «Я тебя понял». Во многих языках Африки отдельного глагола «понимать» просто нет: его с успехом заменяет глагол «слышать». «Этот человек не слышит наш язык» — так скажут в Африке об иностранце. Единственный европейский язык, который приходит мне в голову в связи с идеей «слухового понимания», — это французский, где глагол entendre «слышать» нередко означает как раз «понимать» или «подразумевать». Если француз захочет вас спросить о том, что вы понимаете под тем или иным научным термином, то его вопрос будет звучать буквально как «Что вы под этим слышите»:
Qu'est-ce que vous entendez sous ce terme?
(Кстати, почему это говорят понимать под чем-либо, а не, допустим в, или на чём-либо? Вот ещё одна загадка глагольного управления.)
Я думаю, приведённых примеров уже достаточно, чтобы понять (схватить, разобрать, услышать…), насколько разные языки расходятся друг с другом (а иногда — насколько неожиданно сходятся) в том, как они изображают мир и представления людей об этом мире. На это когда-то обратил внимание знаменитый немецкий учёный, философ и языковед, исследователь языков Америки и Азии, живший на рубеже XVIII и XIX веков, Вильгельм фон Гумбольдт (основавший, между прочим, Берлинский университет — как Ломоносов за пятьдесят лет до того основал Московский). И в нашем столетии лингвисты не раз задумывались об этом свойстве языков; многие говорили даже об особой «наивной философии», которая скрыта в каждом человеческом языке.
Часть III. Языки шести континентов
Книга наша уже почти кончилась. На её страницах вы встретили названия многих разных языков и немало о них узнали: об их близких и дальних родственниках, об их истории, о гласных и согласных, суффиксах и трансфиксах, грамматических категориях и конструкциях — всего сразу и не перечислишь. А вот как эти, в том числе и уже знакомые нам, языки распределены по нашей земле? Какие языки живут в Америке, какие — в Азии, какие — в Австралии? Чем похожи друг на друга соседние языки и чем отличаются? Об этом — пусть и в немногих словах — мне и хотелось бы рассказать вам напоследок (дополнив то, что было сказано о крупных языковых семьях во второй главе).
На земле не меньше пяти тысяч языков. Некоторые учёные считают, что число их даже больше — шесть-семь тысяч. Точное число никому не известно — во-первых, потому, что такое число и не может быть точным (ведь тут многое зависит от того, как считать, а мы помним, что границу между языком и диалектом иногда провести бывает трудно); во-вторых, потому, что есть языки, ещё не открытые: представляете, где-нибудь в джунглях Амазонки живёт народ, который говорит на своём особом языке, и ни один лингвист на свете не имеет об этом языке никакого представления. Правда, интересно? А вдруг как раз в этом языке все слова — из одних гласных? Или совсем нет глаголов? Или слова могут стоять сразу в двух падежах — именительном и родительном? Или не обязательно в каждом слове есть корень? Не может быть, говорите? А вдруг?
Итак, не меньше пяти тысяч языков. Среди них есть великие, мировые языки — на них говорят сотни миллионов людей. А есть маленькие языки — ну, например, языки всего для одной тысячи говорящих или даже одной сотни человек. Таким языкам очень трудно выжить в окружении их более многочисленных соседей: они стоят на пороге исчезновения. С каждым следующим поколением говорящих на них людей остаётся всё меньше и меньше, они постепенно переходят на другой, более распространённый язык своих соседей — и вот уже наступает момент, когда на этом языке не говорит никто.
Многие языки умерли таким образом сотни и тысячи лет назад; среди них были и очень знаменитые, такие, как шумерский, хеттский, аккадский (все — в Малой Азии), этрусский (северная Италия) или готский (Западная Европа); но ещё больше было таких, от которых не осталось даже названий. Айнский (загадочный язык аборигенов севера Японии и острова Сахалин) и убыхский (родственный абхазскому язык маленького народа, жившего последнее время в нескольких селениях в Турции) исчезли прямо на наших глазах: последний человек, говоривший на убыхском языке, умер совсем недавно, в начале 90-х годов XX века.
Лингвисты очень стараются успеть описать такие языки — ведь каждый язык неповторим. Но языков, которые сейчас находятся на грани исчезновения, очень много, так много, что лингвистами России даже была недавно издана Красная книга языков России — как издаются биологами Красные книги с описанием исчезающих растений и животных. В России немало языков, находящихся на грани исчезновения, особенно среди языков народов Севера и Сибири. Например, камасинский язык (был когда-то в Сибири такой самодийский язык, близкий к селькупскому) в конце XX века помнила только одна пожилая женщина.
Между тем больше половины всех жителей нашей планеты говорят на одном из пяти крупнейших языков мира, а крупнейшими, или мировыми, могут считаться языки, на которых говорит больше двухсот миллионов человек. Итак:
китайский — больше миллиарда говорящих;
английский — более четырёхсот миллионов;
испанский — более трёхсот миллионов;
хинди — около трёхсот миллионов;
русский — более двухсот пятидесяти миллионов.
Кроме того, есть языки, близкие к мировым, — на них говорит от ста до двухсот миллионов человек. Это, прежде всего, арабский, португальский, индонезийский, бенгали, японский, немецкий и французский.
А теперь мы отправимся путешествовать по разным континентам, чтобы узнать, где какие языки живут.
В целом Америка — одна из самых больших и густонаселённых частей света, и число языков, сосуществующих друг с другом на её территории, поразительно велико. Однако люди в Америке появились относительно недавно — это, конечно, по историческим меркам недавно, а по нашим с вами, человеческим, — очень давно, около десяти тысяч лет назад. Так что если, например, в Африке или Азии люди жили с древнейших времён — можно сказать, всегда, то в Америку они приехали, а вернее, пришли. Пришли они через Берингов пролив, который тогда был не проливом, а полоской земли, и вот таким путём, как по мосту, люди перебрались из Азии в Америку. Кто были эти люди и на каких они говорили языках, — неизвестно. Более того, неизвестно и то, один раз они приходили или несколько; скорее всего разные группы переселенцев переходили «Берингов мост» в разное время — так сказать, «волнами», друг за другом.
Америка, как известно, может быть Северная, Центральная и Южная — про каждую из них стоит поговорить отдельно.
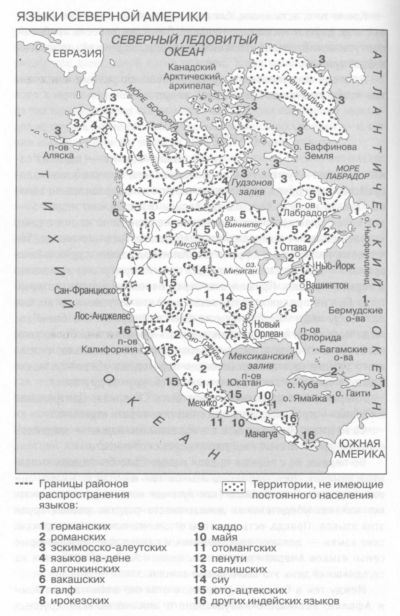
У её коренных народов — индейцев есть две удивительные лингвистические особенности.
Во-первых, её с полным правом можно было бы назвать «мозаикой языков». Действительно, языков там не просто много, они ещё и удивительно разные (как кусочки мозаики), — например, нет никаких убедительных доказательств родства разных групп этих языков. Правда, есть гипотезы о том, что почти все американские языки — дальние родственники, и даже о том, что некоторые семьи языков Америки родственны языкам Азии, но, повторяю, на сегодняшний день это всего лишь гипотезы.
Между тем в Северной Америке, в отличие опять-таки от Азии и Африки, нет какого-нибудь одного или нескольких крупных языков или хотя бы языковых семей — таких, как, например, китайский или языки банту: в каком-то смысле все американские языки в этом отношении сопоставимы друг с другом (опять-таки как цветные стёклышки в мозаике).
Наконец, все эти языки удивительным образом перемешаны между собой! В самом деле, обычная картина распределения языков на какой-то территории выглядит так, что рядом располагаются родственные или хотя бы похожие языки. Тем более этого следовало бы ожидать в том случае, когда происходило последовательное заселение территории, — но ничего подобного в Северной Америке нет: там сплошь и рядом соседями оказываются языки, принадлежащие к абсолютно разным семьям и имеющие абсолютно разный строй, а это значит, что два соседних языка могут отличаться друг от друга не меньше, чем, например, шведский от чукотского (а если кто-то из наших читателей забыл, в чём разница между аналитическим шведским и инкорпорирующим чукотским, — пусть он заглянет в шестую главу!)
Другая важная особенность состоит в том, что языки североамериканских индейцев сравнительно мало влияли друг на друга и так же мало поддавались влиянию других языков. Несмотря на то что индейцы разных племён и народов веками жили бок о бок (и у них похожие обычаи и жилища, похожая одежда, одинаковая кухня), языки их почти не смешивались, что, конечно же, связано с некоторыми особенностями их жизни. Ведь между собой эти гордые и воинственные племена и народы, как правило, враждовали, а во время мирных передышек универсальным языком общения у них был язык жестов. Такое отношение к языкам-соседям сохранилось и позже. Со времён Колумба и Кортеса прошло уже несколько веков, индейцы довольно давно живут вместе с европейцами (особенно с испанцами). В обычной ситуации испанский язык должен был бы сделаться более престижным и как-то повлиять хотя бы на лексику «подчинённых» ему языков, но это произошло далеко не со всеми языками. До сих пор есть немало индейских языков, в которых количество заимствований из испанского крайне мало: лишь несколько десятков слов.
Судьба североамериканских индейцев, как известно из истории, очень трагична. Они были вытеснены со своих исконных земель европейцами; многие народы (и языки) вымерли совсем, а большинство других — на грани исчезновения. Почти полностью погибла и традиционная культура этих народов, чей образ жизни оказался несовместим с современной технической цивилизацией.
Очень трудно перечислить даже все языковые семьи Северной Америки (не говоря уже об отдельных языках) — к тому же лингвисты часто расходятся во мнениях относительно того, какой язык к какой семье следует относить. Но чтобы вы получили представление о степени разнообразия североамериканской лингвистической картины, я позову на помощь Генри Лонгфелло. Вы, наверное, знаете, что этот американский поэт написал в середине XIX века знаменитую «Песнь о Гайавате», которую прекрасными стихами в XX столетии перевёл на русский язык Иван Алексеевич Бунин. Так вот, поэма эта начинается с того, что Гитчи Манито, Владыка Жизни, устав от бесконечных людских раздоров, закурил Трубку Мира, созывая все народы на совет. И люди откликнулись на его призыв:
Вдоль потоков, по равнинам,
Шли вожди от всех народов,
Шли чоктосы и команчи.
Шли шошоны и омоги.
Шли гуроны и мэндэны,
Делавэры и могоки,
Черноногие и поны,
Оджибвеи и дакоты —
Шли к горам Большой Равнины,
Пред лицо Владыки Жизни.
В этом отрывке перечислено двенадцать народов из числа коренных жителей Америки. Конечно, двенадцать — это ничтожное число по сравнению со всем языковым многообразием индейских языков; тем не менее давайте посмотрим, что же это за языки. Некоторые названия даны в «Песни…» в устаревшей транскрипции — мы с вами будем пользоваться новыми, принятыми сейчас. Итак, язык чоктав, или чокто, — представитель семьи галф (Мексиканский залив), куда входят, кроме того, такие языки, как чикасо, мускоги и семинол (да-да, Оцеола — вождь семинолов говорил на том самом языке!). Языки команче и шошонский входят в юто-ацтекскую семью (Мексика и юг США), то есть воинственные команчи — дальние родственники знаменитых ацтеков (другие языки этой группы: юте, хопи, луисеньо, ацтекский/науатль, папаго, тарахумара, каита, кора, уичоль). Языки омаха, мандан, дакота — все члены семьи сиу (центральные и западные районы США; туда же входят ещё языки айова, ассинибойн и виннебаго). Языки гурон и могавк входят в ирокезскую семью (район Великих озёр; другие языки этой семьи — онондага и чероки). Делавэр, блэкфут (Бунин перевёл название этого народа буквально: черноногие) и оджибва — алгонкинские языки (центр и восток США; к этой семье принадлежат ещё языки кри, меномини, фокс и вымерший могиканский — помните повесть «Последний из могикан» Фенимора Купера?). Наконец, язык пауни — один из каддоанских языков (вместе с языком каддо; это — близкие родственники ирокезов).
Следовательно, в этом отрывке упомянуто двенадцать языков шести разных семей. Попробуйте в качестве эксперимента представить себе Владыку Жизни, раскуривающего свою трубку, скажем, в России, — вам будет довольно трудно с ходу назвать двенадцать разных языков, да ещё и представителей шести разных семей (а не групп и подгрупп!), да и чтобы собраться вместе, таким народам придётся проделать немалый путь. Между тем индейские племена собирались вместе именно затем, чтобы положить конец взаимной вражде, — а стало быть, эти народы не могли не знать друг друга, раз они воевали. И ведь это далеко ещё не все языки, которые мог упомянуть поэт: называя другие (тоже далеко не все) языки этих семей, я перечислил ещё по крайней мере двадцать языков — так что можно было бы усложнить наш эксперимент и попробовать собрать не двенадцать, а тридцать-тридцать пять языков России. Но ведь это даже не все семьи индейских языков, семей тоже много больше: здесь совсем не были упомянуты распространённые на Тихоокеанском побережье США и Канады салишские, вакашские, наконец, апачские языки (из большой семьи на-дене — говорящие на языках на-дене, как считается, пришли в Америку из Азии одними из последних), языки пенути и многие другие.
Семьи североамериканских индейских языков совершенно разные (хотя многим из них свойственна инкорпорация и сложные чередования) — помните, мы говорили, что языки разных индейцев в целом отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем культура разных индейцев. И буквально о каждой из семей можно было бы сказать что-то замечательное.
Ну, например, апачские языки. Среди них есть такой язык, как навахо. Это самый крупный язык индейцев Северной Америки и вполне живой: сейчас на нём говорят около ста сорока тысяч человек, то есть примерно столько же, сколько на калмыцком (около ста пятидесяти шести тысяч по переписи 1989 года), тувинском (около двухсот тысяч по переписи 1989 года), и лишь немногим меньше, чем на исландском (около двухсот пятидесяти тысяч).
Ирокезские языки — не очень многочисленные, но, безусловно, одни из самых знаменитых языков Северной Америки, а самый знаменитый из них, наверное, язык чероки. Именно для этого языка индеец по имени Секвойя (не знавший английской грамоты!) изобрёл особую письменность в XIX веке.
Что же касается алгонкинских языков, то многие из говорящих на них индейцев жили на побережье Атлантического океана и оказались первыми из индейских племён, с которыми встретились европейцы. Именно из этих языков во все языки Европы попали слова, описывающие быт индейцев: вигвам, мокасины, тотем, томагавк и др. Понятно, что далеко не во всех индейских племенах жилище называлось словом вигвам — ирокезы, апачи, сиу и другие не-алгонкины, конечно, называли его иначе.
Надеюсь, что теперь вы получили некоторое представление о действительном разнообразии индейских языков и их, так сказать, «плотности» — ведь территория Северной Америки, в общем, не такая уж большая. Напомним, что кочевые индейские племена и расположены на карте будут совершенно неупорядоченно — это создаёт ещё более впечатляющую языковую картину региона.
Кроме индейцев в Северной Америке живут ещё эскимосы и алеуты. Индейским языкам их языки не родственны, а родственны языкам наших, азиатских, эскимосов и алеутов, а также языку тех эскимосов, которые проживают в Гренландии. Между собой эти языки тоже близкородственны, хотя говорящие на них жители разных стран всё-таки друг друга не понимают. Это яркие представители инкорпорирующих языков со сложной грамматикой.
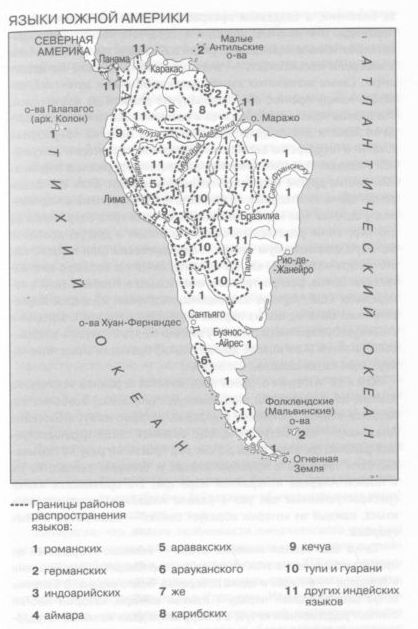
Это совершенно другая страна, и в ней живут другие индейцы, не похожие на тех, с которыми мы только что познакомились. Они не кочевали по прериям, охотясь за бизонами, а создавали прекрасные города и статуи, строили пирамиды. Они не знали колеса и железа, зато пользовались удивительно точным календарём, умели наблюдать звёзды и планеты и изобрели письменность — значки-рисунки, похожие на иероглифы. Самых знаменитых языков здесь два: майя и ацтекский, которые, между прочим, оба благополучно дожили до наших дней. Это разные языки, они относятся к разным языковым семьям. Когда-то было и два государства: государство майя на полуострове Юкатан и государство ацтеков в горах, оба на территории теперешней Мексики. Империя воинственных ацтеков держала в подчинении многие другие индейские племена и народы. Если вы читали роман «Дочь Монтесумы», то помните, что в те времена в подчинении у ацтеков был народ отоми. Язык отоми тоже сохранился до сих пор; он не родствен ацтекскому и входит в другую, довольно большую отомангскую семью. А сам ацтекский (или науатль, как его теперь называют), как вы помните, входит в большую юто-ацтекскую семью, распространённую не только в Мексике, но и в теперешних США. Ацтеки, завоёванные жестоким испанцем Кортесом, тоже были одним из первых индейских народов, с которыми столкнулись европейцы; поэтому именно из языка науатль в испанский (а затем и во многие другие языки) проникли известные теперь всем слова шоколад и томат.
Здесь тоже имеется огромное количество языков, но исследованы они, пожалуй, хуже всего. Особенно это касается языков тех племён и народов, которые живут в бассейне Амазонки, — там, безусловно, ещё остались такие труднодоступные районы, где европейцы до сих пор просто ни разу не побывали. Если говорить о крупных языках и больших семьях, то их в Южной Америке по крайней мере три. Это аравакские языки (распространённые как раз в районе Амазонки) и два крупных языка, каждый из которых образует семью, — язык кечуа и язык гуарани.
Кечуа был языком империи инков — великого государства до прихода испанцев. На этом языке до сих пор говорят в Перу, Боливии и Эквадоре — в Андах и вдоль побережья Тихого океана. В Боливии кечуа распространён наряду с языком аймара, который многие считают родственным кечуа; а в Перу кечуа даже является государственным языком, наряду, конечно, с испанским.
Гуарани, наоборот, язык восточной части континента. Его (и родственный ему язык тупи) понимают на большой территории от Аргентины до Бразилии; особенно значительную роль он играет в Парагвае (где даже национальная валюта так и называется: гуарани).
Судьба европейских языков в Америке
В Америке четыре европейских языка — английский, французский, испанский и португальский. Все эти языки являются государственными в разных странах Америки и фактически господствуют на континенте.
В первую очередь это касается английского языка и двух стран на севере Америки — США и Канады. В этих странах господство английского языка почти безраздельно, потому что на языках индейцев там практически не говорят. Однако английский язык, на котором говорят в Америке, отличается оттого, который называется его «британским вариантом», довольно сильно. Если кто-нибудь из вас слышал американцев, говорящих по-английски, он согласится, что этот язык можно с полным правом назвать «американским английским». Во-первых, вы, наверное, обратили внимание на особенности произношения американцев. Если слушатель знаком только с британским вариантом, то первое его впечатление от говорящего — что у него, что называется, «каша во рту». В действительности дело в том, что американская система звуков просто несколько иная, чем в европейском английском, например, некоторые звуки не различаются — скажем, американец произносит слова cop (коп — «полицейский») и cup (кап — «чашка») одинаково. Другие звуки произносятся иначе, чем в Британии.
Во-вторых, часто какое-то слово по-разному переводится на британский английский и на американский его вариант. Скажем, нанять (арендовать) «по-британски» будет to hire, а «по-американски» — to rent, бензин в Британии обычно называют petrol, а в Америке — просто gas, и т. д.
Интересно, что многие особенности американского варианта нередко объясняются влиянием… ирландского варианта английского языка. Дело в том, что во второй половине XIX века Америку захлестнула волна ирландских эмигрантов, спасавшихся от голода, который свирепствовал тогда в Ирландии. Между прочим, обратите внимание, что среди героев американской литературы не так уж редки ирландцы — всегда храбрые, благородные, с хорошим чувством юмора, гордые до заносчивости (впрочем, некоторые из них любили и прихвастнуть). Вспомните, например, кто был Морис Мустангер, герой романа Майн Рида «Всадник без головы».
Внутри самих США различается много диалектов: американец всегда отличит, например, речь южанина от речи жителя Среднего Запада или Атлантического побережья.
Кроме английского в Северной Америке есть ещё французский и испанский — всё это, собственно, были языки европейских завоевателей. Английский их сильно потеснил, но они не сдаются. Так, вначале Франция имела очень значительные территории и в Канаде, и в теперешних США, но затем Англия начала отвоёвывать и отбирать их. Тем не менее французы, приложив усилия, чтобы не быть окончательно изгнанными, всё-таки остались в Америке, хотя и живут теперь только в одной канадской провинции — Квебек (на востоке страны). Именно в ней расположен один из самых больших городов Канады — Монреаль. Говорят квебекцы по-французски и даже хотят получить самостоятельность и отделиться от остальной Канады. Между прочим, канадский французский тоже отличается от европейского, хотя разница здесь гораздо меньше, чем между английским и американским. Где-нибудь в Париже канадский акцент слышат и воспринимают примерно так же, как в Москве — особенности рязанского или, допустим, вологодского произношения.
Испанский язык не является в Северной Америке государственным, но он достаточно распространён на юге США — на той территории, которая в своё время была отобрана ими у Мексики, то есть прежде всего — в штатах Техас, Аризона и Калифорния. Тогда считалось, что со временем английский «победит» испанский и испанский исчезнет, его забудут. Но этого не случилось — наоборот, и сегодня этот язык жив здесь и используется довольно активно: например, на нём издают газеты, и число говорящих на нём даже растёт.
И наконец, последний язык, о котором следует здесь упомянуть, — это так называемый Black English. На нём в Северной Америке говорит некоторая часть потомков переселенцев из Африки, и язык этот имеет не только другую систему звуков, чем британский и американский английский, но даже другую грамматику. Его начали изучать в 60-е годы XX века, причём первооткрывателем Black English стал известный американский лингвист, один из основателей социолингвистики (загляните ещё раз в третью главу!) Уильям Лабо́в.
В Центральной и Южной Америке основными государственными языками оказались не английский и французский, а, наоборот, испанский и португальский — ведь почти все эти территории когда-то были колониями Испании и Португалии (у Франции, Англии и Голландии здесь оставались лишь совсем незначительные владения). При этом португальский язык принят только в одной, но зато самой большой стране Южной Америки — в Бразилии; по площади эта страна занимает четвёртое место в мире. Почти во всех остальных странах государственным считается испанский, иногда наряду с индейскими языками (как в Перу). Американские варианты испанского и португальского тоже отличаются от европейских, но не так значительно, как американский английский.
Учёные считают Африку родиной человечества — это тот самый континент, где люди жили «всегда». Точно не известно, кто были эти древнейшие люди и остались ли до сих пор на земле какие-то их потомки. Сегодняшняя Африка как бы разделена на две неравные части: Северная Африка и Тропическая, которая начинается к югу от Сахары.
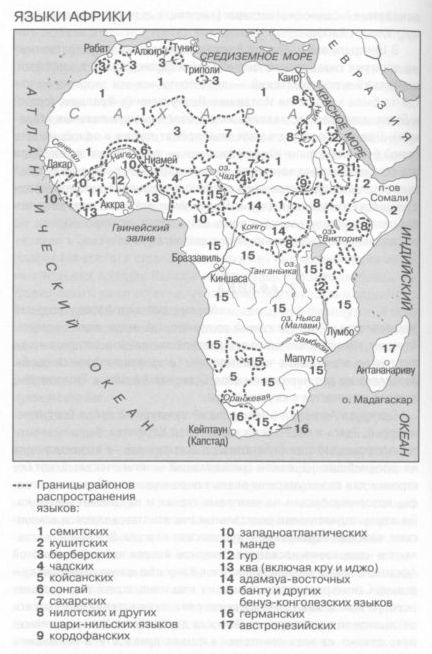
Северная Африка — это древний культурный ареал Средиземноморья. Здесь в своё время стоял город Карфаген, была знаменитая александрийская библиотека, а ещё раньше — возникла одна из древнейших на земле цивилизаций — египетская. Египтяне строили для своих умерших владык пирамиды и изобрели иероглифы, которыми писали на каменных стелах и на свитках папируса. По языку отдалёнными родственниками египтян являются семитские, чадские, берберские и кушитские народы. Все они и составляют в наше время население Северной и даже части Тропической Африки, а языки их объединяются в одну обширную афразийскую семью. Самые распространённые из этих языков сегодня — семитские. Из Малой Азии и Междуречья семитские народы расселились по обширной территории от Марокко до Ирака, от Мальты до Нигерии; однако из всех семитских народов древности и нынешнего времени (аккадцев, евреев, финикийцев, арамейцев, ассирийцев) в Африке оказались только арабы и эфиопы. Зато арабы с VIII века стали жить в Северной Африке повсеместно — в Марокко, Алжире, Тунисе, Ливии, Судане, Египте. Именно египетский диалект арабского языка вытеснил в Египте древнеегипетский язык и его потомка — коптский.
К чадской ветви относятся многие десятки языков, распространённые в районах, прилегающих к озеру Чад, — в Нигерии, Камеруне и Республике Чад. Среди этих небольших языков выделяется один язык-гигант — это хауса. Города-государства хауса были расположены в Северной Нигерии и соседних странах, и до сих пор этот язык понимают десятки миллионов человек в Западной Африке. Хауса — яркий представитель аналитических языков, но в нём есть и чередования, и трансфиксы.
Что касается берберов, то это потомки воинственных кочевых племён, ныне живущие небольшими группами в Алжире, Мали, Марокко и некоторых других странах. Наиболее известны из них — туареги; у туарегов имелась даже собственная письменность — «квадратные» буквы характерных начертаний, которыми пишут справа налево (как и на других семитских языках).
На кушитских языках говорит часть жителей Эфиопии, верховий Нила и соседних областей (когда-то египетские фараоны посылали своих воинов с севера в далёкую и загадочную страну Куш, от названия которой кушитские народы и получили своё имя). Самый крупный язык этой группы — сомали, на котором говорят, конечно же, в государстве Сомали.
А к югу от Сахары начинается так называемая Тропическая, или Чёрная, Африка. В этой части Африки лингвисты насчитывают более двух тысяч языков; языки эти, так же как и языки коренных народов Америки, разные, и всё-таки учёные усматривают между ними родственные отношения. Считается, что здесь всего три крупных языковых семьи.
Во-первых, нило-сахарская. Народы, говорящие на языках этой семьи, живут в основном в Восточной Африке, в верховьях Нила — в Кении и Уганде. Это скотоводы-кочевники. Среди них известен народ масаи (язык их называется маа) — один из самых высокорослых в мире. Из других языков этой семьи знаменит язык сонгай. Оторвавшись от своих соседей, сонгай попали в «чужой» ареал — Центральную и Западную Африку, на территорию теперешних государств Мали и Нигера. И здесь, как ни странно, среди совсем неродственных им народов, они прижились, да не просто прижились, а основали могущественную империю Сонгай, просуществовавшую почти до самого прихода французских колонизаторов (империя эта была разрушена марокканским султаном только в конце XVI века). Именно империи Сонгай принадлежал знаменитый город Томбукту на реке Нигер с самой красивой в Западной Африке мечетью.
Вторая крупнейшая семья Чёрной Африки — Нигер-Конго. Народы этой языковой семьи населяют Западную и всю Экваториальную и Южную Африку. В Западной Африке много мелких групп языков. Можно сказать, что это такой «лингвистический котёл»; считают даже, что на земле больше нет такого места, где бы «плотность» языков была такой высокой. Помните, мы удивлялись языковому разнообразию Северной Америки? тридцать, пятьдесят языков… Так вот, в Западной Африке (а по площади она, конечно, много меньше всей Америки) — много сотен языков. Среди них такие, как фула, волоф, море, догон, малинке, йоруба и многие, многие другие (некоторые из этих названий языков попадались вам на страницах этой книги).
Зато начиная от экватора простираются области, населённые почти исключительно народами банту, — они тоже принадлежат к семье Нигер-Конго. Это, пожалуй, самые известные африканские языки. Говорит на языках банту много разных народов, их общая численность сейчас — свыше ста шестидесяти миллионов человек. Неутомимые путешественники, банту двигались из Центральной Африки, из области Африканских Великих Озёр, на юг и на запад и осваивали новые и новые земли. А на этих землях они основывали государства — с королями, воинами, жрецами и земледельцами, и жители принимали языки банту — разные, но очень похожие друг на друга, ведь языки банту различаются между собой не больше, чем разные славянские; скажем, самый северный язык банту отличается от самого южного немногим больше, чем русский от болгарского. Даже пигмеи, живущие в экваториальных лесах Центральной Африки, знаменитые пигмеи, отличающиеся от остальных африканцев и по внешнему виду, и по укладу жизни, насколько известно, не сохранили своего языка: они тоже говорят на разных языках банту. Самый крупный язык банту — суахили. Это торговый язык на всём Восточном побережье — от Кении до Мозамбика. Кроме того, довольно широко распространён язык лингала — на нём говорят в Заире и Конго. Но и в Камеруне, Уганде, Габоне, Руанде, Мозамбике, Анголе, Зимбабве, ЮАР тоже говорят на разных языках банту (самые известные — это зулу, руанда, ганда, луба, дуала, гереро и др.).
Самая яркая черта банту — именные классы (о том, что такое именные классы, написано в пятой главе в разделе «Грамматический род»); почти что любой наугад взятый язык насчитывает не менее десяти разных классов. Однако именные классы есть и в других языках этой семьи, — например, в языке фула, где классов, как известно, больше всего, в языке волоф (Сенегал), море (Буркина-Фасо) и др.
Но самое удивительное, что к той же семье принадлежат языки, внешне не похожие на банту или фула. Это языки, почти лишённые грамматических категорий, приближающиеся по типу к изолирующим языкам Юго-Восточной Азии. Их объединяют в две группы — группа ква и группа манде. Народы ква (наиболее известны из них йоруба, эве и акан — о них мы тоже говорили в книге) живут на побережье Гвинейского залива, от Ганы до Нигерии, а народы манде — в Гвинее, Мали и соседних странах.
Мы прошли с севера на юг, охватив почти весь африканский континент, — но ведь осталась ещё одна семья языков! Где же живут носители этих языков? На совсем небольшом пространстве в Южной Африке, в Намибии, в страшной пустыне Калахари. Неужели действительно тут живут люди? Да, это бушмены — люди кустарника. Это один из самых загадочных народов на земле. Бушмены и, возможно, родственные им готтентоты (они тоже живут на юге Африки) отличаются от других африканцев и внешне (у них жёлтая кожа и раскосые глаза), и по своей культуре (эти народы почти не знают земледелия, занимаются охотой и собирательством). А может быть, они и есть потомки древних обитателей Африки, оттеснённые народами банту на юг? Языки этих народов принадлежат к койсанской семье; знамениты они, например, своими системами звуков: в некоторых из них самое большое на земле число звуков — больше ста (а вы помните из четвёртой главы, что обычно в языке бывает тридцать-сорок звуков и даже в таких языках, как дагестанские, число звуков не превышает семидесяти-восьмидесяти), к тому же в изобилии встречаются особые «щёлкающие», или «чмокающие», согласные (о них мы тоже говорили в начале четвёртой главы).
В Африке в основном говорят на трёх европейских языках — английском, французском и португальском; всё это языки бывших колоний: английских, французских, бельгийских, португальских. В одном небольшом государстве Тропической Африки используется испанский язык: это Республика Экваториальная Гвинея, со столицей на острове Биоко в Гвинейском заливе (раньше этот остров назывался Фернандо-По). Были в Африке и немецкие колонии, но Германия их потеряла — после Первой мировой войны они были поделены между Англией, Францией и Бельгией.
По-французски по-прежнему говорят в большинстве стран Западной Африки (хотя и не во всех), а также в Чаде, Центрально-Африканской Республике, Конго и ещё некоторых странах, в том числе и в бывших бельгийских колониях, таких, как Заир или Руанда. Португальский язык распространён прежде всего в Анголе, Мозамбике и небольшой Гвинее-Бисау, ну а в остальных странах Тропической Африки — таких, например, как Нигерия и Гана на западе, Кения на востоке или Замбия и Зимбабве на юге, используется английский язык. А вот в Камеруне государственными являются одновременно английский и французский. Что же касается Южно-Африканской Республики — там до сих пор живёт много европейцев; это потомки голландских переселенцев (буры) и англичане. Буры говорят на языке африкаанс, близком к нидерландскому.
Надо сказать, что почти ни в одной стране Африки местные языки не являются государственными — исключение составляют, пожалуй, лишь Танзания (с языком суахили) и Сомали (с языком сомали афразийской семьи). Более того, в Африке не так уж много языков являются письменными. Вообще говоря, для этого есть свои причины, которые мы с вами отчасти обсуждали в третьей главе. Здесь хотелось бы только обратить ваше внимание на ту разницу, которая обнаруживается между ролью европейского языка на западе Африки (в бывших французских колониях) и на её востоке и в центре (в бывших английских колониях).
Дело в том, что французы обычно заставляли изучать свой язык — во всех колониальных школах он преподавался с первого класса в обязательном порядке. Англичане же в начальной школе для обучения использовали местные языки и только потом, уже минимально образованных людей, то есть людей с законченным начальным образованием, которые добровольно соглашались учиться дальше, учили английскому. Если сравнить, что из этого получилось, картина окажется очень интересная. Во-первых, в английских колониях лучше развивались местные языки — например, на многих из них издаются газеты, а на таких крупных, как суахили или хауса, есть даже своя литература; во французских — дело обстояло гораздо хуже: не было не только литературы и газет, но даже и письменности местные языки в подавляющем большинстве не имели.
С другой стороны, сам французский язык сохранился в Африке много более близким к своему исходному европейскому варианту, чем английский. Некоторые же варианты английского превратились в особые языки — так называемые креольские. Что же это такое?
Знаете, бывают случаи, когда человеку приходится общаться с иностранцем, а времени на изучение языка у него нет. Тогда общение происходит на так называемом «ломаном» языке, или пиджине, — типа «твоя-моя-понимай-нет». Между тем такая ситуация может возникать не случайно, в жизни одного человека, а вынужденно и с целыми группами людей. Очень часто это бывает, когда хозяева общаются с рабами на своём языке или когда европейцы приезжают торговать с народом, говорящим на неизвестном им языке. При таком общении обломки слов соединяются как бы на живую нитку, а грамматики такие полуязыки, конечно, никакой не имеют. Но потом какие-то из этих языков «на скорую руку» могут — при благоприятных условиях — вдруг начать развиваться дальше: представьте себе, рабов из разных мест свезли на остров, другого общего языка, кроме пиджина, у них нет, приходится приспосабливать его всё к новым и новым потребностям. А если в их семьях рождаются дети, то этот язык становится их родным, и с этого момента он уже перестаёт быть пиджином и называется креольским. Это полноценный язык, только утративший всю грамматику своего языка-предка.
Так вот, в результате разной африканской политики французов и англичан оказалось, что креольских языков на английской основе очень много, а на французской основе — нет в Африке ни одного (хотя за её пределами такие языки кое-где изредка встречаются, — например, на острове Гаити в Карибском море); что касается португальского, то такой креольский есть только один — на островах Зелёного Мыса у западного побережья Африки.

Особенности Австралии связаны прежде всего с её удалённостью от других стран и континентов — вспомните знаменитых сумчатых животных, которые, кроме как в Австралии, почти нигде в мире не встречаются. И языки австралийские тоже не похожи на другие языки мира. По крайней мере, родственников им пока не нашлось. Всего в Австралии около двухсот языков; многие из них сейчас уже на грани исчезновения — на них говорит не больше нескольких сотен человек. Родство различных групп этих языков между собой тоже не доказано, так что сейчас в Австралии насчитывается больше десяти разных языковых семей. Главная и самая многочисленная из них одна — это семья пама-ньюнга; языки этой семьи занимают и наибольшую территорию, причём прежде всего север и восток континента. Что это за языки, с точки зрения типолога? Они эргативные и агглютинативные (об особом эргативном падеже мы говорили в пятой главе, в разделе о падежах, а о том, какие языки называются агглютинативными, сказано в шестой главе книги). В них есть суффиксы и почти нет префиксов. Есть, как и в африканских языках, согласовательные классы, но немного — обычно не больше четырёх-пяти. Иногда встречается инкорпорация (а что такое инкорпорация, написано тоже в шестой главе). Самый знаменитый язык этой семьи — язык дирбал. Описывая его, британский лингвист Ричард Диксон создал образцовую грамматику экзотического языка (её знают все типологи мира); язык дирбал был исчерпывающе описан им лет двадцать назад, а потом… исчез.
Сейчас в Австралии создан целый институт изучения аборигенов, так что можно надеяться, что в скором времени мы узнаем не только о языке дирбал, но и о многих других интересных языках Австралии.
Из европейских языков в Австралии используется прежде всего, конечно, английский, только отличается австралийский английский от британского ещё больше, чем американский. Например, там другая система гласных и, конечно, во многом другая лексика.
Всего лишь один узкий Торресов пролив отделяет Австралию от Новой Гвинеи — но лингвистический (да и культурный) пейзаж на Новой Гвинее совершенно иной. Этот самый большой (не считая Гренландии) остров в мире, похожий на черепаху, населяют главным образом народы, говорящие на папуасских языках. Известно, что языков этих несколько сотен, что у них очень разные и очень сложные грамматические системы (особенно системы глагольных категорий). Но о многих языках этого региона просто нет достоверных сведений. После бассейна Амазонки это второе место на земле, где ещё можно найти новые языки. Родственников у папуасских языков за пределами новогвинейского ареала пока не нашлось, да и не известно точно, родственны ли все эти языки между собою. Я думаю, будущим лингвистам есть чем заняться на Новой Гвинее.
Это самая большая часть света; языки, на которых говорят населяющие её народы, — по большей части древние и хорошо известные. Вообще, Азию можно назвать страной языков-гигантов. Мы видели, что для Африки и Америки характерна дробность языков (вспомните хотя бы индейцев Северной Америки или языки Западной Африки!); в Азии же, наоборот, распространены «супер-языки», такие, как китайский, хинди, арабский, японский, а вокруг них часто группируются более мелкие языки и народы.
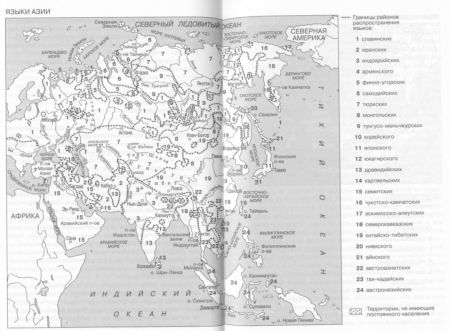
Огромные размеры Азии не позволяют охватить её сразу, поэтому мы будем путешествовать по ней медленно, двигаясь с юго-востока сначала на север, а потом опять на юг, постепенно приближаясь к концу нашего пути — к Европе.
В географии под термином «Юго-Восточная Азия» обычно понимается сравнительно небольшая часть этого континента, включающая полуострова Индокитай, Малакка и близлежащие острова. Но нам будет удобнее, если мы слегка расширим эти условные границы, включив на севере — Китай, на востоке — все острова Океании (даже и те, которые расположены ближе к Америке, чем к Азии или Австралии); и наконец, на западе нам понадобится остров Мадагаскар (который для географа — почти что часть Африки). Я думаю, географы нас простят за это несколько вольное обращение со странами и морями — что поделаешь, интересы лингвистики и географии не всегда в точности совпадают.
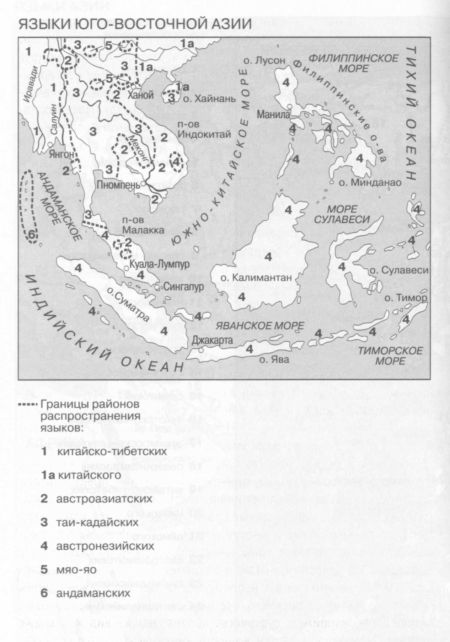
Итак, на всём этом обширном пространстве выделяются четыре крупнейшие семьи языков. Называются они так:
— китайско-тибетская;
— тайская;
— австроазиатская;
— австронезийская.
Мы рассмотрим все эти семьи по очереди. Главным языком китайско-тибетской семьи является, конечно, китайский; остальные языки этой семьи относятся к тибето-бирманской группе, в которой, в свою очередь, крупнейший язык — бирманский. Между тем, по некоторым гипотезам, китайский не родствен остальным языкам своей семьи; во всяком случае, его родство с ними доказать оказывается труднее, чем родство всех остальных языков между собой.
Китайцев на земле уже больше миллиарда, а живут они не только в Китае, но и по всей Юго-Восточной Азии (например, в Сингапуре китайского населения — больше семидесяти процентов). Интересно, что в этих странах, среди чужих народов и языков, китайцы, как правило, живут довольно замкнуто, не смешиваются с коренными жителями и всегда говорят на своём языке. Много китайцев переселяется и в крупные города Европы и Америки, где они создали целые китайские кварталы, со своими магазинами, ресторанами, банками и т. д.; о размерах таких китайских поселений говорит их английское название China town, то есть просто-напросто «китайский город».
Поскольку Китай — большая страна, то китайский язык оказывается очень неоднородным. Вообще говоря, так бывает не всегда с большими языками на больших территориях (одно из исключений — как раз русский язык), но чаще бывает именно так: мы знаем это на примере американского и австралийского английского, примером может служить и арабский, о котором речь пойдёт ниже.
Поэтому, в сущности, китайских языков много: диалекты китайского можно было бы смело считать разными языками, потому что представители разных диалектов часто просто не понимают друг друга. В частности, очень значительны различия между «северными» и «южными» (точнее, юго-восточными) китайскими диалектами — житель Пекина или Харбина (город Харбин, как известно, находится на севере Китая), житель Шанхая (это центр Китая) и житель Кантона (юг Китая) вряд ли поймут друг друга. Но при этом жители всех этих районов Китая осознают себя принадлежащими к единому народу и называют себя хань.
Китайцы — не только самый большой народ в мире, но и народ, обладающий одной из самых древних письменных историй. Государства на территории современного Китая (со своими правителями, воинами, крепостями и первыми образцами письмён-рисунков!) существуют по крайней мере со второго тысячелетия до н. э.; той же эпохой датируются и первые памятники древнекитайского языка (к слову сказать, это были гадательные надписи). Таким образом, из живых языков китайский язык оказывается, пожалуй, языком с самой давней историей (ведь первые образцы китайского письма древнее, например, хеттских клинописных табличек — но от хеттского языка давно уже на земле не осталось и следа).
Конечно, древнекитайский язык сильно отличается от современного китайского. Тем не менее оба они являются по своему строю изолирующими, так же как и подавляющее большинство языков этого региона: ведь изолирующими являются не только другие языки этой семьи (то есть тибето-бирманские), но и все тайские и австронезийские, причём это типичные представители изолирующих языков: там нет или почти нет грамматических показателей, короткие односложные слова; кроме того, все языки этой семьи, а также тайские и многие австроазиатские являются тоновыми (а о том, что такое тоны, написано в четвёртой главе книги, в разделе об ударении). Итак, и современный, и древний китайский — оба можно считать изолирующими, однако в современном языке, в отличие от древнего, всё же есть некоторые некорневые морфемы — например, суффиксы, обозначающие вид или время глагола. Таких морфем в нём, конечно, ничтожное число по сравнению с привычными нам с вами неизолирующими языками, но если сравнивать его с древнекитайским, он будет выглядеть как язык, далеко ушедший оттого состояния, в котором по-настоящему должен был бы находиться «правильный» изолирующий язык. В этом смысле тайские и такие австроазиатские языки, как, скажем, вьетнамский, по своему строю более близки к древнекитайскому, современный же китайский можно сравнить с таким территориально далёким (а типологически — близким) языком, как язык йоруба.
Тибето-бирманские языки сосредоточены, как подсказывает и их название, главным образом в горах Тибета и на прилегающих к ним территориях: это юго-восточная и южная часть Китая (некоторые районы Тибета были захвачены Китаем совсем недавно, в середине XX века), Мьянма (бывшая Бирма), горный Непал и северо-восточная Индия и другие страны. Самые крупные языки среди них — бирманский и тибетский (на разных диалектах которого говорят жители Тибетского района Китая, шерпы Непала и другие народы). По своему строю эти языки ближе всего к изолирующему типу, но, как и современный китайский (и даже, может быть, в большей степени), это языки с «нестрогой» изоляцией, с элементами аналитизма и агглютинации.
Тайская семья объединяет языки, на которых говорят в Южном Китае, Лаосе и Таиланде; главные языки этой группы — лаосский и тайский, типичные изолирующие языки.
Австроазиатская (от латинского корня австр− «юг») семья объединяет такие языки, как вьетнамский и его ближайший родственник, мыонгский, кхмерский (в Камбодже) и другие, менее известные и значительные языки Юго-Восточной Азии. Обычно это тоновые изолирующие языки, находившиеся под сильным влиянием китайского, но не родственные ему. На территории Индии распространены языки группы мунда — это особая, западная ветвь австроазиатской семьи; языки мунда (может быть, под влиянием соседних дравидийских и индоарийских языков, о которых мы расскажем чуть позже) оказались единственными настоящими неизолирующими среди своих австроазиатских родственников; впрочем, справедливости ради надо сказать, что и расположены они уже не в Юго-Восточной Азии — этом бесспорном «царстве изолирующих языков». Самый крупный из языков группы мунда — язык сантали, на котором говорит больше пяти миллионов человек. Кроме того, на Никобарских островах в Индийском океане, принадлежащих Индии (а если вы посмотрите на карту, вы увидите, что эти острова всё-таки расположены ближе к Юго-Восточной Азии), говорят на особом никобарском языке, который тоже включается в эту семью, но образует отдельную группу.
Австронезийская семья (то есть «южно-островная»: к латинскому корню австр− прибавлен греческий корень −нес−, что значит «остров»: этот же корень имеется, например, и в греческом названии Пелопоннес) — это большое объединение языков, распространённых главным образом на островах Тихого и Индийского океанов, между Азией и Австралией. Так получилось, что говорящие на этих языках почти все живут на больших или маленьких островах: это разбросанные по всему Тихому океану острова Полинезии (буквально «многочисленные острова»), Меланезии («чёрные острова») и Микронезии («мелкие острова»), это Филиппинские и Зондские острова между Индийским и Тихим океаном и, наконец, это остров Мадагаскар у самых берегов Африки, который тоже в своё время заселили выходцы из Индонезии. Живут говорящие на особых австронезийских языках и на острове Тайвань, основное население которого сейчас составляют китайцы.
Близки друг к другу по строю (и часто объединяются в одну ветвь) филиппинские языки (тагальский, илокано и мн. др.) и языки множества народностей Зондских островов, живущих в двух государствах — Малайзии (занимающей часть острова Калимантан — он же Борнео — и часть полуострова Малакка) и Индонезии (раскинувшейся на таких крупных островах, как Суматра, Ява, Калимантан, Сулавеси, и присоединившей даже часть Новой Гвинеи — это не считая множества мелких островов и островков). Государственный язык Малайзии (малайский) и Индонезии (индонезийский) так близки друг к другу, что, по сути, их можно было бы считать вариантами одного и того же языка, имеющими в разных государствах разные названия (как норвежский и датский или румынский и молдавский). Индонезийский язык — это несколько упрощённый вариант малайского, возникший, как считается, в результате торговых контактов между разными народами островов. На оба эти языка сильно повлиял санскрит, бывший в древности языком индийских правителей Индонезии; с приходом на эти земли ислама началось влияние арабского языка (до недавнего времени в Малайзии и писали арабскими буквами).
Из европейских языков здесь были распространены английский (в Малайзии), португальский и особенно нидерландский (в Индонезии, которая больше трёхсот лет была колонией Нидерландов).
Самый многочисленный народ Индонезии — яванцы, которые говорят на яванском языке; этот язык замечателен во многих отношениях. Например, в нём необычайно большое развитие получили средства выражения вежливости: в зависимости от отношения к собеседнику говорящий по-явански может пользоваться одним из трёх разных «языков» (то есть по-разному называя одни и те же понятия!). Литература на яванском языке — одна из самых древних в Индонезии (первые памятники на древнеяванском языке кави, написанные особым древнеяванским письмом, относятся к IX веку — это современники первой славянской азбуки).
К той же подгруппе языков (вся целиком она часто тоже называется «индонезийской») относится и малагасийский язык, на котором говорят жители острова Мадагаскар у берегов Африки, — потомки выходцев из Индонезии, смешавшиеся с местным африканским населением.
Индонезийские языки — ещё один пример языков ярко выраженного агглютинативного строя; в них преобладают префиксы, встречаются инфиксы и имеется очень своеобразная система глагола с множеством производных форм.
Народы Океании говорят на языках, относящихся к другой ветви австронезийской семьи, но их родство с индонезийскими языками установлено достаточно надёжно. Это языки полинезийские, меланезийские и микронезийские, распространённые на всех островах Океании — от Гавайских островов до Новой Зеландии. Больше всего говорящих насчитывают:
— из полинезийских языков — маори (Новая Зеландия), самоа, тонга и таитянский (острова восточной и южной части Океании);
— из меланезийских языков — фиджийский (острова Фиджи);
— из микронезийских языков — кирибати (острова Кирибати в самом сердце Тихого океана).

По своему строю все эти языки относятся к агглютинативным и аналитическим: к корню присоединяется мало морфем, но имеется много служебных слов, выражающих достаточно разнообразные грамматические значения. Даже показатель, например, прошедшего времени — это часто особая частица, которая стоит в самом начале предложения, а после неё уже идёт глагол и все остальные слова. Особыми частицами могут обозначаться и падежи и число у существительных. Другая своеобразная черта этих языков (особенно полинезийских), заметно выделяющая их из остальных языков мира, — это крайне небольшое число согласных. Поэтому гласные употребляются в речи гораздо чаще, чем в других языках; многие слова состоят почти из одних гласных. Это заметно даже по мелодичным названиям этих языков, которые звучат как странная музыка, напоминающая о коралловых атоллах и пальмах над тёплой океанской водой: волваи, ниуэ, рапануи (это язык, на котором говорят на острове Пасхи, где были найдены загадочные каменные статуи и деревянные таблички с до сих пор ещё не прочитанным письмом кохау ронго-ронго).
А теперь нам пора покинуть страну островов и переместиться сначала на Дальний Восток, а потом, постепенно двигаясь на запад, добраться до Средней Азии.
Дальний Восток, Сибирь и Средняя Азия
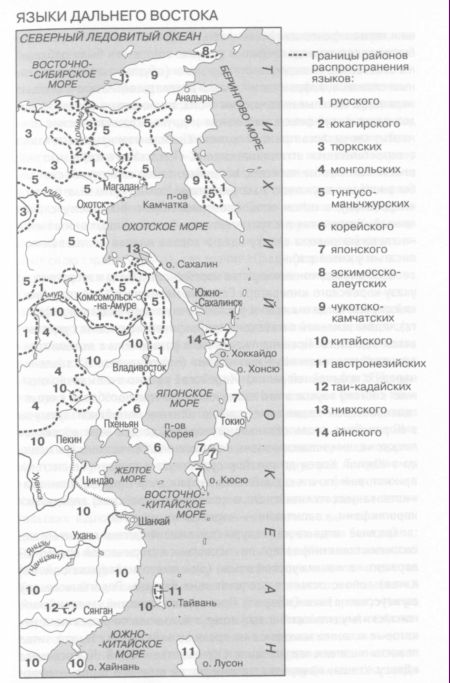
На этой огромной территории почти безраздельно господствуют языки одной семьи, называемой алтайской (конечно, если не учитывать русский язык, но русские всё же не исконные жители Сибири и Дальнего Востока, они появляются там только с XVI–XVII века); правда, далеко не все учёные согласны с тем, что все языки, включаемые в алтайскую семью, действительно родственны между собой. Как бы то ни было, в составе алтайской семьи выделяются три группы, внутри каждой из которых языки обнаруживают несомненное и очень глубокое единство. Это тюркские, монгольские и тунгусо-маньчжурские языки; особняком стоят японский и корейский языки, относительно родства которых между собой (и с другими алтайскими языками) мнения ещё более разноречивы. Тюркские языки всегда считались образцовыми представителями агглютинативного типа; несколько меньше признаков агглютинативности в монгольской и особенно в тунгусо-маньчжурской группе; а в корейском и японском отклонения от «агглютинативного эталона» уже очень значительны (особенно в системе глагола). В алтайских языках нет (или практически нет) префиксов и полностью отсутствует категория грамматического рода.
Японский язык — один из крупнейших языков мира, хотя в качестве государственного он распространён только на территории Японии. Очень вероятно, что в глубокой древности на Японских островах жили и какие-то австронезийские народы (близкие, в частности, к аборигенам Тайваня); во всяком случае, лингвисты находят черты сходства не только между японским и алтайскими, но и между японским и австронезийскими языками. В ранние периоды истории японского языка на него оказал огромное влияние китайский язык (сравнимое, например, с влиянием старофранцузского языка на английский); от китайцев были заимствованы не просто многие сотни слов (и ещё многие тысячи употребительных слов японского языка были составлены позднее из китайских корней), но и иероглифическая письменность. Позднее китайские иероглифы были несколько видоизменены и, кроме того, к ним были добавлены собственно японские слоговые знаки (общее название для разных слоговых алфавитов — «кана»); теперь обычно с помощью иероглифа записывается корень слова, а с помощью одного из видов каны — суффиксы, окончания и другие грамматические элементы: так удалось примирить письменность изолирующего языка с потребностями агглютинативного. Представьте себе, что мы, вместо того чтобы написать, например, слово солнечный, сначала бы рисовали кружочек, напоминающий солнце (это был бы наш «иероглиф»), а потом спокойно приписывали бы к нему справа −ечный. Именно так поступают японцы (только пишут они обычно не слева направо, а сверху вниз и справа налево — так принято писать и у китайцев).
Особым письмом пользуются корейцы: оно было изобретено по указу корейского императора Седжона Великого в 1444 году (редкий случай, когда мы можем указать точную дату создания алфавита), чтобы заменить китайское иероглифическое письмо, существовавшее до этого. Правила письма были разъяснены в особом трактате под названием «Хун-мин чоным» (что означает «Наставления народу о правильной речи»). Корейское письмо очень точно отражает систему звуков этого языка и хорошо приспособлено к его агглютинативной грамматике, однако влияние китайской культуры в Корее было столь сильным, что вплоть до XIX века корейское письмо использовалось очень ограниченно. Сейчас оно признано, но в Южной Корее до сих пор существует и смешанная система, при которой (почти как в Японии) корни слов (правда, только заимствованных из китайского, а не исконно корейских) передаются иероглифами, а окончания — корейскими знаками.
Грозные когда-то маньчжуры (правившие Китаем в течение нескольких столетий) теперь почти сошли с исторической арены; говорящих на маньчжурском языке (они живут в северных районах Китая) сейчас остаётся всё меньше и меньше. Родственные ему тунгусские языки Сибири и Приамурья (эвенский, эвенкийский, нанайский, удэгейский и др.) тоже очень немногочисленны, а некоторые и вовсе находятся на грани исчезновения. Те, кто читал повесть писателя, натуралиста и путешественника В.К.Арсеньева «Дерсу Узала», наверняка запомнили её главного героя — непосредственного и верного Дерсу, но, может быть, не все помнят, что Дерсу Узала — нанаец (по-старому гольд), то есть как раз представитель одного из тунгусо-маньчжурских народов.
Горы Алтая и прилегающие к ним степи — прародина кочевников-монголов и древних тюрок. В поисках новых пастбищ для скота они могли преодолевать огромные расстояния (особенно в засушливые годы); начиная с IX века до н. э. их воинственные отряды стали угрожать Китаю — это для защиты от кочевников-хунну (по-видимому, тюркоязычных) китайские императоры приказали построить Великую Китайскую стену на севере страны. Монголоязычные кидани (покорившие север Китая и Маньчжурию) даже дали своё название Китаю: считается, что в русском языке слово Китай связано именно с этим народом (ведь сами китайцы называют свою страну Чжун-го, что значит «Срединная империя», а все европейские народы производят её название от древнего слова Хина неясного происхождения).
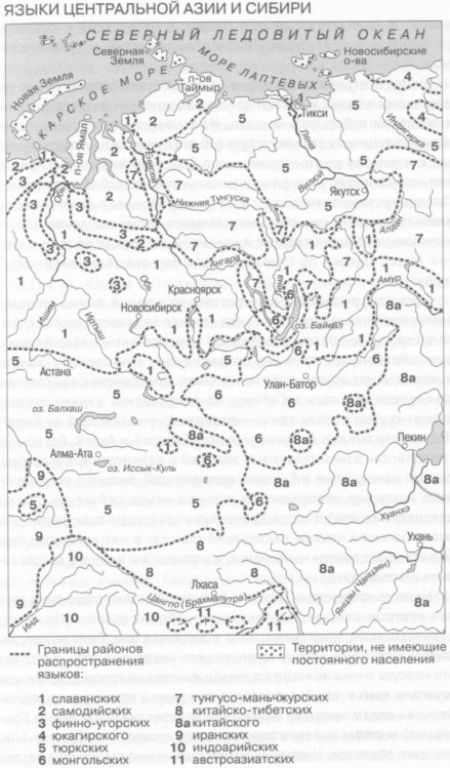
В череде меняющихся завоевателей, подчинявших себе туркестанские степи и монгольские равнины, самый большой след оставил, конечно, непобедимый Чингисхан, глава всех монголов, покоривший в XII веке огромную часть азиатского мира — от Кореи до Малой Азии; это его внук Батый (по-монгольски Вату) в XIII веке разорил Русь. Родственники и потомки Чингисхана и Батыя в конце концов завоевали даже Китай (хотя и на недолгое время), подчинили Бирму и Индию (империя Великих Моголов), овладели Багдадом и Дамаском! В XIV веке пальма первенства перешла к другому грозному завоевателю — тюрку Тамерлану, или Тимур-лангу («хромой Тимур»); правда, и он любил выдавать себя за потомка Чингисхана. Современная территория обитания говорящих на монгольских языках, конечно, не может сравниться с размерами недолговечных империй Чингисхана или страшного Тамерлана. Основных монгольских языков три: это собственно монгольский (он же халха), близкий к нему географически и лингвистически бурятский и калмыцкий язык, говорящие на котором оказались волей истории в приволжских степях (то есть уже в Европе). Менее крупные языки монгольской группы распространены на территории северного Китая. Все современные монгольские языки — это сравнительно недавно (после XVI века) разделившиеся потомки единого языка, близкого к старомонгольскому (именно на таком языке, по всей вероятности, ещё говорил Чингисхан); старомонгольский, язык древних буддийских рукописей и исторических хроник, имел свою особую «вертикальную» письменность. Он употребляется и до сих пор в качестве письменного литературного языка в Китае и отчасти в самой Монголии (главным образом в религиозной сфере). Современные монгольские языки близки друг к другу; все их отличает «нестрогая» агглютинация, развитая система падежей и глагольных форм (в частности, наклонений). К древнему монгольскому слову восходит, между прочим, русское слово богатырь: в современном монгольском языке оно имеет форму баатор (это слово входит в состав названия столицы Монголии — Улан-Батор, что означает «красный богатырь»).
Судьба тюркских народов, как вы уже поняли, была тесно сплетена с судьбою монгольских: те же кочевые переходы, те же набеги, завоевания, грозные полководцы, наводившие страх на города Азии и Европы (кстати, само слово тюрки — монгольского происхождения). Однако говорящие на тюркских языках оказались гораздо многочисленней и расселились на огромной территории от Якутии до Турции. Тем не менее все тюркские языки обнаруживают удивительное сходство грамматического строя и большую близость словарного состава. Похожая ситуация (много очень близких языков, рассеявшихся по большой территории), пожалуй, имеется только в языковом ареале народов банту (впрочем, языков банту гораздо больше). Тюрки основывали государства на Волге, в Сибири, в Средней Азии и в Малой Азии (иногда объединявшиеся в большие империи, а чаще — существовавшие раздельно). Потомками тюркоязычного народа булгаров, между прочим, в какой-то степени являются современные болгары, принявшие язык южнославянского населения Причерноморья, но сохранившие своё тюркское название. К языку же этих древних булгар ближе всего современный чувашский.
Наибольшие отличия из всех тюркских языков имеют чувашский (на который сильно повлияли языки соседних финно-волжских народов — марийский и мордовский) и якутский. Остальные тюркские языки, как мы уже говорили, очень близки друг к другу. Часто выделяют две основные группы «больших» тюркских языков: это кыпчакская (в которую входят алтайский, татарский, башкирский, казахский, киргизский, балкарский, кумыкский и другие языки; к кыпчакским языкам близок и узбекский) и огузская (в которую входят турецкий, азербайджанский и туркменский языки).
Но пусть огромные языковые семьи Азии не заслонят от нас несколько маленьких и совсем маленьких, но очень интересных языков Сибири и Дальнего Востока. Из относительно крупных семей назовём эскимосско-алеутскую (об этих языках мы говорили выше, так как они распространены и в Северной Америке) и чукотско-камчатскую (основные языки — чукотский и корякский). По своему грамматическому строю (инкорпорация с длинными словами-предложениями, обилие глагольных форм) эти языки близки к языкам индейцев Северной Америки (мы говорили об этом в шестой главе), однако по словарному составу эта семья стоит особняком.
Большая уральская семья состоит из мощной финно-угорской ветви, постепенно почти в полном составе переместившейся с Урала в Европу; за Уралом, в верховьях Оби, остались только ближайшим образом родственные современному венгерскому ханты и манси. А вот другая, небольшая ветвь самодийских языков почти целиком осталась в Сибири. Из самодийских языков относительно крупный лишь один — ненецкий; ненцы живут на берегу Ледовитого океана, на границе между Европой и Азией. Остальные самодийские языки (северные энецкий и нганасанский и разбросанный между Обью и Енисеем селькупский) близки к исчезновению; например, говорящих на энецком языке сейчас не больше двадцати человек! В числе прочего самодийские языки знамениты очень большим числом наклонений глагола: в них есть даже особое «слышательное» наклонение, о котором мы немного рассказывали в пятой главе.
Несколько народов Сибири и Дальнего Востока говорят на языках, которым никаких родственников найти не удалось. Их иногда называют палеоазиатскими, имея в виду, что они, быть может, являются остатками языков древнейшего населения этих мест. Все эти народы очень немногочисленны, некоторые почти исчезли или утратили свой язык. Это юкагиры, живущие в верховьях холодной Колымы, нивхи, живущие на Дальнем Востоке (на Сахалине и в Приамурье), и кеты, населяющие несколько деревень по берегам Енисея и его притоков. И нивхский, и кетский языки отличаются исключительной сложностью глагольной системы, а в нивхском языке к тому же представлены сложные чередования согласных, отчасти похожие на те, которыми заслуженно гордятся кельтские языки. Одинок и айнский язык, на котором говорят (точнее, говорили, так как владеющих этим языком как родным в настоящее время уже не осталось) потомки древнейшего населения Японии, живущие на севере этой страны (остров Хоккайдо) и ещё недавно жившие и на острове Сахалин. Айны отличаются от японцев и по внешнему виду (помните, точно так же бушмены на юге Африки даже обликом отличались от пришельцев-банту); долгое время в японском обществе они занимали подчинённое положение, считаясь «нечистыми». Сейчас потомки айнов перешли на японский язык и, в общем, полностью влились в японское общество.
Кавказ и Закавказье — единственный в своём роде район на лингвистической карте мира, где на такой маленькой территории сосредоточено такое большое количество языков, причём самых разных, в том числе и неродственных. Похожее разнообразие, даже пестроту, можно наблюдать и в Северной Америке, и в Западной Африке, но там всё же языки занимают обширные пространства, а не соседствуют друг с другом: ведь, например, в Дагестане сплошь и рядом случается, что жители двух соседних горных аулов говорят на совершенно разных языках и не могут понимать друг друга.
Когда говорят «Кавказ», то под этим часто понимают не только горы Большого Кавказского хребта, но и прилегающие к ним с севера (Северный Кавказ) и с юга (Закавказье) районы. Будем так поступать и мы.
«На подступах» к Кавказу располагаются тюркоязычные народы: ногайцы, кумыки, балкарцы и карачаевцы (карачаевский и балкарский языки очень близки; все перечисленные языки входят в одну и ту же кыпчакскую подгруппу тюркских языков — вместе с татарским и казахским). В самом же сердце Кавказа, в его высокогорной части живут народы двух разных языковых семей: абхазо-адыгской и нахско-дагестанской.
Абхазо-адыгские народы — жители Северного Кавказа и Черноморского побережья (их ареал как бы расколот надвое тюркоязычными карачаевцами и балкарцами); в абхазо-адыгскую семью входят соответственно языки абхазской (абхазский и абазинский) и адыгской подгруппы (адыгейский, кабардинский и черкесский), а также вымерший убыхский. Это очень своеобразные языки, строй которых отчасти близок и к языкам банту, и к языкам североамериканских индейцев, но в точности не похож ни на один из них. В этих языках всего два или три разных гласных, зато — семьдесят-восемьдесят согласных; у существительных почти нет грамматических категорий, зато к односложному (часто даже односогласному) глагольному корню может присоединяться (как спереди, так и сзади, но в основном спереди) очень длинная цепочка самых разных суффиксов и префиксов — от показателей направления движения до показателей лица, числа и рода подлежащего и всех (!) дополнений глагола. Например, то, что мы по-русски могли бы выразить предложением:
Разве я вместе с тобой не заставил её дать ему это?
— в абхазо-адыгских языках вполне могло бы быть выражено только одним (и при этом не очень длинным!) словом — формой глагола «дать».
Обширная нахско-дагестанская семья объединяет языки горских народов Дагестана; это самый удивительный пример и языкового разнообразия, и необычайного языкового богатства. Лингвисты никогда не перестанут поражаться необычайной сложности звуковой и грамматической структуры и необычайному богатству дагестанских языков. Глагол в этих языках может свободно образовывать сотни тысяч (!) форм, а о числе падежей существительного в дагестанских языках мы уже не раз говорили — это мировой рекорд. По своему строю, напомню, это языки агглютинативные, в целом предпочитающие суффиксы префиксам; почти все они имеют категорию именного класса, а в число падежей, кроме многочисленных пространственных, обязательно входит и эргатив.
Нахско-дагестанская семья распадается на нахские языки (близкие друг к другу чеченский и ингушский) Северного Кавказа и несколько групп собственно дагестанских языков в горном Дагестане; самые крупные из этих языков — аварский, даргинский, лакский, лезгинский и табасаранский (из них только два последних близко родственны друг другу). Эти пять языков — письменные, остальные (их ещё не меньше двух десятков) — почти все бесписьменные, часто на них говорят только в каком-нибудь одном затерянном в горах ауле.
Но и это не всё: в Закавказье мы находим представителей ещё трёх разных языковых семей. Это, конечно, грузинский, армянский, осетинский и азербайджанский языки. В лингвистическом плане между ними практически нет ничего общего. Азербайджанский язык (говорящие на нём живут в Азербайджане и на севере Ирана) — типичный представитель тюркской языковой семьи (о ней мы много говорили раньше); он очень близок к турецкому языку, а также к туркменскому.
Грузинский язык относится к картвельской семье языков; вместе с ним в эту семью входят сванский, мегрельский и лазский языки, говорящие на которых (и горцы-сваны, и жители западной Грузии мингрелы, да и, пожалуй, живущие в северо-восточной части Турции лазы) скорее склонны считать себя грузинами (степень языковой дробности и внутри самой Грузии очень велика: есть отличия в речи жителей Картли, Имеретии, Кахетии, Аджарии). По своему строю грузинский язык отдалённо похож на языки Дагестана (то же обилие согласных звуков, эргативный падеж — правда, уже без большого количества местных падежей; богатство глагольных форм; зато у существительных отсутствует категория рода/класса). Однако по словарному составу он не сближается надёжным образом ни с языками Дагестана, ни с какими-либо другими языками мира (например, попытки доказать родство грузинского и баскского языков не признаны убедительными). Грузинский язык пользуется своим особым алфавитом — вам наверняка приходилось видеть эти красивые, прихотливо извивающиеся буквы.
Армянский язык — изолированный представитель индоевропейской семьи, образующий внутри этой семьи, подобно греческому и албанскому языку, самостоятельную группу. До прихода предков армян на нынешнюю территорию Армении там располагалось мощное государство Урарту, жители которого говорили на хурритском и урартском языках; их родственные связи не определены, в последнее время их пытаются связать с северокавказскими языками. В армянском языке немало хуррито-урартских заимствований. В целом армянский язык очень далеко отошёл от индоевропейского образца, представленного древними индоевропейскими языками, хотя самая ранняя форма армянского языка (так называемый грабар, или «книжный язык», известный с V века н. э.) к этому образцу ближе. В современном армянском языке очень сильно развита агглютинация; из всех индоевропейских языков он самый агглютинативный. Отсутствует в армянском языке и категория рода.
Нам известно имя создателя армянского алфавита: его звали Месроп Маштоц (он же начал и перевод Библии на грабар, который позднее назовут «царицей переводов», настолько он точен); армянские буквы, как бы высеченные на камне, с их угловатыми очертаниями, совсем не похожи на грузинскую вязь. Но по звуковому богатству все языки Кавказа вполне можно сравнивать. Поэт Осип Мандельштам так писал об этом:
Колючая речь Араратской долины,
Дикая кошка — армянская речь.
Хищный язык городов глинобитных,
Речь голодающих кирпичей…
И ещё так:
Твоё пограничное ухо —
Все звуки ему хороши!
Что же такого непривычного для русского уха в армянской речи? Армянский язык не боится скоплений согласных в слове (лишь в совсем трудных случаях вставляет между ними еле слышный гласный призвук); вот и получается, что в армянском языке свободно возникают слова вроде мкртич (это значит — «креститель»), а распространённая фамилия, образованная от этого слова, звучит и того невероятнее: Мкртчйан.
Сейчас армяне рассеяны по всему миру, особенно много их в Ливане и вообще на Ближнем Востоке, живут они и во Франции, и в США. Почти все эти армяне говорят на западноармянском языке, который довольно сильно отличается от восточноармянского: житель Бейрута и житель Еревана лишь с большим трудом поймут друг друга. В самой Армении тоже очень много разных диалектов.
Об индоевропейском осетинском языке речь пойдёт чуть ниже, в разделе об иранских языках: так уж получилось, что этот язык, родственный персидскому, таджикскому и другим языкам иранской группы, оказался волей истории в горах Центрального Кавказа, на границе между Россией и Грузией.
Южная Азия, Ближний Восток и Малая Азия
Главная страна в Южной Азии — это, конечно, Индия, одна из самых густонаселённых в мире и необычайно разнообразная в языковом отношении.
Если отвлечься от целого ряда малых народов, живущих в основном в приграничных районах, то можно сказать, что вся Индия разделена между говорящими на языках двух семей — индоевропейской и дравидийской.
Дравидийские народы — древнейшее население Индии; сейчас говорящие на дравидийских языках живут главным образом на юге страны. Самые крупный (и самый известный) дравидийский язык — тамильский; другими важными дравидийскими языками являются телугу, каннада и малаялам. Это языки, имеющие собственную древнюю письменность и немалую историю (сохранились, например, книги на старотамильском языке); по своему строю они относятся к агглютинативным, имеют развитую грамматику (например, у существительных различается два-три рода, пять-десять падежей и т. д.).
Индоевропейские языки в Индии представлены особой индийской, или индоарийской, группой. Когда-то часть народов, составлявших индоевропейскую семью, откололась от остальных и направилась на юго-восток; те из них, которые называли себя ариями, или арийцами, оказались в конце концов в Индии (куда пришли из Ирана), оттеснив дравидийские народы к югу (но позаимствовав из их языков некоторые особые звуки и немало слов для обозначения местных животных и растений).
Санскрит — самый древний из известных нам индоарийских языков; как и латынь в Европе, он впоследствии вышел из живого употребления (оставшись языком религии и культуры), а его потомками являются многочисленные живые индоарийские языки, прежде всего один из мировых языков — хинди, а также языки бенгали (бенгальский), гуджарати, маратхи, ассамский, сингальский, непальский и др.; к ним же относится и цыганский язык, который цыгане (называющие себя ромен) разнесли, кочуя из страны в страну, по всему миру.
Язык хинди существует в двух разновидностях — хинди (с особым древним алфавитом, восходящим к санскритскому) и урду (использующий арабские буквы); кроме Индии, урду распространён также в Пакистане (где является государственным языком), а бенгали — в Бангладеш (где тоже является государственным); на сингальском языке говорят на острове Цейлон (в республике Шри-Ланка); непальский язык, естественно, распространён на территории высокогорного Непала. Современные индийские языки далеко отошли от того образца «индоевропейского» строя, который представлял санскрит: в них во всех в той или иной степени развились аналитизм и агглютинация, упростилась система падежей (причём у части языков появился эргативный падеж), нередко утратилась категория рода.
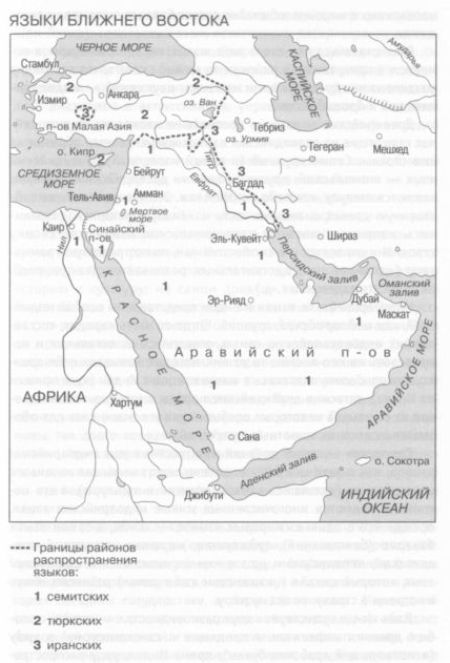
К индийской группе индоевропейских языков очень близки языки иранской группы — видимо, предками их были те же путешественники-арии (само слово Иран, кстати, и означает «страна ариев»), только путь их закончился несколько раньше — в районе Иранского нагорья; современные ираноязычные народы живут на всём пространстве от Каспийского моря до реки Инд и от Памира до Аравийского моря. Эти народы тоже имеют древнюю историю и культуру: на самом древнем из иранских языков — авестийском — проповедовал знаменитый пророк Заратустра (по-гречески — Зороастр), основатель религии Солнца и Огня со жрецами-могомо; священные гимны зороастрийцев («Авеста») как раз и являются одним из древнейших памятников иранских языков. На разных иранских языках говорили в древности мидийцы, парфяне и скифы, жившие в Причерноморье, — и, конечно, знаменитые персидские цари, создатели Персидской державы, так долго воевавшие с Грецией и в конце концов побеждённые Александром Македонским. Дошедшие до нас клинописные надписи этих грозных владык (Дария, Ксеркса и других) по времени создания приблизительно совпадают с гимнами «Авесты».
Кто же говорит на современных иранских языках? Прежде всего — современные персы (прямые потомки древних персов), живущие в Иране; к их языку (персидскому, или фарси) очень близок таджикский, говорящие на котором живут в Таджикистане и некоторых соседних государствах, и дари Афганистана. Персидский язык (в отличие от своих индоевропейских предков) обладает несложной грамматикой и ярко выраженным аналитическим строем; это очень мелодичный и красивый язык, не зря в прошлом на нём писало столько замечательных поэтов: Фирдоуси и Омар Хайям, Саади и знаменитый Хафиз из Шираза (город на юге Ирана).
К иранским языкам относится также осетинский (Северный и Центральный Кавказ; осетины считаются потомками древних аланов, близких к скифам, — кстати, само слово «аланы» тоже означает «арии»), белуджский (Иран и Пакистан), курдский (курды живут во многих странах Азии и Закавказья — в Иране, Ираке, Турции, Армении), пушту (на котором говорит один из основных народов Афганистана) и целая группа небольших памирских языков (шугнанский, рушанский, язгулямский и др.), на которых часто говорят лишь жители нескольких селений в горах Памира (на границе между Таджикистаном и Афганистаном); памирские языки, с их изобилием согласных, чередованиями звуков, сложными глагольными формами, меньше всего похожи на другие иранские языки.
Для письма в большинстве иранских языков (персидском, дари, пушту, белуджском) используются арабские буквы, и это не очень удобно, потому что гласные при таком способе письма обычно не обозначаются.
Промежуточное положение между индоарийскими и иранскими языками занимают малоизученные дардские языки, распространённые в труднодоступных горных районах Северной Индии, Афганистана и Пакистана; самым крупным дардским языком является кашмири, официальный язык индийского штата Джамму и Кашмир.
Из «малых» языков этого региона мы уже упоминали языки мунда. Стоит добавить ещё, что на нескольких андаманских языках говорит население принадлежащих Индии Андаманских островов (в Бенгальском заливе). Языки эти замечательны тем, что в них отсутствуют числительные (есть только слова со значением «один», «два» и «много»). Наконец, ещё один уникальный, никому не родственный язык был обнаружен в горах на севере Индии (в Кашмире, по соседству с языком кашмири) — это язык бурушаски. В нём имеется эргативный падеж, четыре грамматических рода и более шестидесяти разных показателей множественного числа!
По соседству с ираноязычными народами расположена земля древнего Междуречья, где текут Тигр и Евфрат, и Малая Азия, омываемая Чёрным и Средиземным морями. Люди жили здесь с незапамятных времён, и именно здесь, в Междуречье, возникла, быть может, самая древняя из известных нам цивилизаций — шумерская. Мы довольно много знаем о шумерском языке, но не знаем ни откуда он появился, ни связан ли он с какими-то ещё языками на земле: пока родственных ему языков найти не удаётся. Шумеры — ещё и изобретатели письменности: от простейших рисунков они постепенно перешли к слоговой клинописи, которая неплохо подходила к их языку с короткими односложными морфемами, легко склеивавшимися в длинные цепочки слов и предложений. Цивилизацию шумеров сменили другие, созданные пришедшими с севера семитскими народами: аккадцами, вавилонянами, ассирийцами. Но шумерский язык ещё долго оставался письменным языком, которым пользовались для ведения документов, изучали в специальных школах; клинопись распространилась по всему древнему Востоку, и её использовали, много позже, даже персы.
Период угасания шумерской цивилизации приблизительно совпадает с возникновением в Малой Азии государств хеттов и лувийцев (второе тысячелетие до н. э.), жители которых тоже пользовались особой разновидностью клинописи. Хеттский язык — индоевропейский, причём это самый древний из известных нам индоевропейских языков (он входит в хетто-лувийскую группу, но другие языки этой группы известны гораздо хуже). Открытие хеттского языка (в самом начале нашего века) во многом изменило взгляды лингвистов на индоевропейский праязык: ведь раньше считалось, что этот язык должен быть похож на санскрит или греческий, а грамматика хеттского языка оказалась совсем другой (например, меньше падежей, почти нет союзов, иначе устроена категория грамматического рода, и т. п.).
Вот как давно началась история этой части земли; а ведь глиняные таблички сообщают, что до хеттов там жили некие хатты, говорившие совсем на другом, непонятном пока языке; и, может быть, кто-то жил в Междуречье и до шумеров?
Так сменяли друг друга языки, народы, цивилизации — иногда бесследно исчезая, иногда продолжаясь в потомках. Шумеры, аккадцы, ассирийцы, хетты, арамейцы, финикийцы, древние евреи, персы, древние греки, римляне — вот далеко не полный перечень тех народов, которые оставили свой след на этой земле. Нетрудно заметить, что они являются главным образом представителями двух групп: индоевропейской и семитской. И последний по времени народ, утвердившийся на этой территории, тоже принадлежит к семитской группе — это, конечно, арабы. Вскоре после возникновения ислама началась эпоха арабских завоеваний, когда эти прежде неведомые миру пастухи и кочевники пустынь Аравийского полуострова вдруг основали огромную империю на всём пространстве от Испании до Индии. С тех пор (VI–VIII века н. э.) арабский язык успел, конечно, измениться — это уже не тот классический арабский язык, на котором написан Коран, трактаты Авиценны или легенды о Гарун-ар-Рашиде (имя это, кстати, переводится как «идущий правильным путём»); современный арабский язык распался на множество довольно далёких друг от друга диалектов, так что, если житель Марокко и житель Ирака хотят поговорить друг с другом по-арабски, им приходится пользоваться не своими родными диалектами, а литературным арабским языком, который стоит гораздо ближе к классической норме, единой для всех арабов.
В арабском языке — собственная письменность, отдалённо родственная другим семитским алфавитам древности (например, древнееврейскому и финикийскому — кстати, из финикийских букв в конце концов получились греческие, а потом и латинские). Пишут арабы справа налево и обычно (как и другие семитские народы) не обозначают на письме гласных. Нам было бы так писать чрезвычайно неудобно (нм бл б тк пст чрзвчйн ндбн), но, как вы знаете из шестой главы, в семитских языках (и только в них!) гласные играют особую роль — они никогда не являются частью корня, а лишь входят в состав суффиксов, префиксов и трансфиксов (к тому же арабских гласных всего три — а, и, у). И поэтому арабский текст без обозначения гласных больше всего напоминает русский текст с недописанными окончаниями слов — иногда не очень удобно, но понять, о чём речь, почти всегда можно — вспомните, ведь и нам часто приходится так писать, когда мы оч. тороп. и сокр. некотор. слова. Впрочем, если очень нужно, в арабском письме можно обозначить и гласные: с помощью специальных надстрочных и подстрочных добавочных значков (это называется «огласовка слова»).
Вместе с распространением ислама другие народы перенимали арабский язык, а с ним — и арабский алфавит. Но вы понимаете, что для других языков этот алфавит (точнее — этот способ письма) оказался уже далеко не так хорош: ведь ни в каких других языках мира гласные не играют такой роли, как в семитских языках! К тому же в других языках и самих гласных обычно больше, и согласные тоже бывают другие. Приходилось как-то приспосабливать арабский алфавит, но ни для иранских, ни для тюркских языков он, конечно, не идеален. В начале нашего века в Турции всё-таки решили перейти на латинскую графику, но в Иране, в Афганистане и в Пакистане арабский алфавит занимает прочные позиции.
Арабоязычный мир простирается широкой полосой по северу Африки, захватывает Египет, Сирию, Ливан, Иорданию, Саудовскую Аравию и другие страны Аравийского полуострова и включает Ирак — страну, расположенную как раз на земле древних шумеров и ассирийцев, в Междуречье. Территорию же современной Малой Азии (вместе с кусочком Европы) занимает Турция — тюркоязычные племена впервые появились здесь в XI веке и были последней волной завоевателей. До этого на территории азиатской части Турции (она называется Анатолия) сменилось множество древних «индоевропейских» цивилизаций: хетты, греки, фригийцы, лидийцы, персы и, наконец, Византийская империя — восточная часть Римской империи, пережившая её почти на тысячу лет. Могущество Византии было сильно ослаблено арабами, но пасть ей было суждено под ударами тюркских завоевателей — и европейских крестоносцев. Наибольшего расцвета турецкая империя достигла под властью потомков полководца Османа (в Европе эту империю называли Оттоманской), когда турецкие войска овладели Сирией, Египтом и Алжиром, заняли Балканы (Болгарию, Сербию, Грецию), Венгрию и Крым и дважды (хотя и безуспешно) осаждали Вену; только с конца XVI века начинается постепенный закат турецкого могущества: на западе империю теснит Австрия, на севере и востоке — Россия. После Первой мировой войны установились современные границы страны, но и до сих пор влияние турецкого языка и культуры на Балканах остаётся значительным: это след четырёхсотлетнего турецкого господства.
О тюркских языках мы уже говорили; напомним здесь, что из других тюркских языков к турецкому ближе всего азербайджанский.
В зарубежной Европе больше тридцати стран и всего около пятидесяти языков.
Стран, конечно, много, а языков — ничтожно мало по сравнению с остальными континентами (вспомните, например, Северную Америку или Африку). Однако роль Европы в истории нашей культуры и нашей цивилизации такова, что мы всегда рассматриваем европейские проблемы как бы через увеличительное стекло — тогда как для знакомства с остальными странами и народами мы используем скорее уж, если продолжать это сравнение, бинокль.
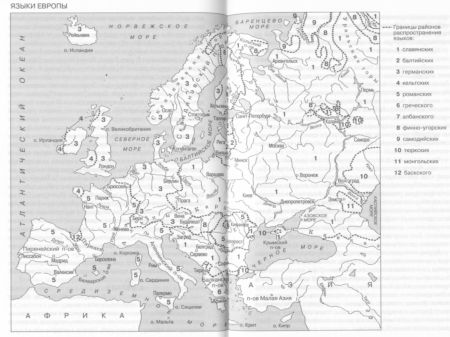
Нынешняя Европа почти безраздельно заселена представителями разных групп индоевропейцев (потому они, кстати, и называются индоевропейцами). Но так было не всегда. До того как разные индоевропейские народы появились на территории Европы (начиная со второго тысячелетия до н. э.), там жили другие люди. Мы почти ничего не знаем о них: история подчас сохранила лишь их имена (как пикты, которые когда-то жили на территории нынешней Шотландии). Если же нам известно о таких «пранародах» чуть больше — как, например, об этрусках, без которых не было бы и древнеримской цивилизации, — то их язык всё равно остаётся загадкой: памятников этрусского языка слишком мало и они слишком трудны для дешифровки, чтобы можно было сказать о нём что-то достоверное.
Единственный уцелевший островок от той древней эпохи — это язык басков, которые живут на севере Испании (в Стране Басков) и на юго-западе Франции, в Гаскони (кстати, слово Гасконь и означает буквально «Страна Басков», хотя гасконцами называют себя французы, родившиеся в этих краях). Язык басков по своему словарному составу не похож ни на один европейский язык — и вообще ни на один из известных нам сейчас языков мира. В нём есть эргативный падеж (как в языках Кавказа или Австралии), а строй его — агглютинативный (как в алтайских или уральских языках). Этот язык распадается на множество мелких диалектов, говорящие на которых не всегда хорошо понимают друг друга.
Другие не-индоевропейские народы, живущие в Европе, попали туда уже много позже, можно сказать, почти на наших глазах (конечно, в масштабах исторического времени). Это мальтийские арабы, которые сейчас живут в своём государстве на острове Мальта, турки в европейской части Турции и соседних странах (например, в Болгарии) — и, конечно, финно-угорские народы, прежде всего саамы, финны, эстонцы и карелы, пришедшие с Урала на самый север Европы, и венгры, путь которых с Урала оказался и длиннее, и извилистее, но в конце концов завершился (естественно, в Венгрии) в самом конце IX столетия.
Сама же индоевропейская семья очень велика, и языки, входящие в неё, сильно разнятся и по своему строю, и по внешнему облику. Более или менее похожи только языки, принадлежащие к одной группе внутри индоевропейской семьи, — народы, составляющие эти группы, почти все разделились уже в историческую эпоху, в течение первого тысячелетия нашей эры.
Первыми индоевропейцами в Европе были греки — несколько волн греческих переселенцев накатывались одна на другую, пока не распространились равномерно по всей Элладе и соседним областям. Потом появились кельтские и италийские народы и гораздо позже — германские и славянские.
Кельтам, конечно, не повезло — они оказались соперниками Рима, были им подчинены и постепенно почти полностью исчезли с исторической арены. Эти некогда могущественные племена, жившие повсюду в Западной Европе — в Испании (кельтиберы), на севере Италии и во Франции (галлы), в Швейцарии (гельветы), в Бельгии (белги), на Британских островах (бритты, потомки которых — современные валлийцы и корнцы), в Ирландии (ирландцы), — зачастую оставили нам одни только названия своих стран — Бельгия, Британия (и французская провинция Бретань, куда позднее переселилась часть бриттов), Гельвеция (то есть Швейцария, официальное название которой — Гельветская конфедерация), растворившись среди завоевателей и приняв их язык. Из живых кельтских языков в наши дни уцелели фактически лишь бретонский (во Франции), валлийский (в британском Уэльсе) и ирландский (с шотландским), да и тем приходится бороться за существование: почти все бретонцы сейчас говорят по-французски, а валлийцы и ирландцы — по-английски; как бы им ни хотелось сохранить свои древние языки, число говорящих на них неуклонно сокращается. Мы очень мало знаем о жизни и обычаях древних кельтов, но, растворившись в других народах, они всё же оставили в их культуре заметный след. Недаром французы так любят повторять, что их предки — отважные и проницательные галлы (хотя современные французы — это, если уж на то пошло, скорее потомки римлян, смешавшихся с германскими народами). Кельтам приписывали отчаянную храбрость, неистощимую фантазию, дар рассказчиков, любовь к чудесному и таинственному (не случайно сейчас все так увлекаются легендами о кельтских жрецах-друидах, поклонявшихся душам деревьев). А сколько блестящих английских писателей, слава и гордость английской литературы, имели ирландские или шотландские (то есть тоже кельтские, ведь ирландские кельты издавна живут и в Шотландии) корни: и Роберт Бёрнс, и Бернард Шоу, и Оскар Уайлд, и многие-многие другие! Недаром в романах знаменитого шотландца Вальтера Скотта так часто действуют его храбрые соотечественники, и всегда они превосходят (пусть не силой, но храбростью и благородством) завоевателей-англичан и нормандских баронов.
Современные кельтские языки — хотя они и индоевропейские — по своему строю очень сильно отличаются от языков других групп. Прежде всего, таких многочисленных и запутанных чередований согласных (да и гласных) больше нет ни в одном языке. Конечно, и в санскрите, например, система чередований тоже очень сложная (откройте шестую главу!), но эта система достаточно стройная и последовательная, а в непредсказуемых кельтских языках буквально каждая морфема ведёт себя по-своему. Причём основная масса этих чередований возникла уже в последний период существования кельтских языков, их почти не было ни в языке галлов, ни в языке кельтиберов (по крайней мере, судя по очень немногим дошедшим до нас надписям на этих языках).
Если ацтеки подарили миру слово шоколад, то кельты — слово… пингвин. Нет, прародина кельтов не находилась в Антарктиде. Но первыми европейцами, увидевшими пингвинов, были отважные бретонские моряки (между прочим, благодаря им был открыт и канадский Квебек). Когда корабли французского флота добрались до антарктических льдов, именно бретонцам суждено было дать название этой странной птице, которое потом вошло во все европейские языки. Слово pen в бретонском (и во многих других кельтских языках) значит «голова», a gwen — белый. Получилось слово pengwen «белоголовый», которое потом, в слегка изменённом виде, распространилось по миру (английское penguin и др.).
Из италийских народов самыми знаменитыми оказались римляне, быстро завоевавшие сначала других италийцев — своих соседей, потом — этрусков, потом — галлов, ну а потом, как вы знаете, — и почти весь остальной мир, превратившийся в Римскую империю. Язык римлян — латинский язык — уже после распада и гибели Римской империи — дал начало романским языкам (об этом мы говорили в первой и второй главе). Основные современные романские языки — это итальянский, французский, испанский, португальский и румынский (с молдавским); но есть и «малые» романские языки, часть которых — на грани исчезновения, а часть, наоборот, активно утверждает свои права, защищаясь от давления «больших» языков (испанского и французского). Это галисийский и каталанский языки в Испании, окситанский (или провансальский) на юге Франции (это на нём когда-то слагали свои поэмы знаменитые средневековые трубадуры), ретороманский в Швейцарии и северной Италии. Французский, испанский и португальский языки распространены теперь почти по всему миру — на них ведь говорят не только в Европе, но и в Америке, и в Африке. Когда-то французский язык считался основным языком образованных людей всех стран Европы, на нём говорили короли и банкиры, дипломаты и художники, но в наши дни эта роль всё больше переходит к английскому языку.
Интересно, что современный французский язык из всех романских языков — самый непохожий на своих родственников. В нём не только совсем другие гласные и согласные звуки, в нём довольно сильно изменилась и грамматика. Ещё интереснее, что есть как бы два разных французских языка — один письменный язык, а другой — разговорный. Французы говорят совсем не так, как пишут. В принципе в любом языке разговорный вариант отличается от письменного (и русский тоже не исключение), но в большинстве языков это различие всё-таки не слишком велико. В большинстве — но не во всех. Если записать устную речь француза (даже образованного парижанина — это не имеет значения), то получится совершенно удивительный язык, в котором существительное почти не имеет грамматических категорий, зато краткий глагольный корень присоединяет к себе спереди и сзади множество частиц — грамматических показателей лица, числа, времени, отрицания и др. Не правда ли, это удивительно похоже на то, что вы только что читали про… абхазский язык? Что ж, на то и типология, чтобы сравнивать даже далёкие друг от друга языки и обнаруживать общие законы строения человеческой речи!
Но перейдём к германским языкам. Германцы — ближайшие соседи славян, между этими народами ещё в древности имелись глубокие связи. Такие, казалось бы, исконно русские слова, как блюдо, буква, изба, котёл, лук, осёл, плуг, стекло, хлеб, хлев — очень старые заимствования из языка германцев (очевидно готов). Именно племена готов, вандалов и других германцев, двинувшись на юг и на запад, разрушили Римскую империю, чтобы через несколько столетий образовать множество мелких и крупных королевств во всей Европе — от Испании до Чехии. Первые французские короли носили германские имена: Хлодвиг, Дагоберт, Сигеберт (кстати, французское имя Луи — оно же Людовик — это далёкий потомок имени Хлодвиг: так звали первого короля франков, принявшего христианство). Да и само название Франции и французов образовано от имени германского племени франков: а племя лангобардов дало название северной итальянской области — Ломбардии. Германцы заселили не только нынешние Германию, Швейцарию, Австрию, Голландию, Бельгию, но и Британию (где племена англов и саксов вытеснили кельтов), Скандинавию (а потом — Исландию); довольно долго существовало готское княжество в Крыму. Тем не менее готский язык в конце концов исчез, не оставив потомков: это была восточная ветвь германских языков. Современные же германские языки делятся на западные и скандинавские. К западным относятся немецкий, нидерландский (и близкий к нему фризский — фризы живут на севере Голландии) и английский, причём нидерландский по своему строю занимает промежуточное положение между английским и немецким. Если при возникновении французского языка на него немало повлиял язык германцев-франков, то английский язык, позднее, подвергся сильнейшему влиянию старофранцузского языка (об этом мы тоже говорили в начале книги); в современном английском языке слов французского (и романского) происхождения едва ли не больше, чем исконно германских.
Основные скандинавские языки — это шведский, норвежский и датский (они очень близки друг к другу, особенно первые два), а также исландский, почти не изменившийся с XII века, когда древние норвежцы заселили Исландию.
Древние скандинавы были известны и на Руси — под именем варягов; потомки варяжских князей правили Киевской Русью и другими русскими землями. Кстати, слово князь (как и слово витязь) — скандинавского происхождения; князь — это варяжский кунинг, или конунг, военный вождь.
Из индоевропейских народов Западной Европы мы пока ничего не сказали только про албанцев. Эти жители маленькой горной страны рядом с Грецией и Черногорией, по всей видимости, потомки древних иллирийцев, чей язык был отчасти близок к греческому; но современный албанский язык так изменился, что «индоевропейца» в нём можно узнать с большим трудом; чередования гласных и согласных, обилие наклонений в глаголе делают этот интересный язык очень непростым для изучения.
Теперь наш путь — на восток Европы. Эта территория издавна была населена славянскими и балтийскими народами, языки которых обнаруживают особое, очень тесное единство. Два балтийских народа — латыши и литовцы — живут, по-видимому, там, где жили очень и очень долгое время; у литовцев и язык сохранил множество древних окончаний (похожих на латинские и греческие), а вот латышский язык изменился гораздо сильнее: если литовский язык можно сравнить с латынью, то латышский — скорее уж с итальянским. Третий балтийский язык — прусский — до наших дней не дожил; пруссы растворились среди немецких переселенцев, оставшись только в названии одной из самых крупных исторических областей Германии — Пруссии (точно так же, как это произошло с кельтскими племенами — белгами или бриттами).
Что же касается славян, то они расселились очень широко: от Камчатки до Средиземного моря. Конечно, наши читатели очень многое знают про историю и культуру славянских народов, поэтому я напомню только самые основные факты. Три основные подгруппы славянских языков — восточные, западные и южные (хотя заметное сходство может иметься и между языками из разных групп, часто вследствие позднейших контактов, — например, между русским и болгарским, между белорусским и польским).
Восточнославянские языки — это русский, украинский и белорусский; они разделились не раньше XIV века, и границу между ними не так просто провести: русские говоры в районе Смоленска уже очень похожи на белорусский язык, а северноукраинские говоры плавно переходят в южнорусские; некоторые русские диалекты больше отличаются от русского литературного языка, чем этот последний — от белорусского. И русские, и белорусы, и украинцы (а также болгары, македонцы и сербы) пользуются одним и тем же алфавитом («кириллицей»; это название напоминает о деятельности славянских первоучителей Кирилла и Мефодия), но во многих языках к этому общему алфавиту добавляются какие-то свои дополнительные буквы (например, i в белорусском и украинском, j — в сербском и македонском; кое-что об этом написано и в первой главе).
Западнославянские языки — это чешский, словацкий, польский и два лужицких языка (верхнелужицкий и нижнелужицкий). Все эти языки друг от друга дальше, чем восточнославянские; при этом у польского есть немало общего с русским и белорусским, а чешский и словацкий языки отчасти напоминают южнославянские.
Оба лужицких языка принадлежат маленькому народу — лужицким сербам, живущим на востоке Германии (область Лужица, или, по-немецки, Лаузитц), — островок некогда более многочисленного славянского населения нынешних германских земель; число говорящих на этих языках (особенно на нижнелужицком) стремительно сокращается. Оба эти языка ближе всего к польскому, но подверглись сильному немецкому влиянию. Чешский и словацкий языки очень близки друг к другу, но в чешском языке сильнее изменились гласные звуки; в обоих языках появились долгие и краткие гласные, неподвижное ударение на начальном слоге.
Южнославянские языки — это словенский, сербскохорватский, болгарский и македонский. Из них из всех наибольшие отличия имеет словенский (вообще, из всех славянских языков он, если можно так сказать, самый особенный: недаром именно в нём — да ещё в лужицком — сохранилось двойственное число; если вы уже успели забыть об этом — загляните в раздел 4 пятой главы!). Болгарский и македонский языки очень близки (болгары и сейчас считают македонский язык одним из западноболгарских диалектов); самое яркое их отличие от других славянских языков в том, что они утратили падежи (зато приобрели артикли) и превратились в языки аналитического типа. Но система глагольных категорий в болгарском и македонском, напротив, очень сложна и стала с течением времени даже богаче по сравнению с соседними славянскими языками.
Сербскохорватский язык — это, можно сказать, один язык с двумя алфавитами: католики-хорваты пишут латинскими буквами, а православные сербы — кириллицей; в остальном сербский и хорватский варианты практически не отличаются друг от друга. Этот язык с музыкальным ударением и чётким произнесением всех гласных в слове многие считают самым звучным и мелодичным из всех славянских языков.
Русскому или белорусу будет проще всего понимать, пожалуй, польский и сербскохорватский язык, а труднее всего — чешский и словенский. Но даже между самыми близкими славянскими языками порой возникают неожиданные различия — об этом тоже шла речь в нашей первой главе.
Наш путь на восток Европы ещё не окончен. Мы уже перешли Вислу и Неман, Буг, Днепр и Дон — и приближаемся к Волге и Уральским горам, естественной границе Европы. Почти на всей Восточно-Европейской равнине, от Белого моря до Чёрного, живут самые восточные из восточных славян — русские (о разных русских диалектах, которые можно встретить на этой территории, мы немного говорили в третьей главе).
Исконные соседи русских на севере и в Поволжье — финно-угорские народы. Все они, как считается, пришли откуда-то с Урала и, двигаясь на север и запад, широкой полосой растянулись по всей Восточно-Европейской равнине. О самых западных (и самых северных) из них — саамах, финнах, эстонцах и карелах — мы уже говорили; ближе к востоку можно встретить ещё ижорцев и вепсов, живущих разбросанными группами приблизительно между Петрозаводском и Вологдой; вепсский и особенно ижорский языки стремительно исчезают — на них даже нет письменности, и только сейчас начали составлять для них буквари и учебники. Современные вепсы — скорее всего потомки тех народов, которых древние русские летописцы называли весь или чудь; они живут бок о бок с русскими уже по крайней мере восемьсот лет. Вепсский язык похож на карельский, карельский — на финский, а финский — на эстонский, но эстонец, пожалуй, уже не поймёт разговор на вепсском языке. Все эти языки объединяют в прибалтийско-финскую группу, вместе с саамским. Но внешне саамский совсем не похож на своих ближайших родственников: это тоже язык, в котором (почти как в кельтских) возникли многочисленные и сложные чередования звуков и сильно изменили его облик.
Самая восточная группа финно-угорских народов — это те, которые говорят на языках пермской и финно-волжской групп: к первой относятся коми (живущие севернее всех — между Печорой и Камой) и живущие в среднем Поволжье удмурты, ко второй — соседи удмуртов, марийцы и мордва (название реки Кама происходит, как считается, из удмуртского языка). Коми говорят на двух разных языках — коми-зырянском (для которого ещё в XIV веке епископ Стефан Пермский придумал особую письменность, позднее заменённую кириллицей) и коми-пермяцком, и точно так же есть два разных мордовских языка — они называются эрзя и мокша (река Мокша — приток Оки); помимо этого, и в мордовском, и в соседнем марийском языках много разных диалектов. Родство между пермскими, финно-волжскими и прибалтийско-финскими языками лингвисты устанавливают без особого труда, однако бросающегося в глаза сходства между, например, эрзя, зырянским и карельским, пожалуй, нет. Вот разве что обилие падежей с пространственным значением — неизменная яркая черта строя всех этих языков, строя, который можно назвать умеренно агглютинативным, с сильными элементами фузии (особенно заметными в прибалтийско-финских языках).
На востоке Европы живут и другие народы; но языки, на которых они говорят, по большей части родом из Азии. Это ненцы (живущие и за Уралом, на Ямале); это поволжские представители тюркской группы языков — татары, башкиры, чуваши; это родственные монголам калмыки, живущие в прикаспийских степях к юго-западу от Волги (и ещё тюркоязычные ногайцы, живущие чуть южнее). Об их языках мы уже говорили выше.
* * *
Наше путешествие по земному шару окончено — мы постарались побывать на всех континентах, затронуть не только настоящее, но и прошлое многих народов. Конечно, мы не смогли перечислить абсолютно все языки — и даже абсолютно все языковые семьи и группы — но я надеюсь, что из самых важных и самых знаменитых языков мы никого не забыли.
Я хотел бы надеяться, что читать эту книгу вам было легко и не было скучно. Если бы к тому же вы решили, что лингвистика — это интересная наука, то я счёл бы свою задачу выполненной.
Чем легче читать — тем труднее писать. О сложных вещах обычно и пишут сложно, а писать о них просто — очень непросто. Кто пробовал — тот меня поймёт.
Я не знаю, насколько хорошо у меня это получилось, но точно знаю, что эта книга никогда не была бы написана, если бы не помощь — самая разная — очень многих людей. Я с удовольствием благодарю их всех, но некоторых из них хотел бы упомянуть особо.
М.А.Кронгаузу пришла в голову мысль написать серию «учебников по лингвистике» и предложить мне принять участие в этой работе. Я долго отказывался, но Максим Анисимович убедил меня и никогда не забывал напомнить о том, что срок сдачи рукописи вот-вот кончается. Конечно, его советы и замечания были для меня очень важны.
Е.В.Рахилина не просто прочитала много раз всю рукопись и участвовала в обсуждении всех трудных и сомнительных мест, но и стала фактически моим соавтором, предложив множество спасительных решений, удачных формулировок, интересных примеров.
В книге упоминается столько языков, сколько один человек, конечно, знать не в состоянии. Я не имею возможности перечислить здесь все книги, которыми я пользовался, и упомянуть всех моих друзей-лингвистов, которым я надоедал бесконечными вопросами («Что это вдруг ты стал таким любознательным?» — удивлялись они).
И всё-таки, что касается источников, я бы хотел назвать в первую очередь многочисленные статьи и книги Игоря Александровича Мельчука, замечательного учёного, которому многие лингвисты моего поколения обязаны пониманием фундаментальных законов устройства языка.
Что же касается моих друзей и коллег, то консультации В.И.Беликова (по языкам Австралии и Океании), А.А.Кибрика (по языкам индейцев Северной Америки) и А.А.Королева (по древним и новым языкам Европы и Ближнего Востока) были для меня особенно полезными.
Первым читателем готовой работы согласился стать И.С.Красильщик. Сколько неточностей, небрежностей и невнятностей (о существовании которых я до тех пор даже не подозревал) было устранено благодаря его самоотверженным усилиям! Если бы это было в моей власти, я бы присвоил Иосифу Семёновичу звание Лучшего Читателя лингвистических учебников.
Я также очень признателен В.М.Алпатову, который, взяв на себя труд прочесть и отрецензировать заключительный вариант книги, сделал это с необычайной скрупулёзностью. Вообще, Владимир Михайлович — это совершенно уникальный рецензент, который одинаково хорошо помнит даты жизни Тамерлана, ареал распространения сумчатых животных, особенности эргативных языков, историю социолингвистики и многое, многое другое — и, конечно, знает всё про японский язык и другие языки Дальнего Востока; надо ли говорить, что именно такой рецензент оказался для этой книги просто бесценным? И, наконец, я выражаю свою признательность первому издателю этой книги — Елене Александровне Гришиной благодаря усилиям и отваге которой книга вышла в свет.
Но эта книга предназначена не только для взрослых, но и для детей, и, конечно, некоторые дети стали моими жертвами, пока я её сочинял. Заставить мою дочь Надю прочесть рукопись было не так трудно (почти не пришлось злоупотреблять отцовской властью), а Савва Михеев сделал это совершенно добровольно. Их советы и пожелания я тоже постарался учесть.
Сегодня эта книга выходит в свет в обновлённом виде. Внесены значительные изменения, отражающие состояние лингвистики в XXI веке. Осуществлена идея сотрудников издательства «АСТ-ПРЕСС» учесть в ней живой интерес самых широких кругов читателей к проблемам языка.
Автор благодарит всех сотрудников издательства «АСТ-ПРЕСС», принявших участие в создании книги, и особо — Инну Кузьминичну Сазонову, мудрого, доброжелательного и терпеливого редактора, настоящего профессионала, каких сегодня очень и очень мало.
1
Табличный вид:
| Значение | Нидерландский | Немецкий | Английский | Старо-французский | Современный французский |
| «орёл» | adelaar (а́делар) | Adler (а́длер) | eagle (игл) | aigle (а́йгле) | aigle (эгль) |
| «гора» | berg (берх) | Berg (бёрк) | mountain (ма́унтин) | montaine (монта́йне) | montagne (монта́нь) |
| «цветок» | bloem (блум) | Blume (блу́мэ) | flower (фла́уэр) | flour (фло́ур) | fleur (флёр) |
| «голубь» | duif (дёйф) | Taube (та́убэ) | pigeon (пи́джин) | Pigeon (пиджо́н) | pigeon (пижо́н) |
| «воздух» | lucht (лухт) | Luft (луфт) | air (э́ар) | air (айр) | air (эр) |
| «стул» | stoel (стул) | Stuhl (штул) | chair (чэ́ар) | chaire (ча́йре) | chaire «престол» (шэр) |
| «мир» | vrede (фре́дэ) | Frieden (фри́дэн) | peace (пис) | paiz (пайц) | paix (пэ) |
2
Табличный вид:
| Значение | Французский | Румынский | Итальянский |
| «вода» | eau (о) | а́рã (апэ) | acqua (а́куа) |
| «коза» | chèvre (шэвр) | caprã (ка́прэ) | capra (ка́пра) |
| «молоко» | Lait (лэ) | lapte (ла́пте) | latte (ла́ттэ) |
| «огонь» | feu (фё) | foc (фок) | fuoco (фуо́ко) |
| «орех» | noix (нуа́) | nucã (ну́кэ) | noce (но́че) |
| «палец» | doigt (дуа́) | deget (де́джет) | dito (ди́то) |
| «печень» | foie (фуа́) | ficat (фика́т) | fegato (фега́то) |
| «телёнок» | veau (во) | viţel (вице́л) | vitello (витэ́лло) |
| «чёрный» | noir (нуа́р) | negru (не́гру) | nero (нэ́ро) |
3
Табличный вид:
| Падеж | Твёрдый тип («стена») | Мягкий тип («земля») |
| Родительный | (у) стѣн-ы | (у) земл-ѣ |
| Местный | (на) стѣн-ѣ | (на) земл-и |
4
Табличный вид:
| Поздняя латынь | Французский язык |
| cadena− (кадэна) «цепь» | chaine (шэн) |
| capillu− (капиллу) «волос» | cheveux (швё) |
| capra− (капра) «коза» | chèvre (шэвр) |
| capy− (капу) «главарь» | chef (шэф) |
5
Табличный вид:
| Поздняя латынь | Французский язык |
| calce− (калке) «известь» | chaux (шо) |
| malva− (малуа) «мальва» | mauve (мов) |
| saltare (салтарэ) «прыгать» | sauter (соте) |
6
Табличный вид:
| Ед. ч. | Мн. ч. | |
| Им. пад. | голова́ | го́ловы |
| Вин. пад. | го́лову | го́ловы |
| Род. пад. | головы́ | голо́в |
| Дат. пад. | голове́ | голова́м |
7
Табличный вид:
| Mti | huu | mmoja | umeanguka (класс «растений») |
| Дерево | это | одно | упало. |
| Chungwa | hili | moja | limeanguka (класс «плодов») |
| Апельсин | этот | один | упал. |
| Kifuko | hiki | kimoja | kimeanguka (класс «вещей») |
| Кошелёк | этот | один | упал. |
8
Табличный вид:
| Ед. ч. | Мн. ч. | |
| Им. пад. | könyv | könyv-ek |
| Вин. пад. | könyv-et | könyv-ek-et |
| Дат. пад. | könyv-nek | könyv-ek-nek |