Книга: Избранное
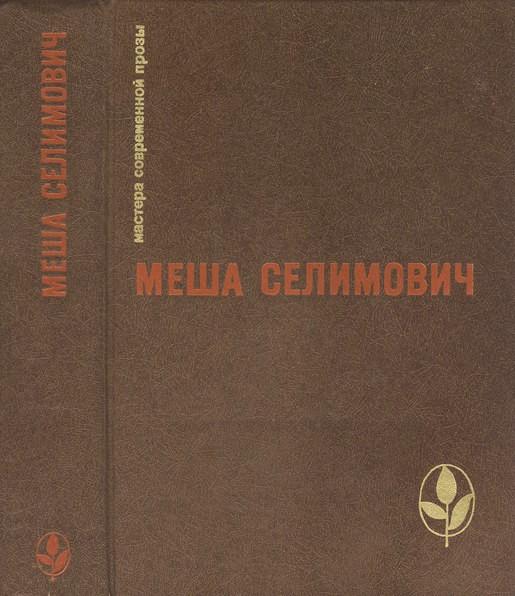
ИЗБРАННОЕ
Человек — в крепости и вне ее
О месте, которое к концу 70-х годов занял Меша Селимович в югославской литературе, свидетельствует курьезный эпизод, описанный им самим в воспоминаниях. Одна солидная редакция попросила Селимовича принять корреспондента и рассказать о пройденном пути. В результате беседы появился текст, который Селимович по просьбе редакции завизировал. Полгода спустя он вдруг вспомнил об этом и удивился, что редакция не спешит с публикацией. Объяснение было дано с обезоруживающей готовностью: текст имеет быть опубликованным… после смерти писателя; масштаб его творчества таков, что «произвольные толкования» исключаются.
Селимович рассказал об этом эпизоде со смешанным чувством живого изумления и смиренной иронии: он отнюдь не думал о смерти и имел полное право изумляться; однако и для смирения были основания: масштаб общенациональной и европейской известности, павшей на него после шестидесяти, был действительно таков…
Точка, на которой повернулась писательская судьба Селимовича,— роман «Дервиш и смерть». Надо признать, что эта книга застала врасплох югославских критиков: ориентируясь на прежние работы Селимовича, они ждали чего-то уверенно профессионального, продиктованного скорее культурой и логикой, нежели страстью и талантом. «Дервиш и смерть» мгновенно обрушил все эти построения. Можно сделать нечто вроде каскадной записи признания и успеха: газетные и журнальные статьи, вскоре составившие увесистый том; непрерывные интервью, послания, обращенные к Селимовичу крупнейшими писателями Югославии; письма читателей, учуявших в «Дервише» бестселлер года; театральные и кинематографические инсценировки и отклики на эти инсценировки; переводы сразу на десяток языков; выставка скульптуры по мотивам романа, незамедлительно отправленная югославами в Париж; наконец, премии, которые одна за другой посыпались на автора «Дервиша»… Всего год прошел с момента, когда в октябре 1966 года в прессе появилась первая информация о выходе романа, до момента, когда его автор шутливо заявил в редакции одной газеты, устроившей с ним очередную встречу: «Хватит уже об этом Селимовиче!» Надо представить себе лицо почтенного академика, чей облик абсолютно не вязался с саморекламой и суетой, чтобы почувствовать неординарность шутки.
В реакции критики на появление «Дервиша» чаще всего встречалось труднопереводимое сербскохорватское слово «изненаджене», означающее вместе: изумление, потрясение, неожиданное открытие, откровение и сюрприз. Это было изумление роману, потом изумление единогласию, с которым югославская критика (а она благодушием не отличается) приняла роман, потом изумление тому обилию версий и толкований, какое он вызвал. Сначала о «Дервише» писали, что этот роман позволяет боснийско-герцеговинской прозе впервые встать на уровень прозы сербскохорватской. Потом стали писать, что этот роман — событие общеюгославское. Потом термин «книга года» сменился термином «книга десятилетия». И наконец из сугубо югославского контекста этот роман вышел в новую систему координат: теперь для его осмысления понадобились имена Вольтера и Фолкнера; у Селимовича находили ориентализованную традицию Кафки или хвалили его за то, что в романе и не пахнет Кафкой. «Дервиш» был вписан в мировой культурный контекст. Появившись в маленькой Боснии, он стал восприниматься как слово, сказанное югославской литературой в мировой дискуссии о человеке.
М. Селимович писал в советском журнале «Вопросы литературы» (1965, № 12, с. 150): «Для меня важен общественно обусловленный человек, но точно так же для меня важно и то, что в нем происходит, что он переживает, что делает его ареной драматического конфликта с самим собой и с окружающим миром… Я не верю в мистические силы ни внутри человека, ни вне его. Но я верю в сложность и внутреннее многообразие человека».
Именно ощущение неисчерпаемого в принципе интереса к человеку как духовному феномену, именно этот «мировой масштаб», поднимающийся над всеми прочими масштабами, действует на нас при чтении исповеди дервиша Ахмеда, шейха маленькой мусульманской текии, затерянной в заштатном Сараеве, затерянном в зажатой горами Боснии, затерянной в свою очередь на окраине беспросветной и бескрайней Оттоманской Порты, которая и сама уже начинает теряться в толще истории.
Обращение к этому материалу, подернутому дымкой исторической экзотики, было новостью и в плане темы, и в плане стиля. До тех пор при всей своей профессиональной разносторонности (проза — критика — сценарии — радиопередачи — эссе — публицистика) Селимович как прозаик брал лишь то, чему был свидетель, писал события, в которых участвовал: войну и ее изживание в душах. Книга рассказов, которой он дебютировал в 1951 году, называлась «Первая рота». Затем последовало десятилетнее молчание («у меня отрицали талант…»), затем — в 1961 году — роман «Тишина», затем роман «Туман и лунный свет». Новеллы 60-х годов Селимович собрал в книге «Чужая земля». Маленькая повесть, давшая название этой книге, считалась чуть ли не вершиной прозы Селимовича. Читатели, знакомые с повестью «Чужая земля» по журналу «Иностранная литература» (1969, № 3), вполне могут представить себе, что такое Селимович до «Дервиша». В рассказе о бегстве нескольких итальянских солдат-оккупантов через боснийские леса уже смутно прочитывается философская проблема выбора пути, терзаний совести, расплаты и возмездия и запоздалого раскаяния; ключевая фраза повести: «Нелегко быть человеком» — теперь, после «Дервиша», воспринимается как предвестие будущего романа, но в «Чужой земле» еще совершенно другой стилистический климат: та самая суховатая, экономная, сбалансированная, аккуратно распластанная на сюжете проза, о которой с удивлением вспоминали югославские критики, когда погрузились в причудливый, воспаленный мир романа «Дервиш и смерть».
Вчитываясь в исповедь дервиша Ахмеда, вы уже чисто читательски, непосредственно ощущаете необычность стиля. Не сразу можно уловить единый тон: здесь странно соединяются реалистическая плотность письма и философская символика, ирония и пафос. Борьбу разнородных начал в ткани текста вы чувствуете непрерывно; более того, эта стилистическая напряженность, разнозаряженность текста играет какую-то «умышленную» роль.
Странный рисунок прозы создается взаимодействием реальных и духовных элементов: «вещей» — и «парений», тяжелых резонов — и высших наитий. Любопытно, что во всех высказываниях Меши Селимовича о языке (в своих статьях он часто касается этой темы) обсуждается в основном антитеза: плотность — прозрачность. Селимович размышляет о борьбе философских абстракций с локальной замкнутостью местных речений. Он мечтает о преодолении суровости, крутости, твердости сербскохорватского языка, мечтает обрести прозрачность, гибкость, которых не замечаешь, как не замечаешь музыки в хорошем фильме. Это какая-то непрерывная борьба с плотью языка, желание освободиться от этой плоти… Отношение Селимовича к языку помогает разгадать секрет обаяния его романа: здесь борьба поверхностей и бездн, элементарных значений и глубинных смыслов несет решающую нагрузку. Проще говоря, шейх Ахмед Нуруддин предельно нормален, плотен, непроницаем, он делает вроде бы обыкновенные шаги… но по закону художественного чуда вокруг него простирается магнетическое, всепроницающее, неустранимое поле высшего смысла и далеких предчувствий. Перед нами и не описание событий, не отрешенное раздумье о них, и даже не переплетение событий с раздумьями о них. Это некое иное состояние, в котором медитация движется вперед как бы спрессованными впечатлениями от событий, а за очевидным нежеланием повествовать о событиях угадывается удесятеренная ужасом зоркость взгляда, прямо-таки выпотрашивающая из событий их смысл — подсмысл — подподсмысл… Зоркость чисто внешняя (то, как видит дервиш руки женщины или руки вбежавшего в текию человека, спасающегося от погони: одеревенелые, раскинутые, как на распятии, вжимающиеся в стену руки) — это не зоркость живописца: за деталями Селимович вскрывает психологические и философские состояния. В этой сфере Селимович становится поистине безжалостным. Оцепеневший дервиш не решается ни выдать беглеца преследователям, ни спрятать его, боится предать человека — и боится предать себя, ибо с преследователями он ведь тоже связан чем-то вроде добровольного обязательства. Полагая, что любое действие гибельно и заранее обречет его на поражение, дервиш на последней грани пытается спасти свою совесть, вообще не предпринимая ничего… или хотя бы прямо не становясь на сторону палача.
Отметим попутно, что философский роман Селимовича уже в этом первом пункте — в переживании того, что действие есть, так сказать, ущерб созерцанию,—выламывается не только из сферы той или иной локальной повествовательности, но из той локальной же системы духовных воззрений, на базе которых сам этот роман построен. Я имею в виду ислам. Скрупулезно точный в передаче реалий и состояний, характерных для мусульманской духовной традиции, Селимович видит в своем герое нечто большее… или нечто более всеобщее, нежели мучения шейха мевлевийской текии в XVII веке. Да, шейх Ахмед рефлектирует так, что вы все время чувствуете «мусульманскую окраску» его моральной тоски; самоуглубленность его, выдающая вековые традиции суфиев, построена не на изначальном ощущении свободы, а скорее на ощущении кары, которая придет с неотвратимостью закона; кружева рационалистического мышления, работающего здесь подобно вычислительной машине, в сочетании с ощущением «безостаточности» того, как личность вкована в цепь законов бытия, выдают исламский стиль мышления лучше, чем описания молитвы, диванханы и яшмака. И все-таки это роман не об исламе и не о Боснии XVII века, хотя исторические реалии тоже соблюдены скрупулезно. Перефразируя одного югославского критика, можно сказать: читая Селимовича, вы все время чувствуете магометанство, но чувствуете также, что не это существенно.
Художественный склад романа «Дервиш и смерть» — эта медитация в реалиях — находит своих предтеч и союзников в книгах, далеких от темы и традиций магометанства. В свое время на почве католической традиции возникла, например, родственная «Дервишу» исповедь Жоржа Бернаноса «Дневник сельского священника». В совершенно иной традиции возникает проза японца Кобо Абэ, этот японский вариант исповеди человека, цепенеющего перед выбором и бессильного вырваться из логики борьбы. Возвращаясь к Ахмеду Нуруддину, герою «Дервиша и смерти», заметим, что стоящие перед ним проблемы отнюдь не привязаны к Сараеву XVII века. Во всяком случае, для ислама той поры (в отличие от буддизма или даже от некоторых толкований христианства) проблема действия вряд ли была столь трагичной.
Роман Меши Селимовича, построенный на фундаменте далекой боснийской истории, обращен к трагизму XX века. Исходной точкой для этой одиссеи духа становится отрешение от мира — состояние, которое несколько веков назад казалось чуть ли не идеальным решением проблемы, а несколько десятилетий назад — абсурдом. Шейх Ахмед ненавидит мир за то, что в мире приходится действовать. Отрешение Ахмеда Нуруддина есть месть этому миру. Его брезгливость по отношению к суете вовсе не является чисто философской версией, которая могла бы опереться на теряющиеся в веках авторитеты (скажем, на аскезу суфиев или мироотрицание отцов христианской церкви). Нет, это состояние возникает в романе как духовная проблема, словно не имеющая прецедентов и продиктованная только что. Мироотрицание героя Селимовича есть живой ответ живого человека, оно дано здесь почти как импульсивное отшатывание от опасности, как живой импульс человека, на глазах которого стражники настигают беззащитного беглеца: «Если б они схватили его, стали бить в моем присутствии, жестокая расправа врезалась бы мне в память…»
Бегущий из мира страстей дервиш не похож на пустынножителя, нет, он выпрыгивает из самой схватки, он зажмуривается посреди сечи, где белые рубахи заливает красная кровь, он обнаруживает безысходность вмешательства, зная, что не вмешаться еще страшнее: это «врезалось бы мне в память».
Но лишь символическое мгновение шейх Ахмед Нуруддин выдерживает в своей спасительной духовной крепости. Арест брата разом возвращает его к миру реальному. Проклиная свою любовь, вынуждающую его просить за осужденного, проклиная себя, свою робость и свою судьбу, шейх идет спасать ближнего своего.
Начинается его мука, начинается трагедия действия.
Как только просишь о милости сильных мира сего, у них делаются невидящие глаза. Муселим, кади и муфтий — вот три ступени унижения, которые проходит дервиш, три встречи, три разговора, развернутые в тройную пытку. Муселим грубо и зловеще отказывает дервишу, почти угрожая ему. Сладкоголосый кади издевается над ним, цитируя Коран (этот разговор сделал бы честь иезуитам); дервиш бессилен пробить эту слащавую завесу. Больнее всего, однако, третий отказ — может быть, потому, что в муфтии еще сохранились следы простого человека: старик оживился, обрадовался, что его растормошили… и так же быстро заскучал, слушая дервиша. Стекленеющий взгляд муфтия страшнее всего именно потому, что в нем нет злоумысла — просто бесконечная скука заурядности.
Потом, позднее, дервиш отомстит всем троим. Муселим сбежит от него в страхе. Кади умрет под ногами толпы, освободит дервишу свое кресло. И даже муфтию дервиш отплатит тою же монетою — скучающим, безразличным взглядом. Но между мстящим героем финала и проклинающим себя просителем первой части романа — пропасть, которую этот человек как-то умудрился же перескочить… Судьба героя не была бы столь трагичной, если бы он, скажем, восстал против бесчеловечной власти,— это была бы, пожалуй, героическая эпопея вполне традиционного плана. Но дервиш, я говорил уже, наделен трагической остротой зрения. Он видит не только зло в людях, но видит также, что никто из людей не хочет быть злым. Они все, даже трое «всесильных», пытаются избежать осложнений и больше всего на свете хотят, чтобы проситель не вынуждал их к отказу. Человек не зол, но бесконечно слаб и далек от другого человека. Он вовсе не ищет случая предать и даже не тогда предает, когда его прямо вынуждают к этому. Он предает как-то по инерции, по невольной мягкости, он настолько размягчен страхом, что и сам не замечает, как предает. Человек — одуванчик, дунь — и нет его. Если бы хоть себе он мог казаться крепким! Если б он мог быть слепо счастливым, как слепо счастлив бывал в молодости сам дервиш, когда, будучи солдатом, врубался в строй врагов, покрываясь их и своей кровью,— тогда действие заменяло ему духовный стержень…
Тема и предмет философского исследования Меши Селимовича — человек, лишенный стержня, лишенный веры, оставшийся наедине со своей тленностью, «тварностью», бессилием, когда человека покидает пьянящий экстаз битвы и он ощущает всю гибельность охватившего его бездействия.
В остроте переживания этих «пограничных состояний» улавливается сложный психологический комплекс, связанный на югославской почве с понятием «боснийский характер». История Боснии поразительно контрастна (недаром она воплотилась у Селимовича в символической фигуре безногого силача). Это единственная югославская область, для которой турецкое иго обернулось почти поголовным омусульманиванием. До Хорватии турки не дошли, в Словении не удержались — регионы эти были отчасти прикрыты, охвачены австрийским влиянием, вместе с которым успел окрепнуть в этих краях и католический дух. В Сербии так же цепко держалась ортодоксия православная, там тоже не было вакуума; устояла и компактная Македония. Не устояла только Босния, расслабленная богумильскими ересями, расчлененная горными хребтами, отсеченная ими от моря. Была одна отдушина — Дубровник: там сохранялась торговая республика, что-то вроде Венеции или нашего Новгорода Великого,— недаром Дубровник и дубровчане становятся для Селимовича как бы полюсом свободы, вольной любви и духа странствий, своеобразным возрожденческим просветом, после которого еще тягостней ощущается атмосфера духовного ига, легшего на боснийцев.
Но именно Босния оказалась основным очагом борьбы югославов против гитлеровцев. Для Селимовича участие в этой патриотической борьбе стало главным событием жизни. Он родился за четыре года до «выстрела в Сараеве» (выстрел Гаврилы Принципа часто служит в Югославии чем-то вроде точки отсчета при исчислении нынешней исторической эры). Селимович был студентом-философом, потом учителем. С 1941 года стал бойцом первого призыва, из тех, кого потом назвали почтительным в Югославии словом первоборцы. В «Воспоминаниях» он описывает свой первый арест: его, молодого учителя, усташи ведут в тюрьму, он смотрит в глаза встречным, эти люди отлично его знают — один отвернулся, другой опустил голову. Рассказывает он и о потере брата. Коллизии «Дервиша и смерти» не философские изыскания отрешенного ума, здесь — сама жизнь…
Селимович воевал, был комиссаром. Знаток Боснии и ее людей, он сделался в этом смысле прямым преемником Иво Андрича. После «Дервиша и смерти» параллель Андрич — Селимович стала почти общим местом критических статей — с акцентом, разумеется, на контрасте этих писателей. Оба — драматические летописцы, но то, что у Андрича было развернутым, мощно раскинувшимся эпосом, у Селимовича выявилось в напряженном внутреннем борении духа, в философском искании смысла, в интенсивном самопознании личности.
В своем интенсивном анализе человека Меша Селимович идет, конечно, от Достоевского. Достоевского он называет «самым крупным романистом мира» и своим любимым писателем. По словам Селимовича, Достоевский — это больше чем литература, это — заново созданная реальность, убеждающая, что «писание есть поиск невозможного».
В каком же смысле? В том, что невозможно дойти до дна человеческой души? В том, что человеческое достоинство трагически утверждает себя в условиях, подчас совершенно невозможных для достоинства? И то и другое, и более всего — сам факт, что личность исчерпать невозможно.
В «Дервише и смерти» нет, конечно, той экстатической страсти, той последней свободы, той воли, за которую расплачиваются собой герои Достоевского. Здесь климат суше, логика жестче. Рационально-законнический дух Корана, довлеющего над героем Селимовича, все-таки окрашивает этот тип духовного сопротивления: здесь человек опутан необходимостью, он не вырывается на простор и, кажется, даже не ищет прорыва — отрешенный от жизни, он знает, что обречен, он почти по инерции ведет проигранную партию. Трагизм романа Селимовича (и его художественное открытие) не в том, что потерявший веру человек проигрывает, а в том, что потерявший веру человек начинает автоматически принимать навязываемые ему правила борьбы.
Нуруддина оживляет злоба, в которую изошла его поруганная любовь к брату. От равнодушия его излечивает ненависть к обидчикам. И он платит им, как умеет. Он устраивает такую провокацию, что его противники даже не знают, откуда свалилась напасть. Он посылает доносчика с доносом, провоцирует честных людей арестом честного человека, устраивает бунт толпы, глубоко презирая ее, ибо она слепо исполняет его волю,— о, если бы шейх Ахмед был способен на наивное счастье бунтаря! — но он понимает, что и сейчас под ногами растравленной им толпы гибнет чей-то невинный брат. Круг замыкается: и вот уже слабейший из слабых, смирнейший из смирных Ахмед Нуруддин занимает место затоптанного им противника, и вот он — кади, и вот, ставши частью и рычагом бездушного механизма насилия, он вынужден предать в руки палачей Хасана — своего лучшего друга…
Весь ужас тут в том, что с точки зрения рациональной должностной логики Хасан действительно виновен. Письмо ли дубровницкого купца, которого выручает Хасан, или, в конце концов, тот факт, что казненный брат Нуруддина действительно знал что-то лишнее,— это же, так сказать, факты. Приняв навязанную ему логику борьбы, Ахмед Нуруддин обнаруживает, что живой человек всегда чем-нибудь оказывается виноват перед бесчеловечной логикой. Эти два противника — абстрагированный от исторической «эмпирики» «естественный человек» и смиряющий его искусственный, им же, человеком, созданный абстрактный закон — всегда невольно оскорбляют друг друга, ибо сделаны они из одного материала — из фетишизации абстракций. С этого пункта: с того, что человек прячется в крепость абстрактных понятий, ныряет под крыло химеры,— начнется раздумье следующего романа Селимовича… Пока же идет до конца по своему крестному пути дервиш Ахмед Нуруддин, невольник действия. Признав свое бессилие, он жизнью расплачивается за это признание, за то, что принял правила бесчеловечной игры, за то, что разменял любовь на ненависть. Но и в этой немощной твари, в этом капитулировавшем ничтожестве на самой грани гибели вдруг вспыхивает искра, вспыхивает то, что сильнее его… Можно назвать это совестью или честью, гордостью или любовью, возмездием или раскаянием, но смысл один: есть в бессильной твари что-то, что сильнее твари.
Потом — смерть.
Он и не мог уйти от смерти, этот дервиш. Он был подрублен под самый корень, потому что он ведал, что творил. Можно сказать, что он слишком много знал… во всяком случае, его автор знал о нем все. Он, автор, знал о его конце. Два антипода сопровождали Нуруддина в романе: Исхак и Хасан, один — мятежный бунтарь, другой — вольный бродяга. Они могли бы быть счастливы, как бывал счастлив солдат Нуруддин, забывавшийся в схватке. Но философ, познавший бессилие человеческого одиночества, философ, решившийся пройти до конца этот путь, должен знать, каков конец.
Роман оставляет в нашем читательском сознании ощущение неодолимости человеческого духа. Это ощущение рождается не от судьбы дервиша (его судьба — тяжкий урок) и не от судьбы его друзей, более удачливых в борьбе и бунте (они едва маячат в сюжетной дали). Ощущение неодолимости человеческого духа возникает у нас от самого факта, что эта книга написана.
Успех романа «Дервиш и смерть» поставил Селимовича в положение по-своему трудное: теперь от него ждали чуда. Газета «Весник» процитировала читателя, обратившегося к автору «Дервиша»: «Вы в этой книге сказали все, и больше вам нечего сказать». Одновременно с другого конца страны в газету «Политика» пришло письмо: «В „Дервише“ вы сказали все. Что вы теперь напишете?»
Селимович написал «Крепость» (1970).
«Крепость» — продолжение «Дервиша». Это и облегчает, и затрудняет путь новой книги к читателю. Почему облегчает — понятно: интерес готов, он подогрет ожиданием. Но по той же причине и затрудняет: ожидания требовательны. Все-таки «Дервиша» писал автор, которого до той поры считали знатоком «боснийского характера», не более; «Крепость» пишет автор «Дервиша» — книги, только что прошедшей сквозь громы дискуссий, переведенной на дюжину языков и выдержавшей в Югославии много изданий.
Выходит книга, написанная в духе «Дервиша». Югославские критики, готовившиеся к еще одному ослепительному событию, грустнеют; их реакцию выявляет в газете «Борба» Петр Джаджич: «После „Дервиша“ мы ждали нового шедевра, но ведь Меша Селимович все-таки писатель, а не чудотворец…»
Конечно, если ждать перевода в мыслях после каждой новой книги крупного писателя, есть от чего прийти в уныние. Если же видеть в творчестве последовательный и необходимый духовный путь, то нет вещи более любопытной для анализа, чем «Крепость».
Как и в «Дервише», перед нами времена исторические. Действие романа «Крепость» происходит, судя по всему, вскоре после первой русско-турецкой войны; ряд признаков прямо указывает на недавнее поражение под Хотином, где боснийцы воевали против русских на стороне турок. Однако всей системой выразительных средств автор предостерегает нас от того, чтобы мы искали в романе то, что называется историческими картинами; конкретно-исторический элемент здесь нарочито ослаблен, затушеван, смазан — и тем не менее четко выверен. Вся художественная символика войны в романе имеет к действительности 1770-х годов весьма проблематичное касательство. Конечно, «окопы» были и в те годы (хоть сидели в них меньше), и все-таки окоп как художественный символ солдатского прозябания был неведом ни янычарам Молдаванчи-паши, ни гренадерам Румянцева, так что в роман Селимовича этот проклинаемый грязный окоп пришел, конечно, из эпохи первой мировой войны, равно как и общее ощущение «потерянности» военного поколения; конец XVIII века вообще не знал «потерянности»: его философы были устремлены к Разуму и Просвещению, его солдаты сражались за «веру» и «честь», его рефлексия была направлена на несовершенство вещей и несоответствие душ Абсолюту, но ни темы безысходного абсурда, ни ощущения отупляющей и бесцельной бойни, ни характерной для позднейшего европейского мышления проблематики «маленького человека», заброшенного в пучину событий, в коих он не волен, XVIII век не знал. Это все проблематика XX века, точнее, это философская символика XX века.
Человек, у которого есть опыт чтения, допустим, Фолкнера и Кобо Абэ, легко настроится на манеру Селимовича, ибо это все варианты философской прозы XX века, ориентированной на «смысл истории» и «судьбу человека». Свежими корнями, не говоря о более древних, эта проза уходит, наверное, к Стендалю. Петр Джаджич (он, кстати, и обозначил проблематику этой прозы шолоховской формулой — «судьба человека») выстраивает Селимовичу следующий «генеалогический» ряд: от Стендаля и Достоевского — к Мальро и Камю. Может быть, не стоит чрезмерно акцентировать чисто литературную «генеалогию», но что верно, то верно, в тексте «Крепости» действительно есть прямые реминисценции из этих писателей (молодые чиновники Порты, мечтающие обеспечить народу бездумное счастье и веселую сытость, вышли из «легенды о Великом Инквизиторе»; гусеницы, неведомо откуда приползающие и неведомо куда исчезающие, ползут по следам чумных крыс у Камю). Селимович не боится литературных параллелей, он сам дает читателю ключ к своей прозе, как бы наперед объявляя правила игры; надо его условия принять: перед нами не путешествие в историю, но путешествие в Смысл истории. Селимович идет в этом русле: перед нами проза иносказаний, проза-«парабола», проза-«притча». Вы следите не столько за действием, сколько за его символическим смыслом. Это проза странная для непривычного уха, но своеобразная прелесть в ней есть: удивительное сочетание лихорадочного беспокойства и какой-то заторможенной медлительности, кружение мысли, словно идущей по своим же следам. Проза Селимовича воспринимается так, словно и вы, и рассказчик погружены в воду, в пучину психологизма, в бездну «рефлексии»,— давление чудовищное, и все как будто затоплено чем-то вязким: призраки ли? реальность ли? Существенно лишь то, что погружено сюда, вглубь, что пропущено через сознание; а то, что на поверхности,— несущественно: там маленькие разрозненные островки событий, бессмысленные и непонятные, если не видишь, какой подводный слой держит их. Убийства, ужасы, отчаянные страдания видит герой Селимовича эпически бесстрастно, как нечто само собой разумеющееся: чего ж еще ожидать? Убили Авдагу — но ведь его смерть неизбежна, законна, она в «правилах игры»; отравили Шехагу — нечего жаловаться: та же борьба, та же игра; никто не волен уйти от своего жребия, и, вступая в игру, человек уже отрекается от себя… Эмпирический ряд событий у Селимовича словно разыгрывается по неотвратимой партитуре, порожденной изначальным столкновением непримиримых начал: поэтому эмпирическую реальность рассказчик описывает с какой-то леденящей бесстрастностью, ничему не удивляясь, никого вроде бы и не осуждая; но какие вулканические страсти собраны на том глубинном уровне, где составляется сама эта неотвратимая партитура, с какой исступленной последовательностью пытается герой Селимовича опровергнуть сами «правила игры» или,— если говорить в старинном стиле — ничего не имея к людям, сколь многое предъявляет он аллаху!
Проследим его драму.
И начнем с одного пункта, с лейтмотива, который в системе этических оценок романа представляется не просто существенным, но отправным. Этот мотив — определим его пока «на ощупь», по первому признаку — изобличение «химер» безличности.
Крестьяне отказались платить военную подать; власти забрали в крепость трех зачинщиков; родственники пошли за них просить, но опоздали: все трое уже казнены. Родственники купили гробы и стали ждать, когда им отдадут тела убитых…
«За что их казнили?» — спрашивает рассказчик.
«За что? Ты хочешь знать, за что?.. Сколько людей перебили на войне, а ты хочешь знать, за что казнили… мужиков из Жупчи! Лови рыбу, Ахмед Шабо!..»
Больше всего поражает Ахмеда спокойное безразличие крестьян, приехавших за убитыми; никакого возмущения — одна рассудительная покорность: надо бы скорее схоронить убитых, дома дел невпроворот, лето…
Нет, все-таки это непостижимо! Ахмед понял бы, если б в ярости мужики атаковали крепость, если бы пошли в ножи, если бы хоть возненавидели обидчиков. Но они… не хотят знать обидчиков! Они не вынесут мысли о том, что их родичей убили люди. Однако они легко мирятся с тем, что их убил закон, рок, судьба — безличная стихия. Этот самообман и кажется Ахмеду чудовищным. Но он с грустью убеждается, что подобным образом обманывают себя буквально все. Все утешают себя «химерами»!
Когда солдаты насиловали крестьянку, она лежала неподвижно, ждала, пока все кончится. Потом Ахмед подошел к ней, улыбнулся, вытер ей пот с лица: не бойся, мол, я тебе ничего не сделаю… Ее реакция была страшной — в припадке вдруг вспыхнувшей ненависти отшвырнула руку, плюнула утешителю в лицо. Она еще могла, пишет Селимович, снести насилие от тупой и слепой толпы, могла стать жертвой непостижимой судьбы, но она не могла вынести надругательства со стороны личности.
Итак, вот первый пункт концепции Селимовича: бессильный противодействовать обстоятельствам, человек сам себя мистифицирует, он надевает шоры, он населяет мир безличными, высшими силами, он попросту отказывается видеть за ними конкретных людей — так ему легче.
Холодный и беззлобный сердар Авдага, профессиональный сыщик, беззаветный слуга закона, бескорыстный и беспощадный проводник абстрактной справедливости и слепого, как закон, умиротворения,— вот самый последовательный аполог безличия. Конечно, у вас может кровь заледенеть в жилах от доводов этого слуги закона, но согласитесь, что резоны у него есть: людей много, все разные, каждый тянет в свою сторону, государство не дает им разлететься и передраться, без этого не выживем, нечего вставлять государству палки в колеса и обижаться на власть нечего, ведь не люди же карают смутьянов — их карает власть…
Перед героем «Крепости» — сплошной фронт безразличия: от добровольного идеолога абстрактной государственности до тупого терпеливого мужика, который уповает на аллаха и винит дьявола даже тогда, когда его брата казнит реальный и живой сердар Авдага.
«— Ты ненавидишь власть? Ведь она брата твоего убила.
— Камень упал и убил человека. Что ж, камень ненавидеть?
— Брата убили люди, а не камень.
— Нет, убили не люди, а власть».
…Так легче. Ахмед Шабо и сам чувствует, насколько так легче. Его самого одолевает соблазн в тяжкую минуту шепнуть себе: «Во всем виноваты шайтан, война и моя прерванная молодость». И при этом он знает, что это иллюзии, химеры! И при этом его жизненная, философская задача — снять пелену с глаз! Разглядеть именно людей во всех этих безличных фантомах… И поразительно покорное равнодушие крестьян из села Жупчи! Нет, все-таки это люди надругались над той женщиной! Нет, все-таки он негодяй и убийца, этот сердар Авдага! Нет, все-таки власть из людей составляется! И нет в мире никого, кроме людей! Люди, люди делают все: от мельчайшего поступка до выбора форм государственности.
С этой мыслью герой Селимовича и выходит в свою моральную одиссею. «Маленький человек», обиженный судьбой, вчерашний солдат, вышвырнутый со службы, ничтожный винтик, затерянный в гигантской общественной машине, он наделен по воле автора убийственной остротой зрения, он не признает ни безотчетного страха, ни мудрой покорности року — он хочет знать, кто виноват в его несчастьях!
Поверив, что «все — в человеке», он пытается в человеке найти причины и основы всего, концы и начала, Смысл и Возмездие.
Роман «Крепость», «башней» своей устремленный ввысь, к Смыслу истории, основанием уходит в вязкую топь, где борются между собой разрозненные «маленькие люди». Силою писательского таланта Селимович вскрывает противоречивость тех экзистенциалистских тезисов, которые в какой-то мере представляются ему достойными внимания в художественном исследовании сущности человеческого бытия.
Один за другим проходят люди перед умственным взором Ахмеда Шабо. Умственным — потому что это не столько даже реальные люди во плоти, сколько нравственные модели, варианты ответа на один и тот же мучащий автора вопрос: чего же стоит человек, если освободить его от «химерических» иллюзий — Закона, Судьбы, Порядка, Высшей Цели и прочих «самовнушений»,— если опереться на его, человека, собственные силы?
Вот варианты, причем самые яркие, самые привлекательные. Осман Вук? Беспощадный зверь, прикрывающийся маской отчаянного и веселого забулдыги! Шехага? Человек великих страстей, высокой любви и великой ненависти, но замкнут на своем, мстит за сына, весь мир поэтому считает виноватым и в этой вражде холоден, расчетлив и так же беспощаден. Может быть, Рамиз? Полубезумный бунтарь, готовый пожертвовать и собой, и половиной человечества ради того, чтобы скинуть «тиранов», но и у него впереди тупик, ибо, скинув своих противников, он окажется на их месте и начнет силой вынуждать к тому, что почитает счастьем. Так ведь и сердар Авдага, подлец и сыщик, думает, что он подталкивает к счастью слепое и непонятливое человечество!
И это, повторяю, самые яркие, самые сильные, по-своему благородные люди! Что же говорить о слабых — они вызывают только жалость и насмешку: и тихий трус Молла Ибрагим, честно сознающийся в своем бессилии, и шумливый прожектер Махмуд Неретляк, шутовством прикрывающий свой ужас перед жизнью, и мудрый Сеид Мехмед, который понял, что единственный путь спасения в этом мире суеты и жестокости — воспитать в себе равнодушие ко всему на свете. Самый близкий Ахмеду человек, его жена Тияна,— единственный образ, в котором Меша Селимович хотел поселить сочувствие и понимание,— не более чем покорное эхо героя, и отсюда странная художественная неорганичность Тияны, в характере которой старательно выписанное бытовое, сугубо «женское» начало должно компенсировать совершенно немыслимый для нее полет философской мысли… Единства не получается; однако и противоречивый образ Тияны по-своему свидетельствует о тяжкой абсурдности и разрозненности мира людей.
Целого нет. Люди раздроблены, бессильны, несчастны. Мир бесструктурен. Солдаты умирают под Хотином за совершенно непонятные интересы Оттоманской Порты. Родственники, измученные ожиданием, шлют солдатам письма, в которых пишут, будто живут хорошо, но письма до солдат не доходят: обозники в первую же холодную ночь разжигают этими листочками костер. Знаменосец, смельчак, не ведающий страха, ходивший в десятки атак и невредимым вышедший из-под тысячи пуль, вернувшись после роспуска войска в свое село, становится садоводом. Падает с груши, разбивается. Ахмед Шабо, заикнувшийся о том, что его мучит бессмысленность происходящего, изгнан со службы и остается в одиночестве, как прокаженный. «И хоть говори, хоть кричи — все впустую, никто ничего не слышит. Еще немного — и начнут проходить сквозь меня, словно я воздух, или брести по мне, словно я вода». Мир романа состоит из жертв и насильников. Таковы люди — если смотреть на них прямо, не убаюкивая себя иллюзиями.
Как быть чересчур зоркому человеку, сделавшему это чудовищное открытие? Как жить?
Зажмуриться. Исчезнуть. «Вжаться в камень», чтобы не заметили, чтоб прошли мимо, чтоб оставили в покое. Как вжимался в камень на глазах Ахмеда Нуруддина человек, бежавший от палачей,— видение, которое выбило из колеи дервиша… Желание вжаться в стену, слиться с камнем, перестать быть человеком — постоянный соблазн и Ахмеда Шабо, героя «Крепости». Если человек — только жалкая тварь, судорожно дерущаяся за свое животное спасение, то где найти силы оставаться мыслящим существом? Чтобы выжить, надо перестать мыслить, надо сделаться тем, что ты есть, так сказать, «по определению»,— тварью.
«Искус тварности»… Вспомним еще раз «Дервиша и смерть».
История дервиша — это драма человека, знающего, что участие в людской борьбе навяжет ему бесчеловечные «правила игры», но знающего также, что неучастие обречет его на еще больший ужас: на прозябание и молчаливую подлость. История дервиша это «искус деяния». Это смертный выбор личности, выявляющей себя в акции, ибо, очертя голову отдав себя тому, во что поверил, обретает человек «хоть на мгновение» свое высокое имя. На мгновение — потому что в следующее мгновение он должен пожертвовать собой, погибнуть в борьбе. Дервиш и смерть — вот союз, каковым оплачивал Ахмед Нуруддин свое существование как личность.
Общая черта дервиша и героя «Крепости» — поиск высокого предназначения. Отказ от участия во зле. Желание быть добрым, найти опору Добру. Как и дервиш, Ахмед Шабо наделен духовной проницательностью, ненужной и опасной в этом мире дерущихся. Оба ищут Смысл, оба зрячи: оба хорошо видят, где черное, где белое, оба знают, где химеры, где реальность. Иллюзий нет ни там, ни тут.
Но там человек, стремясь выявить в себе высокое, шел навстречу трагедии. Навстречу смерти, которая его возвышала.
Здесь человек решается выжить.
Дервиш и жизнь — вот странный, противоречивый и удивительный смысл «Крепости». Тот самый дервиш, который не умел и не хотел жить бессловесной тварью. И та самая жизнь, в которой копошатся, топя друг друга, эти бессловесные твари, лишенные веры, добра и сострадания.
Противопоставляя этой полуживотной морали мораль человеческую, Меша Селимович наделяет своего героя мучительно болезненной совестью. Совесть для Ахмеда Шабо как крест, хоть и невидимый. «Укрылась во мне, как сиротка, и молчишь, как сиротка, ничего не просишь… и, пока я о тебе не помню, все хорошо, но, как вспомню, готов со стыда сквозь землю провалиться. Почему, не понимаю… Я даже не знаю, что ты такое, тебя нельзя увидеть, нащупать… Ты безрассудна, чужой горький опыт тебе не указ… Тебе бы найти человека сильного…», «Я — маленький человек…»
Совесть, которой наделен «маленький герой» «Крепости», кажется необъяснимой. Можно сказать, что автор навязал этот груз своему герою. Своеобразный «императив совести» воспринимается здесь уже не просто как нравственная максима, но как своеобразный спасательный круг, который бросает герою автор. Здесь-то мы и подходим к противоречиям Селимовича, в которых, как в противоречиях всякого крупного писателя, интересно разобраться.
Ведь против совести никто не спорит. Речь идет о другом: как жить по совести в конкретных обстоятельствах? Если бы вопрос стоял так: можно ли согласиться с миром, в котором нет совести? — тогда ответ был бы «на тему»: нельзя! Совесть — категорический императив, не выводимый из этого мира. Но здесь спрашивают другое: можно ли существовать по совести в этом мире? Ответ: по совести — нельзя, но… тут-то и заключено главное противоречие романа: нельзя, но… существовать надо… и совесть иметь надо… И тогда мы вправе спросить автора: откуда же у этого хитроумца появляется такая химера, как совесть?
Герой «Крепости» — «маленький человек». Но это «маленький человек», забывший, что он маленький. Абсурд? Да. Тот, кто забыл о том, что он «маленький», уже не маленький! Как же примиряются эти уровни в сознании Ахмеда Шабо? А он — маленький человек, время от времени забывающий, что он маленький. Совесть для него не самоцель, а средство спасения души в обстоятельствах, когда душой то и дело поступаешься.
Герой романа «Дервиш и смерть» занят другой проблемой; в центре этической системы романа — «императив действия», там ни о каком «выживании» речи быть не может; решившись действовать, герой знает, что он расплатится за этот «императив» не просто жизнью, но хуже: целостностью духа,— и он проходит до конца свой трагический путь. В «Дервише» есть спонтанная духовная решимость, в которой действие неотделимо от истины и вера неотделима от существования. В «Крепости» появляется осторожное сочувствие, которое дозировано: оно уже не может сжечь человека, оно должно согреть его, помочь ему сохранить душу в мире бездушия и бездуховности.
Ахмед Шабо и мыслит и действует не столько как участник событий, сколько как сторонний наблюдатель. И когда подталкивает Шехагу освободить из крепости Рамиза, и когда предупреждает об опасности Скакаваца, и когда изворачивается перед Авдагой на допросах. Заметьте: герой нигде не действует из своей собственной страсти, но везде незаметным толчком приводит в действие страсти чужие. И эти страсти — увы! — человеческие: пробойное жизнелюбие Османа Вука, свирепая жестокость Скакаваца, мстительность Шехаги. Даже Рамиза, этого рыцаря Справедливости, Ахмед Шабо в глубине души считает слепым безумцем; что же до холодного сыщика Авдаги, то Ахмед подозревает, что в его служебном рвении даже больше своеобразной порядочности, чем во всех страстях Шехаги, Вука и Скакаваца, вместе взятых… Вот и выходит, что Ахмед Шабо в своей борьбе против «химер» опирается на страсти, звериная низменность которых ему яснее, чем кому бы то ни было. И отсюда саморазъедающая горечь его сознания, и вечное «околодействие» и то половинчатое («выжить», но и «сохранить душу») состояние, которое парализует его полупоступки рефлексией, рефлексию же отравляет полупоступками. Точно сказано было о герое «Крепости» в югославской критике: Ахмед Шабо — молодой старик.
Читатель легко уловит в романе «Крепость» следы этой внутренней авторской борьбы: герой часто повторяет или варьирует одно и то же, словно безуспешно убеждая себя; да и финал романа размыт, не собран в фокус, а как бы возвращает нас к экспозиции: опять гонят солдат на войну, все возвращается к началу, все идет по кругу. В атмосфере «Крепочти» нет того, что называется прорывом в новую реальность, в «Дервише» такой прорыв есть: Дубровник, вольная республика, избежавшая тяжкой длани Османской империи… Конечно, мы можем оспорить абсолютность такого символа: вольный торговый город тоже не панацея от исторических бед, описанные историками драки демократических новгородцев на волховском мосту уносят человеческие жизни так же, как и грозная стройность Московского государства при Иване III; так что Дубровник, эта югославская Венеция,—весьма условный и даже небесспорный символ свободы, но в этической системе «Дервиша» он символизирует просвет. В «Крепости» просвета нет: разгульная животность венецианского карнавала, во время которого Шехага по всем законам борьбы получает свою порцию яда, снимает ореол с торговой республики и возвращает героя к тому, от чего он так хотел убежать: к мелкой хаотичности жизни, сдавленной бездушием Закона и пробавляющейся верой в химерические Случай, Судьбу и Везение.
Решившись выжить в этой ситуации, Ахмед Шабо с отвращением продолжает свой жизненный путь. Путь приспособления к реальности.
Отдадим себе отчет в том, что, в сущности-то, автор «Крепости» исследует тот самый путь, на который он поставил героя «Дервиша»,— путь испытания сил человеческих. Но видно, на этом пути люди проходят не через одни трагические перевалы, они осваивают и те долины, в которых селится так называемый средний человек. Это тоже испытание человеческих сил. Но не смертью. Жизнью. И противоречивый опыт такого испытания так же ценен для нас, как и опыт предельных состояний духа, созерцающего «обе бездны».
Роман «Крепость» свидетельствует об известной исчерпанности экзистенциалистских концепций, которыми (и полемикой с которыми) питалась значительная часть европейской литературы на протяжении двадцати пяти послевоенных лет. «Крепость» — книга, так сказать, постэкзистенциалистская: в исходных принципах она еще зиждется на «заброшенности» героя в хаотический мир, но логикой поиска автор стремится преодолеть это ощущение. Ситуация меняется: там, где ранее виделся хаос, в который человек был «заброшен» помимо своей воли, теперь все чаще ощущаются структуры, в которые человек так или иначе должен вписаться, соответственно воспитав в себе волю. На смену «заброшенности» идет «участие» со всем спектром оттенков, начиная с «выживания» и кончая «ответственностью».
Что написано после «Крепости»?
Роман «Остров» (1974). Цепочка новелл, связанных двумя центральными героями. Иван и Катерина — старики, прожившие долгую жизнь, оставившие в этом мире детей и внуков, а теперь удалившиеся от мира на остров обдумывать пережитое. Остров также и буквальный: старик рыбачит, старуха ведет нехитрое хозяйство; нет только золотой рыбки… Критик Миловое Маркович пишет об «Острове»: это книга «драматическая, резкая, горькая, психологически перенапряженная… она сосредоточена… на ощущениях человека, который хоть и бессилен сопротивляться, но не согласен быть раздавленным… Книга жестокая, тяжелая от человеческой боли, разочарований и ошибок».
Проблема человека, исследованная и прочувствованная Селимовичем в предельных режимах, в экстремальных условиях или, как теперь говорят, в системе «параболического» (иносказательного) художественного мышления, в последние годы обнаруживает тенденцию вновь погрузиться в эмпирический материал конкретно прожитой жизни.
Финал ее — воспоминания писателя, вышедшие отдельным томом совсем недавно. Исповедь человека, жившего в бурную эпоху. От ранних лет, несущих какой-то невосстановимо идиллический отсвет, и дальше — через две мировые войны, через потери и испытания — к книгам, составившим славу югославской литературы нашего времени.
Меша Селимович умер в 1982 году.
Редакции получили возможность опубликовать подготовленные ими материалы, лишенные «произвольных толкований».
Такой опыт завершился.
Опыт писателя, знавшего, где и как может человек укрыться от жизни, но знавшего и другое: укрыться — значит не жить.
роман
Перевод Александра Романенко
И з д а н и е т р е т ь е

Meša Selimović
DERVIŠ I SMRT
roman
Sarajevo
1966
ДАРКЕ {1}
Во имя Аллаха, милостивого и милосердного!
Призываю в свидетели чернила и перо и написанное пером;
Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет;
Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть;
Призываю в свидетели день Страшного суда и укоряющую себя душу;
Призываю в свидетели время, начало и конец всего — ибо воистину человек всегда оказывается в убытке.
Начинаю свою повесть, не имея в виду какой-либо корысти для себя или для других, но повинуясь потребности, которая сильнее корысти и разума, хочу оставить собственноручную запись о себе, запечатлеть мучительный разговор с самим собой в слабой надежде, что, когда высохнет след чернил на бумаге, дразнящей сейчас своей белизной, и подведут итог всему (если его подведут), все найдет свое решение. Не знаю, что напишет рука, однако закорючки букв сохранят частицу того, что происходило в душе, оно больше не растает в тумане, словно ничего не было. Я смогу увидеть, как я стал собой,— это чудо неведомо мне, и, думается, оно заключается в том, что я никогда не был тем, кем стал сейчас. Понимаю, что пишу сложно, дрожит рука в преддверии того, что предстоит распутать на этом судилище, на котором я и судья, и свидетель, и обвиняемый. Я расскажу все по порядку, насколько смогу честно, насколько вообще можно быть честным, ибо я начинаю сомневаться в том, что искренность и честность — одно и то же, ведь искренность — это наша вера в то, что говоришь правду (а кто в этом может быть уверен?), а честности много кругом, и на одну доску их не поставишь.
Меня зовут Ахмед Нуруддин, это имя мне дали, и я принял его с гордостью, а теперь, после долгого ряда лет, наросших на тело, словно чешуя, думаю о нем с удивлением и временами даже с насмешкою (ведь в словах «светоч веры» столько несвойственной мне надменности!) и немного стыжусь. Какой я светоч? Чем я просветлен? Знанием? Высшей мудростью? Чистым сердцем? Озарением истины? Отсутствием колебаний? Все взято под сомнение, и сейчас я всего лишь Ахмед, не Нуруддин и не шейх. Все спадает с меня, как одежды, как доспехи, и остается лишь изначальное — голая кожа, нагой человек.
Мне сорок лет, это плохая пора: ты еще достаточно молод, чтоб испытывать всевозможные желания, и уже настолько стар, что не имеешь возможности их удовлетворить. Угасают волнения, силой твоей становятся приобретенные привычки и ясное сознание, что ты уже ни на что не способен. А я берусь за то, что следовало давно сделать, в пору буйного расцвета, когда хороши все пути, а все заблуждения столь же полезны, сколь полезны и истины. Жаль, что я не старше лет на десять — старость удержала бы меня от бунта, или не моложе — тогда мне было бы безразлично. Ведь тридцать лет — это молодость, так я думаю теперь, безвозвратно удалившись от нее,— молодость, которая ничего не боится, даже самое себя.
Странное слово я произнес: бунт. Замерло перо над ровной строкою, где осталось запечатленным смятение, высказанное с такой легкостью. Впервые назвал я свою беду, никогда прежде не думал о ней, не называл ее этим именем. Откуда подступило опасное слово? И только ли слово? Не лучше ли прекратить свою повесть, спрашиваю я себя, чтобы не стало еще тяжелее? Ибо, если она необъяснимым путем исторгает из меня даже то, о чем я не хотел говорить, чего не держал в мыслях и не замышлял во мраке души, захваченной теперь уже не подвластным мне чувством тревоги, если все это так, тогда повесть моя — безжалостное следствие, дьявольская выдумка, и, может быть, лучше переломить аккуратно зачиненное камышовое перо, вылить содержимое дивита на каменную плиту перед текией, и пусть черное пятно будет мне вечным предостережением никогда не касаться магии, которой повелевают злые духи. Бунт! Слово это или мысль? Если это мысль, то что в ней? Истина или заблуждение? Если заблуждение — горе мне, если истина — горе мне вдвойне.
Однако нет иного пути, мне некому довериться, кроме самого себя и бумаги. Поэтому я продолжаю низать неудержимые строки — справа налево, с одного края бездны к другому, от одной пропасти мысли к другой,— длинные нити свидетельств или обвинений. Кого я обвиняю, господи боже, покинувший меня средь безысходной муки людской, предоставив меня лишь самому себе, кого? Себя или других? Но спасения больше нет, мне не уйти от этой повести, как не уйти от жизни и смерти. Будет то, чему суждено быть, а моя вина — если это вина — лишь в том, что я таков, каков есть. Во мне все переменилось, дрожь сотрясает меня до основания, и мир содрогается вместе со мною, не может в нем быть покоя, если во мне его нет; но опять-таки, то, что произошло, и то, что происходит, объясняется одной причиной: я хочу и должен себя уважать. Без этого я не смог бы жить по-человечески. Смешно, наверное, но ведь и вчера я был человеком и хочу быть человеком сегодня, пусть иным, может быть, совсем не похожим на прежнего, однако меня это не волнует, ведь человек — это движение, и горе нам, если мы не послушаемся голоса заговорившей совести.
Я — шейх текии Мевлевийского ордена [1], самого многочисленного и самого чистого, а текия, где я обитаю, стоит на выезде из городка, среди черных и пепельно-серых скал, что закрывают ширь неба и оставляют лишь голубую трещину — скупую милостыню и напоминание о безмерности огромного мира детства. Я не люблю их, эти далекие воспоминания, они все сильнее терзают меня, как навсегда упущенная неведомая возможность. Я сравниваю смутно запомнившиеся мне густые леса над отцовским домом, поля и сад возле озера и каменное ущелье, где заперты ныне я и текия, и кажется, будто нас сжимают одни и те же тиски.
Красивая и просторная текия возвышается над быстрой речушкой, которая пробивается из камня, дом окружен небольшим садом и цветником, веранду затеняет виноградная лоза, в большой диванхане царит тишина, мягкая, как вата, которую делает еще более глухой дробное журчание воды. Дом, некогда служивший гаремом, подарил ордену богатый Али-ага Джанич, дабы дервиши сделали его своим средоточием и убежищем для бедняков, которые обижены судьбой. Молитвами и тимьяном смыли мы грех с этого здания, и текия приобрела славу священного места, хотя нам и не удалось вовсе изгнать тени юных красавиц. Иногда чудится, будто они скользят по комнатам, и ощущается оставленное ими благоухание.
Всем было известно, потому и я не скрываю, иначе эти письмена оказались бы намеренной ложью (за невольную, непредумышленную винить нельзя), что главой текии, ее славой, ее святыней, ее опорой и столпом был я. Без меня она была бы домом о пяти покоях, как все прочие, со мною она превратилась в оплот веры. И словно стала служить защитницей городку от ведомых и неведомых бед, покровительницей его, так как других домов дальше не было. Частые решетки и толстая стена вокруг сада делали наше уединение еще более прочным и надежным, однако ворота всегда были открыты, дабы мог войти каждый, кто нуждается в утешении и очищении от греха, и мы встречали людей добрым словом, когда они приходили, хотя пришельцев было меньше, чем горестей, и много меньше, чем грехов. Я не кичусь своей службой, ибо подлинно эта служба была во имя веры, искренняя и усердная. Я считал своим долгом оберегать и себя и других от греха. И себя тоже, зачем скрывать? Грешные мысли как ветер, от них не скроешься. Не думаю, что это большое зло. В чем набожность, если нет искушений, которые следует преодолевать? Человек не бог, и его сила в том и заключается, чтоб преодолевать свою природу, так полагал я, а если нечего преодолевать, то в чем тогда наша заслуга? Ныне я думаю иначе, но не стоит касаться того, чему придет свой черед. На все хватит времени. На коленях у меня бумага, она спокойно ждет, чтоб принять на себя мой груз, не снимая с меня его тяжести; впереди долгая ночь без сна, много долгих ночей, я все успею, все сделаю, что надлежит сделать, обвиню себя и защищу себя, нет нужды спешить, а просто я вижу, что есть вещи, о которых я могу писать только сейчас, и, может быть, никогда больше. Когда придет время и возникнет желание, наступит черед и других. Я чувствую, как мысли теснятся в тайниках моего мозга и цепляются одна за другую, ибо все они связаны, ни одна из них не существует сама по себе, но в этом хаосе есть какой-то порядок: непонятным образом вдруг возникает непреодолимое желание выдвинуть вперед, вывести на белый свет какую-то одну мысль, чтобы она подхлестнула тебя или утешила. Иногда мысли начинают толкаться, в нетерпении налезать друг на друга, словно опасаясь, что останутся втуне. Не спешите, всему свое время, я сам отдам вам себя, а судилищу надобны очные ставки и свидетели, я не уклонюсь от них и в конце сумею вынести приговор сам себе — ведь речь идет обо мне, и ни о ком другом. Мир внезапно стал тайной, и мы встали друг против друга, удивленно вглядываясь, не узнавая, не понимая больше самих себя.
Но вернусь вновь к себе и к текии. Я любил и люблю ее. Она — мирная, чистая, моя, летом в ней пахнет цветами, а зимой — снегом и лютым ветром; я люблю ее и за то, что своей славой она обязана мне и что ей известны мои тайны, которые никому неведомы, которые я скрывал даже от себя. В текии тепло, спокойно, ранним утром на ее крыше воркуют голуби, дождь стучит по черепице, глухо гудит, вот он и сейчас идет, упрямый, несмотря на лето, обложной, вода стекает по деревянным желобам в ночь, зловещим предчувствием накрывшую мир; кажется, дождь никогда не кончится, но я надеюсь, солнце скоро разгонит тучи, я люблю текию за то, что могу скрыться в тишину двух моих комнат, могу побыть один, отдохнуть от людей.
Речушка похожа на меня: то бурная, то тихая, а чаще всего притаившаяся, беззвучная. Я был огорчен, когда ниже текии ее перекрыли запрудой, приручили и заставили приносить пользу, вертеть в лотке мельничное колесо, и торжествовал, когда, грозная, она разрушила запруду и вырвалась на свободу. И понимал, что, лишь укрощенная, она мелет зерно.
Но вот на чердаке тихо заворковали голуби, дождь продолжается, целыми днями без конца, и они не могут оставаться снаружи, это предвестие дня, которого еще нет. Оцепенела рука, держащая перо, тихонько потрескивает свеча, рассыпая крохотные искры, защищаясь от смерти, а я гляжу на длинные ряды слов, на вереницы мыслей и не знаю, умертвил я их или воскресил.
Если бы Всевышний наказывал за каждое содеянное зло, на Земле не осталось бы ни одного живого существа.
Все спуталось ровно два месяца и три дня назад, в канун Юрьева дня — я начинаю отсчет времени с этого рубежа, ибо только это время меня и касается. Пошли десятые сутки, как мой брат находился в темнице.
Опускались сумерки, я бродил по улицам, огорченный и встревоженный сверх меры. Но внешне я выглядел спокойным, привыкнув за многие годы владеть собой, поступь моя не выдавала волнения, хотя все существо мое было поглощено этой тайной, во тьме невидимых размышлений я мог быть тем, кем хочу. В этот тихий сумеречный час я с радостью покинул бы городок, чтоб ночь застала меня одного, однако дела влекли меня совсем в другую сторону, к людям. Я заменял заболевшего хафиза Мухаммеда, которого пригласил к себе старый Джанич, наш благодетель. Джанич болел уже много месяцев и, возможно, призывал нас перед смертью. Я знал также и то, что его зять, кадий Айни-эфенди, подписал приказ об аресте моего брата. Поэтому я пошел охотно, питая в душе какую-то надежду.
Пока меня вели по двору и дому, я шел, как всегда привычно отводя глаза от того, что меня не касалось,— это не мешало мне быть наедине с собой. Стоя один в длинном коридоре в ожидании, когда весть обо мне донесут туда, куда следует, я вслушивался в немую тишину, словно в коридорах и комнатах не было живой души. Безмолвие приглушенного бытия, тихие шаги, утопающие в коврах, шепот, неслышные разговоры, что велись в комнатах где-то возле умирающего, нарушались лишь тихим потрескиванием рассохшихся досок на подоконниках и потолке. Вечер медленно обволакивал дом шелковыми тенями, в окнах играли последние отблески дневного света, я думал о старике, о том, что я скажу ему на последнем свидании. Я не раз говорил с больными, не раз провожал умирающих в великий путь. Опыт, если для этого нужен какой-то опыт, убедил меня в том, что каждый человек испытывает страх перед тем, что его ожидает, перед тем неведомым, что уже затаенно стучится в замирающее сердце.
Я говорил в утешение:
Смерть — это екин, то единственное, о чем мы твердо знаем, что оно нас не минует. Исключений нет, нет неожиданностей, все пути ведут к ней, все, что мы делаем, лишь подготовка к ней, подготовка с того момента, как мы впервые заплачем, ибо мы никогда не удаляемся от нее, а только приближаемся. А раз это екин, не надо удивляться, когда она приходит. Если наша жизнь лишь недолгий переход, занимающий один час или один день, то зачем так бороться, стараясь продлить ее еще на один день или час? Земная жизнь обманчива, вечность надежнее.
Я говорил:
Почему страх сжимает ваше сердце, когда в предсмертных муках заплетаются ноги? Смерть лишь переселение из одного дома в другой. Ведь это не исчезновение, а второе рождение. Подобное тому как лопается яичная скорлупа, когда цыпленок набирается сил, так и душе приходит время расстаться с телом. Ибо Смерть неизбежна при переходе в иной мир, в котором человек достигает своего расцвета.
Я говорил:
Смерть — исчезновение вещества, а не души.
Я говорил:
Смерть лишь перемена состояния. Душа начинает жить сама по себе. Пока она находилась в теле, она держала руками, смотрела глазами, слушала ушами, но суть вещей познавала она, и только она.
Я говорил:
В день Смерти, когда понесут мой табут, не думай, будто я стану сожалеть об этом мире.
Не плачь и не говори: жалко, жалко. Скисшее молоко жалко больше.
Когда ты увидишь, как меня опускают в могилу, это не значит, что я исчезну. Разве Луна и Солнце исчезают, уходя с небосвода?
Ты считаешь это Смертью, а это Рождение. Могила выглядит темницей, но она освобождает душу.
Разве зерно не всходит, когда его бросают в землю? Почему же ты сомневаешься в зерне человеческом? [2]
Я говорил:
Будь благодарен, дом Давидов. И скажи: пришла Истина. Пробил час. Ибо каждый кружит по своей орбите до предначертанного срока. Всевышний создает вас в утробах матерей ваших и меняет ваш облик во тьме кромешной. Не печальтесь, но радуйтесь раю, который вам обещан. О рабы мои, я избавлю вас от страха отныне и вовеки, чтобы вы не знали печали. О смиренная душа, в радости возвратись к своему хозяину, ибо он рад тебе. Войди к рабам моим, войди в мой рай [3].
Так говорил я много раз.
Но сейчас я не был уверен, что именно так следует говорить со стариком, к которому я направлялся. И дело было не в нем, а во мне. Впервые — сколько раз за эти дни я произнесу «впервые»? — смерть не казалась мне столь простой, как я верил до сих пор сам и убеждал других.
Однажды мне приснился страшный сон. Я стоял в пустынном месте над телом мертвого брата; табут, накрытый зеленым {2} сукном, лежал у ног, вокруг толпились люди. Я никого не видел, никого не узнавал, знал только, что толпа замкнула круг, оставив меня в мучительной тишине один на один с покойником. С покойником, которому я не мог бы сказать: почему сжимается сердце твое? Ибо мое сердце тоже сжимается, меня тоже пугает глухое молчание. Мне тоже больно от тайны, смысла которой я не вижу. Смысл есть, твердил я себе, защищаясь от кошмара, однако я был не в силах его найти. Встань, твердил я, встань. А он все так же лежал, укрытый тьмою исчезновения, в зеленоватом мраке, словно под водою, утопленник неведомых пространств.
Как мне теперь сказать умирающему: следуй покорно по путям господа твоего? Меня бьет дрожь от этих таинственных путей, о которых мое убогое знание не имеет ни малейшего представления.
Я верю в день Страшного суда и в вечную жизнь, но я стал верить и в ужас умирания, в страх перед черной бездной.
Не успел я прийти к какому-нибудь решению, как меня ввели в одну из комнат, за мной пришла юная девушка, я шагал опустив глаза долу, чтобы не видеть ее лица, и думая все о том же. Я солгу тебе, старик, аллах простит меня, я скажу тебе то, чего ты ждешь от меня, я скрою свое смятение.
Больного в этой комнате не было. Не поднимая глаз, я понял это, потому что здесь отсутствовал тот тяжелый запах, который всегда сопровождает прикованного к постели, нездорового человека и который ничем не изгонишь, сколько бы ты ни убирал, ни проветривал и ни окуривал.
Осматриваясь в поисках больного, от которого не пахнет смертью, на скамье у стены я увидел прекрасную женщину, напоминавшую о жизни больше, чем это могло показаться пристойным.
Странно, должно быть, что я говорю об этом, но в самом деле это было так: мне стало неловко. Причин было достаточно. Я готовился к встрече с отходящим стариком, меня одолевали мрачные думы, а встретился с его дочерью (прежде я никогда не видел ее, но не сомневался, что это она!). Я не опытен в общении с женщинами, особенно с женщинами такой красоты и такого возраста. Ей под тридцать, думалось мне. Молодые девушки не знают жизни и верят словам и собственному воображению. Старухи боятся смерти и, умиленно вздыхая, слушают рассказы о рае. И только зрелые женщины знают подлинную ценность того, что они приобретают и что теряют; у них всегда и во всем есть свои резоны, которые могут показаться странными, но которые редко можно назвать наивными. Они смотрят свободно, и их смелый взор неприятно пронзает даже тогда, когда они опускают глаза, прикрывают их ресницами. И пожалуй, неприятнее всего сознавать, что они знают больше, чем показывают, и что они мерят нас своими необычными мерками, почти недоступными нам. Неподдельное любопытство, которое они излучают, несмотря на все старания его скрыть, защищено их неприкосновенностью, если это входит в их планы. Нас перед ними не защищает ничто. Они убеждены в своей силе, которой не пользуются, держа ее, подобно сабле, в ножнах, но рука их все время покоится на рукояти; и они видят в нас могучих рабов или презренные создания, беспричинно гордящиеся своей бесполезной мощью. Эта безумная самоуверенность настолько убедительна, что производит впечатление даже тогда, когда мы презираем ее. В человека вселяется страх, как бы он ни верил в какие-то неведомые возможности, в какие-то чары, в какие-то сатанинские тайны.
Эта женщина обладала и какой-то особенной силой, накопленной многими поколениями ее древнего рода. Ее манеры и движения, уверенные, властные (так она указала мне сесть), что-то смягчало и сглаживало: то ли давняя привычка, то ли теплый блеск подведенных сурьмою глаз в прорезях яшмака, то ли рука, изогнутая, как лебединая шея, которой она придерживала край тонкой ткани, то ли просто удивительная прелесть, силой какого-то волшебства излучаемая ею.
Порождение сатаны, тосковал во мне мужчина и проклинал дервиш, оба изумленные.
Комната погружалась в темноту, белели лишь вуаль и рука женщины. Мы сидели почти в противоположных концах комнаты, между нами лежали пустота недостаточного пространства и мучительное ожидание.
— Я приглашала хафиза Мухаммеда,— сказала она, защищенная сумраком.
Она была недовольна. Или мне так показалось.
— Он просил меня пойти вместо него. Он болен.
— Все равно. Ты тоже друг нашего дома.
— Да.
Я хотел ответить ей обстоятельней и торжественней: я не заслужил бы доброго слова, если б, недостойный внимания благодетеля, не был его другом, этот дом увековечен в наших сердцах, и так далее, как водится в стихах,— но вышло коротко и сухо.
Девушки внесли свечи и угощение.
Я ждал.
Свечи горели на маленьком столике между нами, чуть сбоку. Она стала ближе и опаснее. Я не знал, что она замышляет.
Я полагал, что меня призвали к ее отцу, я пришел бы все равно, даже если б и не надеялся, что произойдет чудо и мне представится неведомая возможность, счастливый случай спасти брата. Говоря о смерти и о рае, я вставил бы где-нибудь словечко, которым просил бы для него милости, может быть, это и помогло бы, может быть, он и захотел бы сделать богоугодное дело в начале великого, неведомого нам пути, может быть, он оставил бы завещание. Может быть. Ведь перед кончиной мы вспоминаем, что за плечами у нас сидят два ангела и записывают наши добрые и злые дела, и нам хочется исправить общий баланс, а вряд ли можно это сделать лучше, нежели совершив благородный поступок, которому не угрожает ни тлен, ни плесень. Может быть. Вполне вероятно, что Айни-эфенди скорее предпочтет не обижать богатого тестя, чем держать в темнице какого-то бедолагу, но для этого надо, чтоб Али-ага захотел, освободив невинного, без жертв и усилий, взойти тем самым еще на одну ступеньку на пути в рай. Ничего не было бы для него легче, и вряд ли он отказал бы мне.
О ней же я ничего не знал, как не знал и того, о чем она станет говорить со мной, чем я могу быть ей полезен. Никакой связи между нами мне не удалось обнаружить.
Мы напоминали двух воинов, которые до времени прячут оружие за спиной, или двух соперников, таящих друг от друга свои намерения, мы откроем себя лишь тогда, когда перейдем в наступление, я ждал, захочет ли она отнять у меня надежду, которая еще жила во мне, но была уже не столь твердой, как прежде,— слишком эта женщина молода и красива, чтоб ей думать об ангелах, ведущих счет нашим добрым и злым делам. Для нее существовал только этот мир.
Женщина колебалась недолго, недолго подыскивала слова, она в самом деле была солдатом, бросающимся в бой с ходу и без оглядки. Это у нее в крови, но и у меня тоже. Меня она нисколько не стеснялась, если ей вообще свойственна была застенчивость. Вначале я со вниманием следил за ее нарочито тихим голосом, певшим, точно зурна, вслушивался в ее чуть замедленную речь, так отличавшуюся и словами и слогом от того, что можно было услышать в чаршии, походившую на красочную вязь, на нитку жемчуга, от которой веяло ароматом старинных покоев и давно прошедшей жизни.
— Мне нелегко об этом говорить, и не каждому бы я сказала. Но ты — дервиш. Тебе наверняка довелось всякое видеть и слышать, и ты помогал людям как мог. Тебе ведомо, что в любой семье случаются вещи, которые для всех неприятны. Ты знаешь моего брата Хасана?
— Знаю.
— О нем я хотела поговорить.
Так, в первых же фразах, она сказала все, что следовало: польстила, выразила доверие, подчеркнула мое звание, подготовила к тому, что речь пойдет о делах неприятных, без которых не обходится жизнь ни одной семьи, так что они не такое уж исключение; зло в отличие от позора всеобще, и поэтому говорить о нем не зазорно.
За этим без нужды красивым вступлением последовала довольно банальная жалоба на паршивую овцу в семье, на великие надежды, так постыдно не оправдавшиеся. Заблудшей овце парша не мешает, а для них это горе и несчастье, позор и грядущая божья кара. Эта прелестная горестная песнь почти никогда не поется искренне, люди не очень надеются на помощь, которую мы сулим, но оказываем редко, чаще всего цель ее другая — призвать вас в свидетели перед людьми, дескать сделано все, что можно, даже божьих людей потревожили, и не наша вина в том, что зло неискоренимо.
Я эту повесть знал наизусть, слишком часто мне приходилось ее слышать, мой интерес сразу пропал, едва я услыхал начало, и я продолжал слушать уже с наигранным любопытством, привычно надев на себя маску искреннего внимания. Непонятно по какой причине, но я ожидал чего-то необыкновенного, незаурядного, удивительного. Но нет, ничего удивительного не произойдет, она скажет все, что положено говорить в подобных случаях, пожалуется на брата и попросит меня поговорить с ним и попытаться его вразумить. Я с сочувствием отнесусь к ее якобы печальной исповеди, пообещаю, уповая на божью помощь, сделать все, что в моих слабых силах. И все пойдет по-прежнему: она успокоится, сознавая, что выполнила свой долг, я поговорю с Хасаном, стараясь выглядеть не очень смешным, Хасан будет продолжать жить так, как ему нравится, радуясь, что приводит в неистовство свою семью. И вреда это никому не принесет. И пользы тоже. А меньше всего мне и моему брошенному в темницу брату. Ведь она говорит без всякой внутренней потребности, не ожидая, что этот разговор в самом деле спасет честь семьи и поможет, ведь спектакль разыгрывается для чужих ушей. Я должен предать наш разговор гласности. Этого требует репутация семьи, таким образом она отгораживается от зачумленного, отрекается от него, отлучает его от себя. В ответ за эту малость я никак не могу просить милости для своего брата. Такие отступники, как Хасан, встречаются все чаще — казалось, им наскучил порядок и уклад отцов, Хасан лишь один из многих, и особого позора люди в этом не видят, так как это неподвластно их воле.
Не задетый и не тронутый ее историей, конец которой я знал, едва услышав начало, я безучастно слушал ее не очень искренние сетования, хотя, впрочем, она обладала чувством меры и в особые преувеличения не впадала. Ведь важно назвать беду и сказать о ней. В этом исполнении долга, подсказанного отнюдь не сердцем, ощущалась определенная бесцеремонность.
Но коль скоро у меня не было ни причины, ни желания со вниманием ее слушать, я принялся со вниманием наблюдать за нею. Мне показалось это удачным выходом из положения. Она могла принять это как воздействие ее слов, и, таким образом, мы оба сохраняли пристойность.
Впрочем, я наблюдал за ней с первой минуты нашей встречи, меня поразила чистота линий ее прекрасного лица, проглядывавшего сквозь тонкую ткань, спокойное сияние больших глаз, говорящих о пылкости и глубине души. Однако в ожидании того, что она скажет, я бросал на нее лишь беглые взгляды, встревоженные, неуверенные, и они, пожалуй, говорили больше обо мне, чем о ней. Но когда она заговорила, когда я убедился в надежности своего напускного внимания, она заставила меня взглянуть на нее по-другому.
То не было простое любопытство, вызываемое желанием получше разглядеть эти необыкновенные существа, стоящие далеко за пределами нашего мира,— любопытство, которое мы редко удовлетворяем, которое чаще всего и не возникает при обычных мимолетных встречах. И вдруг я оказался в ситуации, когда мог скрытно наблюдать за женщиной, не нарушая равновесия в отношениях, оставаясь дервишем, уважающим ее волю и ее положение. Я даже испытывал чувство некоторого превосходства, ибо знал, что́ она думает, и мог беспрепятственно за ней наблюдать, в то время как она на меня не смотрела. Не смотрела и ничего обо мне не знала. Это то самое преимущество, о котором всегда мечтает мужчина, но которое он редко получает. Извечное желание быть невидимым. И я не делал ничего плохого, я смотрел спокойно и сосредоточенно, я знал, что в душе моей не зародится ни одной мысли, которую я вспоминал бы потом со стыдом.
Сперва мне бросились в глаза ее руки. Пока она привычным, хотя и ненужным движением придерживала яшмак, они были разведены, невыразительны и не привлекали внимания. Но вот она отпустила ткань и свела их вместе, и тут руки внезапно ожили, превратившись в одно целое. Они не пришли в движение, не засуетились, но в их умиротворенном покое, в их неторопливых колебаниях появилось столько силы, столько какого-то неопределенного смысла, что они приковали к себе мое внимание. Казалось, будто в любое мгновение они могли сделать что-то важное, что-то решающее, создавая таким образом постоянную и волнующую напряженность ожидания. Они лежали на коленях одна в другой, словно погрузившись в безмолвную тоску или сторожа друг друга, чтоб не ускользнуть, не выкинуть нечто неразумное, почти все время по ним проходило чуть приметное волнение, похожее на мелкую зыбь или легкую судорогу от избытка силы. Потом не спеша, словно по взаимному договору, они разделялись и мгновение парили в воздухе, будто что-то искали, и потом снова мягко опускались, подобно влюбленным птицам, на атласные колени, снова обнимали друг друга, неразлучные и счастливые своим общим безмолвием. Это продолжалось долго, потом одна трогалась с места и сведенными пальцами медленно и страстно гладила атлас под собой и кожу под атласом, вторая лежала на ней, прижавшись и утихнув, вслушиваясь в тихое шуршание атласной ткани на округлом мраморном колене. Изредка одна из них, оторвавшись, пускалась в самостоятельное путешествие, мимоходом касаясь серьги на кончике уха, стыдливо спрятавшегося под черными, отливающими огнем волосами, или замирала в воздухе, подхватывая брошенное слово, затем отступала, не проявляя особого интереса к разговору, и устремлялась навстречу другой руке, что хранила молчание, оскорбленная неожиданным невниманием подруги.
Я следил за ними, потрясенный красноречивым выражением их самостоятельной жизни, они были словно два крохотных живых существа, двигавшихся по собственным орбитам, испытавших желания, изведавших любовь, ревность, тоску, блуд, я был и вдохновлен, и одновременно напуган безумными мыслями об ограниченности и бессмысленности этого ничтожно малого существования, которое так напоминало любое другое, однако то были мимолетные и безопасные мысли, мимолетные пробуждения иного мира во мне, который я не хотел знать.
Красота этих рук пленяла. Запястья, украшенные браслетами и вышитыми обшлагами шелковой рубахи, округлые и в то же время непостижимо тонкие суставы, почти прозрачные фаланги пальцев поражали своим совершенством. Прекраснее всего были пальцы — длинные, гибкие, белоснежные, отлитые в правильные конусы, удивительно живые, они медленно раскрывались, словно лепестки цветка, а потом собирались воедино как бы в прозрачную пиалу.
Но хотя мне прежде всего бросились в глаза эти два крохотных создания, два моллюска, два цветка, я видел не только их, ни вначале, когда больше всего смотрел на них, ни в конце, когда я открыл их для себя как неведомую страну. Все в этой женщине было гармонично и цельно: взгляд, чуть затененный черными ресницами; мягкое движение руки под прозрачной кисеей рубахи; легкий наклон головы, от которого на лбу вдруг вспыхивал оправленный в золото смарагд; беспокойное движение ноги в серебристой туфельке; лицо без единой морщины, под кожей которого темными всполохами ходила кровь, влажный блеск зубов в томно приоткрытом рту с полными губами.
Все в ней, казалось, было подчинено требованиям плоти. Желания она во мне не пробудила, я не позволил бы себе этого; в самом начале его прогнали стыд, мысль о моем возрасте и звании, сознание опасности, которой я себя подвергаю, боязнь волнения, которое могло стать тяжелее болезни, привычка владеть собой. Но я не мог от себя утаить, что смотрю на нее с удовольствием, с глубоким и безмятежным наслаждением, с каким любуются тихой рекой, закатом солнца, полной луной, зеленеющим деревом, озером своего детства на заре. Я смотрел на нее, не испытывая желания обладать ею, не имея возможности полностью насладиться ею, не имея сил уйти. Мне было приятно смотреть, как охотятся ее живые руки, как захватывает их игра, было приятно слышать ее речь — нет, мне от нее ничего не было нужно, мне было достаточно того, что она существовала.
Но потом в моем сознании родилась мысль, что не так уж невинна эта радость наблюдения, чувство превосходства и безопасности исчезло, сменилось какими-то новыми ощущениями. Это была не страсть, а нечто, возможно, хуже этого: воспоминание. Воспоминание о первой, и единственной, женщине в моей жизни. Не знаю, как выплыла она из-под груза лет, не столь прекрасная, как эта, непохожая на нее, почему одна вызвала к жизни другую? Меня ведь больше касалась та, далекая, несуществующая, целых двадцать лет я тщетно пытаюсь забыть ее, и все-таки горькое, как полынь, воспоминание возникает в памяти именно тогда, когда я не хочу и когда оно мне совсем некстати. Давно его уже не было, откуда оно явилось сейчас? Эта ли женщина, с лицом из грешных снов, привела его, или брат таким образом захотел заставить позабыть о нем, или все это, вместе взятое,— чтоб дать мне повод упрекнуть себя? Упрекнуть за то, что я сам, по своей воле, упустил все возможности и не в силах их больше вернуть.
Взгляд мой поник: нет, никогда нельзя думать, что ты в безопасности и что все минувшее умерло. Но почему оно воскресает всегда в самую неподходящую минуту? Та, далекая, сейчас не имеет значения, воспоминание о ней пробуждает глубоко запрятанную мысль о том, что все могло быть иначе, и даже то, что теперь движет мною. Исчезни тень, ничто не могло произойти иначе, не это, так другое непременно породило бы боль. Не может такого быть, чтоб человеческая жизнь изменилась к лучшему.
Женщина, вызвавшая эти думы, вернула меня к действительности:
— Ты слушаешь?
— Слушаю.— Неужели она заметила, что меня нет? — Слушаю, продолжай.
И я в самом деле принялся слушать, так было вернее. С удивлением я обнаружил, что рассказывает она не совсем банальную повесть, точнее, совсем не такую уж скучную, и она стоила того, чтобы в нее вслушаться и вглядеться пристальнее. Надежда в моей душе вдруг подняла голову.
Женщина рассказывала то, что я уже знал, о странной судьбе ее брата. Он получил образование в Стамбуле и достиг положения, которое соответствовало и его знаниям, и репутации его родителей (первое она переоценивала, второе недооценивала, потому что занимаемое им положение не было столь уж высоким, но таким образом она уравновешивала чаши весов). Родственники гордились им, особенно отец. А потом вдруг произошло нечто неожиданное и необъяснимое, никто не мог назвать настоящую причину, даже сам виновник происшедшего: Хасан внезапно и резко переменился. Его словно раз и навсегда подменили, говорила она. Все в растерянности спрашивали, куда девался прежний прекрасный юноша, где его знания, о которых с похвалой отзывались мудеризы, почему он бросил на ветер столько лет труда и учения, когда и где зародилось зло? Ни с кем не посоветовавшись, он оставил службу, приехал сюда, женился не на ровне, завел дружбу с простолюдинами, начал пить и проматывать состояние, устраивал со своей компанией неслыханные оргии у трактирных певичек (здесь она еще больше понизила голос) и в других местах, которые и назвать стыдно. Потом он стал гуртовщиком, посредником, слугой (в голосе отвращение, почти ужас), перегоняет скот из Валахии и Сербии в Далмацию и Австрию. Он испортился, погубил себя, имущество тает, половину материнского наследства он продал, отец неистовствует, из-за Хасана он и слег, тщетно он умолял сына, тщетно грозил, ничто не в силах было свернуть его с плохого пути. Отец больше не хочет слышать о нем, не позволяет называть в своем присутствии его имени, словно он не существует, словно он умер. Она глаза выплакала, умоляя отца смирить свой гнев, но это не помогло. И тут мелодия зурны зазвучала иначе, я усилил внимание. Отец решил лишить его наследства, составить завещание в присутствии видных людей и публично отречься от сына. И вот, чтобы не допустить этого, чтобы не получилось хуже, чем есть, она просит меня поговорить с Хасаном, пусть он сам, добровольно откажется от наследства, чтобы не пало на него отцовское проклятие и чтобы меньший позор покрыл имя семьи. Айни-эфенди, добавила она, ничего об этом не знает, он не желает вставать между отцом и сыном, и она все делает по своему разумению, пытаясь уменьшить беду, а мы — я и хафиз Мухаммед — можем ей во многом помочь, ибо, как она слыхала, Хасан бывает в нашей текии и ей приятно, что он хоть изредка встречается с умными и достойными людьми.
Я был благодарен ей за доверие. Правда, тем самым она показала, что невысоко меня ценит, так как обо всем говорила достаточно бесцеремонно, но это не суть важно, когда речь идет о гораздо более существенном.
Да будет благословенна сомнительная болезнь хафиза Мухаммеда, она предоставила мне возможность, о которой я не мог и мечтать. У отца ее перед кончиной не нашлось бы больших оснований для того, чтобы мне помочь. Совершенно очевидно, что Айни-эфенди знал обо всем этом, что, вероятно, ему-то и принадлежали слова, которые с удовольствием произнесла его жена. Он не мог не знать, что без веских оснований единственного сына не так-то легко лишить наследства. Не будь этого, не знай они все об этом, они не стали бы заботиться о репутации семьи и не стали бы призывать на помощь нас. Хорошо, думал я, глядя на нее со вниманием, которого так недоставало мне вначале, и стараясь, чтобы выражение моего лица не выдало моей радости. И ты и я попали в беду из-за своих братьев. Ты своего хочешь погубить, я своего — спасти. Мы оба страстно этого хотим, только у меня желание чистое, а у тебя нечистое. Но пусть оно таким и останется, меня это не трогает. Я ничего не знаю о вас, но, думается, ясно вижу, насколько ты сильнее своего бескровного кадия, который чтит твою силу и твое богатство, ибо не обладает ни тем ни другим. Одна ночь позора, одно твое настоятельное требование могли бы изменить судьбу моего брата. Сколь мало мы даем и сколь много получаем!
Почти не таясь, я сказал бы ей: хорошо, у нас больше нет причин недоговаривать. Я верну тебе Хасана, дай мне моего брата. Тебе нет дела до твоего, я бы ради своего пошел на многое.
Разумеется, я не сказал этого. Моя откровенность оскорбила бы ее, в устах других она неприятна.
Соглашаясь исполнить ее просьбу, я отвечал, что Хасан в самом деле бывает в текии, что он друг хафиза Мухаммеда (и это была правда) и мой (чистая неправда), что мы уговорим его поступить согласно ее желанию, ибо меня тронула ее сестринская печаль и ее забота о добром имени семьи. Коль скоро они понесли ущерб, всем нам нанесен ущерб, и мы должны помочь, дабы пятно позора не пало на то лучшее, что у нас есть, дабы избежать злорадных ухмылок, которые появляются на лицах, когда в дом имущих приходит беда. Меня обязывает к этому и благодарность по отношению к благодетелю текии (я намеренно упомянул ее отца, раз она этого не сделала сама). И я думаю, что справедливы не только ее намерения, но заслуживает похвалы и сам замысел, потому что трудно было бы найти более надежный. Единственного наследника нельзя лишить его доли без серьезных на то оснований.
— Серьезные основания есть.
— Я говорю о суде. Хасан торгует скотом — это верно, однако нельзя назвать это занятие бесчестным. Он мот, но транжирит то, что заработал сам. Половину своего имущества он отдал своей бывшей жене, а не продал. Для осуществления вашего замысла нужны более веские факты.
Я чувствовал себя уверенно, более уверенно, чем она, ибо наши отношения изменились. Мы уже не были теми, кем были в начале нашей игры: она — волоокая жена богатея, я — скромный дервиш, вечный рыцарь, толкуя о делах, мы стали равными. Здесь я был даже сильнее. И пока я соглашался с ее словами, она смотрела на меня благосклонно, однако стоило мне сказать то, что пришлось ей не по вкусу, как брови ее выгнулись дугой, взор стал колким. Мои возражения показались ей глупыми и вздорными.
— Отец непременно лишит его доли,— сказала она, и в голосе ее зазвучала угроза.
Меня не очень заботило, лишит ли отец своего сына наследства или не лишит. И не очень взволновала ее злоба. Мне хотелось лишь сломить ее уверенность, добиться своей цели.
— Да, доли он может его лишить,— спокойно ответил я.— Но отец стар и уже давно хворает. Хасан может возбудить дело о пересмотре завещания и станет доказывать, что отец был слаб, хвор и что он принял решение, будучи не в полном сознании или поддавшись уговорам.
— Кто же станет его уговаривать?
— Неважно кто. Я говорю об иске. И я опасаюсь, что решение вынесут в пользу Хасана. Тем более что разбирательство состоится не здесь — из-за Айни-эфенди. Притом нельзя забывать, что и у Хасана есть связи.
Она молча глядела на меня. Яшмак давно уже был снят, еще тогда, когда принесли свечи и она начала свой мерзкий рассказ. На прекрасном лице, озаренном лунным светом, в уголках глаз сверкали огоньки свечей, трепетно и беспокойно. Этот трепет не имел к ней отношения, но мне казалось, что трепетала она, и я немного злорадствовал оттого, что встревожил ее. Она не рассчитывала, что ее замысел вызовет у меня такие сомнения, хотя наверняка кое-что и сама понимала.
Пристально смотрела она на меня, словно желая обнаружить на моем лице тень насмешки, мимолетные колебания или недоумение. Но видела лишь уверенность и сожаление оттого, что так оно и есть. И мне казалось, что злоба ее росла, как бы изливаясь из бездонного колодца, еще более тяжкая оттого, что у нее не было сил отвести мои резоны, а я, подождав, пока она вот-вот хлынет через край, погасил вспышку. Я согласился со всем, чего она хотела, однако суть моих возражений осталась.
— Нужно убедить Хасана обойтись без иска.
Я полагал, что она будет продолжать настаивать на своем, отрицая возможность какой бы то ни было тяжбы и изменения отцовской воли, и тогда я начал бы тот разговор, которого ожидал.
Однако она внезапно прекратила сопротивление. Она спешила. И, обнаруживая свои сомнения, спросила:
— А он согласится?
— Нужно будет найти разумные и веские доводы, которые не разозлят и не оскорбят его. Его трудно переупрямить.
— Я надеюсь, вы сможете найти разумные и веские доводы.
В этом звучала насмешка или нетерпение. Она надеялась на более легкий разговор.
Я тоже так думал.
— Попытаюсь,— ответил я.
Уловила ли она неуверенность, колебания, сомнения в моем голосе? Не знаю. Но моя надежда угасла.
— Ты не веришь, что он согласится?
— Не знаю.
Продержись я еще мгновение, окажись моя любовь к брату сильнее моральных обязательств, все бы окончилось благополучно. Или плохо. Но, может быть, я спас бы брата.
Не так уж легко расстался я со своим намерением, как это могло показаться. В один-единственный миг вдруг возникло бесчисленное множество причин для того и для другого — согласиться или отказаться, часто они выглядели одинаково, и в ту долю секунды, пока она переводила дыхание, во мне бушевала буря. Я решал — быть или не быть мне и моему брату. Уступив ей ее легковерного брата, который согласится с советами друзей, я заплачу за труд и предательство не слишком высокую цену, потому что и без моего участия они сделают то, что хотят, я могу придать всему этому лишь налет пристойности. Зачем стыдиться, зачем упрекать себя? Ведь я спасаю брата!
Нужно только кричать громче и убедительней, чтобы перекричать другой, предостерегающий голос. Я не знал, в чем виноват брат, не знал, насколько он виноват, однако не верил, что речь идет о чем-то серьезном, слишком он честен и молод, чтоб могла произойти большая беда. Может быть, его скоро выпустят. Но если нет, я был скорее уверен, что этого не будет, могу ли я участвовать в этом бесчестном заговоре против человека, который никогда не сказал мне ни одного недоброго слова? Дело не в имуществе: у меня его нет и чужое добро не вызывает у меня глубокого почитания. Дело в другом — в несправедливости, в грязном поступке, подлости, в насильственном лишении права. Я не очень высоко ценил ее брата, он был вертопрах и баловень, но, будь он во сто крат хуже, чем есть, как оправдаюсь я перед самим собой, если стану помогать наглой женщине в ее разбойничьих планах?
Что я говорил людям в продолжение стольких лет? Что я скажу самому себе после этого? Оставшись в живых, брат все время будет напоминать мне о моем проступке, который я никогда не смогу позабыть. У меня нет ничего, кроме веры в собственную честность, если я лишусь и этого, я стану полным ничтожеством.
Так я думал на самом деле. Может быть, кому-то покажется странным, что я мог колебаться между этими двумя неравнозначными вещами: мелкое предательство во имя освобождения брата. Но когда привыкаешь мерить свои поступки строгими мерками совести, опасаясь греха, может быть, больше самой смерти, тогда это не выглядит столь странно.
Ведь я знал, больше того, был абсолютно уверен, что, стоило мне лишь пойти к Хасану и сказать ему: откажись во имя спасения моего брата, он отказался бы немедля.
Но я не мог, не хотел ничего говорить ей, пока не поговорю с ним.
Она торопила, откалывая от моих сомнений частицу за частицей.
— Я не забуду оказанной услуги. Я заинтересована в том, чтоб избежать шума вокруг нашей семьи.
Чем она отплатит за услугу, господи!
Встань, Ахмед Нуруддин, встань и уйди.
— Я дам тебе знать,— произнес я, прокладывая дорогу к новой встрече.
— Когда?
— Как только Хасан вернется.
— Он вернется дня через два.
— Значит, дня через два.
Мы встали одновременно.
Она даже не подняла левой руки, чтоб скрыть лицо. Мы были заговорщики.
Произошло что-то скверное между нами, и я не был уверен, что полностью сохранил свою чистоту.
Господи, они не веруют!
Тревога терпеливо поджидала меня, как будто я оставил ее у порога и, выходя, снова взял с собой.
Только теперь она была более сложным чувством, чем прежде, она обогатилась, отяжелела, стала более неопределенной. Я не сделал ничего худого, но в памяти осталось воспоминание о глухой тишине, непроницаемая тьма, странное мерцание, томительное ожидание, неприятное напряжение, потаенные и подслащенные улыбкой мысли, постыдные тайны, и мне казалось, будто я дал промашку, совершил ошибку, сам не зная какую и как, но вселившую в меня тревогу. С трудом выносил я это тягостное состояние, эту угнетенность, причину которой не мог определить. Может быть, она происходила оттого, что я не упомянул о брате, даже не стремился поговорить о нем. Но я поступил так намеренно, дабы ничего не испортить. Или оттого, что я был соучастником неприятного разговора, слышал о недобрых замыслах и не противостоял им, не взял под защиту невинного человека; но ведь у меня были на то свои причины, более важные, и несправедливо было бы слишком упрекать себя. Словом, чего бы я ни касался, у меня находилось оправдание, а тягостное чувство тем не менее не проходило.
Светила луна, нежная, словно вырезанная из куска шелка, памятники на кладбище отливали теплым светом, расколотая на части ночь пряталась между домами, в переулках и во дворах взволнованно двигались юные создания, слышался смех, и далекая песнь, и шепот, казалось, будто городишко трясет лихорадка в эту ночь святого Юрия. Внезапно без всякого повода я почувствовал себя одиноким. Страх незаметно проник в душу, все стало приобретать небывалые размеры, и это не были больше знакомые движения, знакомые люди, знакомый городок. До сих пор мне не приходилось видеть их такими, я не знал, что мир может так исказиться в течение дня, часа, мига, словно бы вдруг закипела бешеная кровь и некому ее успокоить. Я видел па́ры, слышал пары, они были за всеми заборами, за всеми воротами, за всеми стенами, они смеялись не так, как в обычные дни, иначе смотрели, иначе разговаривали, голоса их звучали приглушенно, густо, всхлипывания вспарывали молнией нависающую тучу, воздух был напоен грехом, ночь наполнена им, вот-вот ведьмы с хохотом взметнутся ввысь над залитыми молоком лунного света крышами, и не останется ни одного разумного существа, страстью и неистовством вспыхнут люди в безумном желании гибели, вдруг, все сразу, куда же тогда я? Надо молиться, просить милости у бога для грешников или наказания, чтоб их вразумить. Меня сотрясала злоба, как лихорадка, как приступ болезни. Неужели ничто, что мы делаем, не помогает? Неужели беззвучно и хрупко слово божье, которое мы проповедуем, или их уши глухи к нему? Неужели так слаба в них истинная вера, что она рушится подобно гнилому забору перед стадом безумных страстей?
Из-за заборов долетали оживленные голоса девушек, они готовили цветы милодуха и красные яички в полных воды медных котелках, чтобы умыться на зорьке,— они сохранили языческую веру в силу цветов и ночи.
Стыдись, говорил я дощатому забору, стыдитесь, и позор вам. Чью веру вы исповедуете? Каким шайтанам отдаете себя?
Но напрасно было что-либо говорить в тот вечер, более безумный, чем другие. В полночь девушки пойдут к водяным мельницам и обнаженными будут купаться в струе, что сбрасывает мельничное колесо, а шайтаны, встающие сейчас со своих лежанок, мохнатыми лапами будут плескать воду на их влажные бедра, сверкающие в лунном свете.
Ступайте по домам, говорил я веселым парням, попадавшимся мне навстречу. Завтра Юрьев день, праздник гяурского святого, не нашего. Не творите греха.
Но всем это было безразлично, всему городу, никто не мог лишить их этой ночи.
Древним было право на грех в Юрьеву ночь. Оно сохранилось помимо веры и вопреки ей, в язычников превращались все в течение этих двадцати четырех часов сладострастного аромата милодуха и любви, милодуха, что грешно пахнет женщиной, и любви, что пахнет милодухом женских бедер. Грех был рассыпан в этой смеси дня и ночи, щедро, словно из огромного ведра, из завязанных мехов желания. Древняя, чужая пора волочится за нами, она сильнее нас, рождаясь в мятеже тел — мятеже, который недолго длится, но помнится до следующей вспышки. Нет этому конца, а все прочее лишь обман зрения, все, что лежит между исконными победами греха. И беда не столько в разгуле, сколько в вечном продлении чужого зла, что сильнее истинной веры. Что мы сделали, чего добились, что разрушили, что воздвигли? Может быть, зря мы не боремся {3} против инстинктов природы, которые могущественнее всего того, что в состоянии предложить разум? Не слишком ли сухо и малопривлекательно то, что мы даем взамен полнокровного древнего неистовства? Что мы противопоставим чарам стародавних призывов? Победят ли нас далекие дикие предки и возвратят ли к своему времени? Ничего мне больше не нужно, кроме того, чтоб мои страхи оказались горше правды, но боюсь, что взгляд моей смятенной души глубже и проникновеннее, нежели у моих собратьев, которым сей мир ближе потустороннего. Я никого не обвиняю, о всеведущий аллах, будь милостив и ко мне, и к ним, и ко всем грешным людям.
Запомнилась мне эта ночь, запомнилась бы пламенем, которым душила меня, опустошенностью, которую выскоблила чужая страсть, даже если бы не было ничего иного. Но господь захотел, чтоб она отличалась от других, чтоб во время нее, как при заранее намеченной встрече, произошло то, что раскололо мою жизнь на две половины и отделило от того, кем я был в течение сорока безмятежных лет.
Я возвращался в текию подавленный, наверное, единственный несчастный человек во всем городке в тот вечер, измученный волнением изменившихся улочек, встревоженный лунным светом, беспричинно ожившим ужасом, неуверенностью, которой наполнял меня мир, словно бы я шел меж пылающих домов, и безмятежно уснувшая текия казалась мне желанным прибежищем, чьи толстые стены вернут меня тишине, которая мне необходима, и покою, в котором не будет отвращения. Прочту ясин, молитвой успокою смятенную душу, страждущую больше, чем угодно всевышнему. Ибо истинно верующий не смеет поддаваться отчаянию и малодушию. А я, грешный, был настолько малодушен, что забывал довод, который приходил в голову по дороге, и возвращал его усилием сознания, чтоб было за что ухватиться моей тревоге. Я хотел, чтоб живучий языческий грех был единственной причиной, дабы другие остались во мраке.
Не стоило охотиться за ведьмами по улицам в ту ночь, не было мне дела до чужого греха, но хотелось уйти в мыслях от брата и от посланного мне искушения, удалось же лишь вернуться к нему отравленным и встревоженным.
Бывало, по ночам я часто оставался под лунным светом на берегу, отдаваясь постепенно тихому течению воспоминаний или смутных желаний, я знал, что мог себе это позволить, когда в душе стоял ясный покой, не угрожавший бурями. Но стоило появиться хотя бы малейшему беспокойству, как я замыкался в четырех стенах своей комнаты, принуждая себя идти по знакомой, утоптанной стезе молитвы. В ней было что-то по-родственному защищающее, как в старых семейных делах, превратившихся в безопасную часть нас самих, они были признанным и приемлемым утешением, они успокаивали и умертвляли опасную мысль, что иногда помимо нашей воли оживает в нас, мы верим в них бездумно, свою слабость мы ставим под защиту их извечной силы, уменьшаем свои человеческие заботы и тяготы привычкой измерять их вечными мерками и, таким образом ставя в неравноправное положение, делаем их незначительными.
В ту ночь я не мог оставаться в саду, я жаждал уединения, забвения, здесь же все вызывающе навязывало себя. Лунный свет был студеным и словно бы издавал запах серы, цветы пахли слишком сильно, раздражающе, их следовало бы вырвать, растоптать, чтоб остались только репей да пустая почва, чтоб остались могилы без памятников, чтоб ничто ни о чем не напоминало, чтобы осталась обнаженная людская мысль, без образов, без запахов, без связи с окружающим, и реку стоило бы остановить, чтоб она не журчала насмешливо, и птиц удушить на ветках и под стрехами крыш, чтобы они не верещали бессмысленно, разрушить все мельницы, под которыми купаются нагие девушки, перегородить улицы, заложить ворота, силой подавить жизнь, дабы не расцветало зло.
Вразуми меня, господи!
Никогда прежде с такой неистовой яростью не размышлял я о людях и жизни. Я испугался. Откуда это желание все уничтожить?
Я хотел войти к себе, я должен был войти и не мог. Странной силой удерживала меня ночь, которую я ненавидел, ночь сильнее меня. А уступив, вдруг почувствовал, как она успокоила меня. Она покорила меня мягким давлением тихих звуков, чарующих и важных лишь для самих себя, мерцающей тьмою, трепетавшей в чуть видимом движении, в причудливых тенях и формах, в запахах, глубоко проникавших в кровь и становившихся частью моей плоти, пахло жизнью, которая тончайшими мелодиями и жестами сплеталась в нечто сильное, сильнее всего желаемого, неотделимое от меня, в то же, чем был и я сам, еще не обнаруженный, но жаждущий, я позабыл о том, что совсем недавно лунный свет был студеным и издавал серную вонь, то был лишь страх перед ночью, теперь он исчез, и надо мною и миром — покойный свет, след чего-то во мне, чего-то, что могло было быть и что было, чего-то, что будет, если я выдержу без защиты и без обороны, подняв плотину привычки, сознания, воли. Или из черных подземелий моей крови вырвутся неведомые желания, и, когда они появятся, будет поздно, я никогда больше не смогу думать, будто с ними покончено, и никогда больше я не стану тем, кем был. Мне казалось, что у меня нет сил остановить их, вернуть во тьму принудительного заключения, я даже и не желал этого. Мне неясно было, какие они, я знал только, что они очень сильны. Будь они невинны, наверняка бы не стали прятаться.
В эту минуту бессилия и надежды — а хотелось, чтоб она продлилась,— господь уберег меня от опасного раздвоения. Я говорю «господь», потому что случай не мог бы оказаться столь точным, столь рассчитанно предупредительным и появиться именно в эту неуловимо малую долю секунды, когда неведомые силы стали расти, неведомые, не увиденные пока моим внутренним зрением, но уже рожденные и наполовину освободившиеся. Позже, когда я разговаривал с моллой Юсуфом, мне было приятно, что они не вырвались, но я сожалел, что не смог их увидеть. Поэтому в собственной душе я ощутил растерянность, перед другими же научился скрывать свое внутреннее состояние.
Он подошел бесшумно, я услыхал его, лишь когда заскрипел песок у него под ногами и когда меня обожгло его сдерживаемое дыхание. Я, не оглядываясь, понял, кто это, никто не ступал так тихо, слишком рано выучился он неслышной походке.
— Я помешал твоим размышлениям?
— Нет.
Голос его был тихим, потаенным, но пока искусственным, птицы пели в нем. И выдавали его глаза, горевшие беспокойным огнем.
Я ни о чем не спрашивал, он сам должен сказать. Ведь он согласился, что у нас нет личных тайн, кроме тех, о которых никто не может узнать. В текии существовал строгий порядок, и я упрекнул бы юношу, если б он не сказал, где задержался.
— Я был в Синановой текии. Абдулла-эфенди говорил о постижении.
— Абдулла-эфенди — мистик. Он принадлежит к ордену байрамитов.
— Я знаю.
— О чем он говорил?
— О постижении.
— Это все, что ты усвоил? Ты ничего не запомнил?
— Запомнил стихи, которые он толковал.
— Чьи стихи?
— Не знаю.
— Я хочу услышать.
Тайну единого божества не ведает Ахриман.
Спроси Асафа, ему ведомо.
Может ли воробей проглотить кусок мяса, подобно птице Анка́?
Можно ли одним кувшином вычерпать воду великого моря?
— Это стихи ибн-Ареба [4]. Они говорят о том, что постижение божьей мудрости доступно лишь избранным, немногим…
— А что остается нам?
— Постигнуть то, что возможно. Если воробей не в силах проглотить кусок, как птица Анка, он съест, сколько сможет. Кувшином не вычерпать море, но то, что захватишь,— это тоже море.
Очертя голову, со страстью и наслаждением бросился я опровергать мистику ибн-Ареба, может быть впервые убеждаясь в том, что небеса и тайны Вселенной, таинства смерти и бытия — самая удобная область, где можно укрыться от земных забот. Если б таких тайн не существовало, стоило бы их выдумать, чтобы найти в них прибежище.
Однако этот молодой человек — неподходящий собеседник. Правда, человек чаще всего говорит ради себя, но он должен ощутить отклик на свои слова. А этот юноша стоял передо мной, и лицо его столь ярко освещал лунный свет, что я мог различить в нем каждую черточку. Он стоял смиренно, не решаясь уйти, пока я не отпущу его, но мысли его были бог знает как далеко, я не в силах был их удержать, поза привычного послушания не требовала от него усилий, для меня он был все равно что пустое место. Стихи, мистика и познание были так чужды ему, так недоступны, что наверняка он внимал только глазами, следя за движением моих губ. Это было еще более бессмысленно, чем если б я выкрикивал слова в пустой колодец, там по крайней мере откликалось бы эхо. Он даже не пытался меня понять. Согласиться с моей мыслью, пусть даже не постигнув ее. Недолго он слушал стихи в Синановой текии.
Неопытный, он подставил себя лунному свету, не умея покуда прикрываться темнотой и лживой миной, глаза его были широко раскрыты, будто он слушал. Однако отблеск чего-то увиденного прежде свидетельствовал против него, говорил о том, что он не слышит меня, выдавал его. Что в них? Какой образ или воспоминание, какое слово еще звенит в его ушах, что за воспоминание у него в душе, какой грех его мучает? Белый свет луны не убил здорового цвета его лица, мужественного лица молодого хлебороба — жениха, в котором бурлит горячая кровь. Чего ищет он в тишине священного места, в суровых оковах ордена дервишей, он, рожденный этим миром — миром Юрьевой ночи, той светлой обволакивающей ночи, что призывает к греху, в нем запах милодуха, он принес его на руках, в дыхании, он напоен чарами распаленных страстью улиц, он слышал тетеревиный ток и оглох от него, может быть, его замлевшие ладони еще ощущают биение другого юного сердца и с трудом подавляемый огонь вырывается из его горящих глаз. Его следовало бы поместить за семью замками, опоганенного этой языческой ночью, оскверненного, опаленного, освященного, очищенного, чтоб не сгорел он в своем и чужом огне, молитвенная тишина и одиночество задушат его, почему бы не возвратиться ему в ночь и не быть тем, кто он есть, трудно дождаться далекой зари, милодух благоухает сегодня вечером, все происходит сегодня вечером, происходит страшное, луна долго не сможет зайти, в комковатом свете, полном одурманивающих теней, вспыхнут искры водяных струй под мельницами, под ивами, луна будет светить всю ночь, луна всю ночь будет призывать, нужно уйти с ним, уйти одному, уйти и бродить, уйти и не вернуться, уйти и умереть, уйти и продолжать жить — что остается этой ночью, когда все исчезает?
Вот, прорвало.
Наверняка это продолжалось не больше мгновения, ровно столько, сколько нужно, чтоб поднять веко, я понимал это по тому, как стоял передо мной юноша с застывшей, отсутствующей улыбкой, он ничего не слышал, не почувствовал, как бушует во мне гнев, ничуть не удивленный внезапно охватившим меня бешенством. Оно подступило, как вспышка, после мучений и страхов из-за брата, после сомнений, которые потрясли меня до основания, нахлынула мощь жизни, ждавшая момента, чтоб разрушить заложенную основу, подобно волне, смести долго оберегаемые посадки, оставляя позади пустыню и камень. Тогда, в тот миг изумления, я не мог осудить себя, или каяться, или молиться, слишком все это было горячо. Словно ударила молния и опалила, лишив меня силы.
Иди, тихо сказал я ему. Иди, сказал я. Может быть, я не произнес этого, но он понял по движениям губ или по жесту, потому что он хотел уйти, и ушел не спеша, чтоб не проявить нетерпения, которое наверняка подгоняло его, чтоб как можно скорее остаться наедине с тем, что он принес в своих глазах. Иди, сказал я, ибо он был свидетелем моей слабости, случайным, слепым и глухим, но я-то знал, что он был здесь, и не желал его стыдиться. Или ненавидеть. Я стремился остаться наедине с самим собою.
Я знал и прежде о своих тревогах и мятежах, они то подступали, то отступали, подобно мгновенной потере сознания, подобно необъяснимому протесту против порядка в душе. Я словно бы оступался, и это не оставляло следа. Той же ночью мне казалось, будто меня охватило полнейшее смятение, словно все лопнуло, словно я никогда не бывал тем, кем был до сих пор. Я видел для себя лишь одну возможность, которая могла бы стать разрушительной, если она сохранится.
Первое, что я ощутил, был ужас, пока далекий, но глубокий, неминуемый, как очевидность того, что придется расплачиваться за это мгновение. Аллах накажет меня угрызениями совести, и недолго мне придется ожидать его знамения. Может быть, этой ночью, может быть, сейчас же.
Но ничего не произошло. Я стоял на том же самом месте, крепко упершись ногами в песок садовой дорожки, растерянный и усталый, еще теплый от вспыхнувшего внутреннего огня. О господи, прости мне, бессознательно, беззвучно шептал я, позабыв молитву, которая в ту минуту могла бы помочь.
Словно спасаясь, я ушел с этого места и встал у ограды над рекой.
Казалось, будто в голове не было ни одной мысли, все чувства были парализованы. Но, к своему собственному удивлению, я отдавал себе отчет во всем, еще тоньше воспринимая окружающее, чем прежде. Ухо улавливало звонкие шумы ночи, ясные и отчетливые, словно отражавшиеся от стекла. Я различал каждый из них в отдельности, а все вместе они сливались в звучание воды, птиц, легкого ветерка, потерянных далеких голосов, беззвучного течения ночи, что медленно колебалась под ударами неведомых и невидимых крыльев. Мне нисколько все это не мешает, ничуть не волнует, я хотел бы еще больше внимать этим голосам, шумам, гудению, трепету, еще больше, может быть, я не различал бы их столь отчетливо, если б не слушал самого себя.
Вероятно, впервые в жизни я воспринимал голоса и шумы, свет и формы так, как они есть, как звуки, шумы, запахи, формы, как знаки и символы вещей, существующих помимо меня, ибо внимал отчужденно, ни в чем не участвуя, не испытывая ни печали, ни радости, не портя их и не поправляя, они жили сами, без моего участия, не искаженные моими чувствами. Свободные, подлинные, не растворенные в моем суждении о них, они производили несколько бесстрастное впечатление, как чуждая, неузнаваемая вещь, нечто, что происходит, течет помимо всего, тщетно и ненужно. Я обособился и был обособлен, отделен от всего окружающего, и мир стал призрачным, живым, но равнодушным. А я — уединившимся и неуязвимым.
В небе, опустевшем и пустынном, не было ни угрозы, ни утешения: я смотрел на него, изменившееся, перевернутое и разбитое в воде,— близкий отсвет, а не таинственное пространство. Отблески галечника виднелись в чистой воде, словно брюшки рыб, спящих или умирающих на мелководье, притаившиеся и неподвижные наподобие моих мыслей, но они-то всплывут, не останутся на дне души. Пусть их, пусть они встают, оживая, когда я смогу принять их со смыслом, который не будет только предвестием. Сейчас они спокойны, и, может быть, мои чувства радуются в затишье, которое, я не знаю сколько, будет продолжаться,— освобожденные и предоставленные сами себе. К моему удивлению, чувства мои чисты и невинны, когда я не перегружаю их насилием мысли или желаний, они освобождают меня самого и возвращают мне мир, какое-то далекое состояние, которое, может быть, и вовсе не существовало, оно настолько прекрасно и чисто, что я не верю в его минувшее бытие, хотя память хранит его. Лучшим было бы невозможное — вернуться в мечту, в неосознанное детство, в защищенное блаженство жаркого и темного праисточника. Я не ощущал печали и безумия подобного стремления, которое не было желанием, ибо было неосуществимо, как мысль. Оно парило во мне, как притушенный свет, обращенный куда-то в невозможное, в несуществующее. И река текла обратно, мелкие морщины ее, окованные серебром луны, не двигались, и река снова текла к своему истоку, каменная рыба с белым животом выплыла на поверхность, а река снова текла к своему истоку.
И тогда до моего сознания дошло, что это оживает мысль, начавшая преобразовывать то, что я вижу и слышу, в боль, в воспоминание, в неосуществимые желания. Выжатая губка моего мозга снова стала насыщаться влагой. Я ненадолго расставался с самим собой.
Неужели вы думаете, будто человек может добиться желаемого?
На улице под стеной текии, поросшей плющом, раздались шаги. Я не обратил на них особого внимания, лишь машинально отметил в своем сознании какую-то их необычность, но весьма отстраненно и сбивчиво, рассеянность мешала мне связать воедино явление и возможную причину. Меня не интересовало, кто мог проходить мимо текии глухой предполуночной порою, мимо последнего дома при выходе из города. Ничто не всколыхнулось во мне, никакое предчувствие, никакая догадка, эти шаги имели такое же значение, как полет ночной бабочки, и ничто не предвещало, что они могут стать решающими в моей жизни. Как жаль и как странно, что человек не чувствует самой непосредственной, угрожающей ему опасности. Знай я это, я задвинул бы тяжкий засов ворот и вошел в дом, пусть чужие судьбы решаются без меня. Но я не знал этого и продолжал смотреть на реку, стремясь увидеть ее как прежде, саму по себе, без меня. Это не удавалось, близилась полночь, и я суеверно шел навстречу минуте пробуждения духов всяческой тьмы, ожидая, как что-то родится в этой моей тишине, добро или зло.
Шаги возвратились, тихие, еще более тихие, чем прежде. Я не знал, чьи это были шаги, но был убежден, что они те же. Что-то во мне знало, ухо отметило необычность, о которой я не думал, и запомнило: один шаг был осторожен, второй не слышен или, может быть, слышен лишь потому, что было невозможно себе представить кого-то идущим на одной ноге, и мое воображение дополняло этот второй, несуществующий шаг. Ночного сторожа не было слышно, что за одноногий дух поднялся спозаранку?
Шаги стихли у ворот, тот — воплощенный, тихий и осторожный, и мой — воображаемый, беззвучный.
Повернувшись, я ждал. Они стали касаться меня, навалились на меня дрожью. Ведь я мог подойти к воротам и толкнуть засов, но не сделал этого. Мог прислониться к источенному червями косяку и уловить, дышит ли тот некто или же улетел и растворился во тьме. Я ждал, помогая случаю своей безучастностью.
На улице прозвучали другие шаги, частые, торопливые, кто-то спешил, задыхаясь. Присоединится ли к ним одноногий или его больше нет?
Ворота отворились, кто-то вошел.
Встал на каменную плиту у входа и прислонился спиной к широким доскам, словно бы обессилев или же решив придержать их, чтоб не открывались. Это было бессознательное и ненужное движение: хрупкое жалкое тело не сможет никого удержать.
Тени двух деревьев лежали у входа, он встал в расщелине света, словно осужденный, чуждый, выставленный напоказ всем, а ему, конечно же, хотелось исчезнуть в густой тьме. Однако он не смел шевельнуть пальцем, шаги торопливо миновали ворота, застучали по мостовой и стихли у поворота в ущелье, где стоит караул арнаутов, наверняка преследователи расспрашивали о человеке, который ждал, распятый, в воротах. И я, и он знали, что погоня вернется.
Мы смотрели друг на друга, неподвижные каждый на своем месте, и молчали. Через все пространство сада я видел на каменной плите у ворот его босую ступню и белевшее в отраженном свете стены лицо. В этом белом лице, в беспомощно раскинутых руках, в молчании лежал ужас ожидания.
Я не двигался, не произнес ни слова, чтоб не нарушить волнующую игру. Наше положение становилось все более тягостным, ожидание — все более напряженным. Я чувствовал, что вовлечен в нечто необыкновенное, мучительное и жестокое, я не знал, кто из них жесток, тот ли, кто спасается, или тот, кто преследует, тогда это не было для меня важно, погоня издавала запах крови и смерти, и все решалось у меня на глазах. В кровавый узел туго сплелась сама жизнь, может быть несколько сильно, туго, слишком близко, грубо выражаясь, но всегда одинаково, во всех малых и больших преследованиях, которым нет конца. Я не был ни на одной из сторон, но занимал положение исключительно важное. Меня тревожило, что я мог оказаться судьей и лишь одним произнесенным вслух словом все рассудить. Судьба этого человека находилась в моих руках, я был его судьбой, и никогда я не ощущал в себе столько силы. Я не выдал его, хотя одно только невинное слово привета или тихий кашель могли его погубить, не потому, что его глаза, которых я со своего места как следует не видел, наверняка умоляли о милости, и не потому, что, может быть, это было несправедливостью,— я хотел продолжения игры, хотел быть зрителем и свидетелем, ужаснувшимся и смятенным.
Преследователи возвращались — уже не бегом, шагом,— сбитые с толку, разъяренные, потому что все запуталось, они теперь не только преследователи, но и виновные: его спасение означало для них наказание. Ничто нельзя решить мирно, исход неминуемо окажется ужасным, каким бы он ни был.
Все мы, включившиеся в эту игру, молчали — я, преследуемый и преследователи. Лишь караульные арнауты на плотине в ущелье пели заунывную песню своей родины, и чужеземная песнь печали, похожая на дикий стон, делала наше молчание еще более тяжким.
Шаги приближались, тихие и нерешительные, я вслушивался в них с глубоким напряжением, став на мгновение и преследуемым и преследователем, ибо не был ни тем, ни другим, я страстно желал, чтоб его поймали и чтоб он убежал, во мне странным образом смешивались боязнь за беглеца и желание указать возгласом, где он, и все это доставляло мучительное наслаждение.
Погоня остановилась у ворот, у меня перехватило дыхание, с нетерпением, заполненным ударами крови, воспринимал я этот миг, в который решалась и моя судьба.
Беглец, наверное, тоже перестал дышать, тонкая доска отделяла его от погони, расстояние меньше пяди, но находились они далеко, словно отделенные друг от друга горами, они — незнанием, он — надеждой. Руки его по-прежнему были раскинуты в стороны, лицо светилось, словно покрытое фосфором. От волнения у меня перед глазами стали расплываться ветви его рук и ног, а белое лицо превратилось в символ ужаса.
Что, если они откроют ворота и войдут? Что, если он поскользнется на гладком камне, выдав себя? Что, если меня от волнения одолеет кашель и тем самым я призову их? Мгновение я сопротивлялся, два отчаянных чувства боролись во мне. Их было больше, и они стояли лицом к лицу. Это означало бы конец для него, они кинулись бы на него жестоко, озлобленные своим страхом, раздосадованные упущенным, обрадованные тем, что он нашелся. Я бы смотрел, потрясенный финалом, и умолял бы их лишь уйти из сада текии. Но в тот же миг я чувствовал себя преследуемым, это было дело случая, ведь могло статься, что и я оказался бы преследователем, и, возможно, не так уж случайно это вышло бы. Я видел его и желал, чтобы невидимые люди ушли от ворот во избежание печального конца. Мне чудилось, будто мое желание помогает человеку, столь беспомощно защищавшему свою жизнь, дает ему какие-то надежды на счастье.
И словно бы моя воля в самом деле оказала свое действие, шаги удалились и растерянно замерли, кто-то сомневался — а не задержаться ли, они могли еще вернуться, но нет, пошли по улице обратно в город.
Человек оставался в том же положении, но оцепенение наверняка постепенно сходило с него, и чем дальше удалялись шаги, тем меньше оставалось у него сил.
Хорошо, что так окончилось. Если б они схватили его, стали бить в моем присутствии, жестокая расправа врезалась бы мне в память, позже пришло бы раскаяние в том, что какой-то миг я был готов его выдать и что эта охота на человека доставляла мне удовольствие, пусть болезненное, но удовольствие. Теперь же, даже если оно появится, это раскаяние, оно будет более слабым.
Я не думал о том, кто прав, кто виноват, меня это не касалось, пусть люди сами разбираются в своих делах и вина обнаруживается без труда, а справедливость — это право делать то, что, по нашему мнению, нужно сделать, и тогда справедливостью может оказаться все. И несправедливостью также. Пока я ничего не знаю, нет и определения, и я не хочу вмешиваться. Правда, я уже вмешался своим молчанием, но оно не выдает меня, я всегда могу оправдать его причинами, которые для меня окажутся самыми удобными, если я узнаю правду.
Предоставляя человека самому себе, я направился к дому, теперь беглец может поступать, как ему угодно. Погоня миновала, пусть он идет своим путем. Я смотрел прямо перед собой, в песок тропинки и зеленую кайму травы, пытаясь отключиться, разорвать те тонкие нити, что связывали нас мгновение до этого, пусть остается только то, что есть, неизвестный, с которым не скрестился ни мой взгляд, ни мой путь. Однако, даже не глядя, я различал белизну его рубахи и белизну лица, может быть, видел внутренним взором, как он опустил руки и сомкнул ноги, он больше не напрягался и не был сгустком трепещущих нервов, которые оживают лишь в ту минуту, когда решается, чему быть — жизни или смерти, но человек уже освобожден от мгновенного мучения, освобожден для мысли о том, что его ждет. Ибо я понимал: ничто еще не решено между ним и его преследователями, все еще предстоит, а сейчас просто отодвинуто на неопределенное время, возможно на следующий миг, поскольку ему суждено было спасаться, а им — ловить его. Потом мне почудилось, будто он поднял руку, нерешительно, едва отделив ее от тела, словно бы желая остановить меня, что-то сказать мне, склонить меня вмешаться в его судьбу. Не знаю, видел ли я это и в самом ли деле он это сделал или же я угадал движение, которое он мог, должен был сделать. Я не остановился, я не желал больше ни во что вмешиваться. Вошел в дом и повернул ключ в заржавевшем замке.
Этот скрежещущий звук, которым я оградил себя, долго еще звучал в комнате. Для него он означал освобождение или, быть может, еще больший страх, совершенное одиночество.
Я ощутил потребность взять книгу, Коран или еще какую-нибудь — о морали, о великих людях, о священных днях, меня должна была успокоить музыка знакомых фраз, в которые я верю, о которых я даже не думаю, ибо они всегда во мне, как моя система кровообращения. Мы не думаем о ней, а она для нас все, она дает нам возможность жить и дышать, она позволяет нам высоко держать голову, придает всему свой смысл. Меня всегда странным образом убаюкивала эта цепь красивых слов о вещах, которые мне были известны. В том кругу, где я вращался, я чувствовал себя уверенно, там нет засад, которыми угрожают люди и мир.
Неладно было только то, что хотелось взять любую книгу и что потребовалась защита привычных мыслей. Чего я боялся? От чего хотел бежать?
Тот человек находился еще внизу, я знал, в саду, было слышно, если б он открыл ворота. Не зажигая огня, я стоял в желтой тьме комнаты, мои ноги освещала луна, и ждал. Чего я ждал?
Он был еще внизу, в этом заключалось все. Довольно того, что текия спасла его, он должен уйти. Почему он не уходит?
В комнате пахло старым деревом, старой кожей, старым дыханием, тени умерших юных девушек лишь иногда пробегали по ней, я привык к ним, они жили здесь до меня. И теперь в этот старый мир, в это старое убежище вошел новый, незнакомый человек с белым пятном лица, с раскинутыми руками и ногами, который сам себя распял в воротах. Я знал, что он изменил позу, видел, как обвисло его тело, как вдруг обломилось сплетение его костей, и все стало новым, важным, болезненным, а я помнил его прежнюю судорогу и его усилие, его напряжение, которое живет, борется, не уступает никому, я помнил вытянутые пружины его мускулов, способных на чудо. Мне больше нравилась та, прежняя картина, а не нынешняя, разбитая. Она сулила больше надежды, легче освобождала меня, наполняла уверенностью в собственных силах. В другой таились зависимость, отчаяние, нужда в опоре. Вспомнилось виденное или угаданное движение, которым он хотел привлечь мое внимание. Он призывал меня, просил не проходить мимо него, его ужаса, словно меня ничто не касается. Если же он этого не сделал, если я лишь вообразил себе это неизбывное движение жизни, которая обороняется и призывает на помощь, тогда он совсем без сил, а теперь и без надежды. Жаль, что мне ничего о нем не известно. Если он виноват, я бы не стал думать об этом человеке.
Я подошел к окну и испугался лунного света, хлынувшего в лицо. Словно он обнаружил меня. Поглядел — в воротах никого не было, значит, ушел. Я осмотрелся, надеясь, что и в саду никого нет. Однако человек не ушел. Он стоял под деревом, в тени, слившись со стволом. Я заметил его, когда он шевельнулся, увидел его ноги в потоке света, тень обрубала их выше колен.
Он не глядел ни на дом, ни на окно, он ничего больше не ждал от меня. Вслушивался в звуки улицы, различая, вероятно, даже кошачьи шаги, шум встревоженной птицы, свое робкое дыхание. Потом он посмотрел на крону дерева, и я последовал за его взглядом: листья шелестели, тронутые полуночным ветром. Молился ли он, чтоб ветер утих, или проклинал этот шелест? Ведь он мешал различать звуки за стенами текии, а это могло стоить ему жизни.
Он повернулся вокруг дерева, не отрывая от него спины, передвигая по окружности посеребренные ноги, потом отделился от ствола, беззвучным и словно бы лишенным тяжести шагом приблизился к воротам и осторожно наложил засов. Вернулся, держась в тени дерева, подошел к стене, нагнулся над водой, посмотрел вверх, в ущелье, и вдоль по течению, в сторону городка, отступил и исчез в густых зарослях. Услыхал ли он, увидел ли что-то, или не посмел выйти, или некуда было?
Хотел бы я знать, виновен ли он.
Вот так я прошел мимо, опустив взгляд в землю, закрыл двери текии, заперся у себя в комнате и не смог уйти от этого человека, ворвавшегося в мой покой, заставившего меня думать о нем и, стоя у окна, наблюдать за его ожившим страхом. Он заставил меня позабыть этой ночью о чужом грехе, о ростках своего, о двух странных руках в полумраке, о своих заботах. А может, он-то и породил их.
Надо было повернуться спиной к окну, зажечь свечу, выйти в другую комнату, если я не хотел, чтоб его без нужды мучило освещенное окно, что-нибудь сделать, только не то, что я делал. Ибо в этом — скованность, болезненный интерес, неуверенность в себе самом. Словно бы исчезла вера в себя, в свою совесть.
Эта игра в прятки — ребячливость или, еще хуже, трусость, мне нечего пугаться, даже самого себя, почему я притворяюсь, будто не вижу человека, даю ему возможность уйти, а он не хочет этого делать, почему я прикидываюсь, будто не знаю, находится ли он в саду текии, прячет ли преступление или бежит от него? Что-то происходит, вещи вовсе не невинные, я знаю, постоянно случаются тяжелые и жестокие вещи, но вот это у меня на глазах, я не могу отодвинуть его в неведомое и невидимое, как все остальное, и не хочу быть ни виновником, ни невольником — я хочу свободно решать.
Я спустился в сад, луна висела на краю неба, скоро она зайдет, цвел лавр, воздух был отравлен его запахом, нужно срубить это дерево, приторное, навязчивое. Я слишком чувствителен иногда к запахам, земля пахнет невыносимо и душит меня, это подступило внезапно, кажется вместе с волнением, хотя я не знал, в какой взаимосвязи все это находилось.
Человек стоял в зарослях кустарника, я бы не нашел его, если б не знал, где он, лицо его было лишено всяких черт, стерто полутьмой, он лучше видел меня, я был открыт светом, и мне казалось, будто я обнаженный и нечем прикрыться. Он слился с кустарником, врос в ветки, раскачивался вместе с ними от ночного ветра, по ущелью слетавшему с гор.
— Ты должен уйти,— шепотом произнес я.
— Куда?
Голос у него был крепкий, глубокий, будто передо мной совсем не тот маленький человечек.
— Отсюда. Куда хочешь.
— Спасибо, что не выдал меня.
— Я не хочу вмешиваться в чужие дела, поэтому хочу, чтоб ты ушел.
— Если гонишь, значит, уже вмешался.
— Возможно, так будет лучше.
— Ты помог мне однажды. Зачем сейчас отбираешь это? Тебе когда-нибудь понадобится доброе воспоминание.
— Я ничего не знаю о тебе.
— Ты знаешь обо мне все. Меня преследуют.
— Наверное, ты причинил им зло.
— Я не сделал им ничего плохого.
— Что ты теперь думаешь делать? Здесь тебе нельзя оставаться.
— Посмотри, стража на мосту?
— Да.
— Меня ждут. Они кругом. Неужели ты отдашь меня смерти?
— Дервиши рано встают, тебя увидят.
— Спрячь меня до завтрашнего вечера.
— Могут зайти путники. Случайные прохожие.
— Я тоже случайный путник.
— Не могу.
— Тогда зови стражу — она здесь, за стеной.
— Я не хочу их звать. И не хочу тебя прятать. Для чего я должен тебе помогать?
— Ни для чего. И сам спрячься, тебя это не касается.
— Я мог тебя погубить.
— У тебя не нашлось сил даже на это.
Он сбил меня с толку, я не был готов к такому разговору. Больше всего меня изумляло, и с каждой фразой сильнее, я никак не ожидал, что встречу совсем другого человека. Меня обманула та картина — он, распятый, в воротах. Я представлял его себе, исходя из возникшего в моей душе сострадания: помню белое пятно лица и еще ту жалкую тонкую доску, защитившую его — несчастного, перепуганного, растерянного, я даже подумал, что знаю, какой у него голос — дрожащий, неуверенный, а все вышло иначе. Я полагал, что его смягчит одно мое слово и он будет уничтоженно смотреть на меня, потому что оказался в безвыходном положении и зависит от моей доброй или злой воли. Но голос его был спокоен, в нем не было даже гнева, мне почудилось, будто он звучит звонко, насмешливо, вызывающе и отвечает не зло, не униженно, а равнодушно, как бы возвысившись над происходящим и зная нечто, что придает ему уверенность. Он настолько обманул мои ожидания, что я даже преувеличил степень его спокойствия. Меня поразило, что он потребовал спрятать его, словно это было самое что ни на есть обычное дело — услуга, которую он принимает, но которая ничего не решит. Свою просьбу, вернее, требование он не стал повторять, спокойно отказался от него, не сердясь на то, что я отверг его, не глядя на меня, он прислушивался, чуть склонив голову, моей помощи он больше не ожидал. Он не ожидал больше ничьей помощи и знал, что ему никто не протянет руку и теперь у него нет ни родственника, ни друга, ни знакомого, он осужден быть наедине со своей бедой. Вокруг него и его преследователей легло пустое пространство.
— Ты, наверное, считаешь меня плохим человеком.
— Не считаю.
— Я не такой. Но я не могу тебе помочь.
— Каждому свое.
Это не был упрек, но и не было примирение с судьбой, он воспринимал все происходящее как горькое знание жизни, когда люди не желают помочь осужденному, меня он тоже отнес к тем людям и не удивлялся. Он не сломился, не обессилел, не озирался растерянно вокруг, но был собран и полон решимости сражаться в одиночку.
Я спросил, почему его преследуют. Он не ответил.
— Как ты убежал?
— Прыгнул со скалы.
— Ты кого-нибудь убил?
— Нет.
— Ты украл, ограбил, опозорил себя?
— Нет.
Он не спешил оправдаться и не пытался убедить меня, отвечал на мои вопросы так, словно они были никчемны и скучны, он не хотел больше оценивать меня ни по добру, ни по злу, не воспринимал меня ни как угрозу, ни как надежду: я не выдал его, но помогать ему не хочу. К моему удивлению, его пренебрежение ко мне, словно я был деревом, кустом или ребенком, задело мое тщеславие, обезличило и унизило меня, я перестал быть значимым не только в его, но и в своих собственных глазах. Он не соприкасался со мной, я ничего не знал о нем и никогда его больше не увижу, но меня раздражало его осуждение, оскорбляло, что он вел себя так, будто меня нет. Мне хотелось рассердить его.
Я бросал его, и меня волновала его судьба.
Я стоял в запахе лавра, который душил меня, в эту Юрьеву ночь, что жила сама по себе, в саду, который превратился в особый мир, мы стояли вдвоем, человек перед человеком, не испытывая радости от нашей встречи, не имея возможности расстаться, хотя будто и не встречались. Я мучительно думал о том, как поступить с ним, превратившимся в куст, чтоб не причинить ему зла и не содействовать чужому греху, я не знал, каков он, и мне не хотелось согрешить перед своей совестью, но я не видел решения.
Странной была та ночь — не тем, что происходило, но тем, как я все воспринимал. Разум подсказывал не вмешиваться в то, что меня не касалось, а в результате я вмешался и теперь не видел выхода: старая привычка владеть собой подсказала мне уйти в комнату, но я вернулся, движимый неосознанной потребностью, порядок жизни в текии среди дервишей научил меня твердости, и вот я стою перед беглецом, не зная, на что решиться, уже одно это означало, что я поступаю не так, как нужно. Доводы разума говорили, что надо предоставить человека его судьбе, а я шел вместе с ним по его скользкому и опасному пути, который не мог стать моим.
И пока я раздумывал, ища нужных слов, чтоб выпутаться, неожиданно у меня вырвалось:
— В текию я тебя провести не могу. Это опасно и для меня, и для тебя.
Он не ответил, даже не взглянул на меня, я не открыл ему ничего нового. У меня еще оставалась возможность отступить, но я уже скользил, и остановиться было трудно.
— В глубине сада есть хибара,— шепнул я,— туда никто не ходит. Там валяется ненужный хлам.
Беглец посмотрел на меня. Глаза у него были живые, недоверчивые, но в них не было испуга.
— Спрячься, пока они не уйдут. Если тебя схватят, не говори, что я помог.
— Меня не схватят.
Он произнес это с такой уверенностью, что мне стало не по себе. Вновь подступила знакомая тревога, и я раскаялся, что предложил ему убежище. Этому человеку достаточно самого себя, меня он отстраняет: он, словно ударив, оттолкнул протянутую руку, до отвращения уверенный в себе. Позже я устыдился своих поспешных выводов (что ему еще оставалось, кроме веры в себя!), осудил в себе низменное чувство удовлетворения оттого, что кто-то нам благодарен, показав себя ничтожным и зависимым, ведь именно это располагает нас к таким людям, служит живительным соком и возвеличивает значение нашего поступка, нашей доброты. А так, сама по себе, она мелка и ненужна. Однако в тот момент мне не было стыдно, я злился, мне казалось, что я впутался в бессмысленную историю, и, несмотря на это, направился к обветшалому домику, укрытому кустарником и зарослями бузины. Лишенный радости, лишенный собственного оправдания, без какой бы то ни было внутренней потребности, но иначе я не мог.
Двери хибарки едва держались, внутри обитали летучие мыши и голуби.
Он остановился.
— Зачем ты это делаешь?
— Не знаю.
— Значит, уже раскаялся.
— Ты слишком горд.
— Ты мог бы этого и не говорить. Человек никогда не бывает слишком гордым.
— Я не хочу спрашивать тебя, кто ты и что сделал, это твое дело. Оставайся здесь — это все, что я могу тебе дать. Пусть будет так, будто мы с тобой не виделись и не встречались.
— Это лучше всего. Иди теперь к себе.
— Принести тебе поесть?
— Не нужно. Ты уже жалеешь о том, что сделал.
— Почему ты решил, что жалею?
— Ты медлишь, много размышляешь. Как бы ты ни поступил — будешь жалеть. Иди в текию, не думай больше обо мне. Выдашь меня, если будешь думать.
Что это — насмешка, издевка, презрение? Откуда у него столько силы?
— Ты не очень веришь людям.
— Скоро рассвет. Будет плохо, если нас увидят вместе.
Он хотел от меня избавиться, с нетерпением смотрел в небо, посеревшее в предвестье утреннего света. А мне хотелось задать ему тысячу вопросов, ведь я никогда больше не увижу его. Никто мне не сможет ответить, только он.
— Вот еще что: ты один, неужели тебе не страшно? Тебя схватят, убьют, у тебя нет никакой надежды.
— Оставь меня в покое!
Голос его звучал грубо, в нем слышалась злоба, и в самом деле не стоило говорить о том, что он и так знал, возможно, он считал меня действительно дурным человеком, злорадно наслаждавшимся его муками. И он отплатил мне тем же.
— Тебя мучает что-то,— сказал он с той неожиданной проницательностью, которая удивила меня.— Я приду как-нибудь поговорить, когда минует опасность. Теперь ступай.
Он не ответил на то, что интересовало меня, вернул меня самому себе. Да и какой ответ мог он мне дать? Какая связь могла существовать между нами? Чему он мог научить меня?
Я распахнул окно, в комнате было душно. Не будь его, я спустился бы в сад, без сна встретил зарю, теперь я дождусь ее здесь, голоса ранних птиц зазвучали громким хором, а небо над темным склоном поднимало веки, открывая синий зрачок. Деревья в саду спали, накрытые дымкой тонкого полумрака, скоро в первых лучах солнца начнут выпрыгивать из воды рыбы, я любил эти утренние часы пробуждения, когда зарождалась жизнь.
Я стоял посреди комнаты, тревога не покидала меня, и я не мог определить ее причину, огорченный тем, что сделал и чего не сделал, раздосадованный этой ночью, таившей угрозу и беспричинный страх.
Я прислушивался к каждому шороху, шелесту птичьих крыл, слушал ровный бег реки и ждал, что услышу его или их, идущих за ним. Спасется ли он, останется ли, схватят ли его? Совершил я ошибку, не выдав его, или надо было укрыть его в своей комнате? Он сказал: как бы ты ни поступил, ты будешь жалеть. Как он мог постичь то, что мне самому не совсем ясно? Я не хотел идти ни с ним, ни против него, нашел среднее решение, вовсе никакое, ибо ничто не было решено, лишь продлена мука. Мне придется встать на чью-либо сторону.
Множество причин было и за то, и за другое — погубить его или спасти. Я дервиш, стою на защите веры и порядка, помочь ему — значит изменить своим убеждениям, предать то, чему посвящено столько лет чистой жизни. Будут неприятности и для текии, если его схватят у нас, еще хуже, если узнают, что я ему помогал, мне бы этого не простили, а узнать могут, он сам скажет, испугавшись или желая напакостить. Да и для брата плохо. И для меня, и для брата. Я ухудшаю и свое, и его положение — обнаружится связь и последовательность в моем поступке, подумают, что это месть за брата, или решат: раз уж брату я не могу помочь, то помогаю другому. Многое склоняло меня к тому, чтобы передать его властям, и пусть он сам, как умеет, решает свой спор с правосудием.
И опять-таки, я — человек. Я не знаю, что он сделал, и не мне судить, а судьи могут и ошибаться, зачем брать грех на душу и отягощать себя ненужным раскаянием? Много доводов было и за то, чтобы помочь ему. Но они были какие-то бесцветные, недостаточно убедительные, я сам выдумал их, делал их значительными в надежде, что они смогут послужить прикрытием для того настоящего, единственно важного: с его помощью я пытался спасти себя. Он возник в тот момент, когда мог стать гирькой на чаше весов моей нерешительности. Осудив его, передав его властям, я перешагнул бы через свое смятение и остался бы тем, кем был независимо от того, что произошло, считая, что ничего не случилось: ни ареста брата, ни печали о нем, я пожертвовал бы беглецом, несчастным, изуродованным самим собой, и пошел бы дальше проторенной дорогой послушания, изменив своей муке. Но если бы я спас его, я сделал бы окончательный выбор: оказался бы на другой стороне, выступил против кого-то и против себя, каким я был до сих пор, разрушил бы свой покой. А я не мог сделать ни того, ни другого, от первого меня отвращала моя неуверенность, от второго — сила привычки и страх перед неведомым. Десять дней тому назад, когда брат был еще на свободе, мне было все равно, как ни поступи, я оставался бы спокоен, теперь же я понимал, что должен сделать выбор, поэтому и остановился на полпути, в раздумье. Все было возможно, но ничто не осуществлялось.
А тот находился в саду, в заброшенном доме, в кустах, я все время смотрел туда, ничто не происходило, я ничего не слышал, мне было обидно, почему он не ушел, тогда все решилось бы само собой, а теперь он не сможет убежать, останется здесь на целый день, и целый день я буду думать о нем и ждать спасительной ночи, спасительной для него или для меня.
Я знал, как пробуждалась текия. Первым вставал Мустафа, если ночевал не дома, стучал тяжелыми башмаками по каменному полу в нижнем этаже, хлопал дверьми, выходил в сад и совершал омовение, громко сморкаясь, прочищая горло, растирая широкую грудь, наскоро преклонял колени, потом разводил огонь, снимал и ставил посуду, все с таким шумом, что проснулся бы любой, даже не привыкший рано вставать. Он был глух, и его пустынный мир, лишенный звуков и эха, всегда жаждал шума, и, когда нам иногда удавалось объяснить ему, что он слишком стучит, грохочет, колотит, звенит, он удивлялся: неужели даже это кому-то мешает.
Почти одновременно раздавалось покашливание хафиза Мухаммеда, иногда он кашлял ночи напролет, весной и осенью кашель его становился тяжелым и свистящим, мы знали, что он харкает кровью и сам убирает ее следы, а выходил всегда улыбаясь, с красными пятнами на щеках, говорил нам о самых будничных вещах, не о себе и своей болезни, и мне всегда казалось, что это от особенного рода высокомерия, от стремления быть выше нас и мира. С особым тщанием он совершал омовение, долго растирая свою прозрачную кожу. В это утро он кашлял меньше, легче, случалось, что его успокаивало мягкое дыхание весны, которое иной раз и усиливало его мучения, я знал, что нынче он будет мягок, умиротворен, далек от всего: такова его месть миру — никогда не показывать своей тоски.
Потом спускался молла Юсуф. Перестук его деревянных сандалий звучал неторопливо и сдержанно, слишком размеренно для такого цветущего здоровяка, он следил за своим поведением с большим тщанием, чем любой из нас, ибо ему было что скрывать. Я не верил в его смирение, оно казалось напускным, выглядело неестественным, не соответствовало его румянцу, его свежим двадцати пяти годам. Но это уже не мысль, а сомнение, чувство, которое менялось в зависимости от настроения.
Мы не много знали друг о друге, хотя жили вместе, потому что никогда не говорили о себе, и никогда откровенно, но всегда о том, что было у нас общего. И это было хорошо. Личные дела слишком тонки, смутны, бесполезны, и следовало оставить их для себя, коль скоро мы не могли от них избавиться. Разговор между нами сводился в основном к общим, известным фразам, которыми пользовались до нас другие, потому что они надежны, проверены, оберегают от неожиданностей и недоразумений. Личность — это поэзия, допустимы толкования, произвольность. А выйти за круг общей мысли — значит усомниться в ней. Поэтому мы знали друг друга лишь по тому, что было неважно или одинаково в нас. Иными словами, мы не знали друг друга, и в этом не было нужды. Знать — означало знать то, что не следует.
Однако эти рассуждения не приносили спокойствия, с их помощью я пытался лишь утвердиться в чем-то, чтоб буря не вырвала меня и не унесла; я шел по краю пропасти и стремился вернуться на твердую почву. В это утро я им всем завидовал, для них оно было обычным.
Существует безошибочный и простой способ уменьшить свою муку, даже вовсе избежать ее: сделать ее всеобщей. Беглец теперь имел отношение ко всей текии, и решение надлежало принимать не мне одному. Имею ли я право скрывать то, что принадлежит также им? Я могу высказать свое мнение, даже могу защитить беглеца, но скрывать его я не должен. Ведь именно такого решения я старался избежать. Надо сделать так, чтобы оно стало нашим, не моим,— так легче и честнее. Все остальное будет бесчестно и лживо, и я знал бы, что делаю нечто недозволенное, не имея на то никаких причин. Не испытывая даже уверенности в том, что мне следует так поступить.
Но с кем поговорить? Если мы соберемся все вместе, беглеца можно заранее считать принесенным в жертву. Мы будем бояться друг друга, станем говорить от имени тех, кто отсутствует, и тогда самое приемлемое — самое суровое. С одним говорить и легче и честнее, не пугает количество: чем меньше ушей, тем больше внимания к доводам разума. Но кого выбрать? Глухой Мустафа наверняка не в счет, мы равны перед богом, но любой посмеется надо мной, если я стану договариваться с ним, и не только потому, что он глух. Он настолько поглощен мыслями о своей невенчанной жене, от которой частенько убегает, ночуя из ночи в ночь в текии, и о пяти ребятишках, законных и тех, что со стороны, пожалуй, он и сам удивился бы, почему я спрашиваю о том, чего он не знает, а он многого не знает, и в этом отношении не далеко ушел от своих многочисленных детей.
Хафиз Мухаммед выслушал бы меня рассеянно, с ничего не говорящей улыбкой. Он жил, склонившись над пожелтевшими скрижалями истории. Для этого странного человека — я тогда еще завидовал ему в этом — существовало лишь минувшее, а наше время воспринималось им после того, как уходило. Редко встретишь человека, столь далеко отошедшего от жизни, как он. Долгие годы странствовал он по Востоку, копался в знаменитых библиотеках в поисках исторических сочинений и возвратился на родину с огромной кипой книг, нищий и богатый, переполненный никому, кроме него, не нужными знаниями. Знания текли из него рекой, заливали потоком, он обрушивал на тебя имена, события, становилось не по себе при мысли о толпе, которая поместилась в этом человеке и жила в нем, словно она существовала сейчас, словно бы это не были призраки и тени, но живые люди, которые непрестанно трудятся в ужасающей вечности бытия. В Стамбуле какой-то офицер в течение целых трех лет обучал его астрономии, благодаря этим знаниям хафиз Мухаммед все явления измерял теперь огромными пространствами неба и времени. Я считал, что он пишет историю наших дней, но потом усомнился, потому что люди и события приобретали для него величину и значение лишь после своей кончины. Он мог создавать лишь философию истории, безнадежную философию вне человеческих масштабов, равнодушный к повседневной, текущей жизни. Если б я спросил его о беглеце, ему наверняка стало бы не по себе, оттого что я потревожил его столь неприятными делами в это чудесное утро, которое началось у него без удушья, и заставляю думать о таких мелочах, как судьба человека, укрывшегося в нашем саду. Он ответил бы столь неопределенно, что мне снова пришлось бы решать самому.
Я решил поговорить с моллой Юсуфом.
Он только что закончил омовение и, поздоровавшись со мной, хотел молча уйти. Я остановил его, сказав, что хочу поговорить.
Молла Юсуф мельком взглянул на меня и сразу опустил голову, он всегда был настороже, однако сейчас мне не хотелось томить его мучительным ожиданием, и я рассказал ему все о беглеце: что я услышал и увидел из своей комнаты, как он вошел в сад и спрятался в кустах. Наверняка он и сейчас где-то здесь, наверняка он спасается от погони, иначе бы не стал прятаться. Я сказал — это было правдой,— что я до сих пор нахожусь в недоумении, как поступить: сообщить ли о нем властям или предоставить все воле случая? Может быть, он виноват, невиновные люди не болтаются по ночам, но в то же время я ничего не знаю и мог бы совершить по отношению к нему несправедливость, боже упаси меня от нее. И теперь важно рассудить, в чем зло: вмешаться нам или не вмешаться? Что хуже: умолчать о преступлении, если оно совершено, или не проявить милосердия?
Он напряженно смотрел на меня, пытаясь скрыть, что он внимательно и с интересом слушает мой сбивчивый рассказ, на его румяном, без единой морщинки лице, посвежевшем от воды и утреннего воздуха, появилась живость и озабоченность.
— Он еще в саду? — тихо спросил он.
— До рассвета не выходил, а днем нельзя.
— Как ты думаешь, что нам делать?
— Не знаю. Я боюсь греха. Люди упрекнут нас, если он виноват, и для текии это нехорошо. А если он не виноват, грех падет на нашу душу. Один господь знает вину всех. Людям сие неведомо.
Розоватый полусвет, еще обремененный ночными тенями, чистота неокрепшего дня, час, когда все краски свежи и редкие шумы отчетливы. Но сегодня я не замечаю радости отдохнувшего утра, вчерашний день я связал с сегодняшним, сном не облегчив его заботу.
Не обретя покоя в утренней молитве, я вернулся из мечети и застал в саду текии солдат и моллу Юсуфа. Они заглядывали в каждый уголок, осмотрели заброшенный дом, но беглеца нигде не обнаружили.
— Может быть, я ошибся,— сказал я разозленным солдатам.
— Ты не ошибся. Он убежал вчера ночью и где-то спрятался.
Позже, когда солдаты ушли, я спросил Юсуфа:
— Ты их позвал?
— Я думал, ты этого хочешь. Ты ничего не сказал бы мне, если б сам не хотел.
Впрочем, безразлично, так лучше. Я сбросил с себя ответственность и вину и никому не причинил зла. Я мог вздохнуть с облегчением и перестать думать о минувшей ночи.
Но я думал, думал больше, чем мог это хоть чем-то оправдать. Я обошел сад, на песке дорожки виднелись следы, одна нога была обута, другая босая, ступни отпечатались рядом — это все, что осталось от него, кроме обломленных веток акации, распятия и чего-то необычного, что воцарилось под кронами старых деревьев, какой-то новый запах, отсутствие пустоты и пустоши, свежесть после бури. Теперь, когда он был вне пределов досягаемости, когда опасность не угрожала ни ему, ни мне, я размышлял об этом незнакомом человеке, воспринимая его так, словно он был вздувшимся потоком, свежим ветром, словно он появился во сне. Он растаял, опыт отрицал его, живой человек вряд ли мог бы выйти отсюда незамеченным, да и следы подтверждали его присутствие, не снимая однако этим материальным доказательством налета какой-то таинственности, которую я чувствовал, не вполне сознавая ее разумом. Он ушел от солдат, выскочив в окно своего дома, сломал стену тюрьмы, прыгнул со скалы, вошел в чужой двор, не посчитавшись, что это огороженное пространство принадлежит другому, он исчез, не дав о себе знать ни единым знаком, обманул подстерегавших солдат, словно был духом. Он не поверил мне, он никому больше не верит, он убежал от чужого страха и от солдатской жестокости, уверенный только в себе, жаль, что он совсем потерял веру в людей, он будет несчастлив, опустошен душой. Он, правда, сейчас жив и даже на свободе, но мне бы не хотелось, чтоб он когда-либо узнал, как я мог стать виновником его гибели. Меня этот человек не касается, мы ничем не обязаны друг другу, он не может сделать мне ни хорошего, ни плохого, но мне будет дорого, если он унесет в свое одиночество добрую мысль обо мне, если в тяжком недоверии к людям он сохранит иное воспоминание обо мне, чем об остальных.
Потом я смотрел, как молла Юсуф переписывает Коран, сидя в густой тени развесистой яблони перед текией,— ему было необходимо ровное освещение, без отражения и без теней. Я наблюдал за полной розоватой рукой юноши, выводившей сложные завитки букв, бесконечную цепь слов, по которым будут блуждать чужие глаза, не думая о том, как долго длилась эта тяжелая работа, и, возможно, не замечая ее красоты. Я был потрясен, когда впервые увидел неповторимое мастерство юноши, и вот спустя уже столько времени продолжаю смотреть на его работу как на чудо. Тонкие, благородные линии, плавные закругления, ровная волна строк, красные и золотые заставки, многоцветные рисунки на полях — рождалась красота, которая приводила в смятение человека, красота несколько даже греховная, поскольку она уже не средство, а самоцель, нужная лишь самой себе, сверкающая игрой красок и форм, отвлекающих внимание от того, чему эта красота должна была служить; она становилась даже чуть постыдной, словно бы эти пестрые страницы излучали плотское вожделение, и все потому, что красота сама по себе чувственна и грешна, а может быть, и потому, что я видел вещи не так, как надо их видеть.
Так же как вчера, лавр душил меня своим густым ароматом, доносилась песня, та самая, вчерашняя, поразившая меня обнаженным бесстыдством, во мне снова поднималась черная злоба — та самая, вчерашняя, наполнявшая меня ужасом, я сошел с борозды, теперь я — отрезанный ломоть, ничто больше не удержит меня, ничто не спасет от самого себя и от мира, день не защитит меня, я больше не хозяин ни своих мыслей, ни своих поступков, превратился в укрывателя разбойника, нужно уходить отсюда куда угодно, нужно уйти от этого юноши, что раздражает меня своим испытующим взглядом, приходится говорить какие-то пустяки, чтобы не выдать себя, он многое знает обо мне вчерашнем, в нем есть что-то темное, жестокое, но спокойное, никогда прежде не доводилось мне видеть такого горящего и уверенного взгляда.
Я отвернулся от него, от той жуткой картины, которую увидел в нем, от беспричинной ненависти, которая вспыхнула во мне, удушая, как дым, как запах тления. Как спокойно он отправился за солдатами и навел их на беглеца. Ни секунды не раздумывал он над чужой судьбой, над чужой жизнью, над тем, что тот, возможно, и не виновен. Я мучился целую ночь, он рассудил сразу. И сейчас безмятежно выписывает свои изящные грешные буквы, плетет, словно паук, свою чудесную ткань — умело, строго и бесчувственно.
Я подошел к неровным следам на песке и стер их.
— Одна нога у него босая,— сказал Юсуф.
Он наблюдал за мной, следил за моими движениями и моими мыслями. Меня охватило безумное желание помочь ему освободиться от сомнений, от мучительных догадок, рассказать все, что я думаю о беглеце и о нем, хотя ничего хорошего он не узнал бы, что я думаю о них, о себе, о многом, рассказать даже о том, чего я не думаю, только бы это содержало скверные мысли.
— Может быть, его уже схватили,— произнес я как в тумане, почти теряя сознание.
Мига было достаточно, чтоб осторожность сделала мне предупреждение и я изменил слово. Я испугался этого молодого человека, испугался того, что собирался сказать, и того, кем бы я мог стать, и того, что бы он мог сделать.
Речь моя зазвучала совсем по-иному и не соответствовала ни напряженности моего гневного решения (я едва скрыл это), ни окраске голоса, которым я намеревался высказать хулу, и он посмотрел на меня удивленно, словно бы разочарованный.
И тут я понял, что с самой же первой минуты знал, как поступит этот человек. Решив довериться кому-то в текии, избрав именно его, заранее отвергнув остальных, я словно бы решил, что лучше не вмешиваться, ибо был уверен, что он позовет солдат. Настолько уверен, что после молитвы в мечети долго блуждал по окрестным улицам, мне не хотелось видеть, как хватают и уводят беглеца. Я рассчитывал на бессовестность моллы Юсуфа. Я знал это и тем не менее почувствовал отвращение и презрение к нему. Он был исполнителем моего тайного желания, которое не было решением, решение принадлежало ему, однако даже если оно было моим, то осуществил его он.
Но может быть, я несправедлив. Если молла Юсуф в самом деле посчитал, будто я хочу передать беглеца солдатам, то его вина заключалась в послушании, но ведь это не вина. Его готовность быть жестоким еще вчера я назвал бы решительностью. Сегодня его укоряю. Не он переменился, а я, и, следовательно, все переменилось.
Любезностью я хотел отплатить за возможную несправедливость, о которой он не знал, но мне она мешала, хотя мое мнение о нем не очень изменилось, ненависть во мне не улеглась, и, может быть, я не вполне сумел ее скрыть.
Я сказал, что его Коран — истинно художественное произведение, а он взглянул на меня изумленно, почти испуганно, словно услышал угрозу. Может быть, потому, что искренняя приветливость у нас не в почете, а если и встречается, то всегда имеет корыстную цель.
— Тебе надо отправиться в Стамбул совершенствоваться в каллиграфии.
Теперь у него на лице появился настоящий испуг, который он ничем не смог скрыть.
— Почему? — тихо спросил он.
— У тебя золотые руки, жаль, если ты не выучишься всему, чему можно.
Он опустил голову.
Он не верил мне. Он думал, будто я ищу предлог удалить его отсюда. Я успокоил его, насколько это было возможно за столь короткое время, но в моей душе осталось странное чувство неловкости. Не был ли он полон недоверия ко мне и вчера, и в прошлом году, и всегда, но лишь сейчас его выявил? Неужели он тоже боится меня, как и я его?
Никогда раньше я так не думал, все меняется, когда человек выбит из колеи. А я не хотел выходить из колеи, менять угол зрения, ведь тогда я не буду тем, что я есть, а кем стану — никому не дано знать. Возможно, новым и неведомым существом, чьи поступки я не смогу уже ни определять, ни предвидеть. Неудовлетворенность — она как зверь: при рождении бессильна, а набрав силу, вселяет ужас.
Да, я хотел выдать беглеца солдатам, совесть моя спокойна. Беглец заключал в себе какой-то вызов, толчок, он манил в неизвестное, как сказочный герой, он воплощал собой мечту о храбрости, безумное упрямство и что-то еще более опасное, следовало задушить свои крамольные мысли, на его крови удержаться на месте, которое принадлежит мне, принадлежит по праву и совести.
Текия благодушествовала на солнце, в зелени плюща и сочных листьев, ее толстые стены и темно-красные крыши излучали прежнюю надежность, под стрехой слышалось тихое воркование голубей, оно проникло наконец в мою замкнутую душу, и я обрел покой, в саду пахло солнцем и горячей травой, у человека должна быть опора в жизни, дорогое ему место, оно должно служить ему защитой в мире, где на каждом шагу легко попасть в ловушку. Медленно, ступая всей ступней, я шагаю по неровному гравию, касаюсь рукой бархатистых шариков акации, слушаю журчащий говор воды, я вливаюсь в свой старый мир, словно оправившись после болезни, словно возвратившийся из дальних странствий путник, мысленно я бродил всю эту длинную ночь, а теперь день и солнце, и я вернулся, и все опять хорошо, я все обрел снова.
А когда я приблизился к месту, где мы расстались на рассвете, то опять увидел беглеца: смутная улыбка и насмешливое выражение на лице возникли передо мной в жарком мареве, рожденном днем.
— Ты доволен? — спросил он, спокойно глядя на меня.
— Я доволен. Я не желаю думать о тебе, я хотел тебя убить.
— Ты не можешь меня убить. Никто не может меня убить.
— Ты переоцениваешь свои силы.
— Не я переоцениваю, а ты.
— Знаю. Ты даже не говоришь. Ты, может быть, больше и не существуешь. Я думаю и говорю вместо тебя.
— Тогда я существую. И тем хуже для тебя.
Я пытался улыбнуться самому себе, беспомощно, почти сраженный. Пролетело мгновение с тех пор, как я торжествовал свою победу над ним и над тем, что он принес, а он уже ожил в моей памяти и стал еще более опасным.
Повешены ли замки на сердца их?
В длинной галерее, что, подобно квадратному обручу, опоясывала старый хан, люди загородили проход. Они толпились у дверей в одну из комнат, взволнованные, сбившись в кучу, образовав неправильный круг, в центре которого стоял солдат. Подходили еще люди, коридор наполнялся, словно забитый канал, пробегал шепот, негодующий и удивленный, у толпы был свой говор, иной, чем тот, которым пользовался каждый из этих людей в отдельности, он напоминал гудение пчел или рычание, слова исчезали, оставался лишь один звук, исчезали все настроения, оставалось общее — грозное.
Убили какого-то путника, купца, вчера вечером, сейчас приведут убийцу, его схватили утром, он сидел и спокойно пил, будто вообще не убивал человека.
Я не смел спросить, кто убийца, хотя его имя ничего бы мне не сказало. Боюсь, что я узнаю его, какое бы имя я ни услышал, ибо я думал только об одном. Почти не сомневаясь, я приписал это убийство моему беглецу. Он сделал это вчера, его преследовали, он укрылся в текии, а утром пошел пить, думая, будто он в безопасности. Я поразился тому, насколько узок круг, замыкающийся вокруг человеческой жизни, и как перекрещиваются тропы, по которым мы ходим. Случай привел его ко мне вчера вечером, а сейчас случай привел меня посмотреть на его конец. Вероятно, будет лучше, если понимание этого и доказательство скорой божьей справедливости я унесу в себе как символ и успокоение. Но я не мог уйти, я ждал, чтоб увидеть лицо, которое взволновало меня вчера, его разящую уверенность или, вернее, дерзость, чтоб позабыть о нем. Слушая тихий рассказ, как произошло убийство, ножом в шею и в сердце, я подумал, что впутался в грязную историю, что провел трудную ночь, терзаемый угрызениями совести, не чувствующий, что передо мной убийца, оскверненный встречей, униженный его словами, виноватый в том, что он убежал, что он мог не сделать такой глупости и не зайти в кабак.
Однако напрасно я винил себя и притворялся, будто испытываю отвращение. На самом деле мне стало легче, с души спал мучительный груз, исчез непрерывно давивший кошмар. Это убийца, мерзкий, жестокий убийца, который носит чужую смерть на острие ножа, просто так, за слово или за золото, всем сердцем я хотел, чтоб это было так, и я смогу тогда от него избавиться. Хотелось, чтобы пришло облегчение, и это удерживало меня здесь; я вытравлю его из себя, позабуду о безумной вчерашней ночи, огнем опалившей все, что было неприкосновенным. А убийца всего лишь несчастное существо, и безразлично, плюну я на него или пожалею, он может вызвать у меня только сострадание или презрение.
По приглушенным голосам, возбужденно гудевшим, словно тихий ветер (он мог принести и бурю и штиль),— голосам, полным ненависти, тревоги, трепетного любопытства, запаха крови, потаенного восхищения, в которых звучала готовность к насилию и мести, я понял, что ведут убийцу. Об этом свидетельствовали лихорадочные жесты, беспокойное топтание на месте, то и дело кто-то оглядывался при приближении новых людей, судорога сводила голоса, лишая их звука, перехватывая дыхание. В полной тишине раздавались шаги по плиткам коридора, и, не поднимая головы, я попытался уловить, одинаковы ли они по звучанию, а потом между двумя солдатами увидел его, вначале ноги — они были обуты, я поднял взгляд выше, ничего не помню из вчерашнего, кроме белой рубахи и заострившегося лица, руки его были связаны крест-накрест, посиневшие, с набухшими венами, их я не помнил совсем, взгляд мой остановился на худой шее, мне надо было уйти раньше, и без спешки, без особого усилия я перевел глаза на его лицо. Это был не тот человек, не вчерашний.
Я знал это, прежде чем увидел его.
Убийца стоял в центре круга бледный, спокойный, мне даже показалось, будто он ухмыляется уголками тонких губ, ему безразлично, что с ним происходит, возможно, он доволен, что люди на него смотрят. Солдаты раздвинули толпу и ввели его в комнату, где лежало тело убитого купца.
Я пошел по коридору, меня это не касалось. Я не удивился тому, что это оказался не он, в самом деле, это было бы невероятно, но я хотел, чтоб так было, ждал чуда. Может быть, я был несправедлив к нему, а может быть, и нет, я пытался связать внешние причины, забывая все, что сегодня утром и ночью думал о нем. Дело, однако, заключалось вовсе не в нем, а во мне. Я хотел освободиться от него. Это уже вторая попытка уничтожить его, наказать себя, стереть след, который он оставил. Я слишком был занят им, он настолько увлек мой дух, что я стал сомневаться, даже пожелал ему убежать от погони и сохранить свободу, подобно неукрощенной реке. Существовала одна возможность, редкая и необыкновенная, которую следовало сохранить. Так я считал и тут же раскаялся. Он вступил в мою жизнь в минуту слабости и был причиной и свидетелем предательства, мимолетного, но истинного. Поэтому мне хотелось, чтоб именно он оказался убийцей, тогда было бы легче. Убийство менее опасно, чем мятеж. Убийство не может служить примером и побуждать к действию, оно вызывает осуждение и презрение, его совершают внезапно, когда забывают о страхе и совести, оно омерзительно, это страшное напоминание о живучести низменных инстинктов, которых люди стыдятся так же, как стыдятся недостойных предков и родственников-преступников. А мятеж заразителен, он сродни геройству и, может быть, таковым и является, ибо сопротивление и несогласие привлекательны, их несут пылкие головы, погибающие за красивые слова, они все ставят на карту, ибо у них все ненадежно. Поэтому тот беглец так привлекателен, ведь иногда привлекательной и прекрасной кажется любая опасность.
Отец стоял посреди комнаты, он молча вошел в дверь и ждал.
Я знал, что нужно сделать — подойти и обнять его, не медля и не колеблясь. Тем самым все между нами было бы решено самым лучшим и самым простым образом, я развязал бы все узлы, свои и его, и после этого мы почувствовали бы себя сыном и отцом. Но трудно было протянуть руки и обнять этого седого человека, который совсем не напрасно стоит посреди комнаты, боясь этой встречи. Мы оба были взволнованы, не знали, как вести себя и что сказать друг другу, между нашей последней встречей стояли многие годы, и каждому из нас хотелось скрыть, что жизнь развела нас в разные стороны. Долгое мгновение мы смотрели друг на друга, лица его коснулась старость, взгляд был прикован ко мне, от того, прежнего, ничего не осталось, все приходилось домысливать: острые застывшие черты, твердый голос, простота сильного человека, которому не мешают руки, я пытался представить его себе таким, каким долго носил в памяти. И один бог знает, каким он увидел меня, что искал и что нашел. Мы были чужими людьми и не хотели этого показать, мучительно тревожила мысль о том, что должно было быть, что мы могли, а чего не могли сделать.
Я нагнулся, чтоб поцеловать ему руку, как полагалось сыну, но он не разрешил, мы схватили друг друга за локти — просто знакомые, и это, пожалуй, было лучше, стало теплее и как-то естественнее. Но когда я почувствовал его еще сильные руки на своих, когда я вблизи увидел его серые влажные глаза, когда вдохнул его крепкий, дорогой мне еще с детства запах, я позабыл о нашем смущении и, как ребенок, прильнул головой к его широкой груди, вдруг растроганный чем-то, что считал давно исчезнувшим. Может быть, меня взволновало, что я прикоснулся к нему, возможно, это прикосновение оживило затаившиеся воспоминания, запах озера и колосьев, а быть может, виной всему было его волнение, я чувствовал, как у него дрожит ключица, в которую я уперся лбом, я был не властен над своими чувствами, природа одолела меня, и из глаз моих потоком полились слезы. Продолжалось это мгновение, и не успели еще просохнуть слезы, как я уже устыдился своего забавного детского поступка, ибо он не соответствовал ни моему возрасту, ни одеянию, что я носил. К своему удивлению, спустя много времени я вспоминал эти минуты своей постыдной слабости с чувством бесконечного облегчения: на какое-то мгновение я ушел от всего и вернулся в детство, под чью-то защиту, освобожденный от груза лет, событий, поисков мучительной определенности, все было отдано в более сильные, чем у меня, руки, я был ребенком, которому не нужна сила, он защищен всемогущей любовью. Я хотел рассказать отцу, как вчера вечером я бежал по улицам, напуганный грешным возбуждением людей, один, отравленный странными мыслями, так бывало всегда, когда я был растерян и несчастен, словно бы тело искало выхода из мучений, и все это из-за брата, а он, отец, тоже приехал ради него, я знаю, и я хотел рассказать ему, как в текии укрылся беглец, и я не знал, что делать, во мне все сместилось, поэтому я пытался наказать и себя, и беглеца сегодня утром, сейчас, хотя теперь это не имеет значения, ничто больше не стоит на своем месте, и вот я ищу прибежища на отцовской груди, как когда-то в детстве.
Но схлынула нежность, быстро, как сверкание молнии, я увидел перед собой старого человека, взволнованного и напуганного моими слезами, я сам понял, как это несерьезно и как они неуместны. Они могут убить в нем всякую надежду, ведь он думал только об одном. Или он может решить, что я ничего не добился в жизни, а ведь это неправда. Мне было ясно, что он ничего не поймет из того, что я хотел сказать ему, и не только хотел, а просто страстно желал этого, как может желать ребенок или немощный человек: только сразу же помешали бы его полные ужаса глаза и всегда настороженный мой разум. Мы ждали друг от друга одного и того же, он — надеясь на мою, я — на его силу, и оба были бессильны, и вот что наполняло печалью эту ненужную встречу.
Я спросил, почему он не пришел в текию, ведь у нас останавливаются даже незнакомые путники, а он знает, как бы я обрадовался. Люди тоже удивятся, зачем он искал ночлега в другом месте, мы же не рассорились, не забыли друг друга. Да, на постоялом дворе неудобно, хан — пристанище для разного люда, он годится лишь для тех, у кого нет близких, бог знает кто туда приезжает, кто уезжает — разный нынче народ пошел.
Но на все мои упреки, отодвигавшие то, что должно было наступить, он отвечал одно: поздно приехал вчера вечером, боялся помешать.
Когда я спросил, знает ли он об убийстве в хане, он махнул рукой. Знает.
Перебраться в текию не согласился, после полудня он отправится назад, переночует у свояка в деревне.
— Останься на день-другой, отдохни.
Снова отмахнулся он и покачал головой. Прежде он говорил красиво, не спеша, на все находил время, укладывая слова в тщательно подобранные фразы, покой и уверенность излучало его тихое, неторопливое повествование, оно возвышало его над происходящими явлениями, держало всех в напряжении, он верил в звук и смысл слов. Сейчас этот беспомощный жест означал капитуляцию перед жизнью, отказ от слов, которые уже не смогут ни воспрепятствовать несчастью, ни объяснить его. И он отгораживался этим жестом, прятал свою растерянность от сына, с которым разучился разговаривать, прятал свой ужас от города, встретившего его преступлением и тьмою, свою беспомощность перед бедами, омрачившими старость. Он хотел только одного — сделать свое дело, ради которого пришел, и сразу же бежать отсюда, из этого города, который лишил его всего, что у него было: сыновей, уверенности, веры в жизнь. Он оглядывался по сторонам, смотрел под ноги, сжимал изуродованные пальцы, прятал глаза. Мне было жалко его и грустно.
— Разбросало нас,— говорил он,— только беды и собирают.
— Когда ты услышал?
— На днях. Погонщики сказали.
— И ты сразу отправился? Испугался?
— Пришел поглядеть.
Мы говорили об арестованном брате и сыне как о мертвом, не называя его по имени, он, заточенный, свел нас. Мы думали только о нем, разговаривая об ином.
Теперь отец смотрел на меня со страхом и надеждой, все, что я скажу, будет для него равносильно приговору. Он не говорил о своем страхе, об ожидании, суеверно боясь сказать что-либо определенное, опасаясь злой магии слов. Лишь последнюю причину, заставившую его прийти сюда, он высказал так:
— Ты здесь человек известный, знаешь всех важных людей.
— Нет никакой опасности. Он болтал то, что не следовало.
— Что болтал? Разве за слова тоже сажают?
— Сегодня я пойду к муселиму. Узнаю причину и буду просить о милости.
— Может, и мне пойти? Я скажу, что они ошиблись, арестовали честнейшего, он не может сделать ничего плохого, встану на колени, пусть видят горе отца. Заплачу, если нужно, все продам и заплачу, только пусть его выпустят.
— Выпустят, не нужно тебе никуда идти.
— Тогда я подожду здесь. Не уйду с постоялого двора, пока ты не вернешься. И скажи им, что у меня он один и остался. Я надеялся, он вернется домой, чтоб не погас мой очаг. И все бы я продал, ничего мне не нужно.
— Не беспокойся, все будет хорошо, божьей милостью.
Я все выдумал, кроме милости аллаха, у меня не хватало смелости лишить его надежды, я не мог сказать, что ничего не знаю о брате. Отец жил в наивной вере, что достаточно одного моего присутствия и авторитета — и брат будет спасен, и я не стал ему рассказывать, что мое присутствие не помогло, а моя репутация тоже поставлена под сомнение. Разве он сможет понять, что часть вины брата перешла на меня?
Я покинул хан, придавленный обязательством, которое взял на себя из сострадания и не знал, как выполнить, меня принудило к этому слово, случайно, в горе вырвавшееся у отца. Никогда он не произнес бы его, владей он собой, по одному этому я понимал, каково его горе. Я осознал, что он расстался и со мною, я для него больше не существую, словно я уже умер, он оставил лишь одного сына в живых. Так следовало мне и говорить людям: я мертв, только один сын остался у отца, верните его отцу. Меня нет. Мир душе грешного дервиша Ахмеда, он скончался и только кажется живым. Никогда не услышал бы я этих слов, если бы печаль не привела отца в беспамятство, теперь я их знаю и смотрю на него чужими глазами. Неужели путь, избранный мною, так незначителен для моего отца, что он заживо похоронил меня? Неужели то, что я делаю, для него ничего не значит, неужели мы так далеки и такие разные, стоим совсем на противоположных концах, что он даже не признает моего существования? Даже печали оттого, что он потерял меня, я не заметил у него, он так давно и окончательно примирился с этой потерей. Может быть, я преувеличиваю, может быть, отец и ради меня, случись у меня беда, поспешил бы ко мне и думал бы только обо мне, ведь беспокоятся всегда о тех, кому тяжелее.
Что же вдруг случилось, какой камень вдруг подточило в основании — и все начало рушиться и оползать? Жизнь казалась прочным зданием, в нем не было ни одной трещины, и вот внезапно — землетрясение, бессмысленное и непонятно чем вызванное, и гордое сооружение рухнуло словно карточный домик.
С горы, из цыганского квартала, забравшегося ввысь, к самой вершине, доносились приглушенные удары барабана, пищала зурна, радость праздника ливнем обрушивалась на городок, от нее некуда было скрыться.
Глупцы, думал я, весь во власти вчерашнего гнева. Они и не подозревают, что в мире существуют более важные вещи.
Правда, в моем гневе уже не было того горения, что вчера. Собственно, я не испытывал гнева, лишь чувствовал себя оскорбленным. Это безудержное веселье — помеха, оно несправедливо и как бы усугубляет мои заботы. Я целиком погрузился в них, они стали моим миром, моей жизнью, вне забот ничего иного не существовало.
Предстояло совершить непреодолимо трудное дело, мне казалось, будто я стою перед преступлением или делаю первые шаги в жизни. Но я должен сделать это ради себя — ведь я брат ему, ради него — он брат мне, и я не стал бы искать другой, более веской причины, я бы довольствовался тем привычным, что так красиво звучит и все само собой объясняет, не будь во мне этой тревоги, этой напряженности, полной самых мрачных предчувствий, которая заставляла меня буквально зеленеть от гнева при мысли об арестованном брате: зачем он мне это навязал? Вначале я пытался прогнать эгоистические мысли. Нехорошо, твердил я себе, что его беду ты считаешь только своим несчастьем, в вас течет одна кровь, ты обязан ему помочь, не думай о себе.
Это было бы самое лучшее, и я бы смог гордиться своим благородством, но мне никак не удавалось избавиться от тревоги за себя. И я объяснял своим беспомощно чистым мыслям: да, он тебе брат, но именно поэтому-то тебе и тяжело, ведь он и на тебя бросил тень. Люди смотрели на меня с подозрением, с насмешкой, иногда с сожалением, некоторые отворачивались, боясь встретиться взором. Это невозможно, убеждал я себя, тебе только кажется, всем ведь известно, что поступок брата, каков бы он ни был, не твой поступок.
Все тщетно, людские взгляды были не такими, как прежде. Мне трудно стало их выдерживать, они беспрестанно напоминали о том, что мне хотелось бы скрыть от всех. Человек безуспешно стремится быть чистым и свободным, кто-то из своих же близких осложняет ему жизнь.
Из чаршии я свернул на дорогу вдоль речки и шел по ее течению, между садами и старицей, народ там не задерживался; хорошо бы отправиться вслед за рекою подальше за город, в поле, в горы, я понимаю, как скверно, когда человек хочет бежать, но мысль стремится освободить себя, когда ей невыносимо. В неглубокой воде стайками носились серебристые мальки, мне подумалось, что они никогда не вырастут и что это хорошо. Я упорно смотрел на них, шел не останавливаясь, как бы держался за них, хотя мне сюда и не надо было идти, а совсем в другую сторону, но я не отходил от реки — время неприятностей никуда не уйдет от тебя.
Хорошо быть бродягой. Всегда можешь встретить хороших людей, милые сердцу пейзажи, будет у тебя ясная душа, открытая широкому небу и свободной дороге, никуда не ведущей, ибо она повсюду. Вот только место, которое ты занимаешь, удерживает тебя.
Уходи от меня, мерзкая немочь, ты обманываешь меня лживыми картинами, не приносящими облегчения, они не являются даже моими желаниями.
За спиной, словно из-под земли, раздался глухой гул. Огромное стадо в облаке пыли двигалось по берегу.
Я свернул в ворота чьего-то сада, чтоб пропустить стоглавую рогатую массу, слепую и безумную, с невидящими глазами мчавшуюся под бичами погонщиков.
Впереди стада на коне ехал Хасан в красном плаще, статный, веселый, только он один был спокойный и улыбающийся в этой суматохе, среди тревожного мычания, криков и брани, катившихся по речной долине.
Он совсем не менялся.
Он тоже узнал меня и, отделившись от стада, от погонщиков, от пыльного облака, подскакал ко мне.
— Вот тебя-то мне и не хотелось бы затоптать! — смеясь, крикнул он.— Будь кто другой, не пожалел бы.
Он соскочил с лошади, легко, словно только что тронулся в путь, и крепко обнял меня. Странное и смутное чувство испытал я, ощутив цепкие его руки у себя на плечах: как всегда, он открыто проявлял свою радость. Она-то меня и удивляла, его радость. Радовался ли он встрече со мной или это было пустое расточительство, так он ведет себя со всеми и с каждым? Бездумная радость жизни, льющаяся, как вода, ничего не стоящая, ибо принадлежит всем и никому.
Он возвращался из Валахии, многие месяцы пробыл в дороге, я спросил его, хотя знал об этом, только бы что-то сказать. Вчера вечером я был готов вступить в сделку с его собственной сестрой.
— Почернел ты,— сказал он.
— Заботы.
— Знаю.
Откуда он мог знать? Почти три месяца бродил по чужим странам, прошел тысячи миль, торгуя, едва успел вернуться — и уже знает. А я-то надеялся, что еще не все местные жители слышали об этом. О бедах и несчастьях всегда узнают быстро, только добрые дела скрыты от взоров.
— За что он арестован?
— Не знаю. Я не верю, что он мог совершить преступление.
— Знал бы, если б совершил.
— Он был спокойным,— ответил я, не поняв его.
— Наши люди живут спокойно, а беда приходит внезапно. Мне жаль и его и тебя. Где он сейчас?
— В крепости.
— А я поклонился ей издали, не зная еще ничего. Вечером зайду в текию, если не помешаю тебе.
— Разве ты можешь помешать!
— Как хафиз Мухаммед?
— Хорошо.
— Он нас всех похоронит! — Хасан снова рассмеялся.
— Будем ждать тебя вечером.
Его пустая, бесплодная доброта не поможет мне и не помешает. Все в нем пустое, бесполезное: и спокойный нрав, и веселое настроение, и быстрый ум, поверхностный и не греющий. Но он оказался единственным человеком в нашем городке, который сказал мне слова сочувствия, они хоть и бесполезны, но наверняка искренни. И опять-таки, стыдно сказать, я воспринял их как милостыню бедняку, не согрели и не тронули они меня.
Он уехал впереди воловьих рогов, опущенных, словно для нападения, окутанный пылью, которая серым пузырем плыла над гуртами, прикрывая их.
Я немного сторонился его из-за вчерашнего и из-за того, что меня ожидало.
Мысленно я перешел по деревянному мосту на другой берег, в тишину безмятежных улиц, где одиноко звучат шаги, а дома прячутся в ветках деревьев за высокими заборами, будто все они избегают друг друга, погружаясь в уединение и покой. У меня не было на том берегу никаких дел, но мне хотелось пойти туда, отложив все, до того, как я на что-то решусь. Возможно, мне и удалось бы углубиться в эти мертвые, притаившиеся улочки на другой стороне реки, где было легче, но вдруг из чаршии донеслись испуганные звуки барабана, не такие, как у цыган, и писклявый звук трубы на Сахат-куле не вовремя, и смятенные размытые голоса, к чему-то взывавшие, чем-то это напоминало потревоженный улей, гудели взволнованные людские пчелы, улетали, ища спасения, возвращались, чтобы защищаться, выкликая ругательства и призывая на помощь. Над городом медленно поднялась серая полоска дыма, словно в тонкую прядь вплели человеческий крик, он стал осязаемым, видимым, а вокруг него носились стаи голубей, взметенных ввысь воплями и жаром.
Вскоре столб дыма разросся, поплыл над домами, густой и черный. Это значило, что пламя вырвалось, безжалостное, жестокое и буйное, с нескрываемой радостью перепрыгивая с крыши на крышу, паря поверх воплей и ужаса людей.
Я задрожал, видя это несчастье, повинуясь инстинкту: извечно нам угрожает беда, извечно приходит горе, а потом я снова отгородился своей бедой, она была тяжелее всего, важнее, даже с удовольствием я уже стал смотреть на огонь, надеясь, что люди окажутся бессильны перед ним и таким образом решится все, в том числе и мое дело. Однако это было минутное безумие, вскоре оно миновало.
И вот когда наконец нашлось достаточно оснований свернуть с дороги и не делать того, что собирался, я вдруг решил не откладывать. Размышлял я недолго, но, должно быть, ожила в душе моей надежда, что легче просить милосердия при таком несчастье, оно напомнило людям, как хрупки и бессильны они перед волей аллаха.
Я имею право знать о родном брате столько, сколько мне скажут, сколько сказали бы каждому, я обязан помочь ему, если это возможно. Дурно оставаться в стороне, любой может меня упрекнуть в этом. Кто у меня есть, кроме него? И кто у него, кроме меня?
Я ободрял и оправдывал себя, утверждая свое право и подготавливая отступление. Я не забывал о том, какие думы одолевали меня, боялся за себя и сожалел о нем, не зная, что важнее, и никак не мог отделить одно от другого.
Перед полицейским управлением стоял солдат, у него была сабля и короткий пистолет за поясом. Мне никогда не доводилось здесь бывать и даже в голову не могло прийти, что вооруженный солдат явится препятствием.
— Муселим у себя?
— На что тебе?
Втайне я надеялся, что не застану муселима, в городе пожар, да и других дел у него немало, странно было бы, если б он оказался здесь как раз тогда, когда я ищу его, может быть, эта сокровенная мысль и заставила меня прийти, муселима не будет на месте, и я уйду, отложив свой визит. Но когда солдат, не снимая руки с пистолета, дерзко спросил о том, что его не касалось, во мне проснулось негодование, моя тревога словно нашла выход, воспользовавшись первым попавшимся поводом. Я дервиш, шейх текии, и рядовой солдат не смеет встречать меня, держа руку на пистолете, хотя бы из уважения к одеянию, которое я ношу. Я был оскорблен, но лишь много позже мне пришла в голову мысль, что за свой страх мы мстим всюду, где удается. Вопрос был грубым, он свидетельствовал о его праве и его значительности, подчеркивал мое ничтожество, и даже орден, как я понял, к которому я принадлежу, не внушал ему почтения. Но все это не могло послужить для меня основанием, чтоб повернуться и уйти. Скажи он, что муселима нет или что он сегодня не принимает, я был бы ему благодарен и ушел с облегчением.
— Я шейх Мевлевийской текии,— тихо, едва сдерживая гнев, ответил я.— Мне нужно повидать муселима.
Солдат смотрел спокойно, он не был смущен моими словами, настороженный, оскорбительно безучастный к тому, что я сказал. Меня испугало его волчье спокойствие, в голову пришла мысль, что вот так, без волнения и злобы, он мог бы выхватить пистолет и убить меня. А мог пропустить к муселиму. Вчера вечером он преследовал моего беглеца, отвел моего брата в крепость, значит, он виноват перед ними. А они виновны передо мной, из-за них я сейчас стою здесь.
Не торопясь, будто еще чего-то ожидая от меня, брани или мольбы, он кликнул другого солдата из коридора и сказал ему, что какой-то дервиш хочет пройти к муселиму. Меня не обидело это обезличивание, возможно, так лучше. Теперь муселим откажет не мне, а безымянному дервишу.
Мы ждали, пока это сообщение пройдет по всем коридорам и вернется обратно. Солдат снова занял свое место, на меня он не глядел, а руку держал на пистолете, его не касалось, примут меня или откажут, от его смуглого худого лица исходило спокойное небрежение, рожденное осознанием важности доверенной ему службы.
Ожидая ответа, я уже раскаивался в том, что решил любой ценой преодолеть это препятствие, думая, как оно ничтожно, а оно оказалось самим муселимом, его вытянутой вперед рукой. Теперь я не мог уйти, я сам себя приковал к этому месту, поставил себя в такое положение, когда меня должны или пропустить, или отказать. Не знаю, что хуже. Я хотел заглянуть к муселиму — мы были с ним знакомы — и завести как бы мимоходом разговор о брате. Теперь это невозможно, я привел в движение целую цепочку людей и требовал, чтобы муселим принял меня, теперь уже разговор не мог быть мимолетным, он приобретал серьезный характер. И если я буду говорить вполголоса, униженно, это будет равносильно признанию в собственной трусости. А мне хотелось сохранить и достоинство, и осторожность. Дерзость здесь не поможет, да я и не способен на это, унижение оскорбит меня, я чувствовал это всей своей плотью.
Лучше, если он откажет мне, я был растерян, неподготовлен, тщетно пытался придумать, как буду говорить, пытался представить, с каким выражением на лице я войду в комнату, мне виделись лишь искаженные черты перепуганного человека, не понимающего, что заставляет его сделать решающий шаг: любовь ли к брату, страх ли за самого себя, внимание ли к отцу,— черты человека, испытывающего такой трепет, словно он совершает что-то недозволенное, словно во всем сомневается. В чем же я сомневался? Я и сам не знал, потому и говорю: во всем.
Мне предложили войти.
Муселим стоял у окна, глядя на пожар. Когда он повернулся, я увидел, что он растерян, в его взгляде не было меня, мне показалось, что он меня не узнал. И не было поддержки в его неподвижном лице.
На мгновение, пока я смотрел в его неприятные, отталкивающие глаза, готовые вынести мне приговор, я почувствовал себя преступником. Я находился между ним и совершённым неведомым преступлением, и он толкал меня от себя к преступнику.
Я мог повести наш разговор разными путями, если б не волновался. Спокойно: я пришел не для того, чтобы защищать, а для того, чтобы осведомиться. Широко: он виноват, раз он арестован, но не могу ли я узнать, что он совершил? С чувством умеренной оскорбленности: арестован, ладно, но следовало бы и мне об этом сообщить. Надо было выработать какой-то план, придумать какое-то начало, проявить больше твердости, а я избрал худший вариант, даже не избрал, он получился сам собой.
— Я хотел спросить о брате,— запинаясь, неуверенно проговорил я, начав совсем не так, как следовало начинать, сразу открыв свое слабое место, не успев создать благоприятное впечатление и подготовить благоприятный прием. Его тяжелое непроснувшееся лицо заставило меня выложить все, как есть, все сразу, чтоб он узнал меня, чтоб заметил.
— О брате? О каком брате?
В его глухом вопросе, в безжизненном голосе, в его удивлении — как это я мог предположить, будто он знает о столь незначительном деле,— я почувствовал, что брат и я уменьшились до размеров пылинки.
Да простят мне все благородные люди, более храбрые, чем я, все добрые люди, которым не довелось пережить искушение позабыть о собственной гордости, но я должен сказать — и ничто не помогло бы мне, если б я скрыл правду от себя,— меня не оскорбила его намеренная грубость и то ужасное расстояние, которое он установил между нами. Меня это просто испугало, ибо все было неожиданно, я ощутил тревогу и опасность, брат не явился возможной формой контакта между нами, надо было вызвать его к жизни и поскорее определить степень вины. Но что мог я сказать, чтоб не повредить брату и не оскорбить муселима?
Я сказал, что сожалею о случившемся, горе сразило меня, подобно кончине близкого человека, судьба не уберегла меня от несчастья видеть родного брата там, куда уводят грешников и врагов, люди смотрят на меня, не скрывая удивления, словно и на мне лежит доля его вины, на мне, долгие годы свято служившем господу и вере. И, не успев закончить, я знал, как это мерзко, я совершал предательство, но слова текли легко и искренне, жалоба на судьбу звучала сама собой, до тех пор пока сетования мои не набрали силу и громкость, и тогда этот сладкий плач по самому себе стал мне противен из-за собственной трусости, истинную причину которой я не понимал, из-за собственного эгоизма, подавившего все иные мысли. Нет, что-то еще звучало во мне: как все скверно, неужели ты пришел затем, чтоб защищать себя, но от чего, опасности подвергается брат, позже ты будешь стыдиться этого, ты ухудшишь его положение, замолчи, уйди, скажи и уйди, скажи и останься, взгляни ему в глаза, он только пугает тебя ликом идола, подави беспричинный страх, тебе нечего бояться, не позорь себя причитаниями и перед ним, и перед самим собой, скажи то, что ты должен сказать.
И я сказал. Брат, как я слышал, совершил нечто, что, может быть, не подобало, я не знаю, но не верю, что это серьезно, поэтому я прошу муселима вмешаться, дабы узнику не приписывали того, чего он не совершал.
Мало я сказал, недостаточно храбро и недостаточно благородно, но это было все, что я мог. Тяжкая усталость одолевала меня.
Его лицо было непроницаемо: ни гнева, ни понимания я не обнаружил на нем, его губы готовы были произнести слова и осуждения и милосердия. Позже я смутно припоминал, что в ту минуту подумал, в каком ужасном положении находится любой проситель: в силу необходимости он ничтожен, мелок, придавлен чужой ступней, он виновен, унижен, во власти чужого каприза, он жаждет непредвиденной доброжелательности, он подвластен чужой силе, от него ничего не зависит, он не осмеливается выразить ни страха, ни ненависти — это может его погубить. Под тусклым взглядом, который почти не различал меня, я не надеялся услышать доброго слова или снискать милосердия, я стремился поскорее уйти, пусть все решится по воле аллаха.
В конце концов муселим заговорил, а мне было уже все равно, заговорил столь же невыразительно, как и молчал, ибо за многие годы привык быть непроницаемым и презрительным, но мне и это стало безразлично. Во мне росло отвращение.
— Брат, говоришь? Арестован?
Я взглянул в окно: пожар потушили, лишь дым, вялый, черный дым, тянулся над чаршией. Жаль, что пламя не уничтожило все.
— Знаешь ли ты, почему он арестован?
— Я пришел узнать у тебя.
— Так, ты не знаешь, почему он арестован. И приходишь просить независимо от того, что он совершил.
— Я не пришел просить.
— Хочешь ли ты его обвинить?
— Нет.
— Можешь ли ты назвать свидетеля за или против него? Назвать других виновников? Или соучастников?
— Не могу.
— Чего ты тогда хочешь?
Он говорил лениво, делая паузы, отворачивал голову, словно был обижен, словно ему было мучительно, что приходится объяснять такие очевидные вещи и что он вынужден терять время с человеком, лишенным разума.
Меня охватил стыд. Из-за страха, из-за его презрения, из-за его права на грубость, из-за его скуки, которую он не скрывал, из-за того, что он унизил меня, что он разговаривал со мной так, будто я носильщик, подмастерье, закоренелый злодей. Я привык слушать, не возражать, гнуть спину, даже то, что я спрашивал о брате, показалось мне почти преступлением, однако наглость этого жестокого человека, а может быть еще больше, его плебейская неучтивость подавили во мне все мои давние привычки. Я чувствовал, что зеленею от ненависти, понимая при этом, как она бесполезна. Ему безразлично, мне — нет, он к этому и стремится, он полон, даже не то что полон, он извергает отвращение к людям. Не знаю, почему он стремится создавать врагов, меня это не касается, но как он смеет так вести себя по отношению ко мне? Меня еще тешила мысль о значении ордена, к которому я принадлежал, о важности моего звания.
Люди живут спокойно, а умирают внезапно, сказал этот странный гуртовщик Хасан, который никогда не попадет впросак. Я тоже думал, будто уже перестал удивляться чему бы то ни было.
— Чего я хочу? — спросил я, изумляясь самому себе и понимая, что говорю не то, что следует.— Не стоило это говорить. Разве это преступление — расспросить о брате, что бы он ни совершил? Это мой долг по божьим и человеческим законам, любой сможет плюнуть мне в лицо, если я пренебрегу своим правом. И всем нам, если это право мы подвергнем сомнению. Неужели мы стали животными или того хуже?
— Тяжелы твои слова,— ответил он внешне столь же спокойно, только глаза его сузились под тяжелыми веками.— На чьей стороне право? Ты защищаешь брата, я — закон. Закон строг, я служу ему.
— Если закон строг, разве должны мы быть волками?
— Разве по-волчьи надо защищать закон или нападать на него, как делаешь ты?
Я хотел возразить, что быть беспредельно жестоким — это по-волчьи. Человеку легко причинить зло. Слава богу, что я не принял его вызов, у него была потребность доводить людей до безумия, он получал от этого удовольствие.
Я был подавлен, гнев мой скоро прошел, его сменило раскаяние оттого, что я поспешил, а это вообще мне не свойственно. Я отвечал резко, был взволнован и не смог обуздать необдуманные порывы. Поступки, совершаемые в гневе, обычно вредны: глупый героизм, самоубийственное упрямство сверх меры быстро проходят, оставляя недовольство собой. И приходят запоздалые размышления, которые ни к чему не ведут.
Произошло то, чего я больше всего боялся: мне сказали, что я защищаю брата, противопоставляя себя закону. Если это на самом деле так, если кому-то так кажется, хотя я знаю, что все иначе, если люди подумают, что свою личную потерю я ставлю выше всего, меня окружающего, тогда все обернулось самым худшим образом и мои неясные опасения оправдались. А невыносимо то, что, по существу, я не защищал брата, а лишь в какой-то момент, потеряв самоконтроль, возмутился ужасной жестокостью, ведь я не был ни на его стороне, ни на стороне муселима. Я был нигде.
Мне приятно, что близится полдень и я не останусь один, с помощью молитвы я отгорожусь от сегодняшнего дня, оставлю мучительные размышления у дверей мечети, они наверняка подождут меня, и по крайней мере какое-то время я проведу без них.
Когда я встал перед несколькими верующими и начал молитву, я сильнее, чем когда бы то ни было, ощутил покровительственный покой этого близкого мне места, густой теплый аромат растаявшего воска, целебную тишину белых стен и закопченного потолка, материнскую нежность солнечных лучей, вспыхивающих на золотистых пылинках. Это мои владения, вытертые ковры, медные подсвечники, михраб, где я преклоняю колена перед погруженными в молитву людьми, моя тишина и моя безопасность, многие годы я здесь свой, я знаю узоры ковров у себя под ногами, они стерлись и выцвели, я оставил свой след на том, что долговечнее нас, изо дня в день я выполняю свои священные обязанности в этом доме, который стал моим, нашим и божьим, тая от самого себя, что больше всего он принадлежит мне. Но в тот день, в тот полдень, освобожденный от кошмара, возвращенный из странного мира, к которому я не привык, в свой покойный свет, я не просто выполнял свои обязанности, я был убежден, что не служу никому, а все служат мне, прикрывают и исцеляют меня, стирая следы дурного, смутного сна. Я наслаждался знакомой молитвой, чувствуя, что обретаю потерянное равновесие — из-за всего этого, что годами является моим, из-за родных запахов, неясного людского говора, приглушенного стука коленей об пол, из-за молитв, всегда одинаковых, из-за круга, что смыкался повсюду, давая защиту, служа крепостью, оправдывая меня и утверждая. Не прерывая молитвы, читая ее по привычке, я следил за солнечным лучом, который пробивался сквозь стекло и тянулся от окна к моим рукам, словно танцуя, бросая мне вызов; я слышал громкий сварливый щебет воробьев перед мечетью, непрерывное их чириканье, желтых, как, казалось мне, желты нивы и солнце; и что-то теплое и радостное окружало меня, пробуждая воспоминания о том, что такое, не помню когда, не помню где, уже существовало, не было нужды оживлять его, оно оставалось живым, сильным и дорогим, как когда-то, как никогда, неоформившееся и поэтому всеобъемлющее, оно было, я знаю, может быть, в детстве, которое больше не существует в памяти, но оно есть в сожалении или, возможно, в желании его иметь — прозрачное, неторопливое, как раскачивание на качелях, как тихое течение воды, как спокойный шум крови, как солнечная беспричинная радость; я знал, что грешно забываться во время молитвы, предаваясь сладости, нисходящей на тело и мысли, но не мог избавиться от всего этого, мне не хотелось прекращать странное погружение.
А потом оно кончилось само собой.
Мне показалось, что за моей спиной среди молящихся стоит мой вчерашний беглец. Я не смел повернуться, но был уверен, что он в мечети, вошел после меня, я его не заметил. Голос его звучал не так, как у остальных, был более глубоким и мужественным, молитва не была просьбой, но требованием, взгляд был острым, движения гибкими, звали его Исхак, так я назвал его, поскольку он находился здесь и поскольку я не знал его имени, а должен был знать. Он пришел ради меня, чтоб поблагодарить меня, или ради себя, чтоб спрятаться. Мы останемся вдвоем после намаза, и я спрошу его о том, о чем не спросил вчера. Исхак, повторял я, Исхак — это имя моего дяди, которого, еще ребенком, я очень любил, Исхак, не знаю, какую установить между ними связь, как и почему я так упрямо призываю детство, наверняка это желание уйти от действительности. Уйти от того, что есть, спастись в бессознательном воспоминании и безумном желании избежать реальности — желании неосуществимом, оно ввергло бы меня в отчаяние, окажись оно реальной мыслью, а так оно даже и воплощалось по временам, искаженно, в туманных восторгах, в которых тело и неведомые внутренние силы искали утраченное спокойствие. В тот момент я не сознавал, что век забвения короток, но, когда родилась мысль об Исхаке, я понял, что мой покой снова нарушен, ибо Исхак тоже принадлежит к тому миру, о котором я не желал думать и, может быть, поэтому хотел отодвинуть его в область далеких снов, отделить его от времени и эпохи, в которых мы не могли быть вместе. Я хотел обернуться, моя молитва стала пустой из-за Исхака, лишилась содержания, оказалась более длинной, чем прежде.
О чем мне говорить с ним? О себе он не хотел ничего рассказывать, в этом я убедился вчера. Будем говорить обо мне. Сядем здесь, в этом пустынном пространстве мечети, в центре мира и вне его, одни, он будет улыбаться своей уверенной далекой улыбкой, которая, собственно, не улыбка, а пронизывающая холодность, и взгляд его, что все видит, но ничему не удивляется, он будет внимательно слушать меня, углубившись в созерцание узора на ковре или солнечного луча, упрямо пробивающего искристую тень, и откроет мне правду, от которой станет легче.
Воображая себе нашу беседу, я оживлял его образ, не удивляясь тому, как много я запомнил в нем, и ждал, пока мы останемся одни, как вчера, чтоб продолжить необыкновенную беседу, не таясь. Этот беспокойный, бунтующий человек, думающий противоположно тому, как думаю я, благодаря капризам непоследовательности казался мне личностью, на которую я мог бы опереться. Все, что он делал, было безумством, все, что он говорил, было неприемлемо, но только ему мог бы я открыться, ибо он обездолен, но честен, он не знает, чего хочет, не знает, что делает, он убьет, но не обманет. И, создавая в своем сердце чудесные черты абсолютно незнакомого человека, я не замечал, какой путь прошел со вчерашнего дня. Сегодня утром я хотел выдать его стражникам, а в полдень оказался на его стороне. Однако и утром я не был против него, да и сейчас, быть может, сообщил бы о нем, и это не имеет между собой никакой связи или имеет, но навыворот, наоборот. Собственно, я был лишь уверен в том, что он, Исхак, мятежник, мог бы объяснить мне некоторые вещи, завязавшиеся в тугой узел. Он один. Не знаю почему, может быть, из-за того, что он страдал, в мучениях приобретал опыт, что мятеж освободил его от принятого образа мышления, которое сковывает, что у него нет предрассудков, что он покончил со страхами, что он пошел по пути, где нет выхода, что он уже осужден и лишь героически отодвигает свою гибель. Такие люди много знают, больше, чем мы, ползающие на коленях, вызубрившие правило бояться греха, привыкшие к страху перед любой возможной виной. И хотя я лично даже в мыслях никогда не встал бы на путь отступничества, я очень хотел услышать его правду. О чем?
Не знаю.
Я скажу ему так.
Я двадцать лет дервиш, ребенком я пошел в школу и не знаю ничего, кроме того, чему меня хотели научить. Меня учили слушать, терпеть, жить во имя веры. Лучше меня люди были, но более верных — немного. Я всегда знал, что надо делать, орден дервишей думал вместо меня, а основы веры были незыблемы и всеобъемлющи, и не было у меня ничего, что они не могли бы вместить. У меня была семья, она жила своей жизнью, родная по крови и далеким воспоминаниям, по детству, которое я всю жизнь стараюсь забыть, обманывая себя тем, что оно мертво, родная, потому что так должно быть, я любил эти воспоминания любовью без огня и пользы, именно потому она и была холодной. Они существовали, мои родные, и этого мне было достаточно, им, должно быть, тоже, три наши встречи за двадцать лет ничего не нарушили и ничего не поправили, не помешали и не помогли в моем служении вере, я испытывал скорее гордость оттого, что нашел другую, более многочисленную семью, чем печаль оттого, что покинул свою собственную. И вот внезапно несчастье случилось с моим братом. Я произношу слово «несчастье», ибо не знаю более подходящего, я не могу сказать «справедливость» или «несправедливость», и здесь начинается страдание. Я не люблю насилия, я считаю, что это признак слабости, несовершенства мышления, способ заставить людей творить зло. И тем не менее, когда его творили по отношению к другим, я молчал, я отказывался выносить приговор, возлагая ответственность на других, или же пытался не думать о том, в чем сам не был виноват, а иногда признавал даже, что приходится творить зло во имя значительности или важности добра. Но когда бич власти хлестнул моего брата, он рассек и мою кожу, рассек до крови. Смятенно я думаю, что мера сурова, я знаю этого юношу, он не способен на преступление. Но я недостаточно твердо защищаю его, а их не оправдываю, мне лишь кажется, будто они все вместе причинили мне зло, почти в равной мере, запутали меня, столкнули лбом с жизнью вне моей настоящей орбиты, они заставили меня определиться. Что я теперь? Оскорбленный родственник или смятенный дервиш? Потерял ли я человеческую любовь или нанес удар по твердыне веры, утратив, таким образом, все? Я хотел бы оплакивать брата, каков бы он ни был, или стать твердым защитником закона, даже если под вопросом судьба брата, даже если я жалел его. А я не могу ни того, ни другого. Что же это, Исхак, бунтующий мученик, ставший по ту сторону, не знающий, что такое нерешительность, утратил ли я облик человеческий или веру? Или и то и другое? И что тогда осталось от меня — шелуха, мездра, мишень без круга? Страх поселился во мне, Исхак, страх и смятение, ни шагу не могу я больше ступить ни в ту, ни в другую сторону, исчезну и пропаду.
Я не поворачивался, чтоб увидеть его, не верил, что он по-прежнему здесь, и не знал, что́ я могу ему передать из всей этой муки, которой даже нет названия. Опасной была мысль именно ему доверить то, чего я никому бы не доверил. Мне на ум не приходил никто из дервишей, никто из людей, с которыми я встречаюсь, но я думал о мятежнике, беглеце, человеке вне закона. Считал ли я, что только он один не посмотрит на меня с укоризной? Помоги мне, о аллах, выйти из этих искушений таким, каким я был! И единственный настоящий выход я вижу в том, чтобы притвориться, будто ничего не произошло.
Спасение и мир Ибрахиму,
Спасение и мир Мусе и Харуну,
Спасение и мир Илиасу,
Спасение и мир Исхаку,
Спасение и мир несчастному Ахмеду Нуруддину.
Люди выходили, откашливались, тихо перешептывались, исчезали, я продолжал стоять на коленях со своей мукой, один — к счастью, один — к сожалению, боясь покинуть это место, где я мог страдать от нерешительности.
Снаружи доносился шум, кто-то кричал, кто-то кому-то угрожал, я не хотел слышать, не хотел знать, кто кричит и кто угрожает, все, что происходит в мире, скверно, прими, всевышний, молитву моей немощи, лиши меня силы и желания уйти от этой тишины, возврати меня в мир, первый или последний, я думал, что между ними существует нечто, когда-то была река, и туманы над нею в сумерках, и блеск солнца на ее водах, она и сейчас существует во мне, я лишь думал, будто позабыл о ней, но, видимо, ничто не забывается, все возвращается назад, из запертых ящиков, из мрака кажущегося забвения, и все остается нашим, все, что, мы полагали, уже стало ничьим, оно нам и вправду не нужно, но стоит перед нами, искрясь минувшим существованием, предостерегая нас и нанося раны. И мстя за предательство. Поздно, воспоминания, напрасно вы приходите, бесполезны ваши немощные утешения и напоминания о том, что могло быть, но не было, да и не могло быть. Всегда кажется прекрасным то, что не осуществилось. Вы — обман, рождающий недовольство, обман, который я не могу и не хочу отогнать от себя, потому что он разоружает меня и своей тихой печалью защищает от страданий.
Отец ждет меня, обезумевший от боли за сына, только один сын остался у него, меня уже нет, но и моего брата тоже нет, он один, старик, ожидающий меня на постоялом дворе, он один, а когда-то мы считали себя единым целым, теперь мы так не считаем, сперва его взгляд спросит меня, я отвечу с улыбкой — у меня хватит сил ради него: брата скоро выпустят, так мне сказали, я провожу отца, вселив в него надежду, зачем огорчать его, какая польза ему от правды. И я вернусь опечаленный.
Я вдыхал воздух свежей майской ночи, юной и искристой, я люблю весну, думал я, люблю весну, не утомленную и не отяжелевшую, она пробуждает нас своим ясным легкомысленным призывом начать жизнь снова, ежегодная иллюзия и надежда, новые почки завязываются на старых деревьях, я люблю весну, упрямо кричит душа, и заставляю себя поверить в то, что я таил от самого себя все прежние годы, теперь я призываю весну, предлагаю ей себя, касаюсь цветка яблони у дороги и нежной новой веточки, соки бурлят в ее бесчисленных жилках, я ощущаю их ток, пусть своими плодами они перейдут в мое тело, цветок яблони распустится у меня в пальцах, прозрачные зеленые листья в моих ладонях, я стану нежным ароматом фруктов, их неслышной беззаботностью, я поднесу расцветшие руки к изумленным глазам, я протяну их к кормильцу-дождю, я — в землю зарытый, небом питаемый, веснами обновляемый, осенью умиротворяемый, хорошо бы начать все сначала.
А начала больше нет, да оно и не важно, неведомо нам, когда оно будет, мы позже определяем его, когда попадаем в омуты, когда все продолжается, и тогда мы начинаем думать, что все могло быть иначе, но нет, и навязываем себя весне, дабы не думать ни о несуществующем начале, ни о печальном положении.
Напрасно блуждаю я по улицам, трачу время, которое невозможно растратить, Хасан ожидает меня в текии. Отец ждал меня сегодня на постоялом дворе, Хасан — вечером в текии, они стоят на всех путях и на всех перекрестках, не позволяют ускользнуть мне от забот.
— Сразу же дай знать, как его выпустят,— сказал отец на прощание.— Не успокоюсь, пока не услышу. А лучше всего, если он приедет домой.
Лучше всего было бы, если б он вообще не уходил из дому.
— Сходи завтра к муселиму,— напомнил отец,— поблагодари его. Поблагодари и от моего имени.
Я рад, что он ушел, трудно глядеть в лицо, ищущее утешения, а я могу дать утешение, только солгав. Он унес и то и другое, мне же остались горькие воспоминания. Мы остановились на краю поля, я поцеловал ему руку, он меня — в лоб, он снова стал отцом, я смотрел ему вслед, он шел сгорбившись, вел коня, словно опирался на него, то и дело оглядывался, мне полегчало, когда мы расстались, но пришла грусть от одиночества, и это уже навсегда, в этом я не обманывался. Мы похоронили друг друга в тот момент, когда поняли, что ничем нам не может помочь это ненужное последнее тепло.
Я продолжал стоять посреди широкого поля, видел, как отец вскочил на коня и исчез за серой скалой, словно она его проглотила.
Длинная послеполуденная тень, хмурая душа скал, ползла по полю, затемняя его, она прошла и по мне, окружила, а солнечный свет бежал от нее, скользя к другой горе. Ночь еще далеко, тень лишь ранний ее предвестник, зловещий в своем угрюмом знамении. Ни души на разделенном на две половины поле, пустынны они обе, один я стою в этом пространстве, которое поглощает тьма, я песчинка в этом замкнутом просторе, переполненная смутной тоской, что несет моя извечная душа, чужая и своя. Я один в поле, один во всем мире, беспомощный перед тайнами земли и безмерностью неба. И вдруг откуда-то с гор, от домиков, стоящих в стороне, послышалась чья-то песнь, прорвалась по солнечному свету к моей тени, как бы спеша мне на помощь, и в самом деле освободила от мимолетных и странных чар.
Мне не удалось уклониться от непрошеного внимания Хасана. Свежий, улыбающийся, в голубом минтане, с подстриженной мягкой бородкой, благоухающий ягом, он словно стряхнул с себя три месяца путешествия, запах скота, пота, постоялых дворов, пыли, грязи, позабыл о брани, о горных перевалах, об опасных речных переправах; он сидел с хафизом Мухаммедом на верхней террасе над рекой и выглядел как молодой ага, избалованный жизнью, которая не требует от него ни усилий, ни мужества.
Я застал их за беседой. Этот гуртовщик, бывший мудериз, умел заставить хафиза Мухаммеда поделиться своими знаниями и тогда получал возможность возражать ему, шутя, не придавая значения ни тому, что услышал, ни своим возражениям. Я всегда удивлялся, как в столь несерьезных беседах он находил разумную аргументацию, преподнося ее в безумной форме.
Мы поздоровались.
— Ты что-нибудь узнал о брате? — сразу же спросил Хасан.
— Нет. Завтра пойду снова. А как тебе ездилось?
Так лучше, пусть мои заботы со мной и остаются.
Он произнес несколько избитых фраз о своей поездке, пошутил, что он всегда зависит от воли божьей и от норова скотины и соответственно подчиняет им свою волю и свой характер, а потом попросил хафиза Мухаммеда продолжить рассказ, весьма любопытный, но и весьма сомнительный, о возникновении и развитии живых организмов, о проблеме, всегда актуальной, пока существует жизнь, эта тема весьма располагала к дискуссии, особенно в ту пору, когда спорить не о чем и когда мы умираем от скуки, соглашаясь со всем.
Хафиз Мухаммед, который три месяца отмалчивался или говорил о каких-то пустяках, неожиданно завел странный разговор о происхождении мира, совсем не по Корану, нарисованная им картина, однако, была занимательной, он извлек ее, скорее всего, из какой-то книги, он прочел их великое множество, да еще приукрасил своей фантазией, и заискрилась эта картина огоньками уединенных страстей, мир рождался и погибал в его болезненных видениях. Это смахивало на богохульство, но мы уже привыкли к хафизу Мухаммеду и не считали его настоящим дервишем, он обрел право быть безответственным, какое это прекрасное и редкостное в нашем ордене право, и никто даже не усматривал опасности в том, что он иногда говорил, поскольку не очень его и понимали.
Мне представлялось странным, трудновообразимым, почему некий простодушный ученый толкует о происхождении мира какому-то острослову-озорнику, легкомысленному добряку, хотя он и был алимом, но теперь-то всего лишь торговец скотом, гуртовщик. Словно сам шайтан постарался свести двух этих людей, не имевших ничего общего, и натолкнуть на разговор, которого никто не ожидал.
А молодой человек вновь и вновь поражал меня какой-нибудь неожиданностью, которую нелегко было ни объяснить, ни оправдать. Был он умный и образованный, а делал все необычно, выходя за рамки предполагаемого. Он окончил школу в Стамбуле, странствовал по Востоку, был мудеризом в медресе, чиновником Порты, офицером, все бросил почему-то и перебрался в Дубровник, потом вернулся домой с каким-то дубровницким купцом и его женой, говорили, будто он влюбился в эту белокожую черноволосую латинянку с серыми глазами, она и сейчас живет со своим мужем в квартале латинян, потом судился со своим дальним родственником, прибравшим к рукам его имущество, и отказался от иска, увидев, сколько ртов кормит тот бедняга, затем женился на дочери этого дальнего родственника, которую ему навязали, чтобы таким образом как-то вернуть долг, а потом, увидев, чем его осчастливили, убежал очертя голову, все бросил вместе с домом и занялся торговлей, странствуя, к ужасу семейства, то на восток, то на запад. Как ему удавалось соединить воедино все эти занятия и что тут было его, сказать трудно. Ничего, посмеивался он сам, жить как-то нужно, и, в конце концов, не все ли равно как. Он был слишком болтлив для чиновника Порты, слишком неукротим для мудериза, слишком образован для гуртовщика. Ходили слухи, будто его выставили из Стамбула, много рассказывали о его благородстве, равно как и об отсутствии такового, о его исключительных способностях и о полнейшем их отсутствии; его называли жестоким, когда он начал тяжбу, и дураком, когда от нее отказался; одни корили его бесстыдством за то, что живет с дубровчанкой, втайне от простака мужа, другие считали простаком его самого, поскольку дубровчанка и ее муж неплохо на нем наживались. И он, пропущенный через мелкое сито сплетен, был удобной мишенью для сотен любопытных гадателей, особенно поначалу, пока к нему не привыкли, а он на все махал рукой, ему было все в жизни безразлично. Он общался со всеми, беседовал с мудеризами, торговал с купцами, кутил с босяками, шутил с подмастерьями, равный им во всем, чем бы он ни занимался, и тем не менее неудачник.
Мне не хотелось говорить с ним о брате, он огорчился бы — ненадолго, рассердился бы — ненадолго. Мне не давал покоя и вчерашний разговор с его сестрой. Я предпочел бы, чтоб Хасан не появлялся.
К счастью, он был ненавязчив. И, к счастью, его заинтересовал разговор с хафизом Мухаммедом. Я смогу все отложить.
Влага и тепло — источники жизни, говорил хафиз Мухаммед. В гниющей сырости и зародились живые существа, без форм, без щупальцев, просто палочки и зернышки, в которых таилась жизненная сила, они передвигались во мраке слепоты, плутая без цели и смысла, обитая в воде, выбираясь на сушу, закапываясь в ил. Так прошли тысячи лет.
— А бог? — спросил Хасан.
Он сказал это в шутку, но вопрос был серьезный. Хафиз Мухаммед не пожелал его услышать.
— Так прошли тысячи лет, крохотные, беспомощные существа видоизменялись, одни привыкали к суше, другие к воде. Вначале слепые и глухие, без рук, без ног, без чешуи или панциря, но все продолжали жить, и эта жизнь развивалась после гибели многих из них.
— А бог?
— Бог так хотел.
Он вынужден был это сказать, хотя это звучало неубедительно, но хафиз Мухаммед скорее как бы отводил нежелательное препятствие своим неприкосновенным общим рассуждением, чем отвечал на вызов.
Меня удивляло поведение и того и другого. Хафиз Мухаммед в самом деле отрицал участие бога в сотворении мира, а Хасан лишь шутливо обращал его внимание на это, не желая доводить дело до конца или использовать преимущество, которое мог получить без труда.
Я знал: это были несколько видоизмененные теории греческих философов, а Ибн-Сина сохранил их в своих сочинениях на арабском языке. Согласно этим теориям, человек постепенно становился тем, кто он есть, медленно приспосабливался к природе, подчиняя ее себе, как единственное обладавшее мышлением существо. Поэтому природа для него больше не представляет тайны, а окружающее пространство не является неведомым, он овладел им и одолел его, пройдя огромный путь от червя до хозяина земли.
— Плохой хозяин,— улыбнулся Хасан.
Вокруг этого начался спор и завязалась дискуссия: люди скверно устроили сей мир, утверждал Хасан, не сердясь за это на них. А хафиз Мухаммед не соглашался и в своих доказательствах дошел даже до зарождения жизни.
Многое можно было возразить по поводу того, что говорил хафиз Мухаммед, начать хотя бы с живых существ, что произошли сами по себе, и оспорить его утверждение, будто человек стал хозяином земли независимо от божьей воли. Но, вмешавшись в беседу, я не стал упрекать его за эти неточности, мне казалось излишним спорить по поводу общеизвестных истин. Для меня важнее было другое: неужели не кажется наивным суждение о том, будто человек удобно разместился на земле и будто здесь его настоящий дом?
Пространство — темница для нас, говорил я, вслушиваясь в эхо своих неведомых мыслей, неожиданно внося пламя в мертвый и никчемный до тех пор разговор. Пространство овладело нами. Мы владеем им лишь постольку, поскольку глаз может охватить его. А оно нас утомляет, пугает, зовет, гонит. Мы думаем, будто оно видит нас, но ему нет до нас дела, мы утверждаем, будто владеем им, но мы лишь пользуемся его равнодушием. Земля не расположена к нам. Громы и волны не за нас, мы лишь существуем в них. У человека нет своего настоящего дома, он лишь борется за него со стихией. Земля — это чуждое гнездо — могла бы оказаться средоточием чудовищ, которые могли бы бороться с бедами, а их не занимать. Или могла бы быть ничьей. Но не нашей.
Мы овладеваем не Землей, но пядью земли под своей стопой, не горами, но изображением их в своих глазах, не морем, но его неверной твердью и отблеском его поверхности. Ничто не принадлежит нам, кроме иллюзий, поэтому мы крепко держимся за них.
Мы не есть нечто в чем-то, но — ничто ни в чем, не равные тому, что вокруг, не подобные, несовместимые. Развитие человека должно идти к потере самосознания. Земля необитаема, подобно Луне, и мы обманываем себя, будто это наш истинный дом, ибо нам некуда податься. Она хороша для неразумных или для неуязвимых. Может быть, выход для человечества в том, чтоб вернуться назад, стать лишь силой.
Когда я высказал весь этот сумбур, я испугался, ибо обнажил все, что желал утаить. Я отвечал сегодняшнему дню, отвечал своему раздражению. Я поставил в неловкое положение и себя, и своих собеседников.
Хафиз Мухаммед изумленно, почти испуганно смотрел на меня, а Хасан — рассеянно, улыбаясь, и лишь в их глазах я увидел подлинный вес своих слов, о которых прежде даже не думал. Однако я не испытывал упреков совести, мне даже стало легче.
Лицо Хасана вдруг посерьезнело.
— Нет,— сказал он, легко покачивая головой, будто извиняясь за то, что говорит всерьез.— Человек не должен превращаться в свою противоположность. Все, что есть в нем ценного, уязвимо. Может быть, нелегко жить на свете, но если мы заявляем, что здесь нам не место, то станет еще хуже. А стремиться к силе и бесчувственности — значит мстить себе за разочарование. И тогда это не выход, это отступление от всего того, чем человек может быть. Отрицание всяческой осторожности есть извечный страх, давнишняя суть человеческого существа, стремящегося к могуществу, ибо оно боится.
— Мы здесь, на земле,— взволнованно говорил хафиз Мухаммед.— Утверждать, что это место не для нас,— значит отрицать жизнь. Ибо…
Он закашлялся, но продолжал махать рукой в знак того, что не соглашается со мной, но не в состоянии приглушить разгулявшийся приступ кашля.
— Тебе надо идти в комнату,— посоветовал Хасан.— Холодно, сыро. Помочь тебе?
Тот отверг жестом: не нужно. И ушел сипя — он не любил показывать свои страдания.
Мы остались одни, Хасан и я.
Жаль, что мы не смогли расстаться сразу без объяснений, без разговора, просто надо было встать и уйти, но трудно оказалось и прервать, и продолжить, не было рядом хафиза Мухаммеда, который был как бы связующим звеном и располагал к общей беседе. Мы приблизились к тому, что касалось только его и меня.
Но Хасан не чувствовал неловкости, он всегда был естествен. Он проводил взглядом хафиза Мухаммеда, посмотрел на меня и улыбнулся. Улыбка его открывала путь к человеку, свидетельствовала о понимании, снимала напряжение.
— Напугал ты хафиза Мухаммеда. Он был ошеломлен.
— Сожалею.
— А знаешь, о чем я думал, пока ты говорил? Вот некоторые люди скажут все, что хотят, а ты, хочешь — соглашайся, хочешь — нет, но покой твой при этом не нарушен. А другой одним словом выложит всего себя, все вспыхнет, и нет больше покоя. И ты вдруг осознаешь, что происходит нечто важное. Это уже не просто разговор.
— А что же?
— Готовность все бросить в костер. Ты слишком потрясен случившимся несчастьем.
Никому я не позволил бы так говорить со мной, я гневно оборвал бы любого, но Хасан поразил меня, определив суть моего возмущения, а еще больше поразил своей доброжелательностью, заключавшейся не в словах, а во взгляде, и глубокой откровенностью, пониманием, озабоченностью, всем своим отношением, значит, он увидел во мне то, что обычно прячут. Я и не осудил его, но мне хотелось переменить разговор, не люблю, когда тебя выворачивают наизнанку.
— Что ты имел в виду, говоря об извечном страхе, который нам суждено нести? — спросил я его.
— Неужели мы видимся с тобой впервые? Я хотел бы поговорить о твоем брате. Если тебе не неприятно.
Я мог ответить: тебя это не касается, оставь меня в покое, не лезь в мою душу, все, кто лезет с советами, терзают меня. Так было бы искреннее. Но я не выносил грубости, ни своей, ни чужой, страдал, если она меня побеждала, долго помнил свое поражение. Я ответил, оправдываясь, что сегодня из деревни приехал мой отец и что у меня настроение не из лучших.
— Ты вторично отталкиваешь меня,— улыбнулся он.
— Что тебе сказать? Я ничего не узнал.
— Даже за что он арестован?
— Даже это.
— Выходит, я знаю больше тебя.
Нелегко его сразить.
Он рассказал мне странную повесть, которую я едва мог понять, располагая лишь своим ограниченным и односторонним опытом, детским по незнанию мира, в котором я обитал.
Вблизи города жил один небогатый помещик, начал Хасан, жил, ибо сейчас он уже мертв. Не знаю, какие у него были основания, возможно, он был чем-то оскорблен или же был наивен и честен, возможно, он был горяч, сварлив, восторжен, а может, кто-либо стоял за его спиной, может, у него были доказательства, возможно, он был безумен или ему было безразлично, что с ним произойдет,— узнать трудно, да теперь и не столь уж важно, однако суть в том, что этот человек начал говорить самые черные вещи о власть имущих, обвиняя их во всеуслышание, публично в том, о чем все знают, но молчат. Ему мирно предложили остановиться, он решил, что его боятся, и продолжал делать то, что никому пока не приносило пользы. Тогда за ним послали стражников и, связав, отправили в город, заключили в крепость, написали протоколы допросов, где бедняга сознался во многих грехах, дал показания, что высказывался против веры, государства, султана, губернатора, объясняя это тем, будто произносил все в гневе и ярости. Он признался даже в том, что поддерживал связь с бунтовщиками в Крайне, оказывал им помощь, а его дом служил явкой для связных и доверенных лиц. С этими протоколами его отправили к визирю в Травник, но по дороге изрубили саблями при попытке к бегству. Ну, что касается попытки к бегству, то каждый волен думать что угодно, возможно, он и пытался бежать, а возможно, и нет, ему, впрочем, было все равно, так как, не изруби его стражники, изрубил бы визирь. И не стал бы я о нем толковать, не первый он и не последний, если б в это не оказался замешанным твой брат. Он его не знал и не видел, тот человек, и понятия не имел о существовании юноши, и ничто в судьбе его не переменилось бы, брат твой тут был ни при чем. Они не знали друг друга, никогда не встречались, между ними не было никакой связи, они совершенно различные и все-таки в чем-то похожи: оба шли прямо к самоубийству. К несчастью, твой брат работал у судьи, к несчастью, говорю я, ибо опасна и тяжела близость к всемогущим, ему как писарю доверяли, и, пользуясь этим, он добрался до секретных документов. Как он их обнаружил, выяснить никто не может, но наверняка ему их не показывали, он нашел их случайно, это и оказалось для него фатальным.
— Что он нашел?
— Протоколы допроса, написанные до того, как человека допросили, до того, как доставили в город, до того, как арестовали, и в этом несчастье твоего брата, его беда. Понимаешь, они заранее знали, что́ тот человек будет говорить, в чем он признается, что его погубит. Ладно, тут нет ничего необыкновенного, они спешили, надо было все сделать быстро и наверняка, и все бы было в порядке, если б молодой писарь положил эту заранее сфабрикованную бумагу туда, где она лежала. И позабыл бы о том, что видел. Но нет. Как он поступил, я не знаю, возможно, показал бумаги кому-то, возможно, рассказал о них, возможно, его застали с ними, но его арестовали. Он слишком много знал.
Я слушал, не веря. Что это, безумие? Кошмар, терзающий нас в тяжком сне? Неведомая область жизни, в которую никто никогда не заглядывает? Невероятным кажется, что человек может столько не знать. Значит, молчали люди, скрывая от меня, или слишком тихо шептались, когда можно было меня заранее подготовить, чтоб я поверил, поскольку знание нарушило бы мой привычный покой и исказило созданную мной картину довольно уравновешенного мира? Если я и не считал его совершенным, то, во всяком случае, верил, что он терпим, но как же я мог согласиться с тем, что он несправедлив? Кто-нибудь мог бы усомниться в искренности моих слов и спросить: как же это ты, зрелый человек, столько лет проживший среди людей, веря, что ты близок им и что тебе доступно то, что обычно прячут от чужих взглядов, притом вовсе не глупый, не видишь и не знаешь того, что происходит вокруг и что совсем не является маловажным? Это лицемерие? Или слепота? Если б клятва не считалась грехом, я бы поклялся самой горькой клятвой, что не знал. Справедливость я считал необходимостью, а несправедливость — допустимой. Теперь все так запутано для моих наивных представлений о жизни, рожденных в уединении и послушании, надо обладать избытком самой черной фантазии, чтоб постигнуть сложные переплетения отношений, которые я всегда воспринимал как мучительную и благородную, правда довольно-таки неясную, борьбу за божье дело. Неужели люди прятались от меня, опасаясь высказывать то, чего я не хотел бы слышать? Трудно поверить в это. Но, даже услыхав, я был готов не верить, во всяком случае не всем: поверить означало испугаться насмерть или что-то предпринять, у меня нет даже слов, чтоб назвать эту неведомую необходимость, которой требовала от меня совесть. Признаюсь, не стыдясь этого, моя искренность оправдывает меня, мое представление о Хасане уменьшило значимость того, что я услыхал. Он был доброжелателен, но поверхностен, честен, но легкомыслен, а своей безответственной фантазией мог породить бог знает какую повесть, добавляя к зернышку правды бремя вымысла. И как он мог узнать, ведь он только что вернулся?
— Откуда ты знаешь? — спросил я его, бросая якорь, за который надеялся зацепиться.
— Случайно,— спокойно ответил он, словно ждал моего вопроса.
— Может быть, это все пересуды, пустая болтовня?
— Не пересуды, не пустая болтовня.
— Занимает ли тот, кто тебе это рассказал, соответствующее своей информации положение?
— Он знает только то, что я тебе сообщил.
— Кто он?
— Не могу тебе сказать, да это и неважно! От него ты услышал бы то же самое. Чего тебе еще нужно?
— Ничего.
— Он был так напуган, что мне стало его жаль.
— Зачем тогда он тебе рассказал?
— Не знаю. Может быть, для того, чтоб избавиться от груза. Чтоб его не задушило то, что он знал.
Я был настолько ошеломлен услышанным, что никак не мог собраться с мыслями, они разлетались, как птицы во время пожара, прятались в темные норы, словно куропатки. Жуткой раскрывалась передо мною картина всемогущего зла.
— Это ужасно,— произнес я.— Настолько ужасно, что я едва могу в это поверить. Я хотел бы, чтоб ты мне это не рассказывал.
— Я тоже. Сейчас. Но пусть будет, словно я ничего не сказал, если тебе мешает.
— Это невозможно. Вещи не существуют, пока они не названы.
— Вещи нельзя назвать, пока они не существуют. Вопрос в том, надо ли называть. Знай я, как это тебя взволнует, может быть, я бы молчал. Почему ты боишься правды?
— Что мне от нее?
— Не знаю. А может быть, это и не правда.
— Теперь тебе поздно отступать. Нельзя стереть сказанное. Я знаю того, кто тебе рассказал?
Он удивленно посмотрел на меня.
— Я хотел тебе помочь. Я полагал, что ты подумаешь о том, как спасти брата, скорее, быстрее. А тебе запомнился только тот бедняга, что наверняка не спит по ночам от страха. Неужели ты не желаешь знать ничего другого?
Возможно, это было верно, возможно, он был прав, этими расспросами о второстепенном я пытался уменьшить тяжесть, обрушившуюся на меня. Не нужно было так говорить, а как — этого я не знал. С губ моих готов был сорваться глупый, детский вопрос: что делать, добрый человек, миновавший стремнины своей жизни и пошедший навстречу другому человеку, скажи мне, что делать? Я сражен твоим открытием, внезапно оказался над пропастью, но я не хочу заглядывать в нее, я хочу вернуться туда, где я был, или, может, не возвращаться, я хочу спасти веру в мир, а это невозможно, пока не исчезнет это жуткое, убийственное недоразумение. Скажи мне, с чего начать?
Я не понимал тогда, что, противясь разрыву, упрямо сохраняя привычные связи, я бросал обвинение брату, ведь кто-то же должен быть виновен. Если я заговорю, я перестану таиться перед ним и перед собой. Не знаю, что произойдет, может быть, он не сможет мне ничего сказать, может быть, он не сможет мне ничем помочь, но судорога отпустит мою душу и я не буду один. А может быть, мне удастся сойти с той дороги, по которой позже пойдет моя жизнь, если я перейму его большой и горький опыт, если я не замкнусь в своем страдании. Хотя и это не наверняка, потому что наши намерения были абсолютно различны: он хотел спасти человека, я спасал мысль. Правда, так я думал позже, а в тот момент просто был в смятении, опечаленный, помимо воли обозленный на того, кто открыл мне, чего я не знал, сознавая, что должен сделать все, дабы правда вышла на белый свет, теперь должен; не знай я ничего, можно было бы ждать, меня защищало б незнание. Теперь выбора больше нет, я был приговорен правдой.
Встревоженный тем, что должно было наступить завтра, через два дня, через какое-то уже недалекое время, я тем не менее думал о том, как мучительно расставаться. Уйти молча, произнести избитые, банальные слова, разойтись холодно и сердито? Я не находил настоящих слов, не мог установить истинных отношений, когда речь шла о моих личных делах: до тех пор я всегда знал, что сказать и как себя вести. После этого разговора остался неприятный осадок, давила тяжесть предчувствия и неудовлетворенность тем, что не все сказано, но где-то я и сам невольно сдерживал себя, чтоб не выказать холодности и обиды, поскольку не был уверен, не пригодится ли мне еще этот человек. Я говорю «невольно», поскольку хитрил, не желая этого, не понимая еще, когда он сможет быть мне полезным, просто не видел, но внутренняя осторожность говорила мне, что не стоит его терять. А может быть, мне понадобится его доброжелательность в деле, о котором я договорился с его сестрой. Поэтому я завершил разговор так, чтоб его можно было начать снова или вовсе не начинать.
— Поздно. Ты, конечно, устал,— произнес я, стараясь говорить как можно мягче, спокойнее.
Он потряс меня своим ответом, своим поступком, это было так неожиданно, но естественно, столько в нем было простоты, видимо, поэтому я был безмерно удивлен.
Он опустил свою руку с длинными сильными пальцами на мою лежавшую на спинке скамьи, чуть коснулся руки, только чтоб я почувствовал приятный холодок его кожи, мягкость его ладони, и произнес спокойно, тихим глубоким голосом, которым, наверное, говорят слова любви:
— Кажется, я ранил тебя, а этого я не хотел. Я думал, ты больше знаешь о мире и людях, гораздо больше. С тобой следовало говорить иначе.
— А как иначе ты мог говорить?
— Не знаю. Как с ребенком.
Эти слова, казалось, ничего и не значили, но на меня они произвели впечатление, особенно поразило их звучание, будто пропела мелодию флейта без шума и свиста, без ненужного форсирования, как бы печально улыбаясь тому, что еще не свершилось, улыбаясь мягко, мудро и освобождающе, и с удивлением впервые я подумал о том, что душа его зрелая, широкая и что раскрывается он лишь в те минуты, когда покидает его осторожность. В свете луны, которая наполняет нас тревогой. В моменты, когда трудно. Мне запомнился его мягкий голос, располагающий к доверию, его умиротворяющая улыбка, та полуночная пора, когда открываются тайны, они остались в моей памяти чем-то могучим и неуловимым. От этого вдруг показалось, будто совсем неожиданно представало передо мной то потаенное, что есть в человеке, которое никто до меня не видел. Не знаю, рождался он или обнажался, сбрасывая змеиную кожу, не знаю, как он открылся, только убежден, что миг этот был исключительным. Я размышлял и о том, что моя взволнованность может преобразить любое слово, любой жест, любое событие, но воспоминание осталось.
Он встал, и сами собой развязались узлы неловкости между нами, он сказал настоящие слова, они красиво и долго звучали, теперь он мог уйти. То беспричинное волнение не сдерживало меня больше, откуда-то накатились недобрые помыслы, и это было так странно, потому что они последовали за восторгом.
Уходя, он вынул из кармана узелок и положил на скамью.
— Для тебя.
И ушел.
Я проводил его до ворот. А когда он завернул за угол, последовал за ним. Я шел тихо, держась вдоль стен и заборов, в любую минуту готовый замереть, если он повернется, пусть принимает меня за тень. Он уходил во тьму улочек, я следил за ним по звуку его шагов, мои не были слышны, они были легкие, вкрадчивые, никогда прежде я не ходил так, я не выпускал из виду высокую фигуру в голубом минтане, когда она появлялась на залитых лунным светом перекрестках, я следил за ним, а потом разочарованно заметил, что долгое обманчивое кружение привело меня к знакомому месту. Я замер у мечети, он стукнул кольцом в ворота своего дома, кто-то тут же отворил, словно поджидал за воротами. Войди он в чужой дом, я поверил бы, что он завернул к тому человеку, имя которого мне не назвал. Итак, я не узнал ничего.
Я вернулся в текию, усталый, хотя это не было усталостью тела.
На скамье лежал подарок Хасана — «Книга занимательных историй» Абу-ль-Фараджа [5] в дорогом сафьяновом переплете с четырьмя золотыми накладками в виде птиц по углам. Меня удивило, что на шелковом платке, в который он завернул книгу, тоже были вышиты по углам четыре золотые птицы. Значит, покупали не второпях.
Однажды в разговоре, вспоминая о молодости, я упомянул имя Абу-ль-Фараджа. Упомянул и позабыл. Он — нет.
Я сел на скамью и, держа книгу на коленях, поглаживая пальцами гладкий сафьян, смотрел на умерщвленную лунным светом реку, слушал удары времени на Сахат-куле и, странным образом успокоенный, хотел плакать. С далекого детского байрама, уже растворившегося в памяти, мне впервые привезли подарок, впервые кто-то подумал обо мне. Ему запали в душу мои слова, он вспомнил их где-то в далекой стране.
Необычное я испытал чувство, словно занялось свежее солнечное утро, словно я возвратился домой из далекого путешествия, словно осветила меня беспричинная, но могучая радость, словно рассеялся мрак.
Пробило полночь, подобно ночным птицам, стали перекликаться сторожа, шло время, я сидел, очарованный книгой Абу-ль-Фараджа и четырьмя золотыми птицами. Я видел их на полотне, том единственном, что сохранилось у меня от родного дома, однажды отец принес мне пряники в крестьянском полотенце, давно, платок красивый, из грубого льна. И это запомнилось Хасану.
Трудно поверить, но это была правда — я был глубоко растроган. Кто-то вспомнил обо мне. Не ради чего-то, не во имя корысти, от чистого сердца, пусть даже и шутя. Вот так внимание подкупает и старого замшелого дервиша, который решил, будто избавился от мелких слабостей. А они, видно, не так просто умирают. И вовсе они не мелкие.
Ночь уходила, а я продолжал сидеть просветленный, посмеиваясь над самим собой, над своими волнениями, которые не мог себе объяснить. Но лишаться их не хотелось.
Греховен тот, кто просит, но греховно и то, что у него просят.
Сегодня утром я вышел в поле — взобрался по цветущему склону, постоял под невысокой кроной фруктового дерева, лицом к цветам, листьям, лепесткам, веерам, к тысячам живых чудес, жаждущих оплодотворения, я впитывал пьянящую сладость этой пышности, этого кипения соков во множестве невидимых жилок, и снова, как и вчера вечером, меня охватывало желание погрузить обе руки в ветки, чтоб потекла по моим жилам бесцветная кровь растений, чтоб без боли смог я расцвести и увянуть. И это вновь возникшее странное желание опять показало, как тяжелы муки, которые я испытываю.
Из лесу через равные интервалы доносились звонкие удары топора, опускаемого чьими-то сильными руками, после каждого удара наступала краткая пауза, и, несмотря на расстояние, я знал, что топор острый, с длинным обухом, что он вгрызается в дерево с бешеной злобой, яростно добираясь до сердцевины. Куковала кукушка, ее двусложный тоскливый крик звучал с печальным равнодушием, как голос судьбы, кого-то звала, призывала женщина, голос ее, ясный, сильный, непонятный, говорил, что она молода, опалена весенним солнцем, радостна, не видя ее, я поворачивался на звонкий голос, словно там была Мекка, и понимал о ней все. Только три эти звука в тишине весеннего утра, в пространстве чуждого мира. Я закрыл глаза, сладкий запах цветочной пыльцы наполнял сердце, и слушал: три простых звука. И тут снизошла на меня необыкновенная минута полного забвения. Это не было воспоминанием, но погружением в иное время, значительно более раннее, когда не было ничего от теперешнего меня и существовало лишь медленное, радостное ощущение жизни, трепетная близость ко всему окружающему. Я знал, что это был топор отца, это его крепкие руки работали в лесу. Мне был знаком и голос кукушки, никогда прежде я не видел ее, но она всегда куковала в этом месте. Я знал и девушку, ей было шестнадцать лет, я видел ее сквозь бесконечное время, словно миновали века, а я ничего не позабыл, крохотные золотистые веснушки вокруг улыбающихся губ, стан обхватом в две ладони, и даже спустя много лет сохранившийся запах милодуха. Кого призывает девушка сквозь время? Я не мог откликнуться, не мог возвратиться вспять.
От чар далекого времени меня пробудила радостная встреча. По дороге шел мальчик, он рвал цветы и бросал их вверх над головой, швырял в птиц комьями земли, выкрикивал какие-то непонятные, свои собственные слова, веселый и беззаботный, как котенок. Заметив меня, он умолк и съежился, сразу став серьезным. Я не принадлежал к его миру.
Давным-давно, за много лет до этого дня, на другой тропинке, в другом краю встретился мне такой же мальчуган. Не было никаких причин вспоминать сейчас об этом и сравнивать их. Но вспомнилось. Может быть, потому, что день предназначался для воспоминаний, или же тогда, как и теперь, я стоял на перекрестке жизни, и потому, что оба они были толстощекие, увлеченные, каждому из них хватало самих себя в пустынной местности, и оба прошли мимо, угаснув, словно я потушил их радость. Я окликнул мальчика, глаза его были цвета кудели, так же как и у того, далекого, и вопрос был извечный и звучал печально, но мальчик этого не знал.
К счастью, сейчас у нас начался совсем иной разговор, чем тот, первый. Я записал его для удобства, без иной нужды, так бывает с утомленным путником, остановившимся у живительного источника.
— Ты чей, малыш?
Он без особой приязни посмотрел на меня, остановился.
— А тебе что?
— В мектеб ходишь?
— Больше не пойду. Вчера меня ходжа побил.
— Ради твоего же блага.
— Это благо я мог бы и сам раздавать пригоршнями. А ходжа раздает его нашим задницам. От каждого его слова они синеют, как баклажаны.
— Не надо дурные слова говорить.
— Разве «баклажан» дурное слово?
— Ну и чертенок же ты.
— Не говори дурных слов, эфенди.
— Ты вчера тоже так разговаривал?
— До вчерашнего дня я был барабаном для ходжи. А сегодня я как вот эта птица. Пусть кто-нибудь сейчас попробует ударить меня!
— А что отец говорит?
— Он говорит, что алимом мне все равно не быть. А пахать можно и зная азбуку, и не зная азбуки, земля ждет, другому ее отдавать не станем. А уж если тумаки делить, то он и сам справится, говорит.
— Хочешь, я потолкую с отцом, чтоб отпустил тебя в город? Будешь учиться в школе, станешь алимом.
Те же слова я сказал и тому мальчугану, теперь он в текии, стал дервишем. Но этот паренек иной закваски. Радость исчезла с его лица, ее сменила ненависть. Мгновение он молча смотрел на меня в яростном недоумении, потом проворно нагнулся и поднял с дороги камень.
— Вон там пашет мой отец,— сказал он с угрозой.— Иди скажи ему об этом, если посмеешь.
Вероятно, он в самом деле ударил бы меня. Или убежал бы с плачем. Он был умнее того, первого мальчугана.
— Не пойду,— примирительно ответил я.— Никто не может тебя заставить. Да и для тебя, наверное, лучше будет остаться здесь.
Он растерянно топтался на месте, не выпуская из рук камня.
Я пошел дальше, несколько раз оглянувшись. Он не двигался с места, живая преграда между отцом и мною, оробевший и недоверчивый. И лишь когда я отошел на безопасное расстояние, он швырнул камень в поле и побежал к отцу.
Я угрюмо поплелся назад.
Женщина невысокого роста впустила меня и, делая вид, будто прикрывает лицо яшмаком, указала в сад, там, взгляните, три дурака одного безумного ловят, я могу пройти туда, могу и здесь подождать, она скажет Хасану и передаст мне ответ, если он вообще что-либо ответит, потому что сегодня не очень-то он речист.
Я пойду туда, ответил я, она прикрыла ворота и ушла в дом.
В большом саду за домом, на просторной, поросшей травой поляне, окруженной сливовыми деревьями, два конюха пытались поймать молодого жеребца. Хасан стоял у ограды с внутренней стороны и спокойно смотрел, изредка подгоняя их ругательствами или окриками.
Я не стал выходить на манеж, где из-под копыт дикого коня летели комья земли.
Конюхи по очереди подходили к жеребцу, один из них был постарше, пониже и покрепче, другой — молодой, высокий и стройный. Меня удивило, что они ловят не вместе — так было бы легче, непонятно, почему молчал Хасан, следивший за их действиями.
Черный жеребец с лоснящейся шерстью, прекрасным крупом, могучими ногами на тонких бабках стоял посреди площадки, взбешенный, раздувая розоватые ноздри, с налитыми кровью глазами, дрожь мелкими волнами сотрясала его тело.
Конюх, который постарше, широкоплечий, втянув голову и сильно ссутулившись, подбирался к жеребцу сбоку, он даже и не пытался успокоить коня голосом или жестом, просто считал его своим врагом, потом он неожиданно прыгнул вперед, стараясь схватить за шею или за холку, уверенный в своей силе. Конь, вроде бы стоявший спокойно, вдруг стремительно повернулся на месте, человек же, точно ожидая этого, отскочил в сторону и кинулся с другого бока, уцепившись за длинную гриву. Конь ошеломленно замер, а затем вдруг потащил конюха, пытаясь освободиться, но хватка была крепкая, сильные руки не выпускали гибкую шею коня. Было похоже, что человек укротил животное, просто чудо, как он смог совладать с этим сгустком напряженных мускулов, оба они стояли как вкопанные, словно обессилев, не имея возможности разойтись, не зная, что делать дальше. А потом животное внезапно отскочило и отбросило человека далеко в сторону.
То же повторилось и с молодым конюхом. Он подкрадывался осторожнее, надеясь обмануть животное раскрытой ладонью, даже ласковым лицом, на котором застыла бессмысленная усмешка, но, едва он коснулся, конь завертелся волчком и крупом отбросил парня.
Хасан хлестко выругался, молодой конюх засмеялся, а тот, что постарше, в сердцах проклял дикую скотину.
— Сам ты скотина,— отрезал Хасан.
Я видел, как спокойно наблюдал он за этой борьбой, за этой схваткой, за этим единоборством — для него было важнее не поймать коня, хотя за оградой, там же, где стоял я, ждал кузнец, Хасан смотрел, как безуспешно конюхи пытались отловить животное, и не прерывал опасной игры, не помогал им советом. Меня на сей раз удивила его необыкновенная серьезность — он был хмурым, чем-то недовольным, и не верилось, будто причина в том, что конюхи не справились. Странным было и то, что он так затянул эту игру, что-то излишне жестокое было в этом, хотя для них, может быть, жестокость обычна, но мне она показалась лишенной смысла. Такое его поведение меняло мнение, которое у меня сложилось о нем. Не такой уж он мягкий и не такой уж веселый, как я себе представлял, или он таков с равными себе, а в обращении со слугами похож на всех остальных. Заметив меня, он отрывисто поздоровался, но забавы не оставил. Не прекратил куражиться над людьми, а они не протестовали.
Между тем конь ударил конюха, что был постарше, копытом в бедро, тот стукнул его по ребрам.
— Ты такой же безумец, как он! Прочь! — крикнул Хасан, и конюх, не сказав ни слова, прихрамывая, отошел в сторону.
Хасан подождал, пока они отошли к забору, и не спеша направился к коню, он шел по кругу, заходя с головы, то и дело менял позицию, медленно, без суеты, не стремясь обмануть; конь замер, успокоенный, возможно, ровными движениями Хасана, его ласковым голосом, напоминавшим журчание воды, а может быть, его твердым взглядом и тем, что человек не боялся и не был зол; все еще напряженно недоверчивый, конь позволил человеку подойти, Хасан совсем приблизился, успокаивая тихим шепотом, протянул руку к морде, погладил, все это не торопясь, сдержанно, словно бы ничего не замечая, тихонько передвинул руку на лоб, на губы, на шею, потом, держась за гриву, повел жеребца к забору.
— Вот так,— сказал он конюхам.— Остальное, наверное, сами сможете.
И направился ко мне.
— Долго ждешь? Я рад, что ты зашел. Пошли в дом.
— Ты сегодня не в настроении.
— Бывало и похуже.
— Может, мне уйти, я мешаю.
— Нет, отчего же? Я бы разыскал тебя, если бы ты не пришел.
— Ребята разозлили?
— Да. Хорошо одного из них конь ударил.
Я промолчал.
— Молчание — лучший ответ настоящего дервиша,— засмеялся Хасан.— Да, непутевый я малый, вот и болтаю вздор. Прости.
Я пытался уйти, но хотелось, чтобы он удержал меня, просто я бы не смог, не посмел выйти на улицу, сегодня утром я уже не бродил без цели, мне хотелось видеть Хасана, мне нужны были его спокойные слова, его уверенность, лишенная угрозы, смирявшая бушевавшие вокруг страсти,— иногда человеку хочется присесть возле тихой могучей реки, чтоб обрести покой в ее безмятежной силе и неудержимом движении. И вот находишь другого человека, совсем незнакомого, тебе жаль его, и ты чувствуешь себя неловко, не зная, как вести себя с таким же встревоженным, как и ты.
К счастью, он умел владеть собой, возможно, не в его характере было долго гневаться, но он буквально на глазах превращался в того человека, который был мне нужен.
Он привел меня в просторную комнату, одну стену которой целиком занимали окна, полнеба открывалось ничем не ограниченному взору, меня удивили огромные летние помещения дома, в них стояли диваны, стенные шкафчики с резными дверцами, множество ковров — огромное, покрытое пылью богатство, роскошь, за которой никто не следил. Дом походил на своего хозяина. Я любил порядок, строгий, дервишский, каждая вещь должна иметь свое место, как и всё в мире, человек должен сам поддерживать порядок, чтоб не сойти с ума. Однако сейчас, к моему великому удивлению, мне не мешала его небрежность, она говорила о неукротимой свободе человека по отношению к вещам, он не их раб и не слишком их уважает. Мне это было недоступно.
Он с улыбкой прибирал в доме, рассовывая по местам минтан, сапоги, оружие — он привык к беспорядку в ханах и свой замечал лишь тогда, когда смотрел чужими глазами. Я был убежден, что он таков всегда, отчасти в этом его суть, он легкомыслен и противоречив. Я шутливо заметил, что это-то и хорошо, наверняка он всегда был такой. Хасан со смехом поддержал шутку: верно, он никогда не отличался аккуратностью, хотя умеет уважать порядок, который устанавливают другие, сам он не испытывает в нем потребности и никогда не задумывается над этим. Однажды он старался установить его, но лишь напрасно совершил над собой насилие. Он, можно сказать, находится в состоянии вражды с вещами, они не уважают его, отказываются ему повиноваться, а он не стремится к власти ни над чем. Он немного даже опасается порядка, ведь порядок — это завершенность, как утверждает закон, уменьшение количества вероятных жизненных форм, обманчивая вера в то, что мы владеем жизнью, а жизнь все в большей степени отказывается нам повиноваться, и чем сильнее мы сжимаем ее, тем ей легче удается ускользать от нас.
Мне показалось совершенно невероятным, как этот неотесанный коновод так легко оседлал разговор, который никак не вязался с его теперешними занятиями, но я с удовольствием подхватил его.
— А как же следует жить? — спросил я.— Без порядка, без цели, без обдуманных планов, которые мы стремимся осуществить?
— Не знаю. Хорошо было бы, если б мы могли определить цель и планы и создать правила на все случаи жизни, установить воображаемый порядок. Легко выдумывать общие положения, глядя поверх голов других, в небо и вечность. А попробуй примени их к живым людям, которых ты знаешь и, вероятно, любишь, без того, чтоб их не ушибить. Вряд ли удастся.
— Разве Коран не определяет все отношения между людьми? Суть его утверждений применима к каждому отдельному случаю.
— Ты считаешь? Тогда разгадай мне одну загадку. Она несложная, очень обыкновенная, и часто нам ее задают. Всегда, когда нам хочется открыть глаза, мы натыкаемся на нее. Живут, скажем, муж и жена, живут, кажется, любя. Нет, погоди, давай о знакомых, будет понятнее. Предположим, что это та пара, которую ты видел: женщина, впустившая тебя, и тот конюх, что постарше,— Зейна и ее муж, Фазлия. Им неплохо живется у меня на дворе, он ездит со мной, зарабатывает больше, чем им нужно, привозит ей подарки, и она радуется им, как ребенок. Он смешной, неловкий, сильный как буйвол, немножко ребячливый и необыкновенно внимателен к ней. Он ее любит, без нее он бы погиб. Он немного обкрадывает меня ради жены, но тоже любит меня, готов отдать жизнь, защищая меня. Я радовался их согласию, ведь ссорящиеся муж и жена заставят убежать на край света. Да и я в них заинтересован, я им помог встретиться, привык к ним. И вот теперь давай подумаем: что произошло бы, если б эта женщина нашла другого мужчину и тайком одаривала его тем, что по божьим и людским законам принадлежит мужу? Как следовало бы поступить, если б это произошло?
— А произошло?
— Произошло. Его ты тоже видел — тот, что помоложе. Муж ничего не знает. Коран говорит: надо побить каменьями прелюбодейку. Но признайся, это устарело. Что делать? Сказать мужу? Пригрозить ей? Выгнать парня? Все это не поможет.
— На грех нельзя смотреть спокойно.
— Труднее ему воспрепятствовать. Они оба ее любят, она боится мужа и любит парня. Он живет у меня, он плутоват, но умен и настолько ловок в делах, что появляются сомнения в его честности, но мне он нужен. Он живет здесь, возле них, муж сам привел его, они в каком-то родстве. Муж — добряк, ни о чем не подозревает, верит людям и наслаждается своим счастьем; жена ничего не хочет менять, боясь, как бы всего не лишиться; парень молчит, но уходить не хочет. Я мог бы перевести его в другой дом, она пойдет за ним, сама мне об этом сказала, и выйдет хуже. Я мог бы отправить его в другой город, она поедет следом. Как ни раскидывай умом, все не годится. А муж убьет и ее и его, узнай об этом, он, дуралей, связал свою жизнь с ней. Оба они обкрадывает свое счастье, думают, будто имеют на него право, не осмеливаясь сделать его еще более прекрасным. Им тоже нелегко, прежде всего ей, потому что она вынуждена быть женой нелюбимого человека, да и парню тоже, так как ему приходится уступать ее каждый вечер. Легче всего мужу: он ничего не знает и для него ничего не существует, хотя, как мы думаем, ему-то и нанесен самый болезненный удар. На нее он больше не имеет права, и она с ним только из-за своего страха. А я жду, смотрю, как на моих глазах все это происходит, и не смею ничего предпринять, настолько все зыбко, надо было бы рвануть тонкие струны, что удерживают их вместе, поторопить беду, нависшую над ними. И вот теперь подбери мне правило, реши, наведи порядок! Только не погуби их! Потому что тогда ты ничего не добьешься.
— Это может кончиться только бедой, ты сам говоришь.
— Я боюсь. Но я не хочу ничего ускорять.
— Ты говоришь о последствиях, а не о причинах, говоришь о бессилии законов, когда что-то происходит, а не о грехе людей, которые их не придерживаются.
— Жизнь шире любых предписаний. Мораль — это нечто воображаемое, а жизнь — то, что существует. Как ввести ее в воображаемое русло, чтоб не обкорнать? В жизни происходит больше бед из-за предотвращения греха, чем из-за самого греха.
— Значит, следует жить в грехе?
— Нет. Но запреты ничему не помогают. Они создают лицемеров и духовных уродов.
— Что же делать?
— Не знаю.
Он рассмеялся, словно ему доставляло удовольствие не знать.
В этот момент женщина внесла угощение.
Я испугался, что Хасан затеет с ней разговор, слишком он открыт и порывист, чтоб скрывать свои мысли. К счастью, а может, благодаря чуду он ничего не сказал, смотрел на нее с чуть заметной усмешкой, без неприязни, даже с каким-то милым доброжелательством, как смотрят на дорогое существо или на ребенка.
— Ты глядишь на нее так, будто ты на ее стороне,— заметил я, когда женщина вышла.
— Я и есть на ее стороне. Любящая женщина всегда прекрасна, тогда она умнее, решительнее, привлекательнее, чем когда бы то ни было. Мужчина рассеян, или груб, или скоропалителен, или слезливо нежен. А я на их стороне, на стороне их обоих. Черт бы их побрал!
Я жалел его в эту минуту и завидовал ему. Но не слишком. Жалел потому, что он сознательно разрушал цельный и надежный способ мышления, которым мог служить вере, завидовал чувству свободы, которое опять-таки я лишь смутно угадывал. Я был лишен этого, свобода была мне недоступна, но я понимал: с ней легче дышится. Так я думал, снисходя к нему, потому что не мог от себя скрыть, что мне было приятно его видеть, мне была дорога его легкая светлая улыбка, расцветающая сама по себе, дорого его опаленное ветрами лицо с синими лучистыми глазами, радовала его бодрость, от него как бы исходило сияние, приятно было даже его легкомыслие, которое не вызывало протеста. Он был для здешнего глаза одет необычно: в голубых штанах и желтых козловых сапогах, в белой рубахе с широкими рукавами и черкесской шапке, чистый, как кварц, широкоплечий, с могучей грудью, видневшейся в треугольнике расстегнутой рубахи, он походил на предводителя гайдуков, отдыхающего у верных друзей, на веселого искателя приключений, не боящегося ни себя, ни других, на оленя, на цветущее дерево, на необузданный ветер. Напрасно старался я увидеть его другим, вернуться к началу. И преувеличивал, противопоставляя его себе.
Когда-то он был тем же, что и я, или походил на меня. Что-то произошло, где-то, когда-то вдруг он изменил течение своей жизни и самого себя. Я представил себе, что произойдет, если подобным образом изменит свою жизнь шейх Ахмед Нуруддин, как он ездит по дорогам, веселится в ханах, укрощает диких лошадей, бранится, толкует о женщинах, я так и не смог все домыслить, смешно стало, невозможно, придется вторично родиться, ничего не зная о том, чем я обладаю сейчас. Захотелось расспросить его, может быть, потому, что я тоже чувствовал перемену в себе, правда не такую, предвидел ее и боялся, и не знал, как быть, ему показалось бы это слишком странным, он не видит путей моей мысли и оправданности моего любопытства.
— Ты доволен своими занятиями? — начал я окольным путем.
— Да.
Он улыбнулся и, озорно заглянув мне в глаза, спросил без обиняков:
— Признайся, ты не об этом хотел спросить.
— Ты читаешь чужие мысли, как ведун.
Он ждал улыбаясь, разрушая мою недоверчивость своей откровенностью и ясным ободряющим взглядом. Я воспользовался благоприятной возможностью, возможностью для себя, он всегда щедро предлагал другим такую возможность.
— Когда-то ты думал, как я или подобно мне, как мы. Измениться нелегко, нужно отбросить все, чем ты был, чему ты научился, к чему ты привык. А ты переменился абсолютно. Это так же, как если бы ты заново учился ходить, произносить первые слова, приобретать основные навыки. Должно быть, на это оказалась важная причина.
Он взглянул на меня со странным вниманием, словно бы я вернул его в прошлое, напомнил о давно забытых перенесенных страданиях, но напряженное выражение на его лице тут же исчезло.
— Да, я переменился,— спокойно подтвердил он.— Я верил в то же, во что и ты, как и ты, и, может быть, убежденнее. А потом Талиб-эфенди в Смирне сказал мне: «Если ты увидишь, что юноша устремляется в небо, схвати его за ногу и стащи на землю». И он стащил меня на землю. «Тебе суждено жить здесь,— выругал он меня,— ну и живи! Живи как можно красивее, но так, чтоб тебе не было стыдно. И скорей смирись с тем, чтобы бог тебя спрашивал: почему ты этого не сделал? — чем: почему ты это сделал?»
— И что ты теперь?
— Брожу по широким дорогам, на которых встречаются и хорошие и дурные люди, с теми же заботами и тяготами, как и здесь, которые так же радуются своему крохотному счастью, как и повсюду.
— Что было бы, если бы все пошли по твоему пути?
— Мир был бы счастливее. Возможно.
Он замыкал беседу.
— Теперь тебя ничто не касается. Это все, чего ты добился?
— Даже этого не удалось.
Я сижу и беседую со все меньшим вниманием, со все меньшим интересом, я многого ожидал от его исповеди, а не получил ничего. Его случай единственный в своем роде. Он или чудак, или умный человек, скрывающий свои причуды, быть может, неудачник, своим упрямством защищающий себя, но для этого нужно быть или слишком слабым, или слишком сильным, а я — ни то ни другое. Мир держит нас крепкими путами, как их оборвать? И для чего? И как можно жить без верований, которые, как кожа, приросли к человеку, которые стали его вторым «я»? Как можно существовать без себя самого?
Потом мне вспомнился брат, вспомнилось, куда я направился. Вспомнилось, что я боюсь оставаться один.
— Я пришел поблагодарить за подарок.
— Мне бы хотелось, чтоб ты пришел просто так. Поговорить ни о чем и ни для чего.
— Давно я не испытывал такого волнения, как вчера. Хорошие люди — счастье на этом свете.
Это была простая учтивость, ни к чему не обязывавшая ни того, кто говорил, ни того, кто слушал. Однако я вспомнил о вчерашнем вечере, и мне показалось, что я на самом деле так думаю и что я мало сказал. Я испытывал желание сказать больше, удовлетворить какую-то свою потребность, которая все росла, хотелось преисполниться нежности и тепла. Напрасно Хасан со смехом пытался остановить меня, теперь это было невозможно. Я держался за него, как за якорь, он был мне необходим как раз сейчас, в эту минуту, как важно, что он мне дорог и оказался лучше всех. Я сказал, что завтра же, а может, и сегодня, сделаю для брата все, что могу. Я верю, что я прав, и буду искать справедливости там, куда смогу попасть. Возможно, это будет нелегко, возможно, я столкнусь с трудностями (я их уже предвижу: сегодня утром муселим не захотел меня принять, мне грубо ответили, что его нет, хотя он вошел в здание передо мной), может быть, я останусь один и мне будет грозить опасность, вот поэтому я и пришел сегодня к нему, я чувствую, что он близок мне, и, ничего от него не требуя, кроме обычных человеческих слов, я хотел только это ему и сказать, ради себя.
Правдой было то, что я высказал, какой-то необыкновенной внутренней правдой, которая и привела меня сюда, и себе самому я стал понятен лишь сейчас, перед ним. Вступая на путь, ведущий к гибели, начиная опасный бой, я видел одного-единственного друга, он пришел ко мне одновременно с бедой, чтобы она не поглотила все, я понимал: мне ничто не может помочь, да и не в этом дело, что-то глубокое, неосознанное внутри меня заставляло сохранить его. Может быть, только тогда, перед этим сдержанным человеком, спокойно слушавшим меня и почувствовавшим по голосу мою затаенную тоску, может быть, только тогда, повторяю, полностью осознал я пустоту, которую ощутил сегодня утром перед полицейским управлением, изумленно слушая стражников, которые спокойно мне лгали. Я был унижен, но у меня не было сил почувствовать оскорбление. Меня потрясло осознание того обстоятельства, что моего брата и меня окончательно связали веревкой осуждения. Спасая его, я вынужден был спасать себя. Но перед самим собой я не мог скрыть ту ледяную пустоту, которой дохнуло на меня. Я знал, что муселим не единственная дверь, в которую мне надлежит постучаться, не единственный человек, который должен услышать мое требование, найдутся и другие, лучше и сильнее этого бандита, обезумевшего от власти, но я-то тем не менее перегорел, внезапно обессилел, подобно человеку, сбившемуся ночью с пути. И это было причиной того, что в припадке откровенности, в поисках опоры я связывал себя и Хасана узами дружбы, скреплял застежками любви, изумляясь самому себе и своим неожиданным желаниям, неразумным настолько же, насколько и неодолимым. Это мне удалось, я сделал самое лучшее из того, что было возможно, направляемый своей бессознательной хитростью, появившейся от понимания своего бессилия, нахлынувшим стремлением удовлетворить свою безумную жажду, наверняка существовавшую уже давно, но подспудную, придавленную. Много времени спустя помнил я эту минуту и то неизбывное чувство умиления, которое меня охватило.
Я заставил разволноваться и его. Широко раскрытые синие глаза его смотрели на меня так, будто он только сейчас узнавал меня, выводя из какой-то обезличенности, наделяя обликом и человеческими чертами. Обычное его выражение смешливой веселости перешло в какое-то внутреннее напряжение, а когда он заговорил, то передо мной снова был спокойный и сдержанный человек, владеющий своими чувствами, следивший за тем, чтобы не слишком проявить их, подобно людям, которые легко забывают о своем восторге. Его горение было длительным, это не был тот огонь, в котором сгорают слова. Это тоже показалось мне новым. Не далее как сегодня, совсем недавно я считал его легковесным, пустым, правда, где-то в глубине души наверняка я думал иначе, потому что зачем бы я пошел именно к нему, когда мне понадобилось человеческое слово. Это моя новая любовь защищала его, мой восторг, которым я был обязан ему, испугавшись одиночества. Впрочем, безразлично, пусть он поверхностен, пусть он легкомыслен, пусть он растрачивает свой незаурядный ум, как хочет, но он хороший человек и знает тайну, как хранить дружбу. Мне она неведома, он откроет ее мне. Может быть, это молитва перед великим искушением, талисман против сил зла, гадание перед паломничеством в страдание.
Однако никогда не знаешь, что мы вызываем в душе другого человека словом, которое для нас обладает вполне определенным значением и проистекает только из наших потребностей. В нем я, кажется, пробудил тщательно запрятанное желание вмешиваться в чужие судьбы. Получилось, будто он едва дождался взрыва моих симпатий, чтоб протянуть руку и оказать помощь. Слов ему было недостаточно.
— Мне приятно, что ты питаешь ко мне доверие,— с готовностью сказал он.— Я помогу тебе, чем смогу.
Все в нем вдруг ожило, он приготовился к действию, к опасности. Пожалуй, надо его остановить.
— Я не ищу помощи. Думаю, она и не нужна.
— Помощь никогда не помешает, а сейчас она нужна тебе больше, чем когда-либо. Мы должны поскорее вызволить его и убрать отсюда.
Он встал, взволнованный, устремленный вперед, глаза его пылали недобрым огнем. Что я пробудил в нем?
Я не ожидал от него ни такого предложения, ни столь быстрого вывода, до конца дней своих изучая людей, я никогда их не позна́ю, всегда они будут приводить меня в недоумение необъяснимостью своих поступков. Миг я колебался, застигнутый врасплох, напуганный этой быстротой, надо мной нависла опасность быть втянутым в нехорошую историю. Я отказался, не называя настоящей причины, точнее, даже не зная ее.
— Тогда он останется виновным.
— Он останется в живых. Важно спасти человека.
— Я спасаю большее: справедливость.
— Пострадаешь и ты, и он, и справедливость.
— Значит, на то воля всевышнего.
Эти мои смиренные слова звучали печально, горько, беспомощно, но они были искренни. Ничего иного мне не оставалось. Не понимаю, почему он взорвался от этих слов, будто я бросил ему в лицо пригоршню грязи. Может быть, потому, что я сдержал его порыв, помешал ему проявить благородство. Пламя вспыхнуло где-то в глубине его души, иное пламя, не то, что горело только что, оно было искреннее, чем-то ближе, глаза его сверкали жаркими искрами, щеки залила краска, он вцепился левой рукой в правую, пытаясь удержать ее взмах. Мне редко доводилось видеть столь сильное возбуждение, такой гнев. Я ожидал нападения, взрыва, ругани. К моему удивлению, он даже не вскрикнул, для меня предпочтительнее было бы это, а заговорил глухо, неестественно тихо, понизив голос до шепота, он был настолько взволнован, что даже переменился в лице. Впервые я слышал от него столь пылкие слова, он говорил, что думал, в порыве ярости не смягчая тяжких обвинений и оскорблений.
Я оторопело слушал.
— О несчастный дервиш! Может ли когда-нибудь случиться, что вы перестанете думать по-дервишски? Работа по принуждению, предназначение согласно божьей воле, спасение справедливости и мира! Как вы не подавитесь этими громкими словами! Неужели нельзя сделать то, что нужно человеку, не спасая при этом мир? Оставьте мир в покое, ради господа бога, он будет счастливее и без этой вашей заботы. Сделай что-нибудь для человека, имя которого ты знаешь, который случайно приходится тебе братом, сделай, чтоб он не погиб, ни сном ни духом не виновный перед той справедливостью, за которую ты ратуешь. Если б от смерти твоего брата зависел рай для всех обездоленных, ладно, пускай умирает, он искупил бы многие беды. Так нет же, все останется по-старому.
— Значит, так хочет бог.
— У тебя нет другого слова, более человечного?
— Нет. И мне не нужно.
Он подошел к окну, окинув взором небо над городком и окружавшими его горами, словно ища ответа или успокоения в этом безграничном просторе, а потом вдруг окликнул кого-то во дворе, узнал, подкованы ли лошади, и попросил поскорее привести музыкантов.
Тщетно, с трудом познаю я его. Только разгляжу с одной стороны, тут же открывается другая, мне неведомая, и я не знаю, где он настоящий.
Хасан был совсем спокоен, когда снова повернулся ко мне, и лишь улыбка его не казалась столь бодрой, как прежде.
— Прости,— сказал он, пытаясь выглядеть веселым,— я был груб и не прав. У меня повадки скотовода. Хорошо, хоть ругаться не начал.
— Все равно. Сейчас это не важно.
— А может быть, я не прав. Может быть, твое поведение разумнее. Наверное, лучше жить по небесным меркам, нежели по обыкновенным, земным. Неудачи тебя не тревожат, ты всегда располагаешь неограниченным временем и оправдываешь причины, лежащие вне тебя. Оттого личная потеря для тебя менее важна. И боль тоже. И человек. И сегодняшний день. Все продлевается во имя продления, оно безликое и огромное, сонно-вялое и торжественно-равнодушное. Как море: невозможно оплакивать бесчисленные жертвы, которых оно непрестанно требует.
Я молчал. Что мне было сказать? Его резкие слова открывали мне всю неуверенность и недоуменность, которым несть конца. Что оспаривать, с чем соглашаться, когда он сам не знает, где он? Он полон сомнений. У меня их нет. Я действительно думаю, что божья воля — высший закон, что вечность — мера наших действий и вера — важнее человека. Да, море существует испокон века и во веки веков, и не стоит его взбаламучивать из-за одной нелепой смерти. Он говорил об этом с горечью, вкладывая в слова иной смысл, без веры. А я хотел бы возвыситься, даже если речь идет о моем личном счастье.
Я не видел смысла пускаться в объяснения, он все равно не поймет, потому что думает иначе, не так, как я, я не могу согласиться на освобождение брата путем бегства или подкупа, ибо еще верю в справедливость. Если же я смогу убедиться, что нет справедливости в этом моем мире, мне остается покончить с собой или восстать против этого мира, который больше не будет моим. Хасан определенно сказал бы, что я мыслю по-дервишски, он сказал бы, что это слепая погруженность в предначертанное, поэтому лучше ничего не говорить, только я не знаю, как иначе жить человеку.
Неужели можно?
Взгляд мой был прикован к ветке с набухшими почками перед распахнутым окном. Пора уходить.
— Весна,— сказал я.
Как будто он не знает. Конечно, не так, как знаю я. Мне и в голову не пришло, что ему могло показаться странным это мое слово. Я им как бы завершал беседу и мысль и в то же время продолжал их.
Вспомнилось, как сегодня утром, когда море розовато-белых цветов сливалось с бесконечностью, когда светлые тени прятались под деревьями и пахло пробудившейся землей, я думал о том, как хорошо было бы отправиться по свету с миской дервиша в руках, ведомому солнцем, к любой реке, по любой тропе, без какого бы то ни было другого желания, кроме как нигде не быть, ни к чему не быть привязанным, видеть иное каждым новым утром и каждой новой ночью ложиться на другое ложе, отбросив сожаление и память, выпустить на волю ненависть, если ты ушел, значит, и она бессмысленна, отодвинуть от себя мир, обойти его. Но нет, не об этом я думал, просто я последовал желанию, недавно высказанному Хасаном, оно показалось мне таким прекрасным, таким освобождающим, что я осознал его как свое и целое мгновение мысленно определял его словами. Оно отвечало моей утренней сумятице, и я постиг его в конце, считая, что оно существовало. А его не было, это я точно знаю.
Я рассказал Хасану о встрече с мальчиком после унизительного отказа муселима принять меня.
— Зачем ты его окликнул? — смеясь, спросил Хасан.
— Он казался смышленым.
— Тебе было тяжело, ты спасался от муки, ты хотел позабыть о том, как стражники прогнали тебя, и тогда, в минуту большой личной невзгоды, ты обращаешь внимание на смышленых мальчишек и думаешь о будущих ревнителях веры. Не так ли?
— Если мне трудно, значит ли это, что я перестал быть тем, кто есть?
Он покачал головой, и я не понял, смеется ли он надо мной или жалеет.
— Скажи, что нет, прошу тебя, скажи, что брат для тебя важнее всего, скажи, что ты все пошлешь к черту, чтоб спасти его, ты знаешь, что он невиновен!
— Я сделаю все, что смогу.
— Этого недостаточно. Давай сделаем больше!
— Давай не будем больше об этом говорить.
— Ладно. Как хочешь. Только бы тебе не пришлось раскаяться.
Он был упрям. Не знаю почему, но он хотел пуститься в опасное и ненадежное предприятие по спасению человека, которого почти не знал, я был удивлен еще и тем, что это противоречило всему, что я о нем слышал. Однако он не лгал, он не только уговаривал меня, видя мое решительное несогласие, но, ни секунды не медля, готов был приступить к делу.
Можно предположить, что меня растрогала его готовность прийти мне на помощь, что эту жертву я принимаю со слезами на глазах. Но нет. Нисколько. Сперва мне хотелось, чтоб его предложение оказалось выдумкой, пустыми словами, ни к чему не обязывающими. Но свести к этому не удавалось, и, поскольку его искренность была несомненной, я ощутил на себе, как он зол и обижен. Мне казалось неприличным столь живое его участие, неприличным и навязчивым, скажу больше — противоестественным. Его рвение превосходило мое, он подчеркивал недостаточность моих усилий, жертвовал собой, чтоб показать, как мала моя любовь, он укорял и наказывал меня. Этот разговор был мучителен, мне хотелось, чтоб он поскорее кончился, мы не могли понять друг друга. А его вывод на основании моего рассказа о встрече с мальчуганом смутил меня, он как будто обнажил то, о чем я вовсе не думал, но что наверняка было правдой, и смысл всех его слов свел к мятежу. Уразумев это, я замкнулся в себе, превратился в осажденную крепость, в стены которой напрасно летят стрелы. Нет, он мне не друг, или же очень странный друг, зачем он обрубает мои корни, подрывает основу. Дружба между людьми, которые по-разному думают, невозможна.
Это горькое осознание (а оно было необходимо как воздух, как лекарство) помогло мне отразить его натиск и приступить к тяжелому разговору, который я все время откладывал, ни на минуту не переставая думать о нем.
Я мог по-дружески попросить его, я имел право на это, но моя мысль шла по иному пути, делая это невозможным; я мог сказать ему, что передаю чье-то поручение, которое меня вовсе не касается, но тогда мне будет трудно выразить свою просьбу, и все получится скверно. Лучше всего так: он мне не друг, это точно, и я передаю чужую просьбу, от которой мне тоже будет польза. Может быть, поэтому я не показал, что сержусь, ведь тогда я настроил бы его против себя и уменьшил шансы на успех.
Собираясь уходить, я словно невзначай вспомнил об этом и сказал, что был у его сестры, она пригласила меня (я знаю, заметил он, предупреждая тем самым, что придется сказать больше, чем может быть полезно) и попросила передать ему, Хасану, что отец лишит его наследства (знаю и это, улыбнулся Хасан) и что для него лучше всего было бы отказаться самому, ради окружающих, перед судьей, чтоб было поменьше срама.
— Поменьше срама для кого?
— Не знаю.
— Я не откажусь. Пусть делают, как считают нужным.
— Возможно, так лучше всего.
Не буду скрывать, я рассчитывал, что посредничество в этом неблаговидном деле поможет мне и моему брату. Однако, когда Хасан не согласился, я подумал, какой он грубый и упрямый, и лишь ценой большого усилия заставил себя держать его сторону. Мне было тяжко, ядовитые слова подступали к горлу, но иначе я не мог: вовеки не прощу себе, если он заметит мою игру. Не так я начал, все запутал, надо было сказать ему просто, по-человечески, ничего бы не случилось, если б он отказал мне, а теперь все пропало. Возможность, которой я так долго ждал, уходила безвозвратно, а у меня больше не хватало сил.
Я терял всякую надежду и понимал, что мой приход лишен всякого смысла, но Хасан неожиданно догадался сам:
— Если я откажусь от наследства, мой зять, судья, поможет твоему брату?
— Не знаю, я об этом не думал.
— Давай сделаем так! Пусть он поможет тебе, и тогда я откажусь от всего. Если понадобится, оповещу об этом с минарета. Мне ведь безразлично, и так и эдак они оставят меня безо всего.
— Ты можешь подать иск. Ты законный наследник и не причинил никакого вреда семье, твой отец болен, нетрудно доказать, что они оказывают на него давление.
— Знаю.
Мне стоило огромных усилий сказать это, я с трудом уже второй раз заставлял себя быть честным. Я хотел быть равным ему, я хотел, чтобы позже, когда я буду вспоминать о его великодушии, я смог бы оправдаться перед самим собой: да, я сделал все, что должен был сделать, даже во вред себе, я не обманул его, пусть решение принадлежит ему.
— Знаю,— сказал он,— сделаем тогда так. Мой зять тоже боится сутяжничества, он неглуп, хотя и лишен чувства чести. И к счастью, он жаден. Может быть, он нам и поможет, ведь для него важнее богатство, а не судьба маленького, никому не ведомого писаря. Давай используем человеческие пороки, если у нас нет иного выхода.
— Ты слишком щедро одариваешь. Мне нечем будет тебя отблагодарить.
Он улыбнулся и тут же уменьшил свой дар:
— Я немного дарю, все равно к ним отойдет. Кому охота по судам таскаться!
Теперь я мог вволю отговаривать его и не уговорил бы. Но я не стал больше искушать судьбу.
Поблагодарив Хасана, я начал прощаться. Хорошее настроение и надежда вернулись ко мне, он победил меня своим нерасчетливым великодушием. Как хорошо, он сам от всего отказался, и теперь я не буду сгибаться под тяжестью принесенной им жертвы, не обременил он меня благодарностью и не перестал быть мне другом. (Он мог стать всем в те первые дни, он еще не был ничем определенным, мне приходилось решать в каждый данный миг, словно при первой робкой любви, которая легко оборачивается ненавистью.)
— Жаль, что ты дервиш! — вдруг воскликнул он, громко рассмеявшись.— Пригласил бы я тебя поразвлечься с моими друзьями.— И добавил с лукавой откровенностью: — Не скрываю, потому что завтра ты сам узнаешь.
— Ты не любишь порядок?
— Да, я не люблю порядок. Я знаю, ты осудишь меня, но «вам — ваше, мне — мое». Неважно, что мы поступаем нехорошо, важно, что мы не делаем зла. А в этом зла нет.
Он подшучивал над Кораном, но без злобы и без насмешки. Он не любил порядка, не любил святыни, был равнодушен к ним.
Вдруг его оживление как рукой сняло. Открытые в улыбке губы стянулись в судорожную гримасу, загоревшее от ветра лицо чуть побледнело. Я посмотрел в окно, следуя за его взглядом: во двор входила статная дубровчанка с мужем.
— Они тоже пришли поразвлечься?
— Что? Нет.
На какую-то долю секунды он потерял власть над собой, волнение победило его. Зрачки остановились в широко раскрытых глазах, руки лишились прежней уверенности. Еще доля секунды — и все прошло, словно и не было. Улыбка вновь заиграла на лице, и снова я видел перед собой уверенного в себе человека, он был невозмутимо бодрый, спокойно радовался приходу друзей. Однако волнение пряталось внутри его, а внешне он был спокоен. Только почему-то он перестал видеть меня, будто я перестал для него существовать. Хотя и держался по-прежнему любезно, взор его не скользил мимо меня, он приглашал меня заходить, попросил зайти и к его сестре, вроде все оставалось по-старому, но мыслью он расстался со мною: весь был внизу, во дворе, рядом с женщиной, что пришла к нему с визитом. Мы пошли им навстречу, встретили их у входа, здороваясь, я украдкой, торопливо взглянул на нее, вблизи лицо ее не показалось мне красивым, у нее были впалые, бледные щеки, лихорадочно блестели глаза — от болезни или от печали, но во всем ее облике было что-то такое, что оставалось в памяти, я прошел сквозь облако легких духов, потрясенный неразрешимостью отношений этих людей. Вот почему он с такой заинтересованностью рассказывал о своей служанке и о двух конюхах! Не его ли это страдание, не его ли безысходность? Не будь он влюблен, все казалось бы легче и проще, но ведь внезапная бледность вряд ли может кого обмануть. Знает ли она? Знает ли ее муж, добродушный латинянин, низко поклонившийся мне с приятной улыбкой доброго, безразличного ко всему человека. Наверняка он ничего не ведает, страсть не терзает его. Если б и ведал, вряд ли бы убил. Женщина понимает, женщины всегда все понимают, хотя между ними ничего не было сказано, тем не менее она скорее предпочтет «да», чем «нет». Что происходит между ними, невысказанное, но столь очевидное, и мужем, который разделяет их своим присутствием, но отсутствием подозрений толкает друг к другу и всегда готов заполнить опасные паузы оживленной болтовней ни о чем? Как велико безумство этих молодых людей, отведавших, но не утоливших свои желания, какова зачарованность, пока она питается лишь мыслями, но может превратиться в опасную страсть? Неужели только ее тонкий, как тростинка, стан и тихая радость в блестящих глазах, отмеченных болезнью, сразили Хасана? Неужели лишь ради этого он порвал с прошлым, чтоб вот так безоглядно погрузиться в пламя страсти, которая не угасает и не может исчезнуть? Он думает о ней, не видя ее месяцами, а вернувшись, встречает ее, еще более прекрасную, столь желанную в мечтаниях дальних странствий, жадным взором впивается в нее, чтоб, запомнив, увезти ее образ с собою в новые странствия. Где замкнется круг, в котором, не сгорая, пылает страсть?
Сейчас он позабыл обо мне, если вообще когда-либо помнил, она давно вытеснила меня — и меня, и все остальное, что не является ею; и если в ту минуту я ненавидел ее, то лишь потому, что ее длинное атласное платье, по-девичьи полные губы и нежный голос зрелой женщины оказались важнее меня и моих страданий. Она вытеснила меня до полного исчезновения моего существа, уничтожила опору, которой у меня не было, однако мне бы хотелось, чтобы ничего не стало известно.
Опять я один.
Может быть, так лучше, ниоткуда не ждешь помощи и не боишься измены. Один. Я сделаю все, что смогу, зачем надеяться на несуществующую поддержку, и тогда все, чего я добьюсь, будет принадлежать мне — и зло и добро.
Я миновал мечеть на углу улицы, где жил Хасан, миновал медресе, ее не было видно за стеной, миновал улицу, где жили мастера, делавшие сандалии, дошел до кожевенников, запах латинянки выветрился, поблекла мысль о Хасане, я шагал мимо мастерских ремесленников, спокойно погруженных в свой труд, приближалась граница моих собственных забот и дороги в неведомое. Но почему в неведомое? Я не сомневался в успехе, не смел сомневаться, у меня не хватило бы тогда сил сделать следующий шаг. А я должен был его сделать, это был вопрос всей моей жизни или чего-то еще более важного. В тот момент я искал покоя, шагал мимо лавок, опустив голову, подавленный, усталый, я вдыхал запах кож и дубильных экстрактов, усталый, я смотрел на круглый булыжник мостовой и ноги прохожих, усталый, без капли сил, я жаждал добраться до своей комнаты и заснуть беспробудным сном, как покойник, заперев дверь, закрыв окна, как больной. Однако ни слабость, ни страх перед неведомыми трудностями, ни желание лечь и умереть, отказавшись от всего и смирившись с судьбой, не должны сейчас остановить меня. Никакая усталость или подавленность не должны воспрепятствовать мне выполнить мой долг. Все мое крестьянское упрямство и безжалостно отчетливая мысль о необходимости защищаться подгоняли меня. Должен. Иди вперед, умирать будешь потом.
Откуда берется этот страх и предчувствие грядущих бед, неужели мой опыт не мог меня предостеречь?
Услыхав цокот копыт по мостовой, я поднял глаза и увидел двух вооруженных стражников на конях, они ехали вплотную друг к другу и никого вокруг не замечали. Прохожие прижимались к стенам домов на узкой улочке, чтоб кони не отшвырнули их в сторону, чтоб не зацепили острые стремена. Стражники ехали медленно, и люди успевали уклониться в сторону, молча пережидая, пока они проедут. Намеренно они не хотели никого задевать, но и дорогу не уступали. Ехали, как бы никого не замечая.
Войти в любую лавчонку, думал я, и пропустить их или вжаться в стену, как остальные? Сделаю, как все. Позволю им унизить меня, проезд узкий, они целиком займут его, зацепят меня стременами, порвут джюбе, я даже не повернусь, пусть творят, что хотят, я останусь здесь с людьми, которые молча смотрят, которые ждут; чего ждали эти люди, пока стражники ехали прямо на меня? Хотели увидеть, как меня оскорбят, или услышать, как я прикрикну на них, звание и одежда дают мне на это право. Я хотел тогда и того и другого, мне вдруг показалось, что очень важно, решающе важно, как я поступлю, меня смутило, что все кругом смотрели в ожидании, на моей ли они стороне, против меня ли, равнодушны ли? И этого я не знал. Прикрикнуть я не смею, солдаты выругают меня, я окажусь смешным, а эти люди не выкажут сочувствия поверженному. Нет, пусть мне нанесут оскорбление, все увидят, что я пытался отойти в сторону, что я такой же, как они, бессильный, я даже захотел, чтобы меня унизили как можно больше, тяжелее в сравнении с остальными. Прижавшись к стене, всей кожей чувствуя ее неровности, опустив взгляд, даже не взволнованный предстоящим унижением, я обдуманно выбрал самое узкое место, с каким-то болезненным наслаждением ожидая того, что случится, люди услышат, выразят мне сочувствие, я стану жертвой.
Однако произошло непредвиденное: один из всадников опередил другого и они гуськом проехали мимо. И даже приветствовали меня. Я был ошеломлен, их поступок застал меня врасплох, все мои усилия оказались ненужными, и все получилось как-то смехотворно: и мой немощный героизм, и излишнее вжимание в стену, и готовность принять обиду. Я пошел дальше, не поднимая глаз, мимо стоявших людей, которые молча провожали меня взглядами, обманутый и пристыженный. Так немного осталось, чтоб слиться с ними, но стражники выделили меня.
Однако когда я прошел сквозь воображаемые плети взглядов, не осмеливаясь встретиться с ними, когда я свернул на другую улицу, где не было больше свидетелей моей напрасной жертвы, напряжение спало и я почувствовал себя избавленным от тяжести, я снова поднял глаза и смотрел на людей, стал отвечать на приветствия, смиренный и тихий, мне становилось все очевиднее, как хорошо, что именно так все закончилось. Они признали меня, проявили свое уважение, отказались от насилия надо мной, а мне этого и было нужно, я даже загадывал про себя, прижимаясь к стене: если проедут гуськом, все будет хорошо, удастся то, что я намереваюсь сделать. Нет, я только подумал об этом, потому что суеверно боялся связывать желанный успех с невозможным условием, с чудом. Как бы там ни было, произошло чудо или нет, но было предвестие и доказательство. Как же я, маловер, мог даже представить себя отвергнутым и бесправным? Откуда это? Кому принесет пользу? Я оставался тем, кем был: дервишем известного ордена, шейхом текии, признанным ревнителем веры. Как я могу быть отвергнут и почему? Я не желаю, не хочу, не могу быть никем иным, и все это знают, зачем же мне препятствовать? Я все сам выдумал, без нужды все запутал в себе, не знаю, как родилась эта трусость, я сотни раз стоял под знаком смерти и не боялся, а сейчас сердце, словно камень, мертвое и холодное. Что же произошло? Во что превратился наш героизм? В постыдный трепет от уханья филина, от громкого окрика, от несуществующей вины. Так жить не стоит. Зубами я стискивал саблю, переплывая реку, полз на брюхе по плавням, жадно вслушиваясь в дыхание врага, никогда не кланялся пулям, а сейчас боюсь вшивого стражника. Увы, горе горькое, что-то стряслось с нами, что-то страшное стряслось с нами, мы уменьшились и даже сами этого не заметили. Когда мы это утратили, когда мы это допустили?
Вяло тянется день, тени уже покусывают его, пусть он тянется, чтоб мне не войти в ночь со стыдом и мучениями. Я знал, куда иду, еще не решив даже, что пойду к нему. Бессознательно я думал о нем, надеясь, что жена рассказала ему о нашем разговоре, оба мы будем делать вид, будто ничего не знаем, будем беречь якобы какую-то тайну, не станем упоминать Хасана, но мой ясный взгляд все откроет. А если и не сказала, мне нечего бояться. Может быть, лучше было бы сперва зайти к ней, принести, как подарок, весть о согласии Хасана. Тогда легче толковать с ее мужем.
Напрасно, трусость нас обуяла, она нас ведет. Она говорит вместо нас, будь она проклята, даже тогда, когда мы стыдимся ее.
Я воспользовался минутой досады и сделал все сразу, чтоб не откладывать на никогда.
К моему удивлению, Айни-эфенди принял меня тут же, словно давно ожидал, ни челядинцы, ни доклады не обгоняли меня, хотя в коридорах ощущалось скрытое присутствие многих людей и глаз.
Он встретил меня любезно, приветствием, которое не было ни шумным, ни равнодушным, не лицемеря, будто обрадован или удивлен моим приходом, во всем соблюдая меру, с неопределенной улыбкой, не пытаясь ни испугать, ни ободрить. Это честно, подумал я, но чувствовал себя неуютно.
Откуда-то вылезла кошка, посмотрела на меня злыми желтоватыми глазами и, вытянув мордочку, подошла к нему. Не отводя взгляда от меня, взгляда учтиво-рассеянного, он поглаживал избалованное животное, которое сладострастно изгибалось под его ладонью, терлось боком и шеей о его ногу, а потом и вовсе забралось к нему на колени, свернулось клубком и замурлыкало, зловеще щурясь. Теперь за мной следили две пары глаз, обе желтоватые и настороженно-холодные.
Думать о его жене не хотелось, но ее образ всплывал из тьмы, из дали, ради него, оцепенелого, насторожившегося, со спрятанными в длинные рукава ладонями, наверняка душившими там друг друга, с прозрачным лицом, тонкими губами, узкими плечами, начисто вымытого, хрупкого, у которого в жилах течет вода, как же проходят ночи в этом огромном глухом доме?
Он сидел, непостижимо спокойный, не испытывая потребности двигаться (как окоченевший покойник или оцепенелый факир), с тем же выражением на лице, какое у него было, когда я вошел, с ничего не значащей улыбкой, обманчиво натянутой на безгубый рот. Меня эта улыбка утомляла больше, чем его.
И только иногда — для меня это всякий раз оказывалось неожиданностью — вдруг оживала его рука, выползала змеей из рукава (у его жены руки как птицы), и глаза его устремлялись к точно таким же, кошачьим, на секунду смягчаясь.
Не знаю, как долго я сидел, были сумерки, потом стемнело, у него на коленях сверкали фосфорные глаза, к моему удивлению, или же мне почудилось, у него оказалось четыре мерцающих глаза, потом внесли свечи (как в тот вечер, но у меня больше не было сил думать о ней), мне стало совсем худо, не давала покоя мертвая улыбка, пугал мертвый взгляд, пугала тьма за его спиной и тень на стене, меня тревожило и тихое шуршание, словно вокруг нас бегали крысы. Однако самым жутким, наверное, было то, что он ни разу не повысил голоса, не изменил манеры речи, не взволновался, не рассердился, не улыбнулся. Медленно вываливались из него слова, желтые, восковые, чужие, и всякий раз я снова удивлялся, как ловко он их укладывает и находит для них нужное место, потому что сперва казалось, будто они рассыплются у него, собравшись где-то в яме рта, и потекут в беспорядке. Он говорил упрямо, терпеливо, уверенно, ни разу ни в чем не усомнился, не допускал никакой иной возможности, и, если я изредка противоречил ему, искренне удивлялся, словно его обманул слух, словно он говорил с безумцем, и продолжал снова нанизывать фразы из книг, разбавляя ветхость их возраста гнилью своей мертвечины. Что он говорит, обеспокоенно спрашивал я. Неужели он думает, будто я не знаю этих избитых фраз или позабыл их? Возможно, так рассуждает его высокое кресло или возложенные на него высокие обязанности? Неужели он говорит лишь по привычке или для того, чтоб ничего не сказать, быть может, чтоб посмеяться, разве у него нет иных слов, кроме этих вызубренных? Видимо, он терзает меня, чтоб довести до безумия, а кошка для того и сидит, чтоб в конце концов вцепиться мне в глаза?
Потом я подумал, что он в самом деле позабыл все обыкновенные слова, и это показалось мне ужасным: не знать ни одного своего слова, ни одной собственной мысли, онеметь по отношению ко всему человеческому и говорить без нужды, без смысла, говорить передо мной так, будто меня здесь нет, быть вынужденным говорить, но ведь его разговор — это только память. И я приговорен слушать то, что мне давно знакомо.
Он сошел с ума? Или он покойник? Призрак? Самый страшный палач?
Вначале я не верил сам себе, казалось невозможным, что живой человек, стоящий перед ним, и живой узник в каземате не вынудят его произнести хоть одно живое слово. Я пытался приблизить его к человеческому диалогу, чтоб он хоть что-нибудь сказал о себе, обо мне, о моем брате, все было напрасно, он изрекал то, что было в Коране. Увы, тем не менее он говорил и о себе, и обо мне, и о моем брате.
Тогда я тоже погрузился в Коран, зная, что он принадлежит и мне, не только ему, я знал Коран так же, как он, и начался турнир слов, которым тысяча лет, которые заменили собой все наши будничные слова, теперь они извлекались ради моего арестованного брата. Мы чем-то напоминали два заброшенных источника со стоялой водой.
Когда я сообщил ему, зачем я пришел, он ответил фразой из Корана:
— Кто верит в бога и в день Страшного суда, тот не водит дружбы с врагами аллаха и посланниками их, хотя бы это были отцы их, или братья их, или родственники их.
— Что он сделал? — возопил я.— Скажет ли мне кто-нибудь, что он сделал?
— О правоверные, не спрашивайте о вещах, которые могут ввергнуть вас в печаль и заботу, если вам открыто сказать о них.
— Я буду твоим должником до гроба. Я пришел затем, чтоб мне прямо сказали. Я и так целиком погружен в печаль и заботы.
— Возгордившиеся блуждали по земле и распространяли нечестие.
— О ком ты говоришь? Не могу поверить, что о моем брате. Всевышний говорит это о неверных, а мой брат правоверный.
— Горе тем, кто не верует.
— Я слыхал, будто он арестован за какие-то слова.
— Не может быть тайного разговора и шептаний между тремя, чтобы господь не стал четвертым между ними. Тайные встречи — дело рук дьявола, ибо он хочет причинить вред правоверным.
— Я хорошо знаю своего брата, он не мог учинить худое!
— Не будь пособником и опорой неверным!
— Господи, он брат мне!
— Если вам отцы ваши, сыновья ваши, братья ваши, жены ваши, семьи ваши милее всевышнего, его посланника и его борьбы, не ждите милости божьей.
— О правоверные, избегайте хулы и клеветы, ибо хула и клевета суть грех.
Это сказал я.
Я отмерил ему той же мерой, из Корана, у меня не было больше сил пользоваться обычными словами, ибо он был сильнее меня. У него божьи основания, у меня — человеческие. Мы не были равноправны. Он возвышался над вещами и говорил словами создателя, я пытался положить свою мелкую беду на весы обыкновенной людской справедливости. Он заставил меня подвести мой случай под вечные мерки, чтоб лишить его значения. Я не уловил тогда, что в этих пределах Вечности потерял брата.
Он тогда защищал свои принципы, я — себя; он — спокойный и уверенный, я — взволнованный, почти взбешенный. Мы говорили одно и то же, но каждый по-своему.
Он сказал: Грешников не будут оплакивать ни небо, ни земля. А я думал: Горе человеку, если измерять его величиной неба и земли. Он сказал: Воистину несчастен будет тот, кто душу свою запятнает. И дальше: О Зулькарнайн, Яджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле.
А я сказал: О Зулькарнайн, Яджудж и Маджудж распространяют нечестие по земле. И: Воистину несчастен будет тот, кто душу свою запятнает. И: Рядом с Истиной стоит заблуждение. И: Да простится людям и будет им оказана милость, разве вы не хотите, чтобы аллах простил вам? И еще: Воистину человек — великий насильник, а насильники — далее всех от Истины.
Он умолк на мгновение и спокойно, по-прежнему улыбаясь, сказал:
— Горе тебе, горе тебе и опять горе тебе!
— Аллах — прибежище для каждого,— сбитый с толку, ответил я.
Потом мы смотрели друг на друга: я — истерзанный всем, что было сказано, думая о том, что позабыл о брате, а себя только подвел; он — спокойный, поглаживая задранный хвост отвратительной кошки, изгибавшейся у него за спиной. Мне следовало уйти, лучше б вовсе не приходить, я ничего не узнал, ничему не помог, а сказал то, что не следовало. Ибо Коран тоже опасен, если слово божье о грешниках связываешь с тем, кто определяет грешников. Тысячу раз раскаешься в сказанном, но редко в том, о чем умолчишь, я знал эту мудрость, когда она не касалась меня. Лучше всего слушать, а говорить лишь самое главное, я упустил это, а был уверен, что это важно. Вчера вечером это случилось, это касается нас обоих, женщина не сказала ему, будто таила от него. Вспомнил я: друга я предал ради этого.
И я рассказал ему коротко, пытаясь побороть охвативший меня стыд, о том, как уговорил Хасана отказаться от наследства. Ничего более, только об этом. Ни в какую связь не поставил я ни себя, ни теперешний свой приход, ни брата. Но он свяжет, должен связать и не сможет ответить мне словами Корана. Этой быстрой переменой разговора я пытался зло напакостить ему, насладиться тем, что измараю его его же собственной алчностью.
И снова я обманулся. Он ничем не показал, будто понял меня, не удивился, не уловил я в нем ни злобы, ни радости, а в священной книге он подыскал ответ и на этот случай:
— Греховен тот, кто просит, но греховно и то, что у него просят.
Слова его могли содержать все или ничего. Намек на окончание беседы, скрытую злобу, насмешку.
Тщетно, он сильнее. Он похож на покойника, но он не покойник, убежденность безумствует в нем.
У него на коленях под рукой сверкали кошачьи глаза, я страшился встретить его взгляд, пронизывавший меня леденящим фосфорным светом.
Опустив глаза, я молчал, напуганный своей ненужной смелостью и его превосходством.
— Заходи,— любезно произнес он.— Мы не часто встречаемся.
Не печальтесь, но радуйтесь раю, который вам обещан.
Я вышел в ночь, одеревеневшие ноги уносили меня, ледяная жуть наполняла жилы, усталость, раскаяние, гнев, страх — все это вместе ужасало и обессиливало, копилось в душе, оседало на самом ее дне, и там утопало сознание. Айни-эфенди учтиво проводил меня до коридора, свечи трепетали в руках двух слуг (как они узнали, что я ухожу?), слепили меня своим танцем в безумной тьме, он пригласил заходить, когда пожелаю. Возможно, он ждал, что я вернусь, возможно, мне следовало вернуться, сказать, что я не имел в виду ничего плохого, я изнемогал, встревоженный и обеспокоенный, поэтому да позабудет он все, что я сказал. Может быть, следовало вернуться, убить его, схватить за шею и задушить. Но и тогда не исчезла бы улыбка с бледных губ, не погасли бы желтые фосфорные глаза.
Я тер мокрые от пота руки, словно на ладонях сохранилась влага его кожи, растопырил пальцы, вытянул их вперед, чтоб улетучилось воображаемое прикосновение, я пытался освободиться от него.
Долго брел я вдоль берега реки, навстречу попадались редкие прохожие, жители рано запираются в домах, в ночи остаются лишь ночные сторожа, забулдыги да бездомные.
Меня тянуло в текию, хотелось запереть тяжелую дверь и остаться в одиночестве. Желание было сильное, как инстинкт самосохранения. Однако я не позволил слабости овладеть собой, сопротивлялся, творя над собой насилие, ибо понимал, как может быть сейчас опасно столь желанное мне отступление, оно принизит меня, обесценит, отберет право на самоуважение, и я не смогу в дальнейшем что-либо предпринять, буду с поникшей головой ожидать ударов, уйду в страдание, превращусь в ничто. Я не смею сдаваться. Я бросил им вызов и должен держаться на ногах. Если я отступлю, я добью самого себя.
Я шел по тихому берегу, слушал движение реки и ждал успокоения, ибо природа, ее могучая жизнь успокаивают человека, может быть, именно потому, что равнодушны к нему. Но река не помогла, моя скорбь была сильнее.
Я не надеялся встретить беглеца Исхака, я изменился с той поры, когда бессознательно пытался услышать его голос в мечети. Его мнение, его совет теперь меня не касались. У него иная, своя цель, и к бедам он относится, как к дождю, как к грозовой туче. Я же не думаю о конкретных бедах. Я понимал, что все во мне поставлено под сомнение. ВСЕ — это воспринималось весьма неопределенно, но и весьма ощутимо. Это растерянность и перепутье, я выбит из привычной колеи, а другой я не знаю, это ощущение неведомого ужаса из-за пустоты, из-за безмолвного пространства, которое могло возникнуть вокруг.
Может быть, кто-то далекий и незнакомый прочтет мои необычные записи и, опасаюсь, поймет не все, ибо, кажется, в самом деле мы, дервиши, особым образом воспринимаем себя и мир, полагая, будто все у нас зависит от других. Никто из людей не бывает столь бессильным и столь лишенным здравого смысла, столь безнадежно погубленным в себе самом, как мы, если нас оставить в одиночестве. Мы и сами с трудом постигаем это до той поры, пока это не произойдет.
У деревянного моста, где река делает поворот, меня остановил ночной сторож. Он стоял, спрятавшись в тени дерева, и шепотом велел мне укрыться, пока они не уйдут, так сказал он. Какие-то парни кидали камни в уличный фонарь.
Зазвенело стекло, желтый огонек погас, и они не спеша удалились.
Сторож спокойно смотрел им вслед и толковал мне, что обычно они каждый вечер что-нибудь ломают. А он прячется — своя голова дороже. Завтра придется раскошеливаться местным жителям, не ему же выкладывать из своего кармана. Почему он не донесет, спрашиваю я, да на кого ж доносить, ведь он не знает, кто это? Ночь, тьма, даль, человек может на душу грех взять. Я сказал, что на его месте я бы не стал потакать, он ответил, что он бы тоже — окажись на моем месте. А так он и не видит, и не слышит, что еще остается делать, он как лепесток одуванчика: дунь — и нет его. И бог их знает, чьи они, все сыто-пьяно, одето-обуто, не озябло, не прозябло, до рассвета все скитаются, ищут бабу, да простит мне мое звание, ищут беды. Целыми богом данными ночами спасается он от них, пытается избежать нежелательной встречи, а не убережется, скажет им: пойдите ненадолго в другое место. А они ответят: не хотим, а он им скажет: не надо. А они ответят: цыц, старый болван, знаю, скажет он, с каждым днем становлюсь все большим болваном, хочешь, мы тебя в речку окунем, скажут они, нет, скажет он.
Так они побеседуют, а он только и выжидает, как бы улизнуть. Такое его занятие, говорит, разных разностей наслушаешься и насмотришься. Ночь создана для темных дел, а он, бродя до рассвета, порой узнает и то, чего не желает и что его не касается. А многих касается, однако он болтать не любит, особенно если впустую: зачем понапрасну время терять? То, что он знает, другому не нужно, не сможет он это ни проесть, ни пропить, а кое-кому могло бы сгодиться. Вот ему и кажется странным: он знает, а его не касается, другого касается, да тот не знает. Его, ночного сторожа, оно касается лишь тогда, когда может он подарить эти свои знания, вручить тому, кому они пользу принесут, а все по любви и дружбе, чтоб к детишкам не с пустыми руками прийти. Правда, только так это говорится: дружба, не так уж чтоб очень густо она водилась, ночью ее не видать, а днем он отсыпается и не знает. Да и оттого, что знает, особого счастья не получил. Даже на свою бабу стал исподлобья глядеть — не замышляет ли она зла какого. Ну, ясное дело, что про жену сказал — это красного словца ради, глаза бы она его лишила, то есть себя, если б ему понадобилось, и он об этом тоже лишь примера ради.
Слушал я эту хитроумно-бессвязную речь, эту лихую откровенность всехнего соглядатая, готового продать чужие тайны, мне-то они ненадобны, и не спешил уйти, долго стоял, скрашивая время и себе и ему, ему хотелось поболтать, мне — послушать, все равно что, занятным показалось, как это он вначале вроде бы прячет мысль, а потом ее совсем обнажает, какой он переменчивый в своей изворотливости. Потом появилась в нем мудреность и капризность, стар он, пятьдесят лет самое меньшее, а старым людям скучно, или боятся они одиночества. Потом он предложил обойти с ним улицы, наверняка не доводилось видеть городок глубокой ночью, а живой человек все должен видеть, особенно хорошо на заре, когда в пекарне горячие хлебы вынимают. Можем и в улицу, где живет Хасан, заглянуть, если есть желание. Хасан гуляет, позвал музыкантов, встанем где-нибудь в сторонке и послушаем, греха тут нет, а душу повеселить может любую, в том числе и дервиша. Выказал сожаление, когда я не согласился. Как хочешь, сказал, как хочешь, воля твоя, зря, что не хочешь. Удивило меня это его предложение, что в нем — грубая шутка или детская забава. Наверняка станет поджидать кого-нибудь другого.
— Ну ладно, иди,— напутствовал он, провожая меня.
Боялся он, что ли, чего-то?
Он остался в чьих-то воротах под навесом, неразличимый в тени.
Чудный мир, думал я, шагая по пустынным улицам.
Как все меняется, когда спускается тьма. Для греха нет установленной поры суток, но естественное для него время — ночь (сейчас спят разумные маленькие и тупые большие дети и те, кто успевает сделать зло днем). И всегда, когда тьма.
Ну вот, можно сказать, добились: оттеснили грех в невидимое и тем сделали его страшнее.
Шел я по утихшему городу, слышал далекий голос зурны, иногда мелькали людские тени, беспокойные, как меченые души, во дворах лаяли собаки, лунный свет казался свинцовым, крикни предсмертным криком — ни одна дверь не раскроется, а мне об эту пору невмочь остановить то, что утекает, все в душе сопротивляется и минувшему и грядущему, только не удается перейти границу ночи. Я чувствую ее как бы издалека, будто с горы гляжу на печальную местность, вне ее я и в ней, отлученный и поглощенный ею. Мелким кажется мне все в этом моем мире, много людей рождается в эту минуту, много умирает, много любви, много бед. В моем мире, ибо другого нет. Вокруг него тени и пустынность луны. Вокруг — тихие шаги времени. Во мне — беспомощное равнодушие и безжизненная тишина. Нет во мне прозрения, как не бывает его у неверных.
Что ж это за неведомый грех, за который ты наказуешь меня, всевышний?
Прошу тебя, услышь мою молитву.
Спасение и мир Исхаку, которого нет в этой ночи.
Спасение и мир Ахмеду Нуруддину и его брату Харуну, которого ищут этой ночью.
Спасение и мир всем, затерянным в великом безмолвии между небом и землею.
Надо было остаться со сторожем, чтоб не быть наедине с собой и своей немощью — воспротивиться или примириться?
Пустой я и печально-равнодушный. И как, однако, обрадовался, подойдя к текии. Значит, не пустой я, не равнодушный, ибо хорошо, когда человеку что-то дорого или чего-то жаль, безразлично чего. И едва я отметил в себе присутствие этой крохотной радости (заглянул в душу и посмотрел, что происходит в ней,— так пахарь глядит в небо, на облака и на ветер, чтоб узнать, какая будет погода), как почувствовал себя более уверенным, видя над собой лоскут чистого неба. Он существует даже тогда, когда мы не видим его, существует, когда мы в нем сомневаемся.
Когда я вступил в свою узкую улочку, по-родственному обнявшую меня, из тени под стеной выступила чья-то фигура, в лунном свете я заметил лишь голову, словно человек вынырнул из воды, оставив тело где-то в другом месте. Видимо опасаясь меня испугать, он произнес как можно мягче:
— Долгонько ты задержался. Я давно тебя жду.
Я молчал, не зная, что сказать, о чем спросить. Лицо его показалось мне знакомым, хотя я не мог вспомнить, когда его видел, оно запомнилось мне каким-то особенным образом, то ли какой-то одной чертой, то ли выражением, то ли непохожестью, будто когда-то у кого-то видел и забыл, поскольку мне было ни к чему.
Я посмотрел на текию, тихую и безжизненную, залитую лунным светом, и когда снова повернулся к нему, то уже позабыл его взгляд. Опять повернулся, стараясь запомнить его лицо, но напрасно, оно стиралось в памяти, едва я переставал смотреть, какое-то поражающе безликое.
Он обратил на это внимание и поспешил сказать:
— Меня послали друзья.
— Какие друзья?
— Друзья. Я думал, ты сегодня вовсе не придешь, в текии мне ничего не могли сказать. Долго ты где-то задержался.
— Бродил по улицам.
— Один?
— Был один до сих пор. И этого было достаточно.
Он засмеялся, вежливый, предупредительный.
— Как же, понимаю!
Лицо у него было плоское, широкое, нос разделял его как бы на две ладони, крепкие губы растягивались в веселой улыбке, живые глаза внимательно всматривались в меня. Как будто он был счастлив оттого, что мы встретились, радуется всему, что я скажу или сделаю. Если бы не ночь и мы не были бы одни. Внешность его могла показаться приятной, если б не ночь и мы не были бы одни. Не боюсь я этого человека, и следа страха нет во мне, не боюсь и насилия. Только чувствую себя странно, будто что-то сжимает сердце. Нетерпение обуяло меня.
— Ладно, друг, говори, что тебе нужно, или позволь мне пройти.
— Ты гулял по улицам, понапрасну тратил время, а сейчас вдруг спешишь!
Я попытался пройти, но он преградил мне путь.
— Подожди. Послушай, что я скажу.
Мне показалось, он смутился, подыскивая нужные слова или чувствуя себя неловко оттого, что задерживает меня. Но гнул свое.
— Затрудняешь ты мою задачу. Теперь и не знаю, с чего начать.
— Ты долго ждал, мог придумать.
— И правда.— Он весело рассмеялся.— Нелегко с тобой. Ну ладно. А может быть, лучше войдем в текию?
— Хорошо. Пошли.
— Как хочешь, можно и здесь. Поручение короткое. Как ты думаешь, от кого оно?
— Мне не от кого ждать поручений, друзья сами скажут, что им нужно. Ты что, дурака валяешь или хочешь меня позлить?
— Еще чего! Смешные вы, ученые люди! Что из того, если я пошутил? Неужели мы не можем поговорить как люди? Ладно. Друзья советуют тебе призадуматься над тем, что ты делаешь.
— Ты, должно быть, ошибся, наверняка не знаешь, с кем говоришь.
— Я не ошибся и знаю, с кем говорю. Советуют призадуматься. Слишком ты тороплив, это небезопасно. Для тебя, я имею в виду. Зачем ношу на себя взвалил, вроде тебя никто не заставляет? Придумал заботу человек без забот! Так ведь, а?
Итак, угроза. Намеренно уничижительная, она вложена в уста полицейского дурачка, который еще и забавляется, давая мне советы. Сейчас я ему интересен, как редкий зверек, попавший в капкан, он даже питает ко мне симпатию: отчего, мол, не позабавиться.
— Ладно,— ответил я, подавляя гнев, мне не хотелось выказывать его перед этим человеком.— Скажи своим друзьям…
— И твоим.
— Скажи этим друзьям, что я благодарю их за совет, хотя они могли и сами мне сказать. А за все, что делаю, я отвечаю перед богом и перед своей совестью. Ты запомнил?
— Отчего ж нет! Но ты мог бы, я думаю, ответить и перед кое-кем другим. Перед богом легко, он простит. А перед своей совестью еще легче: заговоришь ей зубы тысячью оправданий. А вот когда окажешься в цепях, наверху в крепости, туговато придется. Да еще узнаешь, что ты под подозрением.
— Я ни в чем не виновен.
— Ну да, не так уж и не виновен. Кто из нас не виновен, скажи честно? Ну вот, например, приходит в текию гуртовщик Хасан? Приходит. Заводите. Ну и…
— Как тебе не стыдно!
— Мне не стыдно, эфенди. А не в текии ли прятался беглец? В текии. Убежал он? Убежал. А кто ему помог убежать?
— Я позвал стражников.
— Поздно ты позвал стражников. О прочих провинностях я и не говорю. А ты говоришь: не виновен! И опять же, кто-нибудь обо всем этом тебя спрашивал? Никто. Ну вот я и говорю: не ищи беды. Не хочешь — твое дело, не так ли? Мое дело сказать.
— Это все?
— Куда же больше? Для умного человека и этого достаточно. Но если понадобится, найдется еще, не беспокойся. Вначале так все спрашивают: это все? Потом уже не спрашивают. Я люблю храбрых людей, только где они? Ищешь, ищешь, и хорошо, если найдется один чуть позаносчивей. Один среди стольких. Плюнуть на мир охота! Вот так. И не говори потом: я не знал. Теперь ты знаешь.
Он смотрел на меня с тем же интересом, как и вначале, но теперь он сделал свое дело и желал увидеть результат — сумел ли он посеять во мне страх.
Слова его встревожили меня, но страха я не испытывал. Душила злоба. Появилось даже упрямство — выстоять, рожденное мимолетной мыслью: как они хотят остановить меня в том, что я по справедливости делаю. Это означает, что они не уверены и боятся. Ибо, будь это не так, зачем бы они стали предупреждать? Сделали бы по-своему, не обращая внимания на то, как я поступаю и что говорю. Это лишь утвердило чувство, давно возникшее у меня, что я кое-что значу здесь, в этом городе, в ордене дервишей, что я не прошел по земле незаметным и незначительным. Они не настолько глупы, они знают, что, напади они на меня в открытую, это принесет им только вред, тогда все поймут, что они никого не уважают, даже самых честных, самых преданных, а этого им не хочется показывать, да и незачем.
Так я размышлял, направляясь к текии, и во мне росла уверенность: пожалуй, хорошо, что они подослали ко мне этого человека, значит, страх их обуял, а нанесенным оскорблением они лишь усилили мою решимость. Я понимал, что медлить нельзя, я должен скорее попасть к тому, кто может все рассудить. Не будь сейчас ночь, я пошел бы сию минуту. Меня обрадовала моя собственная готовность не мешкать, к чему предаваться пустой печали и беспомощно ожидать, надо сделать все возможное. Разве должен я блуждать по улицам наподобие лунатика с парализованной волей. Человека определяет не то, что он думает, а то, что делает.
Но когда я закрыл тяжелые дубовые ворота и задвинул засов, когда оказался под сенью сада в текии, неожиданно, вопреки всякому ожиданию, вопреки логике, ибо все меня здесь защищало, я ощутил мучительное беспокойство, вдруг, почти без каких бы то ни было толчков изнутри, в тот момент, когда я открывал и закрывал ворота, двигая засов и проверяя, попал ли он в свое деревянное ложе, будто упустил мысль, что поддерживала мою бодрость. Она исчезла, упорхнула в ночь, как дикая птица, и на смену ей пришла тревога, похожая на страх, только, не знаю почему, я не решился осмыслить его причины, возможно, боялся именно этих причин, окутанных мраком, невыясненных, убежденный тем не менее, что они существуют. Жаром обдала меня эта мысль, поразила будто параличом, обожгла молнией, отозвалась глубоким глухим громом: я обложен.
Ни тогда, ни много времени спустя мне не пришло в голову, что человеческая мысль — прихотливая волна, которую поднимает или успокаивает причудливый ветер страха или желания.
Я только вновь понял, осознал, ибо позабыл о том, что предчувствие — первый вестник несчастья.
Но в ту минуту я твердо верил, что не имею права сдаваться. Завтра на рассвете воздвигну плотину перед этой волной, рев которой уже долетал до моих ушей.
Я не сдамся.
Пусть отсохнут у меня руки, пусть онемеют мои губы, пусть опустеет душа, если я не сделаю всего, что должен сделать человек. А господь пусть рассудит.
Утром я исполнил свои священные обязанности, может быть суетливее, нежели обычно, привнося тревогу в знакомые движения и слова воспоминаниями о вчерашнем, думая о значении предстоящего, чувствуя себя словно перед решающей битвой, ни секунды не колеблясь в том, надо ли идти. Меня могут ранить в бою, я могу погибнуть, потому моя молитва была более жаркой, чем обычно, отступление невозможно, потому клятва и присяга, с помощью которых я вчера боролся со своими колебаниями, сегодня были не нужны. Я вспоминал — в самом деле, все было как перед боем тогда. Вчера вечером, вернувшись, я искупался, надеясь, что вода успокоит, помылся и сегодня утром. Надел чистую рубаху, выбрал свежую, белую как снег. Как тогда. Только в тот бой я шел с другими, в ряду, что был тверже камня, обнаженная рука сжимала обнаженную саблю, во взоре пылала радость. Теперь я иду один, о дорогая, далекая пора, черная джюбе цепляется за ноги, руки уныло повисли, в душе тоска.
Но я иду. Должен.
По пути я завернул к Хасану. Времени у меня было немного, но не утерпел, завернул, не смог пройти, не повидав его, мне казалось, что можно упустить нечто важное. Хотя сам не знал почему, помочь он не мог, совет дать — тоже. Вероятно, потому, что он ближе всех, хотя и он тоже не очень близок. Это походило на ворожбу, на защиту от сглаза: его бодрость может принести счастье.
Дома Хасана не оказалось. Я долго стучал кольцом в ворота, думая, что он спит, и, когда совсем отчаялся, ворота неожиданно открыла та самая маленькая женщина, она смущенно прятала лицо и поправляла волосы. Спеша и заикаясь, она объяснила, что Хасана нет дома, ушел вчера вечером и еще не возвращался, ее муж его ищет, теперь они ждут их обоих. Вдвоем ждут тех двоих, запершись, взволнованные, обрадованные чужой бедой, которая принесла им счастье.
Перед уходом я сказал хафизу Мухаммеду, куда иду, хотелось узнать его суждение. Что бы он ни ответил, я не стал бы менять свое решение, но хотелось, чтоб он ободрил. Он был внимателен, словно это я был больным, а не он. Надо идти, изрек он. Жаль, что ты не сделал этого раньше. Наш долг — помочь даже незнакомому человеку, а тем более родному брату. И не надо колебаться, никакого зла ты не делаешь. Так он говорил, искренне и взволнованно, правда, не очень меня обрадовал, ибо этого я и ожидал. И он знал, что я этого жду. Хороший человек всегда так скажет, это не мнение его, а всего лишь пустое сочувствие.
Хасана нет. Никогда не найдешь того, кого ищешь.
Проходя мимо пекарни, я вдохнул аромат горячего хлеба и вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Ночной сторож, помнится, говорил о хлебе. Этого сторожа мне тоже нужно найти сегодня. Как это я не сообразил, вроде он хотел что-то мне рассказать. И не только о том человеке, с угрозой поджидавшем меня. Ведь вчера он чуть ли не силой удерживал меня, хотел, чтобы я расспрашивал его. А я оказался глухим и слепым.
Потом я заставил себя думать о жене кадия, снова пойду я в тот хмурый дом, о Хасане, о том, что он делал вчера вечером и куда ушел, о своем отце, сразу сообщу ему, как только все решится, о минувшей ночи, долгой и бессонной, о массе мелочей, о том, что никто не подрезал розы в нашем саду, они будут колоться, о детях Мустафы, все чаще они сидят перед текией, жена прогоняет их, чтобы не мешали, а Мустафа ворчит, но выносит еду, люди посмеиваются над ними, обзывают ребятишек дервишскими ублюдками, а у меня не хватает сердца, чтобы прекратить это; и еще бог знает о чем, только бы не думать о разговоре с муфтием. Не потому, что мне нечего ему сказать, но потому, что все после этого будет кончено. Пока нет приговора, можно еще надеяться, а потом остается только он. Если хороший — надежда не нужна, если плохой — какой смысл думать?
Дом муфтия уединенно стоял в саду, на горе, обнесенный высокой стеной. Внутри мне бывать не приходилось. Не придется, видимо, и сейчас.
Караульный у входа сказал, что муфтия нет. Уехал.
— Когда вернется?
— Не знаю.
— Куда уехал?
— Не знаю.
— Кто знает?
— Не знаю.
Ну вот, все страхи были напрасны. Я мог оставаться со своей надеждой, которая постепенно угасала. Может быть, вскоре она вовсе мне не понадобится.
Я не знал, что делать. Уйти отсюда — значит не попасть к муфтию вообще, да и поздно будет, когда попаду. Куда он уехал? В какой из своих домов? В какое из имений? Угоско? Углешичи? Гор? Тиховичи? На равнину? На озеро? На реку? Он часто уезжал, спасаясь от всего: от жары, от холода, от тумана, от влаги, от людей.
Где он сейчас? Только здесь могут сказать.
— Не знаю, что и делать,— пожаловался я караульному.— Муфтий велел мне прийти по важному делу. Я должен его видеть.
Тот пожал плечами, повторив единственное заученное им слово. А я никак не решался уйти.
— Кто-то в доме должен знать.
Тут отворилась дверь, появился худой бывалый солдат, если судить по шрамам, избороздившим его лицо, да потрепанному мундиру, с которым ему наверняка никак не хотелось расставаться, и строго посмотрел на меня. Пока не оправдаюсь, я для него преступник.
Я повторил ему все, что сказал караульному.
На лице у него появилось недоверчивое выражение, он усомнился в правдивости моих слов. Это оскорбило меня, но с еще большей силой вспыхнуло желание заставить его поверить. Я пошел на обман, у меня не оставалось иного выхода, но, если муфтий узнает, а он узнает, мне придется просить прощения, а не искать справедливости.
— Ничего не поделаешь,— произнес я, отступая.
И тут я заметил, что хмурое лицо бывалого солдата вдруг изменилось, стало мягче, расплылось в улыбке. Что такое?
Я тоже его узнал. Когда-то давно мы вместе сражались, только он воевал и до меня, и после меня.
Мы оба обрадовались.
— Переменился ты, весело сказал он,— кто бы узнал тебя в этом наряде! Но я тебя все-таки узнал!
— А ты такой же. Чуть постарел, похудел, но такой же.
— Ну, не совсем уж такой. Двадцать лет прошло. Входи.
Когда дверь за нами закрылась, у солдата несколько поубавилось уверенности.
— Тебя муфтий звал?
— Я должен поговорить с ним. Караульный не хотел сказать, куда он уехал.
Среди деревьев белела ровная чистая дорожка, покрытая мелкой речной галькой, окаймленная кустами самшита и лавра с нежно-зелеными листьями. Рука опытного садовника искусно разместила фруктовые деревья, березы, сосны, кусты диких роз, иногда на чистой поляне высилось одинокое дерево, а поодаль стояла купа деревьев; весь продуманно рассаженный парк был частью девственной природы, столь необычной была его красота. Огромные просторы парка очаровывали своим волшебством, и все это было создано для того, чтоб одна-единственная пара ног могла ступать по малахитовой траве и одна-единственная пара глаз наслаждаться нежными стволами деревьев. Зачем здесь столько красоты?
Солдат заговорил шепотом. Я тоже. Мы приглушенно шептались в этом прибранном, культивированном лесу, лишенном первозданности, хотя и сохранившем свежесть, в этом затишье, огражденном стеной, где даже вихрям подрезали крылья.
Солдат смотрел на дорожку, ведущую к белому дому, притаившемуся среди деревьев. Туда же смотрел и я. В глазах плясали жаркие, обжигающие, ласковые блики солнца, чуть качались ветви.
Солдата звали Кара-Заимом. Теперь это была лишь тень того прежнего Кара-Заима, обломок того неустрашимого парня, что с обнаженной саблей бросался на обнаженную саблю, пока одна из них, уланская, не прошла у него между ребер от груди к спине. А до этого случая его кололи, рубили, тесали, стругали, отсекли часть левого уха, три пальца на левой руке, лицо его украсили багровые шрамы, на теле под одеждой остались отметины, и всегда он быстро выздоравливал и возвращался в строй. В его жилах текла могучая кровь, глубокие раны на молодом теле быстро затягивались. Но когда пронзила его коварная уланская сабля, просверлив дыру, и солнечный свет впервые вошел внутрь, лезвие ее, острие прошло там, где нет дороги, сквозь легкие, упал замертво Кара-Заим, лекарь наскоро пощупал его холодную руку и поспешил вслед за войском, оставив солдата, надеясь прочесть заупокойную молитву, когда доберутся до надежного места. Кара-Заим очнулся ночью от холода среди мертвецов, обессиленный и безмолвный, как и они. Он остался в живых, но воевать больше не мог. Потерял силу, резвость, радость. И теперь сторожит сад и дом, невольник, живущий милостыней.
— Мне хорошо живется.— Он весело взглянул на меня.
Я же заставил себя спокойно смотреть на его покрытое шрамами лицо.
— Работа нетрудная. Муфтий мне доверяет. Я вроде старшего над охраной, учу их, слежу за ними и тому подобное.
— Ты мог бы получить и другую должность. Стать привратником в крепости. Помощником каймекама. Тебе могли бы пожаловать и тимар, как другим, чтоб сидел ты на своем хозяйстве.
— Зачем? — недоуменно спросил он.— Мне давали, я не взял. Доволен тем, что имею. Такое место не каждому доверят.
Меня огорчало и раздражало, что он испуганно поглядывает на дом, он — бывший витязь Кара-Заим. Неужели и я был бы таким же, попади я сюда? Чего боится он, прежде не страшившийся ничего?
Чтобы не обидеть его, я сказал:
— Какой ты герой был! Господи, какой герой!
И тут же раскаялся. Зачем оживлять прошлое? Разве надо пробуждать его ото сна? Он ничего не забыл — это невозможно,— просто притих, смирился, может быть утешился; не стоит бередить его раны, переставшие кровоточить.
Увы, это относилось и ко мне самому.
Но поздно, я сказал то, чего не следовало говорить.
Он ошеломленно взглянул на меня, наверняка никто уже долгие годы не вспоминал о его прошлом, возможно, он сам рассказывал, чтобы другие узнали или вспомнили его иным, но разве память может умереть? Неужели он ушел из всех воспоминаний? А может быть, он тоже больше не говорит о себе? К чему? Но мог и говорить, только все безнадежнее: чем дальше уходит прошлое, тем меньше надежды, что кто-нибудь вспомнит. В нем все живо, для других он умер.
И вот какой-то дервиш вспомнил о том, каким он был. И еще как вспомнил. Не однажды, наверное, он мечтал, чтоб кто-нибудь произнес именно эти слова: господи, какой ты был герой! Они ударили его по сердцу, закипели в крови буйной радостью, даже заложило уши. Или подумалось, что это слова его мечтаний и никто их не произнес, просто ему хотелось их услышать. Но нет! Их произнес этот старый дервиш. Вспомнил и произнес.
Мгновение он растерянно глядел на меня, как больной падучей, и я не знал — то ли он запрыгает от радости и упадет, такой немощный, на камень, то ли обнимет меня, чтоб удержаться на слабых ногах, то ли засмеется, то ли заплачет и вдруг умрет, но нет, плохо я знал героя Кара-Заима. Я вспомнил храбреца, почему бы ему и не быть храбрецом сейчас? И лишь дрожащий голос да тихое клокотанье в продырявленных легких выдали его:
— Ты помнишь? Ты в самом деле помнишь?
— Помню. И всегда, когда думаю о тех временах, вспоминаю тебя.
— Каким вспоминаешь? — прошептал он, вызывая меня из тьмы времени.
— В каком-то сиянии, Кара-Заим. На широком поле. Одного. Ты идешь спокойно, не оглядываясь, никого не зовешь. Ты весь в белом. Руки твои обнажены до локтей. В руке сабля, а сияние это, возможно, отблеск солнца на ней. Ты словно ветер, который невозможно остановить. Ты словно солнечный луч, проникающий всюду. Все отстали, смотрят, их нет. Только ты.
— Нет, я так не шел.
— Это в моей памяти. То, что было, может быть, стерлось, только это сохранилось.
— Красиво. Красивее, чем на самом деле. Или нет. В каком-то сиянии, говоришь. На широком поле…— шепчет он в дурмане, а потом смотрит на меня, ищет себя в моих словах, свою далекую славу на моих устах.
Он думает, что я слагаю песнь о его храбрости, а я жалею его.
И не могу больше.
— Рад я, что увидел тебя,— сказал я, прощаясь.
— Подожди.
Трудно ему отпустить меня, я тот долгожданный, кто знает, я свидетель того, что не умирают воспоминания, я подтверждение того, что от него осталась не только тень, моя память извлекает его из долгого забвения, является наградой за ожидание.
Одни слова, а настроения разные. И мое и его — из одного источника, для него счастье в том, что для меня печаль. Все равно, и моему и его — тысяча лет. И больше. Не стоит заниматься этим.
— Я должен идти.
— Подожди. Муфтий здесь, дома. Иди, если это для тебя важно. Скажи, что я впустил тебя. Нет. Скажи, что он сам позвал тебя.
— Он не звал меня. Я пришел сам.
— Знаю. Скажи так: ты просил меня прийти. У него столько дел, что он не вспомнит. А если спросит обо мне и тебе будет удобно, расскажи, что знаешь. Про это, прошлое.
Я думал, что муфтия не будет, сожалел об этом, но сейчас успокоился. Мне стало почти легко оттого, что пришлось отложить. И вдруг все внезапно переменилось, и то, чего я желал, должно случиться. Я стоял взволнованный и растерянный. Меня не удивило, что Кара-Заим попросил рассказать о себе, я жалел о том, что он так быстро отказался от своего предложения сослаться на него. Погруженный в мысли о самом себе, о сиянии, о геройской битве, он предложил мне свою защиту. И отступил в ту минуту, когда вспомнил, что все это далекое прошлое. Вспыхнул и сгорел в одно мгновение. На его изрубленном лице еще мерцал отблеск счастья, вызванного тем, что было, и таилась робкая неуверенность от того, что осталось сейчас. Всегда ли сталкивались в нем два времени, во всем различные и неодолимые, и ни от одного ему не уйти.
И пока он шептался с каким-то человеком у входа в дом, я смятенно думал о том, что лишился его жалкой поддержки и столь же не уверен, как и он. Сокрушенно ждали мы помощи друг от друга, не очень надеясь на себя. Вместе мы являли собой две половины одной немощи, чтоб затеплилась слабая надежда. Он сохранял эту надежду, но она стоила столько же, сколько и моя, утраченная.
Человек вышел из дому и знаком или беззвучным словом объяснил что-то Кара-Заиму, тот махнул мне: я помог тебе, давай! И, ни слова не говоря, указал на дверь, теперь это означало: входи, может быть, будет хорошо. Но все это я заметил мимоходом, расплывчато, довольно смутно перед глазами промелькнуло корявое лимонное дерево возле дома и еще более корявая пальма, с трудом пережившая нашу тяжелую зиму, она дремала теперь, подобно больному, на весеннем солнышке. Не помню, ни куда я шел, ни какие люди сопровождали меня взглядами, все мои мысли были сосредоточены на первом слове, которое я скажу. Первое слово! Оно как оружие, как щит. Все зависит от него, не потому, что оно что-то объяснит, но потому, что меня оставит мужество, если оно окажется неудачным, оно сделает меня смешным и по нему обо мне составят мнение. Невероятно, сколько слов перебрал я в мозгу, и удивительно — все они хотели быть произнесенными первыми. Я было подумал, что произошло нарушение в работе мозга, какое-то потрясение, оно все разрушало, оставляя после себя хаос и бессмыслицу. И пока я шел этим проходом, который остался в сознании узким и темным, в голове мелькали слова, от высокопарных заклинаний до ругательств. Я даже не в состоянии записать все то, что пыталось вырваться наружу в эту первую встречу, на этой первой аудиенции. Мне трудно объяснить это неистовство, все казалось настолько непостижимым, неужели это я, это мой мозг изобретал тогда, беснуясь и измываясь над всем разумным. Просто сам сатана вселился в меня и внушал мне столь недостойные и безобразные слова, толкал меня на столь смешные и недостойные поступки, что я онемел от потрясения. Зачем это обрушилось на меня именно в ту минуту, когда так необходима максимальная сосредоточенность! Но ведь находит такое, когда совсем не ждешь, когда тебе совсем не до этого. И вот я, серьезный, уравновешенный человек, шел к муфтию и хотел назвать его антиохийской козой — откуда могло прийти мне в голову, нет, это настоящее грешное дьявольское наваждение. Оставь меня, божий отступник! — угрожал я, тем самым распаляя его еще больше.
Меня смутили почему-то южные растения перед домом в деревянных ящиках-гробиках: пальма и лимон. Я знал, что муфтий родом из Антиохии, нашего языка не знает, но где эта Антиохия, в какой земле, на каком языке там говорят, этого я никак не мог вспомнить.
К счастью, первое слово не понадобилось, не нужно было ничего говорить, и делать ничего не нужно было.
В комнате, куда меня ввели, муфтий играл в шахматы с человеком, которого прежде я никогда не видел. Собственно говоря, игра была завершена или прервана, вначале я не понимал, что происходит, меня это не касалось, а незнакомый человек нездоровой полноты, с усталой, привычно льстивой усмешкой соглашался со всем, упорно поворачивая голову ко мне, словно желая отвлечь от себя внимание муфтия. Наверняка он желал мне успехов во всех моих делах, только бы муфтий меня заметил.
Однако муфтий долго не желал замечать, что кто-то вошел в комнату (хотя он должен был разрешить, чтоб меня впустили), и не ответил на мое приветствие.
Всю зиму он тосковал в жарко натопленных комнатах, напуганный суровыми холодами, которые развешивали по крышам длинные сосульки, по всей вероятности, с изумлением смотрел на них, измученный, пожелтевший, как и его южные растения, что едва дотянули до весны. Сидя спиной к окну, закутавшись в кафтан на меху, он отогревался на солнышке, изнывая в своей угрюмости.
Оба тучные, различаемые лишь неодинаковыми по форме жировыми складками, бесцветные, помятые, блеклые от комнатного воздуха, они словно с самой осени сидели над этим черным столиком эбенового дерева и шахматными фигурками слоновой кости.
Сначала сердито, а потом все мягче, все ленивее муфтий в чем-то упрекал своего партнера, а тот со всем соглашался. Странное впечатление производили эти вопросы, утверждения и ответы муфтия. Мне с трудом удалось уловить в них какой-то смысл.
— Что-то не в порядке.
— Вижу.
— Ничего ты не видишь.
— Что-то не в порядке.
— Все время у меня было лучше.
— Знаю.
— Что ты знаешь?
— Где-то я сделал неверный ход.
— Почему тогда я проигрываю?
— Ничего мне не ясно.
— Наверняка ты где-то сделал неверный ход.
— Наверняка я сделал неверный ход.
— Откуда твой конь оказался здесь?
— Вот здесь ошибка. Я не мог попасть сюда.
— Тогда шах.
— Верно. Вот и шейх пришел.
— Почему ты не смотришь? Не могу я все видеть.
— Обычно со мной такое не случается.
— Если конь здесь, я его беру, да? Я его беру. Беру. Его.
— И мат.
— Какой шейх?
Человек обрадованно указал на меня, и муфтий повернулся. Лицо его было изжелта-серым, дряблым, с тяжелыми мешками под глазами. Не вставая, он спросил:
— Ты в шахматы играешь?
— Плохо.
— Чего тебе?
— Ты сказал, чтоб я пришел. Я хотел поговорить с тобой.
— Я сказал? Да, да. Кому? Как на улице?
— Солнышко. Жарко.
— Зимой тоже так говорили: не холодно. Зимы всегда такие лютые?
— Почти всегда.
— Ужасная страна.
— Человек привыкает.
— Скучная страна. В шахматы играешь?
Полный человек проговорил шепотом:
— Не играет, он сказал уже.
— А чего ему нужно?
— Какая-то просьба у него.
— Кто он такой?
Я сказал, кто я, что я в беде и ищу справедливости и что, кроме него, никто не даст мне ее.
Муфтий посмотрел на своего наперсника, не скрывая скуки, почти с отчаянием.
Где я ошибся?
Он встал, посмотрел вправо, влево, словно ища, куда бы сбежать, и прошелся по комнате, аккуратно ступая по солнечным пятнам. Потом остановился и, о чем-то задумавшись, грустно посмотрел на меня.
— Разговаривал я об этом с главным муллой Стамбула. Я любил с ним беседовать изредка, не потому что он умный, умные люди могут оказаться на редкость скучными, но он умел удивить, сказать что-нибудь такое неожиданное, что ошеломляло, понимаешь, Малик,— наверняка не понимаешь! — поэтому и хотелось слушать его и отвечать ему. Человеческие знания скромны, говорил он. Поэтому умный человек не может жить тем, что знает. Но я хотел чего-то иного… О чем я говорил?
— О главном мулле Стамбула,— сказал Малик.
— Нет. О справедливости. Справедливость, сказал он однажды, мы думаем, будто знаем, что это такое. А нет ничего более неопределенного. Она может быть законом, местью, невежеством, несправедливостью. Все зависит от точки зрения. Я ответил…
Он продолжал ходить молча, потом вдруг обессилел, мне показалось, будто у него внутри существует какая-то пружина, которая движет им, заставляя оживать слово и тело, а потом она вдруг останавливается, и он затихает, на него нападает тоска.
Он не предложил мне сесть, его не интересовало, что я хотел сказать, мне оставалось либо говорить, либо уйти. В противном случае я тоже мог стать таким Маликом, второй тенью, столь же ненужной, как и первая. Я решил говорить.
— Я пришел с просьбой.
— Я устал.
— Возможно, тебя заинтересует.
— Ты думаешь?
— Надеюсь. Ты говорил о справедливости. Справедливость похожа на здоровье, о ней начинаешь думать, когда ее нет, и она в самом деле неопределенна, но ее, вероятно, самым большим желанием является уничтожение несправедливости, а она-то весьма определенна. Всякая несправедливость равна, а человеку кажется, будто самая большая несправедливость совершена по отношению к нему. А раз ему кажется, значит, так оно и есть, поскольку нельзя думать чужой головой.
Пружина внимания у муфтия снова сжалась. Он удивленно посмотрел на меня, опущенные долу глаза его остановились на мне с благодарностью, не бог весть какой, но вполне достаточной, чтоб придать мне мужества. Я пробудил в нем внимание. Этого-то мне и надо было: он сам помог мне своей косноязычной басней о главном мулле Стамбула. Однако очень скоро я убедился, что легче играть словами, говоря об общих вещах, чем о конкретных, принадлежащих нам, но отнюдь не всем.
— Любопытно,— произнес муфтий в ожидании. Малик с почтением посмотрел на меня.— Любопытно. А могут ли разные люди иметь одинаковые мысли? И мыслят ли они тогда чужой головой?
— Две настоящие мысли никогда не могут быть одинаковы, так же как и две ладони.
— Что есть настоящая мысль?
— О которой по обыкновению умалчивают.
— Хорошо сказано. Может быть, неточно, но хорошо. А дальше?
— Я хотел бы сказать о своей беде. Я сказал, что мне она кажется самой большой, ибо она принадлежит мне. А хотел бы, чтоб она была чужой, тогда я не стал бы спешить узнать ее, как спешу сейчас о ней рассказать.
Я торопился от общих рассуждений перейти к тому, что тревожило меня, пока пружина удерживала его, пока в глазах его была живость, я опасался, что он быстро сникнет и тогда мои слова напрасно будут кружиться вокруг него.
Мне становилось все очевиднее: тоска и скука гложут его. Они лежали на нем покровом, обволакивали туманом, окутывали, словно илом, окружали, как воздух, проникали в его кровь, в легкие, в мозг, исходили от него и от всего, что его окружало,— от вещей, пространства, неба, расползались ядовитым дымом. У меня был выбор: либо уступить, либо бороться против них.
Не стану преувеличивать, но я был уверен, что разгоню этот болотный туман, я готов был задрать полы своей джюбе и исполнить танец живота, сделать то, что умному человеку вряд ли придет в голову. А вдруг его внимание, прежде чем увянуть, окажется столь сильным, что желтая безвольная рука начертает три спасительных слова: выпустить арестанта Харуна. Начертать, не зная, что она пишет, никогда больше не вспоминая об этом. Я пошел бы на все, говорю, на любую глупость, на любой позорный поступок и не стыдился бы потом, а даже с гордостью думал, как мне удалось победить мертвое равнодушие во имя живого человека, во имя брата. Однако я не решался бросить начатую забаву, я видел, что его лишь на время пробудила игра ума, как гашиш, теперь я должен дать большую дозу, дабы не позволить ему погрузиться в тяжкое оцепенение.
Это была самая странная схватка, о какой мне когда-либо доводилось слышать, я вступил в борьбу с мертвечиной, с параличом воли, с отвращением к жизни. Схватка была тяжелая и мучительная прежде всего потому, что я ее должен был вести с помощью неестественных средств, выворачивая наизнанку мысли, спаривая до отвращения несоединимые чувства, насилуя слова. Я опасался, да еще как опасался, что его внимание погаснет в ту самую минуту, когда я перестану играть и займусь тем, ради чего я все это затеял. Мне приходилось парить над истинным смыслом, исподволь приближаясь к нему, скрывая его, поскольку органы чувств у муфтия могли закупориться сами по себе, стоило им что-нибудь учуять.
К счастью, он не умел притворяться и скрывать свои эмоции: они обнажались и все в нем становилось заметно — и увлеченность и отвращение. Поэтому я вел свою сокровенную мысль по игре тени и света на его лице, радуясь такому указателю, которого вообще могло и не быть.
Все в нем говорило: удиви меня, разбуди меня, согрей меня, и я удивлял его, будил, согревал, ведя отчаянную битву за сохранение жизни смертнику, трепеща, что мне это не удастся, а вся моя надежда связана с ним. Я вывернулся наизнанку, я лихорадочно копался в закоулках мозга, пытаясь обнаружить там дьявольские пилюли, я сражался с этим мертвецом, чтоб не стало одним покойником больше, и передохнул лишь на мгновение, когда он опустился в кресло с проблесками интереса и оживления на апатичном лице — моя надежда пустила первый росток.
— У меня есть брат,— бредил я, не зная, достаточно ли этого.— Но если я промедлю сказать тебе об этом, то смогу утверждать, что он был у меня, а есть и был — то же самое, что я его имею и я его не имею. Решить это может каприз чьей-то злой или доброй воли. Он мне брат не потому, что я его хотел, ибо, если б я хотел, я бы и творил, и тогда он не был бы мне братом, и я не знаю, хотел ли его мой отец, но, когда он лег с моей матерью, из их наслаждения, из этой пустоты возник мой долг, он назывался сыном и братом. Кто он — желанное ли утешение или просто тягость, бог привязал его к нам, не спрашивая нас об этом, лишил нас всех наслаждений, обременив всеми тяготами и невзгодами, а, как ведомо твоему возвышенному разуму, невзгоды встречаются значительно чаще, нежели наслаждения, у нас были все основания утверждать, что брат есть несчастье, ниспосланное нам богом, поэтому мы приняли его как божью волю, божье определение и были благодарны всевышнему за все. Мы благодарим бога за несчастье, а мне хотелось бы, чтобы брат мой был твоим братом и я бы мог благодарить бога за счастье слушать тебя, как это делаешь сейчас ты по отношению ко мне, и тогда мне было бы все равно. Но поскольку он не может быть твоим братом, ибо он мой, а я не могу быть тем, кто есть ты, ибо бог определил стать мне лишь недостойным дервишем, то будем теми, кто мы есть: я прошу, ты решай. Или лучше: я буду рассказывать, а ты слушай. Тебе труднее, я знаю. Ты не должен, я должен.
Я разбудил его, он ожил, смотрит, слушает, понимает, принимает! Не надо суесловия, достаточно пустых слов, пусть они летают, как ветер, кувыркаются, как обезьяны, сломя голову носятся между лучами весеннего солнца и тенями комнаты, обезумев, и вот муфтий утих на стуле, слушает, ждет.
— А дальше? — спрашивает он довольно оживленно.
И первая его тень, Малик, вытаращился на меня, удивляется, может быть, учится. Я плохо вижу его, ибо он меня не касается. Я не свожу глаз с лица муфтия.
Есть надежда, брат Харун!
— И вот, у меня есть брат, но лишь наполовину: я называю имя его, а он сидит в крепости. Полжизни его здесь, а другая — там. Если он потеряет эту половину, то расстанется и с той.
— Какую половину?
— Которую я еще удерживаю, рассказывая тебе о нем.
— В какой крепости?
— В крепости над городом.
— Ладно, продолжай.
— В крепость сажают плохих людей, жуликов, преступников, разбойников, врагов султана. Иногда. А чаще дураков. Потому что они думают, будто не виноваты, а этого человек никогда не знает. Они всегда сражаются с ветряными мельницами, а это не их дело, и никто не просит их этим заниматься. А поскольку они гордятся своей глупостью, их легко поймать, и потому их больше всего. Из этого можно заключить, что на свободе находятся только умные, но опять-таки иначе: остаются и глупые, если умеют это скрывать. А умные тоже не остаются, если показывают себя. Еще остаются те, у кого есть право быть такими, какими они хотят. Мой брат был никем и ничем, счастливый человек, не настолько умен, чтоб его боялись, не настолько глуп, чтобы не знать, что он может делать, трус, чтоб быть гайдуком, наивен, чтоб быть негодяем, ленив, чтоб стать чьим-то врагом. Словом, промыслом божьим предназначен для того, чтоб люди здоровались с ним, не почитая его, признавали за ним достоинства, не требуя, чтоб он их проявлял.
— За что он арестован?
— За то, что не послушался отца.
— Любопытно.
— Отец — простой человек, работает сколько может, дает сколько должен, ничто его не касается, кроме дождя, облаков, солнца, гусениц, картофельных жуков, спорыньи на пшенице, головни на кукурузе и мира в семье. А поскольку он совсем прост — из одного куска, как деревянная ложка, как миска из липы, как ручка плуга, он не смог отказаться от ненужной родительской привычки говорить то, что отцы всегда говорят, а дети никогда не слушают. Он советовал ему не бросать дом, земля опустеет, в городе тесно, мало места, много ртов, мало возможностей и очень много желаний, люди скоро станут душить друг друга, чтоб отхватить краюху хлеба побольше. Брат не послушался. Тогда отец сказал: запомни, беда в том, что у нас никто не разумеет, что он на своем месте, и всякий всякому возможный соперник; люди презирают тех, кто не рвется вперед, и ненавидят тех, кто возвысится над ними; привыкни к презрению, если тебе дорог покой, и к ненависти, если готов к борьбе. Но не вступай в схватку, если нет уверенности, что одолеешь противника. Не тычь пальцем в чужую подлость, если ты недостаточно силен, чтоб обойтись без доказательств этого. Он и тут не послушал. Теперь у отца есть основания злорадствовать и говорить: смотрите, что бывает с непослушными детьми.
В разгар своего монолога я с ужасом заметил, как гаснет слабый свет в глазах муфтия, они посоловели и остекленели, а по лицу пробежал отсвет потерянности. С трудом размыкая губы, он спросил:
— Кто не послушал?
О господи милосердный! Без устали шагаю я, и по-прежнему далеко. Только подойду поближе к цели, он пугается. Только пытаюсь воспользоваться тем, что воздвиг, он все разрушает. Нет конца моему пути!
Очертя голову я бросился вперед. Видно, тлеет в нем еще искра жизни, иначе даже этого не спросил бы. Пропал у него интерес, утомил я его своими мудрствованиями, я уже не играл, а издевался, подхватила меня злоба, голос мой зазвучал серьезнее. От бессилия кружилась голова: молю тебя, подожди еще немного, еще мгновенье не гасни.
Потух последний отблеск солнца, окутала меня ледяная пустыня, а впереди долгая гибельная ночь. Даже крикнуть я не могу.
Я потерял надежду, исчезла легкость, с какой я играл словами, появился страх, нет, больше мне не взлететь, не воспарить, буду ползать по земле, подобно жалкой рептилии.
Мне нужна пригоршня безумных слов, господи, ты должен мне их дать, я борюсь за жизнь — отчаянно взывал я, но молитва не помогала. Значит, оступился, я видел это по его лицу.
Куда ты исчезаешь, брат Харун?
Все, что я говорил потом, было ненужным и напрасным. Я был вынужден раскрыть карты.
Скука неотвратимо овладевала муфтием, он безнадежно погружался в лужу мертвого безволия. Нес погибель миру.
Малик спал, свесив голову на грудь.
— Я устал,— произнес муфтий в отчаянии, почти таком же, как и я.— Я устал. Теперь уходи.
— Я не все сказал.
— Теперь уходи.
— Прикажи выпустить его.
— Кого выпустить?
— Моего брата.
— Приходи завтра. Или скажи Малику. Завтра.
Малик в испуге проснулся:
— Что случилось?
— Господи, как скучно.
— Хочешь, сыграем в шахматы?
— Ничего не случилось.
Он отвечал невпопад, забывая вопросы, каким-то чудом запоминая отдельные слова, потом изрекал ответ, в этом было что-то абсурдно бессмысленное.
Он вышел, не взглянув на нас, сбитый с толку, возможно даже забыл, что мы здесь. Быть может, убегал.
Я не преодолел его скуку. Она победила нас обоих, мне хотелось поскорей уйти. Знай я, что́ получу, не осмелился бы и пытаться.
Малик свирепо посмотрел на меня и, переваливаясь, покатил свое дряблое тело вслед за муфтием.
— Он велел мне прийти завтра.
— Я ничего не знаю. Ух, погубил ты меня.
Итак, кончено. Может, все-таки стоило схватить его за оба уха или щелкнуть пальцем по желтому лбу. Я опять не знал, где Антиохия, на каком языке мы разговаривали. Все это время мне казалось, будто я стою на голове, будто меня подвесили между полом и светильниками, будто подпираю своими плечами потолок, потерянный, обезумевший от их скуки, от своего желания ее одолеть. Странным языком говорил я, и, наверное, напрасно. Возможно, и завтра все будет напрасно, ибо уже сейчас лишает меня мужества сегодняшняя неудача. Я должен прийти, приползу на коленях и не буду знать, не только где Антиохия — будь она проклята! — но и как зовут сына моей матери. Снова мы будем мучиться, напоминая двух стариков во вторую брачную ночь после скорбной неудачной первой, только все будет длиться короче, ибо ни у меня, ни у него не будет большой надежды.
Теперь мне некуда спешить. Вялая желтая рука муфтия в приступе недолгой бодрости не начертала: выпустить арестанта Харуна.
Не провалился ли из-за этого арестант Харун еще глубже во тьму?
Я вышел, меня вывели, вытолкали, перед домом меня поджидал позабытый Кара-Заим. Люди не помнят о нем спустя двадцать лет, а я позабыл спустя один час. Только он не забывает, так-то вот.
— Долго ты там был,— сказал он, с любопытством рассматривая меня.
— А разве единоборство короче длится?
— Обычно быстрей выходят. И всегда растерянные.
— А я растерян?
— Не сказал бы.
Не очень зорок глаз Кара-Заима. Но пусть будет так, как говорит он.
— Мы разговаривали обо всем.
— А обо мне?
— Он велел мне прийти завтра.
— Так. Значит, завтра.
И снова мы шли по чистой дорожке из речной гальки. И пойдем снова завтра.
Я думал, что у меня не хватит сил разговаривать с Кара-Заимом, я даже не услышу того, что он говорит, но вот я слышал и отвечал, хотя все внутри меня было перевернуто, хотя я все еще стоял на голове и медленно, очень медленно выпрямлялся, убежденный, что все будет выглядеть еще более странным, когда я приду в себя. Это походило на опьянение, на дурной сон, я поверю, что на меня наслали чары, что на самом деле ничего не было.
Заим не знал, что творилось со мной, он думал, что все закончилось удачно.
— Это хорошо,— сказал он,— что муфтий зовет тебя завтра. Обычно не зовет. Значит, ты ему понравился, значит, по душе пришелся.
Он не очень был мудр, не очень красноречив, мой добрый Заим. Да, я понравился ему, очень, я ушел, едва дыша, и мы продолжим эту пытку завтра.
Смущенный, с трудом подыскивая слова, глядел на меня Заим.
— Знаешь, я хочу попросить тебя.
Видит ли он, как тень легла на мое лицо от его слов? Я вяло ободрял его:
— Скажи, Кара-Заим. Не стесняйся. Что-то гнетет тебя?
Так должен был разговаривать со мной тот.
— Да ничего не гнетет. Но здесь не знают, кто я, думают, что всегда был таким хрипатым бродягой. Я не говорю о муфтии, а о других.
— У тебя что-нибудь случилось?
— Ничего у меня не случилось. Говорят, что я не подхожу больше.
— Тебя прогоняют?
— Выходит, прогоняют. Я думаю, ты бы мог замолвить слово муфтию, чтоб меня оставили. Воевать я не в силах больше, а ворота сторожить могу получше других. Мне платят сто грошей в год…
— А муфтию двенадцать тысяч.
— Муфтий — другое дело. Вот я и говорю, если сто грошей много, пусть будет меньше, пусть будет восемьдесят. Пусть будет и семьдесят. Семьдесят в год, разве это много? Вот я и хотел…
Да, немного — семьдесят грошей в год. Не отъешься ты на этих семидесяти грошах, мой Заим, да, страшную ты совершил ошибку, что вовремя не умер. Но прости, я не могу жалеть тебя, я только что боролся с черным демоном и весь разбит, развалился по косточкам, живого места нет.
— Воевать ты не можешь,— ответил я машинально,— но ружье носить еще в силах. Ятаган держать можешь. Сколько ты попросишь, если мы решим освободить невинного человека? Схватили его ни за что ни про что, ни в чем он не виноват. Согласишься за сто грошей?
— Не понимаю, то ли ты спрашиваешь, то ли говоришь о том, что должно случиться,— растерялся он.
— Отвечай мне.
— Отвечать нелегко. Пока я был настоящий Кара-Заим, не взял бы ничего. А теперь, если дело честное… Сто грошей?
— Двести.
— Двести грошей! Господи милостивый! Три года я мог бы прожить на двести грошей. И невинный человек? Где он?
— В крепости.
— Значит, двести грошей. И невинный человек, в крепости. Нет, не смогу.
— А двадцать лет назад согласился б? И пусть в крепости? Но невинного, посаженного ни за что?
— Согласился б.
— А сейчас нет?
— Сейчас нет.
— Тогда ничего.
— Это ты в самом деле или шутишь?
— Шучу. Хотел посмотреть, намного ли ты изменился.
— Да, изменился. А если меня выгонят, можно тебя разыскать?
— Если тебя выгонят, я тебе дело найду.
— Спасибо, я этого не забуду. Но все-таки поговори завтра с муфтием.
Он любой ценой хотел остаться на своей белой дорожке, ведущей от ворот к дому. Отблеск ореола муфтия падал и на него, хотя он сам был лишен ореола, и наверняка ему казалось, что отсюда намного ближе к тому герою, чем от квашни пекаря или грядки садовника. А тот герой для него важнее всего на свете.
Я встретил его в тот же день, ближе к вечеру, в самую тяжелую минуту, когда шел к воротам смерти, он выскочил из тумана, упал с неба передо мной на дорогу, где не было никакого смысла нам встречаться, ни нам, ни нашим лицам, ни нашим исстрадавшимся душам. Не знаю, как выглядел я, он излучал радость. И победоносно хрипел.
— Остаюсь,— сказал он в восторге.— Не выгонят меня. Значит, остаюсь. Они спрашивали, о чем я толковал с тобой, я рассказал. Меня отвели к Малику, и я снова рассказал. И о сиянии, и о поле битвы, и как ты предлагал мне двести грошей, и прочее. Если останусь без работы. Малик смеялся, хороший, говорит, человек — это о тебе, и я говорю, да, хороший, и, значит, тебе не надо ничего говорить завтра.
— Ладно.
Он и не подозревал, как я ему помог.
Следует уничтожать прошлое в каждом угасающем дне. Стирать его, чтоб не болело. Тогда легче выдержать длящийся день, не измеряешь его больше тем, что перестало существовать. А так смешиваются призраки и жизнь, и нет ни чистых воспоминаний, ни чистой жизни. Все тонет, опровергает одно другое непрестанно.
Господи, нет у меня никого, кроме тебя и брата моего.
Потом я искал Хасана, упорно, напрасно. Его искал и слуга, тот, что постарше, он и узнал, что Хасан в тюрьме, попал туда со своими дружками. Вчера около полуночи они вышли из дому и во Френкмахале поколотили каких-то парней, те едва унесли ноги, хотя сами были виноваты — первыми начали, теперь им прикладывают мокрые тряпки к синякам, а Хасан со своими угодил в кутузку. Так всегда оканчиваются гулянки, посадят, даже если и не твоя вина, потом выпустят за мзду, а те уж и не помнят, в самом ли деле виноваты, чаще всего так и бывает. Их скоро отпустят, только запросят много, скажут: повреждения тяжелые, а парни из хороших семей, но Хасан столько не даст, будет кричать: жаль, что сильнее не избил, так он и поступит, когда выйдет, потому что трудно найти больших ублюдков и охальников. Слуга, конечно, отнесет деньги, дело не в деньгах, а в принципе, но какой же тут принцип — в каталажке сидеть. Правда, они не в каземате и не в подземелье, в обычной комнате, опять же снаружи солнце светит, а там тьма, страшно, и часу не захочется просидеть, если не по делу, а куда уж больше.
Хасану передадут, что я искал его и чтоб он немедленно пришел в текию, как только вымоется и переоденется, потому что в этой блошиной яме каждый раз так бельишко замараешь и так обовшивеешь, что надо оставлять одежку во дворе, чтоб не занести в дом какое-нибудь насекомое. Я буду в текии, если дело важное, чтоб не бегать друг за другом, как два дурака, а если не важное, то все равно, когда встретимся. Может, и лучше, если Хасан поспит немного, глаз ведь не сомкнул со вчерашнего утра, хотя, правда, он может не спать по три дня и три ночи, но может и спать столько же, надо только разбудить его, чтобы перекусил в полудреме и опять на боковую, как скотина, господи помилуй. Пропади он пропадом, такие еще не рождались!
Была у меня причина искать Хасана, не просто для того, чтоб утешил или ободрил меня. Не знаю, как появилась у меня эта мысль, собственно, и не моя она была, а Хасана, но я уже считал ее своею и хотел уговорить своего друга ее осуществить. Я разговаривал об этом с Кара-Заимом и отступил, когда тот не согласился, но, думается мне, появилась она раньше, едва я заметил, как темнеет лицо муфтия, как напрасным оказывается все, что я делаю и говорю. Нужно спасти Харуна, нужно подкупить сторожей, нужно отправить его в другую страну, чтоб его никогда больше не видели. Только так избежит он крепостных подземелий: мое одинокое хныканье не поможет. С Хасаном и Исхаком все будет возможно. С Исхаком на все можно пойти. Может быть, Хасан знает, где он укрылся, а Исхак наверняка согласится. Исхак не обременен излишними воспоминаниями, как Кара-Заим, его они не остановят.
Мысль о мятежнике придала мне мужества, меня охватило неодолимое желание двигаться, что-то делать, я испытывал здоровое волнение и тревогу: все выполнимо, все под рукой, нельзя никому уступать. Трудно — пока не решишься, тогда все препятствия кажутся непреодолимыми, все сложности — непобедимыми. А когда порвешь со своей нерешительностью, победишь свое малодушие, перед тобой открываются необозримые просторы, мир перестает быть ограниченным, полным угроз. Я рисовал в своем воображении смелые подвиги, находил массу возможностей для настоящей храбрости, обдумывал хитрые ходы, которые никто не сможет разгадать, я был взволнован и возбужден, хотя чувствовал сердцем, всеми извилинами мозга, какая это пустая мечта. Нет, не разум мой осмысливал это, искренне пестуя в сердце два столь противоположных желания. Мысли мои были ясны, я лишь пытался найти лучший способ, чтоб освободить брата. Это желание обуяло меня, трепетало во мне, как живое, и тем сильнее где-то внутри, словно смутный шепот из тьмы, словно очевидный факт, о котором не говорят вслух, не приемля его, утверждалась во мне уверенность, что такая операция не может оказаться успешной. Я призывал Исхака потому, что он был недосягаем. Я мог стремиться к нему, насколько у меня хватало сил, искренне, поскольку желание не могло осуществиться. Таинственный инстинкт, что оберегал меня помимо моего сознания, великодушно позволял мне проявлять благородство, не обуздывая его; ибо знал, что оно не представляет опасности, не может воплотиться в дело. Оно только помогает мне мстить за тот позор, который я пережил у муфтия.
Если это кому-либо покажется странным или даже невероятным, я смогу только возразить, что правда порой выглядит необычно и мы лишь убеждаем себя, будто ее нет, стыдясь ее, как напроказившие дети, хотя от этого она не становится ни менее живой, ни менее подлинной. Мы обычно украшаем свою мысль и прячем при этом змей, что копошатся в нас. Но неужели они не существуют, если мы прячем их? Я ничего не украшаю и ничего не прячу, я говорю, как перед богом. И еще я хочу сказать, что я не плохой и не странный человек, я самый обыкновенный, может быть обыкновеннее, чем мне этого хочется, как и большинство людей.
Добронамеренный читатель возразит мне: слишком ты тянешь, слишком мудрствуешь. Отвечу сразу: знаю. Я широко растягиваю одну убогую мысль, выцеживаю ее из пустого сосуда, из которого невозможно больше выцедить ни капли. Я делаю это нарочно, чтоб отодвинуть повествование о том, что до сих пор вгоняет меня в дрожь, спустя столько месяцев после всего. Однако увертки не помогают. Избежать не могу, а прерывать не хочу.
Надо упомянуть и об этом. Я разыскал ночного сторожа, он был дома, давно уже встал, даже вернулся из чаршии, но встретил меня хмуро и враждебно, словно только что проснулся. Не осталось и следа от той его ночной болтливости, от желания удержать меня, ни тени гостеприимства, ни любезности. Он стремился поскорее избавиться от меня. И разозлился, когда я спросил, что он хотел мне сказать вчера вечером.
— Что хотел, то сказал. Чего мне скрывать?
Неужели я ошибся? Я долго думал о том разговоре, и не столько о словах, сколько об их смысле. Он что-то наверняка знал обо мне. Я напомнил ему об этом, а он стал клясться всеми богами, что я его неправильно понял. Ночь есть ночь, а день есть день. Бог ведает, о чем он думал, болтая чепуху, и бог ведает, что думал я, слушая эту чепуху, и теперь вот вбил себе в голову даже то, о чем он и не думал. Что он знает? Что может знать человек, вопил он плаксиво, который всю ночь на ногах и едва может дождаться, пока доберется до своего убогого домишки, под свое драное одеяло. В это поганое время он кормит четыре рта, сам пятый, и хватит с него по горло своих дел, чтоб беспокоиться еще о чужих. А потом вдруг перестал горячиться и неожиданно спокойно, даже любезно сказал, что готов помочь мне больше, чем кому-либо другому, видно, меня гнетет какая-то беда, потому что иначе не пришел бы я к нему и не требовал бы сказать неведомое, он не знает того, чего я ищу. Да, судя по всему, я и сам не знаю.
Неужели услышал я вчера в его словах то, чего в них не было, или же с ним что-то случилось?
Я ушел, ничего не узнав: в самом деле, он был прав, не зная, что́ мне необходимо узнать.
После ичиндии, утомленный и взвинченный, измученный думами об освобождении брата, все более неосуществимом из-за непрерывно возникающих препятствий, что даже в мыслях побуждало меня отказываться от него, я расстался в конце концов с надеждой, пусть даже ложной, и смирился с тем, что отправлюсь завтра на повторную экзекуцию к муфтию. Я изнемогал, что-то во мне надломилось, меня изнурили мои воображаемые попытки, я даже подумал, что не был бы так обессилен, если б совершил все это на деле, а не провел время в ожидании.
Во двор текии вошли дети Мустафы, сперва они играли в камешки на плитах у входа, здесь же и поели, потом стали носиться, как щенята. Они прыгали через розовые кусты, топтали цветы, ломали ветки яблонь, кричали, смеялись, визжали, плакали, и я подумал о том, что нам придется оставить им текию и сад, а самим переселиться неизвестно куда. Несколько раз я прикрикнул на них, а потом позвал Мустафу и сказал, что дети мешают, слишком раскричались.
— Ждут ужина,— ответил он, недослышав.
Я повторил громче:
— Мешают. Скажи им, чтоб ушли.
— Двое моих, трое ее, прежде были.
Я показал рукой: выгони, не то я сойду с ума!
Уразумев, он ушел, осердившись, громко ворча:
— Теперь им и дети мешают!
Когда вопли утихли, я поинтересовался, что они натворили, надеясь, что повреждений будет больше, мне нужно было разозлиться, освободиться от мыслей, не оставлявших меня ни на минуту, и сел под ивой, у воды, искрившейся в лучах заходящего солнца.
От могучего ли желания вкусить покоя, от целебной ли тишины, наступившей после детского крика, или от всегда равномерного {4} течения речушки, отзывавшейся чуть слышным журчанием, напряжение стало ослабевать. Я даже ощутил голод, я позабыл, когда в последний раз ел. Что-то необходимо было съесть, это придаст мне сил, переключит внимание, но сделать этого я не мог, мне было неловко, Мустафа сердился, я прогнал его ребятишек, возможно, этого не стоило делать. Правда, я успокоился, тишина исцеляла меня, но все-таки я сокрушался. Правда, не слишком, и это хорошо, но хорошо и то, что я сожалею, значит, возвращаюсь к своим обычным думам, к будничной жизни, в которой человек бывает и добр и зол, в той мере, которая не мешает и которая, как принято считать, довольно-таки обыденна. Может оказаться скверным, когда человек не чувствует протяженности времени. На войне не до скуки, как и в беде, как и в страдании. Когда трудно, скучать не приходится.
Я находился в приятном состоянии, когда мысль легко скользит по поверхности, ее не искажают судороги, она не сталкивается сама с собой, едва касаясь сути явлений, находя легкие решения, которые ничего не определяют. Это не раздумья, но созерцание, нега, приятная леность мозга, а в ту минуту для меня ничего не могло быть полезнее. Нет, я ничего не позабыл из того, что было страшнейшей мукой моей жизни, я ощущал ее всем своим нутром, как камень, а кровь разносила мою скорбь по бесконечным сосудам, подобно яду, мука моя таилась в закоулках мозга, как спрут. Но в тот блаженный момент все стихло, как бы миновал приступ тяжелой болезни, пришло облегчение, и показалось, будто ее вовсе нет. Это недолгое отсутствие тяжести, минутное избавление от страданий, именно потому, что оно было кратким и мгновенным, я ощутил всеми клеточками своего тела, оно дало мне возможность спокойно оценить окружающее. И это свое невольное слияние с гармонией мира я воспринял почти как счастье.
Откуда-то вернулся хафиз Мухаммед, поздоровался и ушел к себе. Хороший человек, думал я, пребывая в блаженстве со своими неглубокими переживаниями, думая о пустяках: вот кажется, будто жизнь несправедлива к нему, но это только видимость, жизнь есть жизнь, одна подобна другой, каждый ищет радости, а беды приходят сами. Для него радость — в книгах, как для других — в любви, его беда — болезнь, как у других — бедность или изгнание. Мы все бредем от одного берега к другому по тонкому канату своей жизненной стези, и конец у всех один, разницы нет.
Вспомнились стихи Хусейна-эфенди из Мостара, медленно, с неведомым прежде удовольствием я прочел их. И внимал им как беззвучному шепоту, где нет угрозы, нет звуков мрака:
Простоволосый, босой канатоходец Шахин
встал на канат, по которому лишь
ветерок пробегает без страха.
Сокол, Шахин, не пугайся опасности,
вспомни аллаха, и ты пройдешь меж двумя берегами.
И соколята, что тобою учимы,
прошли через бездну.
Над водою, где золотом солнце сверкало,
сами они казались жемчужинами,
нанизанными на тонкую нить.
Бездонная пропасть под ними,
над ними высокое небо.
А они на неверном канате,
на опасной дороге жизни.
Образ человека, одинокого, но храброго, на тяжкой дороге жизни соответствовал моему тогдашнему пониманию судьбы. Будь я в ином настроении, меня, наверное, потрясли бы безнадежность и извечная обреченность мучительно двигаться вперед, что, вероятно, принесло бы разумное успокоение, наполнило бы упорством. Не знаю, что имел в виду на самом деле добрый Хусейн-эфенди, но мне казалось, что он чуть-чуть посмеивается и над собой, и над другими.
Хафиз Мухаммед вышел из текии и остановился у ограды над водой. Лицо его было бледным и взволнованным. В мою сторону он не глядел. Болен он, что ли?
— Как ты сегодня себя чувствуешь?
— Я? Не знаю. Плохо.
Я догадывался, что он не любит меня, но не упрекал его, он тоже идет по канату меж двумя берегами, так, как умеет. Иногда он пытается быть добрым.
Улыбаясь и пребывая в самом радужном настроении, я спросил его, готовый все понять, готовый быть благородным:
— Скажи откровенно, ты знал, чего хочет жена кадия, и потому послал меня?
— Какая жена?
— У нас один кадий в городе. И одна жена у кадия. Сестра Хасана.
Он вспыхнул, и я понял, как ему неприятны мои слова. Я не привык видеть его таким.
— Не называй их имен вместе, прошу тебя!
— Значит, ты знал. И не хотел вмешиваться. Так ведь?
— Оставь это дерьмо, ради бога! Я хотел тебе помочь, потому и не пошел. Но не вспоминай о них сейчас.
— Почему?
— Неужели ты ничего не узнал?
— Нет.
— Тогда я должен тебе рассказать.
Голос его звучал глухо, он с усилием заставлял себя смотреть мне в лицо, руки его беспокойно двигались, он то прятал их в бездонные карманы, то вынимал, я никогда прежде не видел его таким, передо мной стоял совсем другой человек, меня охватил страх, я понял, что он намерен сказать мне что-то очень неприятное.
— О брате! — поспешил я погрузиться в черную пучину.
— Да, о брате.
— Он жив?
— Убит. Три дня тому назад.
Больше он ничего не мог мне сказать, да я и не спрашивал.
Я смотрел на него: он плакал, скривив губы, ужасающе безобразный. Я помню, обратил на это внимание и удивился тому, что он плачет. Я не плакал. Мне даже не было тяжело. Это известие ослепило, подобно внезапной молнии, и сразу же наступила тишина.
Вода безмятежно журчала. В ветках щебетала птица. Ну вот, все кончено, подумал я. И почувствовал облегчение: свершилось.
— Так,— произнес я,— значит, так.
Над водою, где золотом солнце сверкало…
— Успокойся,— просил хафиз Мухаммед, видимо придя в ужас от мысли, что я помешался.— Успокойся. Будем молиться богу за него.
— Да. Только это нам и осталось.
Я даже не ощущал боли. Словно бы что-то оборвалось во мне, и вот теперь его нет, конец. Необычно, что его нет, невероятно, невозможно, но было больнее, когда он жил.
Пришел Мустафа, должно быть, хафиз Мухаммед рассказал ему о моем несчастье, принес что-то в медной миске, помягчевший, еще более неуклюжий, чем обычно.
— Надо поесть,— уговаривал он, стараясь говорить тише.— Со вчерашнего дня у тебя ничего во рту не было.
Он поставил передо мной миску, как лекарство, выразив этим свою симпатию, я ел, не зная что, они оба смотрели на меня, один стоял рядом, другой напротив — ненадежная охрана от печали.
И тогда, в промежутке между двумя кусками, начала болеть отторгнутая часть моего существа.
Я перестал есть и медленно, остолбенело поднялся.
— Куда ты? — спросил хафиз Мухаммед.
— Не знаю. Не знаю, куда я.
— Не ходи никуда. Сейчас не надо. Оставайся со мной.
— Не могу остаться.
— Иди к себе. Плачь, если можешь.
— Не могу плакать.
Постепенно приходило сознание того, что произошло, боль заливала меня, тихо подступала, как вода, она доходила уже до лодыжек, я с ужасом думал о волне отчаяния, которая завтра поглотит меня.
А потом вдруг налетел приступ глухой ярости, словно виновник — брат — стоял передо мной. Поделом тебе, шипела в душе слезливая злоба, получил по заслугам? Чего ты искал? Чего хотел? Ты погубил нас, несчастный человек! За что?
Но и это прошло, длясь лишь один миг, тогда я пришел в себя.
С горы, где расположились табором цыгане, неслись глухие удары барабана, непрерывно пищала зурна, без устали с самого утра, со вчерашнего дня, испокон веку, жуткое безумство Юрьева дня обрушивалось на городок, как протест, как угроза. Где-то вдали призывал к бунту громкий набат, я слушал его дрожа, он призывал тех, кого нет, всех мертвых братьев под землей и на земле. Кто-то остался в живых и зовет.
Напрасно зовет.
Я лишился мыслей, лишился слез, лишился пути. Мне никуда не надо идти, но я иду, где-то остался след мертвого Харуна.
Под невысоким каменным мостом текла моя река, за нею — мертвая земля. Я никогда не ходил по мосту, лишь окидывал его взглядом, здесь оканчивалась чаршия, городок, жизнь и начинался путь к крепости.
Брат прошел здесь и не вернулся.
С тех пор я часто мысленно шел от каменного моста к громоздким дубовым воротам, рассекавшим сизые стены. Я шел как во сне во время этих воображаемых прогулок, дорога всегда была пустынной и свободной, чтобы мне, терзаемому мыслями, легче было пройти. Ворота были целью, дорога отовсюду вела к ним, они стали олицетворением печали, триумфальной аркой смерти. Я видел их в мыслях, во сне, во время приступов ужаса, я ощущал их мрачный призыв и неутолимую жажду. Я поворачивался и бежал, а они смотрели мне в затылок, манили, поджидали. Они были тьмой, бездной, избавлением. За ними — тайна или пустота. Здесь начало и завершение, для живых — начало, для мертвых — завершение.
Впервые я реально иду по улице моих бесконечных ночных мучений, неуверенный, воочию встретившись с ними. И в самом деле, дорога пустынна, как я желал и себе ее тогда представлял, теперь мне безразлично, даже хочется, чтоб она не была столь пустынной, как кладбище. Дорога смотрит на меня зловеще, угрюмо, злобно, словно утверждая: ты все-таки пришел! Тревожит этот переход в ничто, убивает даже ту чуть тронутую печалью храбрость, что зовется безразличием. Хотелось бы этого не видеть, чтоб уменьшить тревогу и трепет в душе, но все видно: и враждебность безлюдной улицы, и жуткие ворота в преддверии тайны, и зрачки невидимого часового в крохотном глазке у входа. Этих глаз я не видел, когда мысленно проходил здесь, я знал лишь ворота, улицу перед ними, канат к другому берегу.
— Чего тебе? — спросил часовой.
— Сюда кто-нибудь приходил один?
— Ты пришел. У тебя есть кто-нибудь в крепости?
— Есть, брат. Он арестован.
— Чего тебе?
— Могу ли я увидеть его?
— Увидишь, если тебя посадят.
— Могу я принести передачу?
— Можешь. Я отнесу.
Как безумец, я возвращал время вспять, оживляя убиенного, еще не убиенного, а только узнал, что он арестован, и сразу пришел расспросить о нем, по-человечески, как брат, у меня нет ни страха, ни стыда, еще сохранилась надежда, его скоро отпустят, передадут ему передачу, он будет знать, что он не одинок, не покинут, у ворот стоит его родной брат. Ни башни, ни часовые, ни страхи не помешали этому брату прийти, он пришел, я пришел, он на пятнадцать лет моложе меня, я всегда заботился о нем, я привез его в город, эй, люди, как же мне покинуть его в самую тяжелую минуту, повеселеет его опечаленное сердце, когда он узнает, что я спрашивал о нем. Никого из близких, кроме меня, нет у него, неужели я его тоже обману, зачем? Во имя чего? Смотрите на меня с подозрением, гневайтесь, качайте головами, мне безразлично, я здесь, я не отрекаюсь от родства, ближе которого нет, распинайте меня, если хотите, за эту любовь, неужели можно ей противостоять? Я пришел, брат, ты не один.
Поздно. После всего, что произошло и что еще пока не произошло, я могу только прочесть над ним заупокойную молитву в надежде, что она догонит его и, быть может, понадобится ему.
Горькой была моя молитва, иной, совсем не той, какую я обычно произносил над покойниками. Она касалась только нас двоих — меня и его.
Прости, брат, мне, грешному, за эту позднюю любовь, я думал, она существовала лишь до тех пор, пока была нужна, теперь она пробуждается, когда она никому, даже мне, не может помочь. И я не знаю, любовь ли это или никому не нужный стон. Только я у тебя оставался, кроме наших могил дома, теперь никого больше нет ни у тебя, ни у меня, ты потерял меня прежде, чем я тебя, или, может быть, нет, может быть, ты думал, будто я стою перед этими окованными воротами, как стоял бы ты из-за меня, может быть, до последней минуты ты надеялся, что я помогу тебе, и слава богу, что ты мне так верил, значит, тебя не охватил страх перед окончательным одиночеством, когда нас все покидают. Но если ты все понимал, да поможет мне бог.
— Чего ты шепчешь? — спросил человек по ту сторону ворот.
— Читаю молитву по покойнику.
— Ты прочти молитву по живым, им потруднее.
— Ты многое видел, тебе следует верить.
— Только мне и дела до того, захочешь ли ты мне поверить.
— Сколько людей вошло в эти ворота?
— Больше, чем вышло. И все на счету.
— Где на счету?
— Наверху, на кладбище.
— Скверно ты шутишь, друг.
— Они шутят. И ты шутишь. А теперь убирайся.
— Неужели ты должен быть грубым, раз ты на этом месте?
— Неужели ты должен быть глупым, раз ты на этом месте? Иди сюда, переступи порог, тут с ладонь расстояния, и сразу заговоришь по-другому.
С ладонь расстояния всего лишь, и сразу все станет иным.
Надо привести сюда людей: пусть посмотрят на эту ладонь и возненавидят ее. Нет, скрыть ее нужно от людей, никогда не приводить их сюда, пусть только силой приводят, чтоб не таили свои мысли, не оскверняли каждое свое слово.
Я шел обратно, опустив в землю взгляд, ища на неровной мостовой, не зараставшей травой, следы ног, место, где он в последний раз стоял вне крепостных стен. Никакого следа не осталось больше от него на свете. Все, что уцелело, все во мне.
Затылком я ощущал, как пронзают меня ворота щелями каменных глаз, прожгут они меня насквозь, алчущие.
Я находился на рубеже смерти, у врат судьбы, не узнав ничего. Узнает тот, кто входит туда, но ему не дано рассказать об этом.
Неужели люди не могут сообразить, что это единственные ворота смерти, пускай нас пустят всех внутрь, толпой, не надо ждать случая, рокового часа.
Этой безумной мыслью я защищался от того несказанного ужаса, который охватил меня, пытался за общей мукой не увидеть свою собственную. Я отправился искать последний след убиенного, а оказался на его похоронах, без него, без кого бы то ни было, один-единственный, я не собирался этого делать, не понимал, почему необходимо, чтобы я пришел сюда помянуть его, мертвого. Может быть, потому, что это самое печальное место в мире и молитва о покойниках здесь нужнее всего. Может быть, потому, что это самое ужасное место в мире, что необходимо преодолеть страх и именно здесь помянуть убиенного. Возможно, и потому, что это самое гнусное место в мире и поминание здесь бывшего себя поможет прозрению. Я ничего не искал, а вот так вышло; мне это не нужно, но иначе поступить я не могу.
У входа в город я заметил человек десять, они ждали меня, словно я возвращался с того света. Стояли неподвижно и смотрели, глаза их были спокойны — они не сводили их с меня, тяжесть возлегла на меня, много этих глаз на моем лбу, здесь их гнездовье, я начну спотыкаться. Я не знал, для чего они пришли, не знал, почему преградили дорогу, чего ждут, не знал, как мне поступить.
Я шел по улице, что вела из крепости, и словно выходил из тьмы (снова послышался глухой звук тимпана, там его не было), среди людей, защищенных солнцем, отделенных мостом от этого пути в никуда, я видел беглеца Исхака, с одной ногой обутой, другой — босой, лицо его было жестким, и у остальных тоже, они одно целое, ничем не различимы, я увидел много раз умноженного Исхака, увидел много глаз с одним-единственным вопросом в них. Из-за Исхака, кажется мне, понимаю я, почему стоят они на этом рубеже и что хотят узнать. Я смутно догадываюсь, скорее предчувствую, в чем дело, и не смею поднять взгляд от мостовой, может быть, они раздвинутся и мы как-то разойдемся, я сделаю вид, будто погружен в раздумье и не замечаю, что они чего-то ждут, неважно, что они поймут мое притворство, неважно, что и они подумают, будто я избегаю их взгляда. Но хотелось бы, чтоб его не было с ними. Они бы не пришли, если б он их не привел.
А когда стена ног выросла передо мной, я поднял глаза на лицо Исхака, я должен был увидеть, чего они хотят, чего мне не избежать. Его не было. Я знал, где он стоял, третий слева, а сейчас с того места смотрел на меня худой паренек, и он ничуть не удивился тому, что я остановился перед ним.
В их широко раскрытых глазах было упорство и ожидание. Где он? Нету ни справа, ни слева от худого юноши, до самого конца ряда, не считая, я знал, что их девять, мой взгляд прошелся по их лицам, я делал смотр сжатым губам, напряженно сведенным бровям, я позабыл, что они чего-то ждут, я искал Исхака. Я не знал, зачем он мне нужен, не знал, что я ему скажу, но я жалел о его исчезновении. Ведь я видел его, правда издалека, двадцать шагов прошел я с опущенными глазами, солнце накрыло их, словно позолотой, в этом ином мире пылали эти глаза, как факелы, отражая свет, но безразлично, я готов был отдать душу, что узнал его. Остальным я ничего не должен говорить, даже если б и знал что.
Я миновал их, они расступились и пропустили меня. Несколько мгновений стояла тишина, я ступал один, а потом зашуршали шаги по мостовой, они пошли следом. Я ускорил шаг, они догоняли торопясь, расстояние их не смущало. Их словно бы становилось больше.
Опускались сумерки, весенние улицы отливали синевой и были спокойны.
Я не слыхал муэдзина, не знал, наступил ли час молитвы, но мечеть была открыта, и одна свеча горела в высоком подсвечнике.
Я вошел и сел на свое место впереди. Не поворачиваясь, я слышал, как входили люди и садились возле меня, без слов, без перешептываний. Никогда они не были так спокойны. И в молитве тихи и торжественны — так мне казалось. Сдержанный гомон за спиной волновал меня.
И пока шла молитва, я ощущал, что она странная, иная, чем обычно, горячая и опасная, словно подготовка к чему-то. Я знал, что она не может закончиться, как всегда. Аминь — лишь начало, а не конец; мои чувства были притуплены, напряжены, превратились в сплошное ожидание. Чего? Что произойдет?
Во время этого безмолвия, неподвижности я ясно ощутил их желание остаться по окончании молитвы и понял то, что не желал знать. Они хотели видеть меня, когда я узнаю о несчастье, желали, чтоб я показал, чего я сто́ю в эту минуту.
Я и сам не знал, чего я стою, и не знал, какой ответ им дам.
Все зависело от меня.
Я мог встать и уйти, убежать и от себя, и от них. Это был бы ответ.
Я мог попросить их уйти, чтоб остаться одному в тишине пустой мечети. И это тоже был бы ответ.
Но тогда все останется во мне. Ничего не дойдет ни до кого. Еще стоя у крепостных ворот, я боялся завтрашней боли и раскаяния, огонь мог испепелить меня, горе — задушить, тогда навеки окаменеют невысказанные гнев и печаль. Я должен был говорить. Ради тех, кто ожидал. Ведь я человек, по крайней мере сейчас. И ради того, незащищенного. Пусть это станет скорбной братской молитвой о нем, второй сегодня, но первой, которую услышат люди.
Страшился ли я? Нет. Меня только волновало, смогу ли я хорошо исполнить то, что должен. В душе была спокойная готовность ко всему, готовность, которая возникла из неизбежности события, из глубокого понимания его, а это понимание сильнее мести, сильнее справедливости. Больше я не мог противиться себе.
Я встал и зажег все свечи, перенося огонь с одной на другую, я хотел, чтобы все видели меня, я хотел видеть всех. Чтоб мы запомнили друг друга.
Медленно я повернулся к ним. Никто, ни одна душа не уйдет. Они смотрели на меня, стоя на коленях, взволнованные моими безмолвными движениями и огоньками свечей, горевших вдоль всей передней стены и издававших густой аромат воска.
— Сыны Адама!
Никогда не называл я их так.
Еще минуту до этого я не знал, что скажу им. Все пришло само собой. Печаль и тревога извлекали голос и слова.
— Сыны Адама! Я не стану говорить проповедь, я не смог бы этого сделать, даже если б захотел. Но верю, что вы будете упрекать меня, если сейчас, в эту минуту — тяжелее ее я не помню в своей жизни,— я не скажу о себе. Никогда не было для меня более важно то, что я скажу сейчас, и вместе с тем я не стану ничего добиваться. Ничего, кроме того, чтоб увидеть скорбь в ваших глазах. Я не назвал вас братьями, хотя вы мне братья больше, чем когда бы то ни было, я назвал вас сыны Адама, потому что это всех нас роднит. Мы люди и думаем одинаково, особенно когда нам тяжело. Вы ждали, вы хотели, чтоб мы остались вместе, взглянули друг другу в глаза, скорбя о смерти невинного человека, взволнованные совершившимся преступлением. Вас тоже касается это преступление, ибо знайте: кто губит одного невинного, тот как бы уничтожает всех людей. Всех нас убивали несчетное множество раз, братья мои убиенные, но все мы повергнуты во прах, когда погибает кто-то из наших близких, кто нам дороже всех.
Может быть, надо было их ненавидеть, но я не могу. У меня нет двух сердец — одного для ненависти, другого для любви. То, которое у меня есть, сейчас знает только печаль. Моя молитва и мое искупление, моя жизнь и моя смерть — все это принадлежит богу, творцу Вселенной. Но моя печаль принадлежит мне.
Берегите узы родственные, говорит аллах.
Я не уберег их, сын своей матери. У меня не нашлось сил отвести беду от тебя и от себя.
Муса говорит: господи мой! Дай мне помощника из близких моих, Харуна, брата моего, укрепи им силу мою. Сделай моего брата помощником в деле моем.
Моего брата Харуна больше нет, и я могу лишь сказать: господи, укрепи им, мертвым, силу мою.
Им, мертвым и не погребенным по законам божьим, не увиденным и не целованным близкими своими перед великим путем, откуда нет возврата.
Я подобен Кабилу, которому господь послал ворону — она клювом долбила землю, чтоб показать ему, как следует закопать мертвого брата. А он сказал: горе мне, неужели не могу я сделать столько же, сколько ворона, чтоб предать земле тело мертвого брата своего.
О, несчастный Кабил, я несчастнее черной вороны!
Я не спас его живым, не видел его мертвым. Теперь нет у меня никого, кроме самого себя и тебя, мой боже, и печали моей. Дай мне сил, чтоб устоять в великой братской и человеческой скорби, чтоб не отравиться ненавистью. Я повторяю слова Нуха: раздели меня и их и суди нас.
Мы живем на земле лишь один день, а то и меньше. Дай мне сил, чтоб простить. Ибо велик тот, кто прощает. А я знаю, что забыть не могу.
А вас, братья мои, прошу, не упрекайте меня за слова мои, не упрекайте, если они сразили вас и опечалили. И если обнаружили мою слабость. Не стыжусь я этой слабости перед вами, устыдился бы, если б ее не было.
Теперь ступайте домой и оставьте меня наедине с моим горем. Легче мне теперь, я разделил его с вами.
Оставшись один, один на всем свете, в ярком пламени свечей, в самой черной тьме, я облегчения не чувствовал ни в чем (люди унесли лишь мои слова, а печаль целиком осталась со мною, нетронутая, еще более черная из-за того, что я обманулся в своих надеждах, ожидая ее уменьшения), я ударился лбом об пол и, зная, увы, что все напрасно, в отчаянии вспомнил суру Корана:
Господи наш, ищем прощения твоего.
Господи наш, не взыщи с нас, если мы ошибемся или согрешим.
Господи наш, не возлагай на нас то, что нам невмочь.
Господи наш, не обязывай нас тем, чего мы поднять и свершить не можем.
Избавь нас, смилуйся и укрепи нас.
Может быть, он избавил, может быть, смиловался, но укрепить — не укрепил.
В слабости, какой я никогда не испытывал, заплакал я, как малый ребенок. Все, что я знал и о чем думал, не имело никакого значения, ночь за этими стенами была черным-черна и полна угрозы, мир ужасен, а я мал и слаб. Как бы я хотел остаться вот так на коленях, изойти слезами, больше не подняться. Знаю, нам нельзя быть слабыми и печальными, если мы считаем себя правоверными, но знание наше ничего не дает. Слаб я и печален и не думаю о том, правоверный ли я или гяур, затерявшийся в глухом одиночестве мира.
А потом наступила бездонная тишина. Где-то глубоко внутри меня что-то еще гудело, все отдаленнее, еще слышались вопли, но они затихали. Буря обессилела, успокоилась сама по себе. Должно быть, после слез.
Я был обескровлен, я чувствовал себя больным, только что вставшим на ноги.
Погасил свечи, лишая их жизни одну за другой, без того торжественного чувства, с каким я их зажигал. Сокрушила меня печаль, и я был один.
Я долго останусь во тьме, я боюсь. Один.
Но и после того, как я погасил душу последней свечи, тень моя не исчезла. Тяжелая, она продолжала покачиваться на стене в полумраке.
Я повернулся.
В дверях стоял позабытый Хасан, держа в руках живую свечу. Молча он ожидал меня.
Все, что можете сделать против меня, делайте, не оставляйте мне ни одного мгновения отдыха.
Рука еще дрожит у меня, держа перо, будто сейчас происходит то, о чем пишу, будто не прошло больше месяца с того мгновения, как переменилась моя жизнь. Не смогу я точно передать, что пережил, на каком огне поджаривался, своем и чужом, о чем думал и что чувствовал, когда настигла меня буря, ибо глядел из этой дали, и многое осталось в тумане неузнанности, как в лихорадке. Но хочу по порядку рассказать, что происходило со мной и вокруг меня. А о том, что было в душе, тоже расскажу, как смогу, насколько сам постигну это.
На другой день после моих слов, произнесенных в мечети вечером, мне был нанесен ответный удар.
Я ничего не предчувствовал, ничему не удивлялся, хотя и полагал, что меня опутают паутиной.
В полдень того дня Хасан заглянул в текию. Мне казалось, будто он глядит на меня иначе, с уважением, хотя и с некоторым недоумением, словно бы удивлен, словно бы не ожидал моего бунта. Теперь, когда бунт начался, я задним числом отыскивал его причины, вспоминал о справедливости и оскорблении. Брат он мне, думал я, если я не мог спасти его, то могу оплакать. Я опасался, как бы Хасан не укорил меня за то, что я не поступил иначе раньше, пока еще не было поздно, но он ничем не попрекнул меня, сделал вид, будто все позабыл. Я был благодарен ему за эту забывчивость. Больше, чем в себя, смотрел я в него, его мнение меня особенно интересовало, потому что он все знал и мог бы крепко меня ударить.
Его удивленный взгляд радовал меня и по другой причине. Пожалуй, никогда до тех пор не ощущал я столь ясно, как наше настроение и наши решения зависят от окружающих нас людей. Если бы изумились Хасан и хафиз Мухаммед, осудили бы мою речь, сочли ее необдуманным поступком, я бы тоже встревожился. Но эта их поддержка сбросила с меня груз сомнений, и я был уверен: поступил так, как надо, поступил хорошо. Может быть, глупо, но единственно возможно. Хасан удивлен: он считал меня трусом. Но вот же, нет.
Прекрасно чувство гордости, оно защищает нас от раскаяния.
Сказанное мною в мечети было тоскою, испугом, подавляемыми слезами и, быть может, сдерживаемым воем. Но все было моим. Грустный расчет и грустная защита. И вот, когда я все это высказал, оно вдруг превратилось в нечто другое. С чего бы оно ни началось, чем бы оно ни было, оно стало общим грузом и осуждением. И это обязывало меня, ибо слова мои уже перестали принадлежать только мне одному. Об этом говорил и Хасан (он рассказывал хафизу Мухаммеду, а я сидел у себя), что давно он не слышал более искренней печали и более тяжкого обвинения. Он был подавлен, как и другие, потрясающей простотой обычных слов и горем человека, который рыдает, но говорит. Мне казалось, говорил Хасан, будто все мы виновны и все опечалены.
Неужели теперь надо позабыть все происшедшее, все мною сказанное? Слово обязывает, оно тоже есть действие, оно обязывает меня перед другими, не только перед самим собой.
Я вышел в сад, но они толковали уже о другом. Мне стало жаль, что их мысли по-прежнему не заняты мною, но, что делать, слова, произнесенные в мое отсутствие, имели большую ценность, чем если бы были сказаны при мне.
— Мы разговариваем об отце Хасана,— сообщил мне хафиз Мухаммед, когда я подошел.
Видно, опасались, как бы я не навязал им другой разговор. А я великодушно подумал, что у каждого своя беда, и хвала аллаху, что это так.
Хасан говорил, как обычно, весело, насмешливо, легкий и поверхностный во всем: в суждениях, в чувствах, в отношении к себе и к другим. (Я забыл сказать, что он оставался со мною всю прошлую ночь и сострадал.)
— Странный человек отец,— говорил Хасан,— хотя не знаю, уместны ли эти рассуждения, ведь любой человек странен, кроме бесцветных и бесформенных людей, но и те опять-таки странны тем, что нет у них ничего своего, то есть свое у них то, что никак нельзя назвать их особенностью. И разумеется, кроме каждого из нас, ведь мы настолько привыкли считать странным все, что отличается от нашего собственного, что можно было б утверждать: странное — это нам не принадлежащее. Вот и отец, он странен, ибо считает меня странным, а я — его, и так далее и все дальше, ни конца ни края удивлению, а может быть, именно этому стоило бы удивляться. Разница между ними в том, что отец считает, будто он, Хасан, погубил себя, а Хасан убежден в том, что человек может погубить себя многими способами, и менее всего тогда, когда делает то, что его удовлетворяет, а вовсе не позорит, вот и выходит, что отец несчастлив тем, чем доволен его сын, и почитал бы счастьем, своим личным и семейным, если б его сын на самом деле оказался несчастным.
— Ты видел его, с тех пор как приехал? — улыбаясь, спросил хафиз Мухаммед.
— Пытался. Я хотел перебрать с ним все способы, с помощью которых люди могут быть несчастны. И спросить, кому мешает моя жизнь. Мне она дорога, как стоптанный башмак. Он может пропускать воду, может быть некрасивым, но он не набивает мозолей, его не хочется сбросить посреди дороги, его даже не чувствуешь на ноге. Зачем жизни натирать мне мозоли и зачем мне воспринимать ее как кошмар?
— Ты хотел это ему сказать? А видеть его ты не хотел?
— Как бы я мог сказать ему, не видя его? Прежде всего я хотел его видеть, ибо это было для меня главным, а для него главным было то, что он не желал меня видеть, и, таким образом, я сохранил оба своих желания неиспользованными.
— Это он тебе сам сказал?
— Послал свое слово чужими устами. От него пахло отцом, и оно так меня растрогало, что я охотно поцеловал бы губы, которые его принесли, столь юные и невинные, они даже не знали, что несут.
— Надо снова пойти.
— Ради девушки?
— Как хочешь,— улыбнулся хафиз Мухаммед,— только пойди.
— Сколько раз нужно ходить? Сколько раз сын должен ходить впустую?
— Еще раз.
Хасан подозрительно посмотрел на него.
— Ты был у отца?
— Был.
— Ах, значит, ты был. А зачем? Хочешь свести двух упрямых людей, чтобы состоялось пустое примирение?
— Пусть состоится что угодно. Я сказал, что ты сегодня придешь. Поговори с ним. Отца нетрудно растрогать.
— Да, особенно моего.
Я вспомнил без особого удовольствия о своем разговоре с муфтием, он чем-то напоминал этот, но меня-то вынудили, а здесь…
С печалью подумал я, что, возможно, Хасан примирится с отцом. И с каплей зависти отметил: и позабудет меня.
Я совершил омовение и отправился в мечеть.
Было сумрачно, я хорошо помню, и я посмотрел на небо по врожденной привычке крестьянина, она так и не выветрилась из меня, хотя в ней не было нужды. А ведь, бывало, я мог предсказать перемену погоды за несколько дней вперед. Тогда меня обманула туча, она обогнала меня, я был слишком погружен в себя. Да и хотелось, чтоб собрались тучи, чтоб наступило ненастье, потому, вероятно, я и не заметил, как надвигалась гроза. Неразумно я понадеялся на то, что отец испугается дождя и не пойдет в город.
День ослабевал, небо на западе еще пламенело. Помню, как на фоне небесного зарева появились четыре всадника в конце улицы. Они были красивы, будто кто-то вышил их на пурпурном шелке, пришил к алому полотнищу небосвода, четыре одиноких ратника на широком поле перед битвой, едва заметными движениями успокаивающие лошадей.
Я направился к ним, и кони взвились от ударов, которых я не видел, и помчались вперед, перекрывая узкую улочку от одной стены до другой.
Они шли на меня!
Когда-то я не был трусом, а сейчас я не знал, кто я, но в той ситуации мне не помогли бы ни храбрость, ни трусость. Я оглянулся: ворота далеко, в десяти шагах от меня, они недостижимы. Я махнул всадникам: остановитесь — растопчете меня! Но они хлестали бичами по крупам, подгоняя лошадей, все ближе, земля гудела устрашающим стоном, какого еще никогда мне не доводилось слышать, а четырехголовое чудовище, разъяренное, кровожадное, приближалось со стремительной быстротой. Я пытался бежать или только подумал об этом, но в ногах не было сил, кони сопели за мной, всем телом ожидал я, что вот-вот бич опустится, упаду, растопчут, я прислонился к стене, врос в нее, уменьшился, но еще был досягаем, и я видел над собою четыре оскаленные конские морды, огромные, красные, с розовой пеной, и четыре пары конских ног, которые кружились вокруг моей головы, и четыре суровых лица, и четыре раскрытые пасти, красные и окровавленные, как у лошадей, и четыре бича, четыре шипевшие на меня змеи, они оплели мое лицо, шею, грудь, я не чувствовал боли, не видел крови, глаза были прикованы к распятому чудовищу с бесчисленными ногами и бесчисленными головами. Нет! — что-то беззвучно вопило во мне, страшнее страха, тяжелее смерти, я не вспомнил о боге, не назвал его имени, передо мной вертелся красный, кровавый, непостижимый ужас.
Потом всадники исчезли, а я все еще видел их, они словно отпечатались на окровавленном сукне неба, в моем взоре, под веками, когда долго глядишь на солнце.
Я не мог, не смел двинуться, я боялся, что не удержусь на ногах и упаду на мостовую, я не понимал, как стою, ибо не чувствовал под собой опоры.
Откуда-то появился молла Юсуф, не знаю, с какой стороны.
— Тебя ушибли?
— Нет.
— Как же нет!
— Неважно.
Полное, здоровое лицо его побледнело, ужас и испуг стояли в его глазах. Он жалеет меня?
Хорошо, что подошел именно он, перед ним я буду храбрым. Не знаю почему, но иначе нельзя. Перед кем угодно можно обнаружить страх, перед ним я не должен.
— Пошли в текию,— чуть слышно сказал он, я очнулся и понял, что по-прежнему стою, прижавшись к стене.
— Я опоздаю в мечеть.
— Нельзя в таком виде идти в мечеть. Я тебя заменю, если хочешь.
— На мне кровь?
— Да.
Я направился к текии.
Он поддержал меня под локоть.
— Не надо,— высвободил я руку.— Иди в мечеть, люди ждут.
Он замер, словно устыдившись, и угрюмо посмотрел на меня.
— Не выходи из текии день-другой.
— Ты все видел?
— Видел.
— Почему они налетели на меня?
— Не знаю.
— Я напишу жалобу.
— Оставь, шейх Ахмед.
— Не могу оставить. Мне будет стыдно перед самим собой.
— Оставь, забудь это.
В глаза не смотрит, уговаривает, словно что-то знает.
— Почему ты мне это говоришь?
Он молчал, опустив взгляд, не зная, что сказать, будто боялся или же желал говорить, будто что-то знал, но раскаивался, что вообще заговорил, будто вспомнил, что это нисколько его не касается. Господи, во что мы его превратили.
Ради него подавил я испуг и слабость, ради него хотел пойти в мечеть окровавленным, ради него сказал, что подам жалобу. Я хотел стоять прямо перед этим юношей, с которым меня связывали странные узы. Он впервые пожалел меня. А я считал, что он ненавидит меня.
— Иди,— сказал я, видя, как быстро краска возвращается на его лицо.— Теперь иди.
Вполне естественно для меня было бы сойти с ума после такого невероятного события, но каким-то чудом я без надлома пережил первый момент и, собрав все силы, отодвинул куда-то в сторону остальное, куда-то в глубину, приглушив его на время. Ужасно, твердило в душе наивное воспоминание, но оживить ничего не удавалось. Я даже гордился тем, что спрятал свой испуг, и это чудное ощущение храбрости еще поддерживало меня, не очень твердо, но достаточно, чтоб повременить.
Пока Мустафа и хафиз Мухаммед раздевали и мыли меня, потрясенные, перепуганные, я тщетно пытался овладеть своими дрожащими руками и ногами, а у меня ведь нашлись силы, чтобы не устыдиться этого и не испугаться. Тлеющий огонек вспыхнул несколько раз, будто разгораясь, страшный гул и панический страх мгновенно ожили, но мне опять удалось стереть картину того, что миновало и что пока не болело. Миновало, убеждал я себя, ничего не произошло, что могло взволновать меня сверх меры, только бы не было хуже, пусть все на этом кончится. И я жадно вслушивался в их бессвязный разговор, в расспросы Мустафы о том, что случилось, так как он ничего не понимал, в испуганную одышку хафиза Мухаммеда, сквозь которую просачивались неловкие слова ободрения, сердитые окрики на Мустафу, угрозы кому-то неопределенному, неведомому, имя которому было «они». Это его негодование поддерживало во мне огонек злобы, рожденный нанесенным оскорблением, и, когда молла Юсуф вернулся из мечети и встал молча у двери, мое желание действовать еще более окрепло. Я поскорее воспользовался этим, опасаясь проявления другого желания — ничего не предпринимать. Я написал жалобу валийскому судье и отдал ее Юсуфу перебелить.
Сон не шел ко мне, когда я лег. Написанная жалоба мучила меня, она оставалась еще со мною, я колебался, отправлять ее или порвать. Если я ее брошу, на этом все и кончится. Но тогда оживет потаенное, притушенный фитилек разгорится. Вновь услышу я гул, от которого замирает сердце. Пошлю жалобу — сохраню веру в то, что могу найти защиту, могу обвинить. Мне эта вера была необходима.
Казалось, я ни на миг не сомкнул глаз, однако меня разбудили чьи-то совсем не осторожные шаги в комнате и свет свечи. Надо мной наклонился человек со сплюснутым лицом, который передавал мне угрозу муселима. Второй, незнакомый, держал свечу.
— Что вы ищете? — спросил я оробело, пробуждаясь ото сна, смущенный их дерзостью.
Он не спешил с ответом, насмешливо, с любопытством, как и в тот вечер, глядел на меня с дружелюбной хитринкой, словно мы оба знали о какой-то забавной штуке, она сближала нас и давала случай повеселиться, ничего не говоря вслух. Его спутник освещал меня в постели, будто я был одалиской.
— Не послушался ты меня,— весело произнес первый.— А я ведь тебя предупреждал.
Он взял свечу и принялся осматривать комнату, заглядывая в книги. Я думал, что он небрежно расшвыряет их, но он аккуратно ставил на место.
— Что ищешь? — взволнованно спросил я.— Кто вас пустил? Как вы смели войти в текию?
Голос мой звучал тихо и робко.
Он удивленно взглянул на меня, ничего не ответив.
Обнаружив жалобу, прочитал ее, покачал головой.
— Зачем тебе это? — спросил с удивлением. И сам ответил: — Твое дело.
Жалобу он сунул в карман.
А когда я, вспыхнув, сказал, что пожалуюсь муфтию, он с сожалением посмотрел на меня и махнул рукой, давая понять, как скучно объясняться с наивным человеком.
— Твое дело,— повторил он.— Давай одевайся.
— Ты велел одеваться? — Мне показалось, будто я не расслышал.
— Велел. Можешь и так идти, если хочешь. И поторопись, не доставляй неприятностей ни мне, ни себе.
— Хорошо, я пойду. Но кто-то за это ответит.
— Так-то лучше. Кому-то всегда отвечать надо.
— Куда вы ведете меня?
— Ах, куда мы тебя ведем!
— Что мне сказать дервишам? Когда я вернусь?
— Ничего не говори. А вернешься сразу. Или никогда.
Это не было грубой шуткой, я услышал откровенную правду о том, что могло случиться.
В комнату вошел хафиз Мухаммед, он был вне себя. И весь белый — в белых чулках, в белой рубашке, с побелевшим лицом, словно покойник, вставший из могилы, и не мог выговорить ни слова. Добра это не сулило. Я чего-то ждал от него, понимая, насколько это неразумно.
— Они пришли за мной, уводят,— сказал я, указывая на ожидавших меня людей.— Надеюсь, скоро вернусь.
— Кто они? Кто вы?
— Давай! — торопил меня ночной гость.— Кто мы! Каких только дураков нет на белом свете! Уведем тебя, тогда узнаешь, кто мы.
— Уводите! — вдруг неожиданно крикнул этот покойник.— Всех нас уводите! Все мы так же виноваты, как и он!
— Дурак,— ответил презрительно полицейский.— Не лезь без очереди, можем и за тобой прийти.
— Кто гордится насилием…
Он не кончил фразу, которая могла погубить его, вовремя помешал начавшийся кашель, вряд ли он мог прийтись более кстати. Хафиз Мухаммед зашелся, будто кровь хлынула у него горлом от волнения, подумал я, не испытывая при этом жалости, ведь он оставался. Я смотрел, как он надрывается от кашля, мучается, стоял и смотрел один, напуганный вынужденным уходом в ночь. Но показывать этого я не желал.
Я хотел помочь ему. Полицейский удержал меня.
— Бедняга,— спокойно, будто выбранился, произнес он и рукой указал на дверь.
Перед текией ждал еще один человек.
Они шли рядом со мною и позади меня. Я двигался оцепенело, задыхаясь.
Кругом была тьма, не было луны, ни проблеска света, ночь, которую невозможно увидеть и которая лишена жизни, лаяли по дворам собаки, отвечая далекому собачьему лаю с гор, под самым небом, миновала полночь, духи бродят по миру, непойманные люди спят и видят причудливые сны во мраке, и дома во мраке, и весь город, и весь мир, это пора расчетов, час злых дел, не слышно людских голосов, не видно людских лиц, кроме этих теней, что стерегут мою. Ничего нет, только жаркое пламя во мне полыхает на этой мрачной, покинутой всеми земле.
Кое-где изредка затрепещет робкий огонек, из-за больного, из-за ребенка, проснувшегося в ночи от моего страха, из-за злого шороха, меня приводит в ужас мысль об этом спокойном мире, я отталкиваю его, чтоб не видеть себя, шагающего сквозь тьму навстречу неведомой судьбе, я иду куда-то, куда не нужно, в никуда, мне кажется, будто я иду, теряю ощущение реальности, словно бы я больше не на этом свете, словно бы это не наяву, из-за тьмы, из-за бесформенных теней, из-за неверия в то, что это я, что это могу быть я. Это кто-то другой, я знаю его, смотрю на него, возможно, он удивлен, возможно, испугался. Возможно, я блуждаю, не зная, где я вдруг оказался, иду по путям, по которым мне суждено пройти, я никогда не был в этом месте и не могу выйти, но вот кто-то зажжет свечу и позовет меня в надежное убежище. Но никто не зажигал свечи, никто желанным голосом не показывал направления, ночь длилась, и чужая местность, и неверие — все это дурной сон, я проснусь и переведу дух.
Почему люди не кричат, когда их ведут на смерть, почему не звучит их голос, почему они не ищут помощи? Почему не бегут? Хотя некому кричать, некого призывать, люди спят, бежать некуда, все дома накрепко заперты. Я говорю не ради себя, я не присужден к смерти, меня отпустят, я скоро вернусь, вернусь, вернусь один по знакомым дорогам, не по этим чужим и страшным, я никогда больше не услышу, как лают собаки, лают безнадежно, суля смерть и пустоту, я запру дверь, залеплю уши воском, чтоб не слышать. Все ли, кого вели, слышали их? Всем ли этот лай был последним «прости»? Почему они не кричали? Почему не бежали? Я бы кричал, знай я, что меня ждет, я бы бежал. Все бы окна распахнулись, все бы двери раскрылись.
Ох, нет, ни одна бы. Поэтому никто не бежит, знают. Или надеются. Надежда — сводня смерти, более опасный убийца, чем ненависть. Она притворяется, она умеет обольщать, успокаивает, усыпляет, нашептывает то, что ты хочешь слышать, ведет под нож. Только один Исхак убежал. Его вели в ту ночь так же, как и меня, нет, его сопровождало больше людей, он — другое дело, он опасен для них, я ни для кого не опасен, наверняка он не слушал, как лают собаки, он не думал о том, что это сон и скоро он проснется, он знал, куда его ведут, и у него не было надежды остаться в живых. Он не обманывал себя, как другие. Он сразу решил бежать, это была его первая и единственная мысль. Поэтому он шагал безропотно, боялся, чтоб мысль эта не вырвалась сама собою — столько силы в ней было,— и упорно всматривался во тьму, светила луна, предательски, вражески, но он искал тень, укрытие, высматривал самое надежное и вдруг решился, когда почувствовал, что они невнимательны, что другого случая не представится. На миг, на один лишь краткий миг я стал им, перед прыжком, перед бегством, они за мной, возле меня, мы связаны крепче, чем друзья, чем братья, сейчас узы лопнут, между нами ляжет насильственный и болезненный разрыв, они без меня ничего не стоят, разрыв причинит им боль, и все будет решаться в неуловимо крохотные доли секунды, мы даже не сможем осознать этот миг, мы будем знать лишь о прыжке, и снова, и снова тьма слишком прозрачна, шаг слишком короток, укрытие слишком заметно. Тщетно. Куда убежать?
Даже не пытаясь спастись, я пал духом при мысли о побеге, я не мог решиться, и не надо решаться. Это уже не Исхака, это мое, меньше или больше от реальности: невозможное, которое, однако, происходит наяву.
Из одной тьмы меня уводили в другую, без формы и без места, я ничего не видел, был погружен в себя, охвачен раздумьями, они полностью поглотили меня, и поэтому я ничего не узнавал, мрак менялся, я судил по тому, что мы двигались и время шло, хотя я и не замечал его, пока оно проходило.
Где-то они кого-то встретили, о чем-то шептались, кто-то снова заставил меня оцепенеть, я стал ценностью, которую нельзя потерять, я не знал, кто теперь со мной, хотя мне это было безразлично, все одинаковы, все тени, все из-за меня в этом ночном деле. Они могут сменяться, меня подменить не может никто.
И, лишь ударившись лбом о низкую притолоку, я понял, что мы пришли. Я пришел, они вернутся. Их заменят стены.
— Дайте мне свет! — крикнул я в окованную дверь, вступая внутрь и еще не веря в то, что где-нибудь в мире может существовать такая тьма.
Это были последние остатки прежних привычек, последние оставшиеся слова. Никто их не слышал, или не желал слышать, или не мог понять. Возможно, они напоминали бред.
Шаги удалялись вдоль чего-то, что должно было быть коридором. А это, по-видимому, тюрьма. А это, должно быть, я. Или нет? Да, к вящему сожалению. Мысль моя не исчезала в дали, похожей на сон, я не пытался наблюдать за собой со стороны, я осознавал самого себя, я бодрствовал, в душе было до неловкости ясно, обмана быть не могло.
Долго не отходил я от двери, вдыхая крепкий запах ржавого железа, это было первое место, где я стоял во мраке, приуготовленном мне, оно знакомо уже целое мгновение и поэтому менее опасно. А потом я пошел по кругу, на поиски, как слепец, расставив пальцы и повсюду натыкаясь на тягучую сырость неровной стены, будто надо мною был колодец. Сырость была и под ногами, которые увязали в чем-то омерзительно скользком. Ничего не обнаружив, я снова вернулся к двери, к едкому запаху железа, который, теперь мне казалось, был легче затхлой вони.
Ограниченная стенами, замурованная в камень пустота, здесь я не много увижу, не знаю, понадобится ли мне и то, что я узнал прежде. И глаза бесполезны, и руки, и ноги, и опыт, и разум, я спокойно мог вернуться к состоянию простейших живых организмов из рассказов хафиза Мухаммеда.
Сколько затрачено усилий в жизни, чтобы получить эти два шага по сырости и полнейшую слепоту!
Невелика моя новая квартира, где бы найти место вытянуться? Обходя свою могилу, я нашел камень возле стены и встал рядом, не позволяя себе сесть. Я еще мог решать. Словно ждал, что дверь откроется и кто-то выпустит меня: давай выходи! Может быть, все остальные вот так же с неохотой опускались в грязь и сырость, надеялись на что-то, ждали и отказывались от ожидания, потеряв надежду. Это продолжалось недолго. Скоро сел и я на камень, преодолев этот рубеж, стараясь не прислоняться к стене, а потом прислонился, чувствуя, как сырость медленно проникает в меня. Теперь можно было сколько угодно рассуждать о воде и ни о чем, другого занятия не было.
Не знаю, болели ли мои раны до этого, а я просто не замечал, или же боль отступила перед более важным. Теперь они заявили о себе, потому что пришло им время заболеть или тело взбунтовалось из-за пренебрежения им и напомнило о себе. Я бессознательно принял эту неожиданную помощь, принялся пальцами разминать поврежденные места, растирая боль, размещая ее так, чтобы она не скапливалась в одном месте, зажимал порезы, чтоб не текла кровь, чувствуя, какая она клейкая. Вчера вечером мои раны обмыли ромашкой, осушили чистой ватой, а сейчас я втирал в поврежденную ткань всю собравшуюся на стенах грязь, и безразлично мне было, я не думал о грядущем, думал о настоящем, боль была сильной, она обжигала меня во мраке, благодаря ей я существовал, мое тело возвращало меня к реальной действительности. Мне была необходима эта боль, она стала частью меня, живого, осознанная, похожая на ту, что на земле защищает от тьмы и напрасных поисков какого бы то ни было ответа, не позволяет вспоминать о брате, ведь он может появиться на черной стене моей могилы со своими вопросами, на которые у меня нет ответа.
Так я и заснул, держа ладонь на ране, словно боясь, что она исчезнет, сидя на камне у сырой стены, вновь и вновь ощущая боль под ладонью, словно в гнезде. Боль жила, напоминала о себе. Как тебе спалось? — хотел я ее спросить. Я не был один.
Я обрадовался, заметив крохотное отверстие в стене под потолком, мне открыло его утро, и, хотя дневной свет по-прежнему оставался пожеланием и догадкой, окружавшая тьма не была теперь столь непроглядной. На том свете рассвело, рассвело и в моей душе, хотя ночь еще длилась. Я смотрел на это сизое пятно над головой, оно приободрило меня, словно я видел чудесный розовый восход солнца на просторных склонах моего детства. Заря, свет, день, пусть лишь как намек, но они существуют, они не исчезли. Когда я отвел глаза от этого печального мерцания, то снова ослеп, и тьма в моем подземелье стала вновь непроницаемой.
Лишь привыкнув, я понял, что в этой вечной ночи глаза все же нужны. Я озирался вокруг, но узнавал лишь то, что уже осязали мои пальцы.
С лязгом распахнулось четырехугольное отверстие в двери, сквозь него не прорвался ни свет, ни воздух. Кто-то заглядывал из той, иной тьмы. Я подошел к отверстию, мы смотрели друг в друга на небольшом расстоянии. У него было бородатое лицо с расплывшимися чертами. И больше ничего: ни глаз, ни рта.
— Чего тебе? — спросил я, опасаясь, что он не сможет ответить.— Ты кто?
— Джемал.
— Куда меня привели? Где я?
— Пищу приносим раз. Только один. Утром.
Голос его звучал хрипло, темно.
— Тебя кто-нибудь спрашивал обо мне?
— Хочешь есть?
Все мне казалось грязным, липким, гнилым, тошнило при мысли о еде.
— Не хочу.
— Так все. В первый день. А потом просят. Потом меня не зови.
— Меня спрашивал кто-нибудь?
— Нет. Никто.
— Спросят друзья. Ты приди, скажи.
— Ты кто? Как тебя зовут?
— Дервиш, шейх текии. Ахмед Нуруддин.
Он закрыл отверстие и опять открыл.
— Ты молитву знаешь? Или заговор? От боли в костях?
— Не знаю.
— Жалко. Губит она меня.
— Сыро здесь. Все заболеем.
— Вам хорошо. Вас отпустят. Или убьют. А я навсегда. Вот.
— У тебя найдется доска какая-нибудь или подстилка? Лечь некуда.
— Привыкнешь. Нету.
Дервиш Ахмед Нуруддин, светоч веры, шейх текии. Позабыл я о нем, всю ночь не было у меня ни звания, ни имени. Но вспомнил о них, ожили они перед этим человеком. Ахмед Нуруддин, проповедник и ученый, кров и опора текии, слава городка, повелитель мира. Теперь он просит доску и подстилку у слепой мыши Джемала, чтоб не лечь в грязь, и ждет, пока его задушат и мертвым опустят в ту же грязь, куда он не хочет лечь живым.
Лучше без имени, с ранами и болью, с забвением, с ранами и надеждой на утро, а то мертвое утро без рассвета разбудило Ахмеда Нуруддина, подавило надежду, сделало раны и боль тела несуществующими. Они снова стали незначительны перед более серьезной и более опасной угрозой, зарождавшейся во мне, чтоб меня уничтожить.
Я опасался безумия, остальное было не страшно. Если оно придет, его не остановишь, оно сожрет все, все во мне уничтожит, останется пустошь, что страшнее смерти. Я чувствовал, как шевелится, движется мысль моя, ей не за что уцепиться, я растерянно оглядываюсь, ищу, ведь было, до вчерашнего дня, было только сейчас, где оно, я ищу, напрасно, опоры нигде нет, я опустился в грязь, все безразлично, тщетно, шейх Нуруддин.
Но поднимавшаяся волна остановилась, перестала расти. Я ждал в изумлении — тишина.
Медленно, держась руками за стены, цепляясь ногтями за влажный камень, я встал — захотелось стоять. Я продолжал надеяться: меня будут искать, за мной придут, день лишь начался, минутная слабость не погубит меня, как хорошо, что я стыжусь ее.
И я ждал, ждал, долгие часы поддерживал огонь надежды, утешал себя болью, жгучими ранами, прислушивался к шагам и ждал, что откроется дверь, что ко мне прорвется голос, спустилась ночь, я понял это по тому, что глаза стали не нужны, я спал в вонючей грязи, усталый, пробуждался, даже не было желания сесть на камень, утром поедал пищу Джемала и снова ждал, дни проходили, один за другим подходили хмурые рассветы, и я уже больше не знал, жду ли я.
И тогда, ослабевший, в полубреду от напряженного ожидания, изнуренный сыростью, которую впитывали мои кости, в горячке, что согревала меня и на миг выводила из могилы, тогда, повторяю, я разговаривал с братом Харуном.
Теперь мы равны, брат Харун, говорил я ему, неподвижному, молчаливому. Я видел только его глаза, далекие, строгие, растворяющиеся во тьме, я следил за ними, и они были или передо мной, или я следовал за ними. Теперь мы равны, несчастные оба; если я был виноват, то теперь нет моей вины, я знаю, каково тебе было одному и как ты ждал, чтобы кто-нибудь появился, ты стоял у двери, ловя голоса, шаги, слова, и всякий раз ты думал, что они имеют отношение к тебе. Мы остались одни — и я, и ты, никто не пришел, никто не поинтересовался мною, никто не вспомнил, пустынной осталась моя дорога, на ней нет следов и воспоминаний, мне хотелось хотя бы этого не видеть. Ты ждал меня, я ждал Хасана, мы не дождались, никто никогда не может дождаться, каждый всегда в конце остается один. Мы равны, мы несчастны, мы люди, брат Харун.
Клянусь временем, которое есть начало и конец всего, воистину человек всегда оказывается в убытке.
— Кто-нибудь приходил? — спрашивал я Джемала по привычке, уже не надеясь.
— Нет. Никто.
Я хотел надеяться, нельзя жить без ожидания, но у меня не было сил. Я покидал свое место караульного у дверей, садился где попало, тихий, сраженный, все более тихий. Я утратил ощущение жизни, стиралась граница сна и яви, я видел то, что мне мерещилось, я беспрепятственно блуждал по тропинкам детства и юности, словно это во сне меня отводили в тюрьму, я жил с людьми, которых давно не встречал, и мне было хорошо, потому что не надо было просыпаться, я не знал об этом. Джемал тоже был сном, как тьма вокруг и сырые стены, и когда я приходил в себя, то не слишком мучился. Для мучений нужна сила.
Мне стало ясно, как умирают люди, и я убедился, что это не тяжело. И не легко. Никак. Только живешь все меньше, все меньше существуешь, думаешь, чувствуешь, знаешь, полноводное жизненное течение пересыхает, остается тонкая ниточка робкого сознания, все более бедного, все более незначительного. И тогда ничего не происходит, ничего нет, ничего. Совсем ничего.
А когда однажды в этом увядании без конца, поскольку оно обрывалось и не было продолжением, Джемал что-то сказал в отверстие, я сразу даже не понял, что он говорит, но был уверен, нечто важное. Я проснулся и понял: друзья принесли мне подарки.
— Какие друзья?
— Не знаю. Двое. Бери.
Я знал, не надо было и спрашивать, я знал, что они придут. Знал давно, ожидание было долгим, но я знал.
Ногтями цеплялся я за дверь, чтоб встать. Не случайно сидел я на этом месте.
— Двое?
— Двое. Передали караульному.
— Что они сказали?
— Не знаю.
— Скажи, пусть спросит, кто они.
Я хотел услышать знакомые имена. Хасан и Харун. Нет. Хасан и Исхак.
Я взял еду, хурму, черешни, они были зеленой завязью, когда я сюда пришел, розоватым цветком, я хотел, чтоб меня наполнила их бесцветная кровь, чтоб я мог без боли расцветать — каждую весну, подобно им, это было однажды, давно, в той еще, прекрасной жизни. Возможно, тогда она казалась мне трудной, но, когда я думаю о ней, находясь в этом месте, я мечтаю, чтоб она вернулась.
Я боялся, как бы не выронить узелок, руки мои увяли, руки мои радовались, руки мои поглупели и немощны, они крепко прижали к груди доказательство того, что я не умер. Я знал, что они придут, знал! Я нагибал голову и наслаждался свежим дыханием раннего лета, жаждущим, желанным, еще, еще, плесень скоро проберется в этот прозрачный розовый запах черешен, грязными пальцами касался я их гладкой детской кожицы, за один миг, за час она сморщится, станет дряблой. Все равно, все равно. Это знак, это призыв из той жизни. Я не один, есть надежда. Когда я думал, что конец близок, у меня не было слез, а теперь они лились потоком из ожившего источника, наверняка оставляя следы на грязной коже. Пусть текут, я воскрес из мертвых. Достаточно самого скромного сигнала, что я не позабыт, и вернулась потерянная сила. Тело ослабело, но это пустяки, откуда-то изнутри тепло согревало меня, и я не думал о смерти, ушло мое безразличие. В последнюю минуту мне удалось удержаться на крутизне, по которой я скользил, я избежал умирания. А оно началось во мне. (Я убедился, и не только тогда, что душа часто может удержать тело, но тело душу — никогда: она клонится и гибнет сама.)
Я снова ждал.
Я говорил: они вспомнили, Харун.
И думал о Хасане. И думал об Исхаке.
Они поднимут мятеж и освободят меня.
Я проберусь по тайным переходам, и они похитят меня.
Они превратятся в воздух, в птиц, в духов, они станут невидимы, они придут.
Чудо произойдет, но они придут.
Землетрясение разрушит эти ветхие стены, они будут ждать, чтоб вывести меня из развалин.
Хасан и Исхак первыми распахнут эти двери, кто бы ни пришел, что бы ни произошло.
В голове не было ни одной мысли, поток несся в беспорядке мимо старого русла. Я вслушивался в гул своего освобождения, как в клики радости, я ждал пальбы как мщения за ту радость, что со страхом подавлял в себе, едва лишь она предчувствием возникала в душе. В этом ожидании не было обыкновенного финала. Может быть, из-за этой могилы, в которую я был заперт, и близости смерти, которой пахнуло на меня, может быть, из-за глубоких коридоров и массивных ворот, которые не открываются от первого слова и по просьбе, может быть, из-за пережитого ужаса, который можно уничтожить лишь другим, еще более жутким. Я ждал какого-то судного дня и был уверен, что он наступит. Эти двое дали мне знать о нем.
На другой день я опять получил гостинец, время вновь стало осязаемым, и опять это были двое, без имени, а я знал, кто это, и ожидал землетрясения.
— Если б произошло землетрясение, или пожар, или мятеж? — спрашивал я Джемала, удивляясь, что он не понимает. А может, понимает. Он меня тоже спрашивал:
— Ты дервиш. Знаешь ли ты это: «Когда настанет Великое Событие»? Неужели мы думаем одинаково?
— Знаю.
— Подойди. Ближе. Скажи.
— Не скажу.
— Жалко. Недобрый ты человек.
— Зачем тебе это?
— Люблю. Слушать.
— Откуда ты знаешь?
— От арестанта. До тебя. Хороший человек.
— Это из Корана. Сура Вакиа.
— Может быть.
— «Когда настанет Великое Событие…»
— Тише. Иди сюда.
— «Когда настанет Великое Событие, кого-то возвысят, кого-то унизят. Когда земля содрогнется, будет вас три вида».
В сером мраке, опершись подбородком на острое железо, смотрел я на его бесформенное лицо в четырехугольной раме, совсем близко от моих глаз. Удивленно слушал он то, что я говорил, с любопытством, которого я не мог понять.
— Не то.
— Может быть, «Паук»?
— Не знаю. Мне все одно. Какие три вида?
—«Первый — счастливые соратники, равные в счастье. Они были предводителями и стояли впереди всех людей. К аллаху они приблизились и живут в райских садах блаженства. Это группа первых, а мало их придет позже. Они на престолах, золотом украшенных, приятно расположились друг перед другом. Им служат мальчики, годы которых не изменяются, обходят их с сосудами, кувшинами и чашами, наполненными чистым напитком, что течет из одного источника. От этого напитка не заболит у них голова и тело не ослабнет. И берут они фрукты, что им нравятся, и мясо птичье, какое хотят. Ходят вокруг них прелестные девушки с большими глазами, прекрасные, как жемчуг, что хранят раковины. Это награда за заслуги. Они не будут слушать ни пустые слова, ни грешные речи. Будут слышать только слова: покой, покой!..
…И с правой стороны товарищи в счастье. Они сидят под плодоносным деревом лотос, что не имеет шипов, и под бананами, плоды которых висят гроздьями в прохладе, которая широко простерлась у воды, что течет, прозрачная, в изобилии фруктов, которое никогда не кончается и не уменьшается, отдыхают на высоких ложах» [6].
— Хорошо. Им тоже.
В шепоте его звучало удивление, полное зависти.
— «Но сколь же тяжко несчастным, которых поразило несчастье! Их место в пламенном огне и кипящей воде, во мгле темной и черном дыме, который ни приятен, ни красив. Будете вкушать вы горькие плоды дерева зеккум и пить кипящую воду. Будете пить, как жаждущие верблюды. Мы судили, чтоб между вами царила смерть, а мощь наша велика, и будет так» [7].
— А почему? Виноваты ли они?
— Это бог знает, Джемал.
— Еще есть?
— «Скажут несчастные избранным: „Погодите, чтоб мы немного взяли от света вашего!“ И ответят им: „Возвратитесь и ищите себе свет“. И тогда воздвигнется между ними стена, внутри будет милость, снаружи ее — страдание. И кричать будут те, снаружи: „Разве не были мы с вами?“» [8]
— Ох, господи милостивый. Снова. Без света.
Он долго молчал потом, возбужденный мозг его изнывал. Он тяжело дышал.
— А я? Куда я?
— Не знаю.
— Буду ли с правой стороны?
— Может быть.
— «Вас ждут сады райские, в которых реки текут». Это он говорил. До тебя. И о солнце. Куда я? Это за заслуги. Есть ли у меня? Заслуги? Пятнадцать лет вот так. Здесь. А там солнце. Реки. Фрукты. За заслуги.
— Что с тем человеком?
— Умер. Хороший. Тихий. Говорил со мной. Так. И ты тоже сказал. Там. И все хорошие люди. Это хорошо. Я сказал. Из-за солнца. И из-за воды. Чистой. И из-за боли в костях. У меня.
— Как он умер?
— Трудно. Душа не хотела. Уходить. Вырывался. Я тоже был. Там. Помогал.
— В чем помогал?
— Задушили его.
— И ты помогал его душить?
— Вырывался.
— Тебе не жалко было?
— Жалко. Из-за солнца. Что он говорил.
— Как его звали? Не Харун?
— Не знаю.
— В чем он провинился?
— Не знаю.
— Иди, Джемал.
— Может быть, я тоже? С той стороны. Стены.
— Конечно, Джемал.
Он спросил, не хотел бы я перейти в другую камеру, она не так сыра и темна, как моя.
— Все равно, Джемал.
— Ты будешь говорить? Снова? «Когда настанет…» Только это. И здесь тьма. И мерзко. Пятнадцать лет. Несправедливо. И там.
— Иди, Джемал.
Долго кружились возле меня сказанные им слова, корявые, изуродованные, казалось, он с трудом соединяет их вместе, но разбросанные, обезглавленные обрывки чудом держались рядом, выражая даже человеческий страх.
Я погибал вновь.
И когда однажды, позже, в тот день, или много спустя, или никогда, он открыл дверь моей камеры, меня охватили два противоположных чувства: ужас, что меня задушат, и надежда, что выпустят. Они налетели на меня одновременно, словно два перепуганных нетерпеливых существа, толкаясь и спеша. Или же так невелико было расстояние между ними, что я с трудом мог отделить их во времени? Вероятно, от первой мысли я отказался сразу, так как он был один, и сразу ощутил радость: свобода! Могло случиться и то и другое, причины могли и не существовать. Если убивают без вины, могут и выпускать без объяснения.
Но это не было ни то ни другое. Мне надо было перейти в другую камеру.
Я согласился без особой радости.
Вошел в чужую могилу, теперь она моя, и встал у двери, чтоб освоиться.
— Тс-с!
Странным было это чье-то предупреждение из полутьмы, но в этот миг из трещины выпорхнул голубь. Я заметил его взлет.
— Теперь болтай сколько влезет,— сказал тот, что просил меня не спугнуть птицу.
— Я не знал. Он снова прилетит?
— Он не дурак. Случайно залетел.
— Жаль. Ты любишь голубей?
— Нет. Но здесь и летучую мышь полюбишь.
— У меня не было даже летучих мышей, оттого, должно быть, что слишком сыро.
— Их и тут нет. Они не любят людей. Я поймал одну, случайно залетела, по ошибке, хотел привязать шнурком от жилетки, да стало противно. Садись, выбирай, куда хочешь, все равно.
— Знаю.
— Ты давно сидишь?
— Давно.
— Не позабыли о тебе?
— Как позабыли?
— Так, позабыли. Рассказывал мне один, сидел здесь, взяли его где-то в Крайне, дни и недели возили из города в город, из тюрьмы в тюрьму, пока сюда не привезли. А здесь позабыли. Месяцы проходили, а он сидел, тосковал, никто его не знал, никто не спрашивал о нем, выкинули его из головы — и готово дело. Только б этого с тобой не случилось.
— Друзья дали мне весть. Узнали, где я.
— Это еще хуже. О том человеке тоже родня узнала, приехала, а он передал, чтоб не искали. Так он по крайней мере жив, а вспомнят — до беды недалеко. И в самом деле, увели его однажды ночью. В ссылку, должно быть.
Голос у него был насмешливый, будто он нарочно пугал, но история выглядела правдивой.
— Почему ты так говоришь? — спросил я, удивленный его манерой и смыслом его слов. Я считал, что здесь все насмерть опечалены и стараются не обижать друг друга.
Человек засмеялся. Засмеялся по-настоящему. Это было настолько неожиданно, что я подумал, будто он сошел с ума. Хотя смеялся он, как смеются нормальные люди, и даже весело, словно находился у себя дома. Может быть, именно поэтому.
— Почему я говорю так? Здесь вся мудрость заключается в том, чтоб быть терпеливым. И быть ко всему готовым. Такое это место. А случится лучше, чем ты ожидал,— слава богу, ты в выигрыше.
— Как ты можешь так мрачно думать?
— Если не думать мрачно, может получиться еще страшнее. От тебя ничего не зависит. Не имеет смысла быть ни храбрым, ни трусом, ни ругаться, ни плакать, нет никакого смысла. Вот и сиди и жди своей судьбы, а она сурово-черная уже по одному тому, что ты здесь. Я так думаю: если ты не виновен — их ошибка, если виновен — твоя. Если безвинно попал — твоя беда, провалился в глубокую яму. Если виновен, значит, доигрался, и ничего больше.
— У тебя это очень просто.
— Ну, не так уж просто. Надо привыкнуть, тогда просто. Видишь, мне кажется, я не виновен, так же как наверняка и тебе. А это не совсем точно, потому что не может быть, чтоб хоть раз в жизни ты не совершил такого греха, который не надо замаливать. Понимаешь, тогда тебя кара миновала, а сейчас ты ни в чем не виноват. Разумеется, тебе кажется, что тебя надо выпустить. Только как тебя выпустить? Вот, попытайся думать, как они. Коль скоро ты не виновен, значит, они ошиблись, схватили невинного человека. Если выпустят, значит, признаются в своей ошибке, а это ни легко, ни полезно. Никакой разумный человек не может от них потребовать, чтоб они действовали против самих себя. Слишком это нереальное и смешное требование. Значит, я должен быть виновен. А как меня выпустить, раз я виновен? Понимаешь? Не надо быть слишком несправедливым. Каждый рассуждает по-своему, и мы считаем, что все обстоит нормально, когда мы так поступаем, но, когда они это делают, нам это мешает. Согласись, это непоследовательно.
— А если о тебе позабудут, кто виноват?
Такая возможность сразила меня: о тебе забыли, тьма поглотила тебя, и никто не знает о твоем существовании, люди считают, что ты умер или отправился бродить по белу свету, ты там, где хотел быть, тебе хорошо, тебе, возможно, даже завидуют, а ты ждешь напрасно, вины за тобой нет, но ты виновен непрестанно, тебя не должны наказывать, но наказание непрерывно исполняется, еще более ужасное, нежели произнесенное вслух.
— Кто виноват? Забывчивость. Черта человеческая, случается. И если ты как следует поразмыслишь, то поймешь, никто тебе не причинил зла. Такая у тебя судьба. Возможно, ты сам виноват в том, что невиновен. Будь ты виновен, о тебе бы не позабыли. Это даже признание того, что ты не виновен.
Да он шутит, я только сейчас понял! Кто этот человек, что так шутит? Он измучает меня, лучше б уж мне остаться одному.
— Плохи твои шутки, друг,— произнес я с упреком.
— Раз плохи, значит, не шутки. Шутка никогда плохой не бывает.
И тут я узнал его. У меня оборвалось дыхание, я крикнул, или мне показалось, что крикнул, необходимо было, я должен был, но не смел встретить его здесь!
Это Исхак!
Исхак, беспрестанная дума моя, легкое воспоминание, робкое осознание самого себя, неосознанного и неосуществимого, далекий свет в моей тьме, человеческая надежда, искомый ключ тайны, предугаданная возможность вне круга известных, признание невозможного, мечта, которая не может осуществиться и которую нельзя отбросить. Исхак, мое восхищение безумной смелостью, о которой мы позабыли, ибо она стала нам ненужной.
Схватили героя единственных подлинных сказаний, детских, рожденных чистой фантазией, сохраненных созревшей слабостью. Рухнули мечты. Те, что сильнее сказки.
Он тоже верил в сказку, говорил, что никогда его не поймают.
— Исхак! — воскликнул я, словно взывая к утраченному.
— Кого ты зовешь? — удивленно спросил человек.
— Тебя зову. Исхака зову.
— Я не Исхак.
— Безразлично. Я так назвал тебя. Как ты позволил, чтоб тебя схватили?
— Человек для того и создан, чтоб его схватили рано или поздно.
— Раньше ты так не думал.
— А меня и не сажали раньше. Тогда и теперь — два разных человека.
— Неужели ты им сдаешься, Исхак?
— Я не сдаюсь. Я сдан. Помимо своей воли. Я не хочу, а происходит. Я им помог, ибо существую. Не существуй я, они б ничего не могли сделать.
— Неужели причина только в том, что ты существуешь?
— Причина и условие. Они представляют такую возможность. Для тебя и для них. Она редко остается неиспользованной. Независимо от того, здесь ли ты или наверху. Я не знаю, до каких пределов простирается вина. Есть ли ей продолжение и на том свете?
— Если ты не совершил ничего плохого, ты не виноват. Аллах исправляет нанесенную несправедливость.
— Слишком быстр ты на ответ. Подумай как следует. От бога ли власть? Если нет — откуда у нее право судить нас? Если да — как может она ошибаться? Если нет, мы свергнем ее; если да, будем слушать. Если она не от бога, что заставляет нас терпеть несправедливость? Если она от бога, то несправедливость ли это или кара во имя более высоких целей? Если нет, тогда по отношению ко мне, к тебе, ко всем нам совершено насилие, и, значит, мы опять виновны в том, что его терпим. Теперь ответь. Но не по-дервишски, будто власть от бога и только иногда ею пользуются злые люди. И не говори, будто бог будет поджаривать грешников на адском огне, потому что мы будем знать ничуть не больше, чем знаем теперь. Коран, между прочим, говорит: «Слушайте бога, и посланника его, и тех, кто ваши дела вершит». Это божья заповедь, ведь для бога важнее цель, нежели я и ты. Значит ли, что они тогда насильники? Или мы насильники и мы будем гореть в геенне огненной? И есть ли то, что они делают, насилие или оборона? Вершить делами — значит управлять, власть — сила, сила есть несправедливость во имя справедливости. Безвластие хуже: смятение, всеобщая несправедливость и насилие, всеобщий страх. Теперь отвечай.
Я молчал.
— Не можешь ответить? Удивляюсь я, вы, дервиши, ничего не можете объяснить, но на все можете ответить.
— Я заранее допускаю: ты не согласишься со мной, что бы я ни сказал. Трудно договориться двум людям, что по-разному думают.
— Легко договориться двум людям, которые думают.
Он снова засмеялся. Не было издевки в его смехе, он в равной мере относился и к нему самому, но для меня явился поводом прервать разговор, в котором я чувствовал себя неуверенно. Впервые случилось, что меня смутили вопросы, которые прежде казались ясными. Суждения этого человека произвольны, поверхностны, иногда даже шутливы, но ответить, тем не менее, было трудно. Не потому, что не нашлось ответа,— он сделал так, что мой ответ не мог быть убедительным. Он не возделал почву для семени, которое я мог бы посеять. Он заранее воздвиг ограничения на то, что я мог сказать, он связал меня, подвел к бездне, высмеял все, обесценил мои возможные соображения. Он одолел меня, навязав свою манеру рассуждать, указав на опасность преклонения перед всем сущим.
— Ты честный,— произнес он, как бы отдавая мне должное.— Честный и умный. Не хочешь отвечать пустыми словами, а настоящих у тебя нет. А я тебе вкладывал в рот ответы.
— Чтоб иметь возможность их отвергнуть. Ты издевался.
— Я говорил с тобой без злого умысла. Беда в том, что ты не осмеливаешься рассуждать. Ты пугаешься, не знаешь, куда уведет тебя мысль. Все перемешалось в тебе, ты закрываешь глаза, идешь проторенной дорогой. Тебя привели сюда не знаю за что, и меня это не касается, но мои рассуждения о вине людской ты не приемлешь. Ты думаешь, это шутка. Возможно, и шутка, но из нее могла бы получиться очень неплохая философия, ничуть не хуже других, по крайней мере она получила бы отличное применение, примирила бы нас со всем, что происходит. Ты раздосадован, так как считаешь себя невиновным. Жаль. Если тебя не выпустят, ты скоро умрешь от муки, и все будет в порядке. А что будет, если тебя выпустят? Это была бы такая беда, о которой мне не доводилось никогда слышать. То, что наверху, принадлежит тебе так же, как и им, а они тебя отвергли. Пойдешь в гайдуки? Возненавидишь их? Забудешь? Я спрашиваю потому, что не знаю, что тяжелее. Возможно все, но решения я не вижу. Уйдешь в гайдуки, займешься насилием, чего тебе тогда на них сердиться? Возненавидишь их, отравит тебя твоя недобрая воля, не сможешь ты пойти до конца против них и против себя, поскольку ты то же самое, что и они, и снова тебя арестуют, вот и выйдет, будто ты совершил самоубийство. Позабудешь, тогда сможешь получить определенное возмещение, причисляя себя к благородным, но они-то будут видеть в тебе труса, лицемера, не поверят тебе. Ты окажешься изолированным во всех случаях, это и есть то, чего ты не можешь принять. Для тебя единственно возможное решение: чтобы ничего не случилось.
— Я так и думаю! — изумленно воскликнул я.
— Тем хуже. Потому что именно это-то и невозможно.
Исхак! Другой, иной, но тот же, как тогда. Все иное, но такое же. Исхак, который не отвечает, но спрашивает, который спрашивает для того, чтоб задавать загадки, который задает загадки для того, чтоб их высмеивать. Неуловим. Иди, сказал бы он мне, как прежде, если б это не было смешно, поскольку я не могу уйти. Он может. Выйдет, если захочет, произойдет чудо, и он исчезнет, напрасно его искать, его не удержат стены, не удержат тюремщики, никто ничего не сможет сделать ему. Он неуловим, как неуловима его мысль. Уйдет, не ответив, хотя знает ответ, но не скажет его. Он всегда оставляет меня разбитым, все во мне взбаламучивает, что я знаю, и напрасно я позже соображаю, как ему следовало ответить, ведь я не ответил, не смог, верил ему в тот момент больше, чем себе, сожалею, но я теперь себе не верю без него и боюсь, что он опровергнет любое мое суждение, услыхав его, поэтому я молчу, но сохранить свои суждения я могу, лишь защищаясь перед ним. А это у меня не получается. Он думает иначе, чем я, его мысль движется непостижимыми путями, она необязательна, дерзка, не уважает уважаемое мною. Он на все смотрит свободно, я замираю перед многим. Он разрушает, не воздвигая, говорит о том, чего нет, а не о том, что есть. Отрицание убедительно, у него нет ни границ, ни целей, ни к чему не стремится, ничего не защищает. Труднее защищаться, чем нападать, потому что достигнутое непрерывно изнашивается, отрывается от замысла.
— Жизнь всегда скользит вниз,— произнес я, пытаясь защищаться.— Необходимы усилия, чтоб этого не допустить.
— Мысль влечет ее вниз, ибо она начинает противоречить самой себе. А потом рождается новая мысль, противоположная, и она хороша до тех пор, пока не начинает осуществляться. Плохо не то, что есть, но то, чего желаешь. Когда люди натыкаются на хорошую мысль, они должны хранить ее под стеклом, чтоб не запачкать.
— Значит, нет никакой возможности организовать этот мир? И все лишь сплошной обман, бесконечная попытка?
Он не ответил. Он высказал странную мысль, она была странной вначале, потом уже для меня было неважно.
— И это тоже мир. Мы в подземелье. Организовать его — значит сделать еще хуже.
Тут началась бессмыслица. Мне казалось, что я улавливаю ее, но отделаться от нее не мог. Какая-то неодолимая сладость заключалась в этом ничто, в блуждании без усилий и цели. Лист, плывущий по неведомому течению. Освобожденная от тяжести мысль, которую не сводят судороги. Причудливая и забавная игра без цели. Парение без страха. Каприз, в котором не раскаиваешься, приятная и неизбежная обязанность, как дыхание, как ток крови.
— Для кого хуже? — незаинтересованно спросил я.
— Для нас. Для них. Мы будем запирать друг друга. Привыкнем. Превратимся в кротов, в слепых мышей, в скорпионов.
— И не станем вылезать на поверхность. Полюбим тишину и тьму.
— Не станем вылезать. Останемся здесь навечно. Мы не можем без вечности.
— Не будем забывать друг друга.
— Будем сажать противников наверху, выгонять их на поверхность. И забывать о них.
— «Когда их извлекут из геенны, то бросят в реку жизни…»
— Они будут несчастны наверху. Будут вопить: «Дайте нам немного тьмы. Мы были с вами!»
— А мы им ответим: «Ищите сами себе мрак! Сами создавайте его!»
— Как они будут несчастны! Они будут вопить: «Освободите нас! Пустите нас вниз!» А мы им ответим: «Вы сами виноваты. Вы нам не верили».
— Вы сами виноваты. Оставайтесь наверху.
— Я иногда буду вылезать на поверхность.
— Ты всегда непокорен.
— Ты будешь дервиш-крот. Будешь следить за тем, чтоб мы не обрели зрения, чтоб не ушли из нашей мрачной обители.
— Мы будем охранять наш мир.
— Я не хочу быть кротом.
— Коготки у нас вырастут. И шкура. И морда.
— Я не хочу быть кротом. Иди.
Я сидел на корточках, прислонившись лбом к потрескавшейся мокрой стене, не имея сил встать.
Кто-то стоял надо мной.
Он помог мне подняться.
— Ты свободен. Тебя ждут друзья.
Далекой, бескровной мыслью я соображал, что мне полагалось радоваться, но я не пытался и даже не испытывал никакой в этом необходимости.
— Где Исхак? — спросил я Джемала.— Он был здесь.
— Не беспокойся. О других.
— Он только что был здесь.
В коридоре ждал незнакомый человек. Привели меня трое. Теперь я был не опасен.
— Пошли,— сказал он.
Мы молча шли сквозь тьму, я ударялся о стены, человек поддерживал меня, мы шли, я убегал, меня долго не было, и вот я возвращался и думал: кто ждет меня? И мне было безразлично. Потом мы переползли из большего мрака в меньший, я сообразил, что это ночь, которая проходит, хорошо все, что не вечно, ночь и дождь, летний дождь, я хотел вытянуть руки, чтоб он смыл с них грязь подземелья, погасил жар, но руки висели как плети, немощные, ненужные.
Несчастен будет тот, кто душу свою запятнает.
Однажды, очень давно, ребенок рассказывал о своих детских страхах. Это походило на песенку:
На чердаке
есть балка, которая падает на голову,
есть ветер, который стучит ставней,
есть мышка, которая выглядывает из норки.
Ему было лет шесть, он веселыми голубыми глазенками восхищенно смотрел на солдат и на меня, молодого дервиша-аскера, мы были товарищи и друзья, не знаю, любил ли он так еще кого-нибудь в жизни, потому что я встречал его радостно и ничем не показывал, что я старше.
Стояло лето, на смену дождям приходила жара, мы жили в палатках на равнине, полной комаров и лягушек, в часе ходьбы от Савы, возле какого-то заброшенного хана, где теперь обитал мальчуган со своей матерью и полуслепой бабушкой.
С самой весны торчали мы здесь — шел уже третий месяц,— изредка атакуя неприятеля, укрепившегося на берегу реки. Вначале мы потеряли много людей и пали духом, понимая, что с оставшимися силами ничего не сделаем, а те, кто могли прийти на помощь, сражались бог знает на каких фронтах огромной империи, вот мы и застыли на равнине как препятствие и преграда друг для друга.
Становилось мучительно и скучно. Ночи были душные, равнина, как море, тихо дышала под лунным светом, бесчисленные лягушки в невидимых трясинах отделяли нас своими пронзительными голосами от остального мира, их ужасающие мелодии стихали лишь на заре, а белесые и сизые испарения тянулись у нас над головой, как при сотворении мира. Самым тяжелым было однообразие в этих переменах, их неизменность.
По утрам туманы окрашивались в розовый цвет, и наступала самая приятная часть дня, без влажной испарины, без комаров, без ночных мучений, когда с трудом удавалось сомкнуть глаза. И тогда, как в колодец, погружались мы в глубокий сон.
Невмоготу было, когда начинался дождь, горизонт затягивало, мы корчились, прижимаясь друг к другу, молчали, измученные холодом, который донимал, как зимой, иногда болтали бог знает о чем, иногда пели, раздраженные и лютые, как волки. Палатки пропускали влагу, и на нас сыпался серый дождь, вода проступала под настилом, земля превращалась в непроходимую топь, мы сидели, как всегда, одни со своей бедой.
Солдаты пили, играли в кости, накрывшись одеялами, ругались, дрались, это было паскудное существование, я внешне держался стойко, ничем не обнаруживая, как мне тяжело, сидел неподвижно даже тогда, когда лил на меня дождь, сидел не шелохнувшись даже тогда, когда палатка превращалась в сумасшедший дом, в клетку с дикими зверями, я заставлял себя молча выдерживать все, что было отвратительным и невыносимым, я был молод и считал это частью искупления, понимая, насколько это отвратительно и невыносимо. Я, крестьянин, учившийся в медресе, вздрагивал при каждом ругательстве и каждом бранном слове, пока не понял, что солдаты употребляют их, не видя в них ничего непристойного. А когда они хотели выругаться по-настоящему, когда хотели отвести душу, наслаждаясь и предвкушая удовольствие, тогда на самом деле становилось невыносимо. Они делали это с безмятежной злобой, с дерзким наслаждением, потом умолкали и вызывающе ждали отклика на это неестественное соединение слов. Случалось, у меня подступали к горлу слезы.
Я услышал многое о жизни и о людях, чего до сих пор не знал. К чему-то относился с любопытством, к чему-то — с ужасом и таким образом приобретал опыт, теряя наивность и не переставая сожалеть об этом.
Я сидел вместе с солдатами, пока мог выносить, и позволял себе уходить только тогда, когда успокаивался, тупел или отвлекал себя мыслями, воспринимая все как необходимость, что зовется жизнью, которая не всегда прекрасна. Изредка я пытался вразумить их. Несколько раз они жестоко высмеивали меня (я был такой же, как они, я носил духовное звание, но у меня не было чина, который мог бы защитить), и ради себя и ради них я отказался от вмешательства в их дела, ограничившись молитвами, которые входят в число солдатских обязанностей наряду с маршами и караулом. Странная, лишающая мужества мысль приходила мне тогда в голову, что в тяжком положении оказывается человек, который духовно более развит в сравнении с остальными, коль скоро его не защищает положение и страх, с этим положением связанный. Такой человек замыкается в себе, его критерии совсем иные, они никому не приносят пользы, но из-за них он отчужден.
Таким образом, я чаще всего оставался наедине с книгой или со своими мыслями, и мне не удавалось найти ни одного человека, с которым хотелось бы сблизиться. На всех я смотрел как на одно целое, как на скопление людей, необычное, жестокое, сильное, даже любопытное. В отдельности же каждый оказывался непостижимо незначительным. Я не презирал их, думал о них как о толпе и даже немного любил это стоглавое существо, крутое и могучее, но в отдельности я их не терпел. Моя любовь, или нечто чуть поменьше этого, касалась всех, а не одного, и для меня ее было достаточно.
Однажды, когда я сидел в поле, на трухлявом пне, в жесткой, доходящей до колен траве, одинокий, оглушенный треском цикад под жарким солнцем (все время что-то верещало, трещало, пело на этой равнине), ошеломленный тем, что́ услышал от солдат о молодухе из хана, я вдруг увидел мальчика — он замер в траве, скрытый в ней почти по горло. Он с доверием пошел ко мне. Мы были уже знакомы.
Лучше бы он меня не видел тогда. Я боялся, как бы он не прочел в моем взгляде то, что я слышал о его матери.
Болтовня солдат вполне могла быть достоверной. Она была единственной молодой женщиной возле нас, первые села виднелись лишь на далеком краю равнины, наши ходили туда тоже, главным образом по ночам, я понимал, что из-за женщин, а ведь никто не бывает столь бесстыден, как солдат, который знает, что может в любую минуту погибнуть, ему не хочется думать о смерти, не хочется ни о чем думать, и он спокойно оставляет позади себя пустыню. Да и женщины с ними уступчивее по своей извечной жалости к солдату, к тому же и бабий их грех развеет ветер на дальних солдатских дорогах. Там, где войско пройдет, трава не растет, но дети подрастают. Трудно мне было все это связать с матерью мальчугана. Любая женщина, только не эта. Я настолько обобщил мир, что терял его из виду.
Маленькая, хрупкая на вид, совсем молодая, она не сразу бросалась в глаза, однако ее сдержанность, ее спокойствие, ее уверенность не позволяли равнодушно пройти мимо. И тогда можно было рассмотреть глаза, что не глядели рассеянно, красивый рот, чуть насмешливый и упрямый, ловкие движения, свойственные здоровому и гибкому телу. Она мужественно боролась с тяготами жизни. Овдовев, решила сохранить хан и хозяйство, которое постепенно разрушалось войной и теперь напоминало кладбище, пустошь. Она осталась, оберегала то, чем владела, пытаясь из общей беды извлечь свою выгоду. Продавала солдатам еду и напитки, позволяла играть в кости в хане, вытягивая горемычную солдатскую денежку и давая им то, чего они были лишены. Она старалась, как только могла, чтобы сын был подальше от дома и от солдат, но могла-то она не всегда. Я разговаривал с ней об этом. «Для него и работаю,— спокойно сказала она.— Трудно ему придется, если начнет на пустом месте».
И вот теперь я узнал, что она бывает с солдатами. Может быть, вынуждена, может быть, не могла защититься, может быть, раз уступила, а потом ее стали запугивать и она смирилась — не знаю, я не любопытствовал, но меня мучило то, что я узнал. Из-за мальчугана. Знает ли он или узнает? И еще из-за себя. Не подозревая ни о чем, я высоко ценил ее мужество, а потом, ведь я думал так же, как и любой юноша, хотя и стыдился подобных своих мыслей. Теперь же это стало водой, что свободно течет, едой, которую предлагают, вот она, бери. Ничто ее больше не защищало, кроме моего стыда, а я уже знал, что стыд не очень большое препятствие. Поэтому я еще больше привязался к мальчугану, чтоб защитить и себя и его.
Я позволял ему уводить меня по его детским дорогам, разговаривал с ним на его языке, оба мы думали по-детски, и я был счастлив, когда мне это удавалось, тогда я чувствовал себя обогащенным. Мы делали дудочки из камыша и наслаждались пронзительным звуком, взлетавшим ввысь, когда по зеленой былинке проходил воздух изо рта. Мы тщательно разделывали бузину, выскребая влажную сердцевину, чтоб получить пустоту, полную таинственных голосов. Мы сплетали венки из голубых и желтых цветов осоки, и он относил их матери, а потом я уговорил его украшать венками ветки тополя, я не хотел, чтоб он думал о чем-то дурном.
— А на ветках вырастут цветы? — спрашивал он.
— Может, и вырастут,— отвечал я, и сам немножко веря, что расцветет серое дерево.
— Где солнце? — спросил он меня однажды.
— За облаками.
— Оно всегда там? И когда тучи?
— Всегда.
— А можно его увидеть, если мы заберемся на верхушку тополя?
— Нельзя.
— А на минарет?
— Нельзя. Над минаретом облако.
— А если дырку пробить в облаке?
В самом деле, почему люди не пробьют дырку в облаке ради мальчугана, который любит солнце?
Когда шел дождь, мы сидели с ним в одной из комнат просторного дома, он водил меня на чердак, и какая-то балка в самом деле ударила меня по голове, он рассказывал свои милые сказки о большой-большой лодке, с этот дом, что плывет по реке-равнине, о любимом голубе, который знойными ночами парит над его постелькой, пока он спит, о бабушке, которая ничего не видит, но знает все сказки на свете.
— И о золотой птице?
— И о золотой птице.
— А что это за золотая птица?
— Неужели не знаешь? — удивлялся мой маленький учитель.— Это птица из золота. Ее трудно увидеть.
Потом я стал заходить к ним реже, мысли мои не были чистыми, и я с трудом мог говорить на языке мальчика. А зайдя, чувствовал себя неловко. Мы сидели в кухне, его мать входила и выходила, улыбаясь нам, словно своим детям. Я прятал глаза. Я не хотел ни есть, ни пить, я отказывался, когда она меня угощала, я хотел быть не таким, как все остальные, потому что был таким же.
— Оставайся у нас,— предложил мне мальчуган.— Зачем тебе идти под дождем?
Женщина засмеялась, заметив, как я покраснел.
Однажды ночью, на рассвете, враг напал и вытеснил нас из наших палаток. Застигнутые врасплох, мы оказали слабое сопротивление, с трудом собрали оружие, самое необходимое снаряжение и побежали по равнине в белых рубахах, сжимая в руках убогий солдатский скарб, остановившись лишь тогда, когда занялся день и нас уже никто не преследовал.
Враг занял наши позиции и постоялый двор. Окопался и безбоязненно поджидал нас.
Мы вернулись на берег реки лишь спустя семь дней и вновь овладели местностью, где был хан.
И тогда из дома вышли два наших солдата: внезапная атака застигла их в хане, они спрятались и в укрытии провели семь мучительных дней, пока неприятель кружил возле хана и по округе. Женщина их кормила.
Мы были ей благодарны, но потом они рассказали, что она проводила ночи и с солдатами неприятеля.
Воцарилось молчание.
Я упросил начальников отправить мальчугана и его слепую бабку на телеге в ближайшее село.
— А мама? — спросил мальчик.
— Она придет потом.
Женщину расстреляли, едва телега превратилась в пятнышко на бескрайней равнине.
Наверняка он узнал, как поступили с его матерью, и наверняка его песенка о чердаке стала еще более горькой.
Я вспомнил о мальчугане и его страхах, сидя в одиночестве и мысленно возвращаясь назад, ко дням своего детства.
У нас дома тоже был чердак. Я усаживался в старое, ненужное седло, один в мире отвергнутых вещей, которые потеряли прежнюю форму и приобретали новую в зависимости от поры суток и моих настроений, в зависимости от света, который преображал их, в зависимости от того, радовался я или грустил. Я мчался вперед навстречу событиям, жаждал, чтоб хоть что-нибудь произошло, чтоб хоть что-нибудь случилось в туманных детских грезах, которые причудливо изменялись, нереальные, подобно вещам в полутьме чердака.
Этот чердак создавал меня, как создавали многие иные места и обстоятельства, встречи, люди, я возникал в тысячах изменений, и мне казалось, что с каждой новой переменой все прежнее исчезает, растворяется, лишенное значения, в туманах ушедшего. А потом, всегда вновь и неожиданно, я обнаруживал следы того, что было, словно живые раскопки, словно свои собственные отложения, они становились дорогими и прекрасными, хотя были старыми и некрасивыми. Эту заново открываемую, нерастраченную часть собственного существа, которая не была только воспоминанием, украшало время и возвращало назад из неведомых далей, вновь соединяя меня с ней. И она существовала двояко, как частица моего теперешнего «я» и как воспоминание. Как настоящее и как исходное.
На чердаке, где я искал одиночества, познавая себя, искал прибежища от необъятных просторов родного края, хотя я любил их сильнее, чем родную мать, я часто думал о золотой птице из ее сказок. Я не знал, как она выглядит, но, слушая, как стучит дождь по крыше из дранки, как хлопает на ветру ставень, и видя в углах бесчисленные глазки, я представлял себе, как нахожу эту свою золотую птицу, я — герой ее убаюкивающих сказаний, зная, что именно так, каким-то странным, непостижимым образом достигается счастье.
Позже я позабыл о ней, жизнь распылила грезы юности, которые могут существовать лишь в жарком огне беспредельной фантазии, в безграничной свободе желаний, рожденных отсутствием опыта. И она снова возникла, как насмешка, когда мне стало невыносимо.
Жил однажды мальчуган в отцовском доме, над рекою, видевший золотые сны, ибо ничего не знал о жизни.
Жил и другой мальчуган, в хане, на равнине, мечтавший о золотой птице. У него убили мать, она была грешницей, а его вышвырнули в мир.
Нас было четверо братьев, и все четверо искали золотую птицу счастья. Один погиб на войне, другой умер от чахотки, третьего убили в крепости. Я своего счастья больше не ищу.
Где они, золотые птицы человеческих снов, через какие многоводные моря и скалистые горы добираются до них? Неужели глубокая тоска детской наивности непременно является нам лишь печальным символом, вышитым на платках и на сафьяновом переплете ненужных книг?
Я пытался читать Абу-ль-Фараджа, принуждая себя, без особого желания, без внутренней необходимости, я хотел услышать и чужие мысли, а не только свои.
Наугад раскрыв книгу, я набрел на рассказ об Александре Македонском. Царь, говорилось в нем, получил в подарок два чудесных стеклянных сосуда. Дар этот привел его в восхищение, и он тут же разбил их.
— Почему? Ведь это прекрасно? — спрашивали его.
— Именно поэтому,— ответил он.— Они настолько прекрасны, что мне будет трудно с ними расстаться. Со временем они все равно бы разбились, один за другим, и я бы жалел больше, чем теперь.
Это звучало наивно, но поразило меня. Смысл был горький: человек должен отказаться от всего, что может полюбить, поскольку утрата и разочарование неизбежны. Мы должны отказаться от любви, дабы не потерять ее. Мы должны сами уничтожить свою любовь, чтоб ее не подавили другие. Мы должны отказаться от всего, что может связать нас, во избежание позднейшей скорби.
Безжалостная мысль не оставляет надежды. Мы не можем уничтожить то, что любим; всегда существует вероятность того, что нас уничтожат другие.
Почему же считается, будто книги разумны, если они содержат в себе горечь?
Ничья мудрость не может помочь мне. Я охотнее возвращаюсь к началу. Делаю это без усилий, не заставляя себя. Не ищу ничего, оно само обнаруживается и находится.
Целыми днями идет дождь, сердито постукивает по черепице старой крыши, горизонт исчез, растворился, по чердаку над головой ходят невидимые ноги, есть одна балка, которая падает на голову, есть ветер, который стучит ставнем, и мышь, которая выглядывает из норки. Есть детство, которое печальными глазами смотрит из тьмы.
Какой-то миг я думал, как тот далекий одинокий мальчуган, и чувствовал и тосковал, как он. Все лишь красивая тайна, и все имеет только будущее или какое-то безграничное продолжение, вокруг всего пламенные отблески, глубокая радость или глубокая печаль. Это не события, но настроения, иногда они приходили сами, как ласковый ветер, как тихие сумерки, как неясные блики, как дурман. Иногда рождались мимолетные образы, лица и мгновенно исчезали во тьме, чей-то смех солнечным утром, лунный круг на такой реке, корявое дерево в излучине, я даже не подозревал, что во мне хранятся частицы минувшей жизни, и не мог объяснить, почему они так долго живут. Возможно, когда-то они много значили и поэтому удержались в памяти, их куда-то засунули, как старые игрушки. Я позабыл бывшего себя, погрузившегося во время, и теперь всплывали обломки и щепки.
Это я, раздробленный, весь из кусочков, из отражений, проблесков, весь из случайностей, из невыясненных причин, из смысла, что существовал, а потом исчез, и теперь я уж больше и не знаю, что я такое в этом хаосе.
Я стал походить на лунатика.
Глубоко за полночь я сидел неподвижно, две свечи горели в двух углах комнаты, чтоб прогнать тьму. Притаившийся, стихший, как окружающая меня ночь, как мир в ночи, я смотрел в черное стекло окна, которое отделяло меня от тьмы, в серые стены, которые отделяли меня от всего, не осмеливаясь перевести взгляд, боясь, что стены разомкнутся в какое-то одно-единственное мгновение, когда я буду невнимателен. Не вставая, не вылезая из угла, где я сидел, чтоб видеть всю комнату, я слушал, как льет дождь, приглушенно гремит деревянный желоб и голуби, воркуя, стучат лапками, переговариваясь в дреме, и все эти тихие однообразные голоса являлись частью ночи, которая не кончалась, и мира, который лишился жизни.
Я не искал больше причин, не искал целого, вечных токов.
В конце всего, что я пытался определить, соединить, ограничить смыслом, стояла длинная черная ночь и вода, что непрерывно поднималась.
И мучительным знамением виделся мальчик с равнины.
Позже я разыскал его и устроил в медресе и в текию. Мы едва узнали друг друга, потому что души наши переменились.
Бабушка его умерла, он был один на всем белом свете. Пастух в селе, где его бросили, сирота, мать которого погибла во время военных действий, оставив ему на память свои сомнительные заслуги. И черный груз на душе.
Он был похож на цветок осоки, перенесенный в горы, похож на кузнечика, которому ребятишки оборвали крылья, похож на мальчика с равнины, которого люди лишили беззаботности. Все принадлежало ему: и лицо, и тело, и голос — но это был не он.
Я никогда не забуду, как он сидел напротив меня на камне, угасший, безмолвный, далекий, без следа той птичьей радости, которую излучал прежде, лишенный даже печали, лишенный всего, сломленный. Ты будешь со мной, я буду заботиться о тебе, ты пойдешь в школу, говорил я, но мне хотелось крикнуть: улыбнись, беги за бабочкой, заговори о голубе, что хранит твой сон. Но он ни о чем больше не говорил.
Сейчас, когда шел дождь, когда меня со всех сторон окружала пустота, обрушиваясь в бездну, я искал спасения в воспоминаниях о детстве, в книгах, в видениях прошлого, а он тихо входил в мою комнату, иногда я заставал его у дверей, и тогда мне вдруг начинало казаться, будто тишина стала иной.
Он молча становился к стене.
— Садись, молла Юсуф.
— Как скажешь.
— Чего ты хочешь?
Тебе ничего не надо переписать?
— Нет.
Он оставался в комнате еще какое-то время, мы не знали, о чем говорить — ему и мне было тягостно,— и потом уходил без единого слова.
Мне трудно сказать, что встало между нами, какие связи еще соединяли нас, а какие страдания разделяли. Когда-то я любил его, и он меня также, теперь мы безжизненно глядели друг на друга. Нас связывала равнина, пока не было той беды, радость, что, подобно солнечному свету, озаряла ту пору. И в то же время мы непрерывно напоминали друг другу, что радость не может длиться вечно.
Он никогда не заговаривал о своем детстве, о равнине, о постоялом дворе, но, когда он смотрел на меня, мне всегда казалось, что в его глазах я вижу воспоминание о смерти матери. Будто я стал неотделим от этого его самого страшного воспоминания. Возможно, он уже позабыл, как все было, и меня тоже считал виновником, ведь я был как остальные. Однажды я попытался объяснить ему, но он испуганно прервал меня:
— Знаю.
Он никому не позволял входить в заветные пределы, нарушать мрачный порядок, который сам установил в душе. Мы все больше отдалялись друг от друга, скрывая свое огорчение, он — вследствие своих подозрений, озлобленности, несчастья, я — из-за его неблагодарности.
Хасан помирился с отцом и шутливо рассказывал, что, дескать, он приобрел опекуна, свекровь и избалованного ребенка в одном лице, но тем не менее излучал радость. Он договорился с отцом отдать в вакуф его и свою часть имущества для спасения души и доброго дела, на благо бедняков и бездомных, и целыми днями бегал, заканчивая переговоры по этому делу, получал судебные решения, искал подходящего человека на должность мутевели, честного, умного и разбитного, если такие бывают, и обо всем этом говорил со смехом. Я не знал, что его больше радовало: то, что помирился с отцом, или то, что зять, Айни-эфенди, лишился столь лакомого куска.
— Если у него теперь сердце не разорвется,— весело говорил он,— значит, оно из камня.
Он приобрел Коран, который переписывал молла Юсуф, в подарок отцу. Юсуф отказывался принять деньги, но доводы Хасана звучали веско.
— Два года труда на ветер не бросают.
— Зачем мне деньги?
— Отдай их тому, кому они нужны.
И удивлялся, рассматривая Коран:
— Он же художник, шейх Ахмед, а ты молчишь и прячешь его, боишься, как бы его у тебя не отняли. Он напоминает мне знаменитого Муберида [9]. А может, у него получается даже лучше. Более страстно, более искренне. Ты слыхал о Мубериде, молла Юсуф?
— Нет.
— Талант принес ему славу и богатство. У тебя талант не меньше, а в нашем городке о тебе никто не знает. Даже те, кто бывает в текии. Наши таланты уходят в Стамбул или Мисир, и другие воздают им славу. Мы их не знаем, нас это не касается, или мы сами не верим в себя.
— Какая здесь может быть слава,— сказал я, отклоняя упрек.— Я хотел было отправить его в Стамбул, но он не согласился.
Юноша смутился, как и в первый раз. Только уже без примеси страха.
— Я делаю это для себя,— тихо произнес он.— И даже не думал о том, обладает ли это ценностью.
— Если ты говоришь это искренне, мы можем только преклоняться перед тобой,— засмеялся Хасан.
Юноша ушел, смущенный похвалами.
— Не перевелись еще на свете застенчивые и чувствительные люди, друг мой. Разве это не удивительно? — сказал Хасан, глядя ему вслед.
— Они всегда будут.
— Слава богу. Слишком многие из нас не знают, что это такое. А этих следует беречь на развод. Кажется, он мало тебя интересует,— добавил он неожиданно.
— Молчаливый он, замкнутый.
— Застенчивый, молчаливый, замкнутый. Да поможет ему аллах.
— Почему?
— Странным делом занимаетесь вы, дервиши. Продаете слова, которые люди покупают из страха или по привычке. Он не хочет или не умеет продавать слова. Не умеет продавать и молчание. И талант. И его не интересует успех. Что же его тогда интересует?
Невозможно, трудно остановить Хасана, когда кто-нибудь привлечет его внимание. Часто это бывает без причины или по причине, которая важна только для него.
— Почему ты расспрашиваешь о нем?
— Я не расспрашиваю. Мы беседуем.
— Ты обладаешь странной способностью распознавать несчастных.
— Разве он несчастный?
Я рассказал ему все, что знал сам, или почти все, рассказал о равнине, о мальчугане, о его матери и, пока рассказывал, все отчетливее понимал, что этот юноша — жертва. Как и я. И я не знал, чьи страдания тяжелее: он узнал их в начале жизни, я — в конце. Я не сказал этого, но все сильнее и сильнее переживал это несчастье: я удваивал его, имея в виду и себя самого.
Хасан слушал, глядя в сторону, и не прерывал, взволнованность не помешала ему уловить суть.
— Кажется, ты только сейчас его понял. Надо было ему помочь.
— Он не принимает ничьей помощи, никого не подпускает к себе, никому не доверяет.
— Он доверится любви. Он был ребенком.
— Я любил его. Я и привел его сюда.
— Я не виню тебя. Все мы такие. Прячем любовь и тем душим ее. Мне жаль вас обоих.
Я понимал, что он имел в виду: он мог бы заменить мне брата. Но брата никто мне не сможет заменить. Я не помог Юсуфу! А кто помог мне?
Я говорил о себе, он слышал только его имя. Укрывшись за ним, я спрятал себя в тень. Потому ли, что Юсуф молод? Или потому, что во мне есть гордость и сила? Сильных не жалеют.
— А теперь? Как теперь? Вы оба молчите?
— В несчастье люди очень чувствительны. Мы можем причинить друг другу боль.
Не было смысла говорить о том, что трудно объяснить, о том, что я люблю память о равнине, но ненавижу холодную отчужденность Юсуфа, его хмурое молчание, убивающее надежду. Я упростил всю сложность ситуации, сказав полуправду, потому что, хоть мы и отошли друг от друга, связь между нами по-прежнему сильна, ведь нелегко уходить от того, кому ты помог и о кому тебя остались добрые воспоминания. Мы с Юсуфом почти как родственники, недоразумения между нами родственные, они всегда недалеки от любви.
— Существует и родственная ненависть,— улыбнулся Хасан.
Я не удивился. Слишком долго он был серьезным.
— До этого мы пока не дошли,— отшутился я.
С тех пор они стали встречаться чаще. Хасан приходил в текию или звал Юсуфа к себе домой. Они вместе ходили по делам Хасана, составляли договоры и занимались подсчетами, гуляли в сумерках вдоль реки. Молла Юсуф менялся на глазах: обаяние Хасана окутывало его, словно туманом. На лице его по-прежнему оставалось выражение потерянности, оно особенно отличало его от остальных, но он уже не был таким подавленным и унылым, как прежде. Будто возрождался тот далекий мальчуган, возрождался медленно, словно еще прикрытый тенью.
Он беспокоился, если Хасана не было, восторженно смотрел на него, когда тот появлялся, радовался его бодрости и дружескому участию, не уходил, как бывало, если Хасан и я начинали беседу, оставался с нами, почти позабыв о всякой осмотрительности, пользуясь правом, которое ему давала новая дружба. Хасана тоже радовала безмолвная привязанность юноши, сердечность, с которой тот его встречал.
А потом вдруг все переменилось. Слишком резко, слишком внезапно. Хасан перестал приходить в текию, не приглашал к себе больше Юсуфа, они больше не встречались.
— Что с Хасаном? — удивленно спрашивал я.
— Не знаю,— смущенно отвечал Юсуф.
— Давно не приходил?
— Уже пять дней.
Юсуф выглядел подавленным. Взгляд его снова стал неуверенным, тяжелая тень легла на лицо, которое начало было проясняться.
— Почему ты не сходишь к нему?
Он опустил голову и с трудом произнес:
— Я ходил. Меня не впустили.
Мне самому едва удалось повидать Хасана.
Маленькая женщина с рассеянным взглядом улыбалась, то ли о чем-то вспоминая, то ли чего-то ожидая, в волосах у нее был цветок, она принарядилась, умастила себя маслами — муж наверняка находился в счастливом заблуждении, что это ради него. Она опасливо впустила меня и попросила сказать, будто я нашел дверь незапертой: легче оправдаться тем, что позабыла запереть, нежели тем, что меня пустила. Три дня и три ночи Хасан не выходит, сказала она, и в голосе ее не было тревоги. Она все воспринимала легко.
Я нашел Хасана с друзьями в просторной гостиной. Они играли в кости.
Комната была не прибрана, клубы табачного дыма вились в полутьме, толстые шторы были спущены, горели свечи, хотя уже наступило утро, гости выглядели бледными, измученными. Возле каждого стояли медные чашки и бокалы. И лежали кучи денег.
Лицо Хасана было жестоким, угрюмым, почти злым.
Он удивленно, не пытаясь быть гостеприимным, посмотрел на меня. Я пожалел, что пришел.
— Мне хотелось поговорить с тобой.
— Я сейчас занят.
В руках он держал кубик из слоновой кости и, продолжая игру, кинул его.
— Садись, если хочешь.
— У меня нет времени.
— О чем ты хотел говорить?
— Неважно. В другой раз.
Я вышел оскорбленный. И удивленный. Что за человек? Пустозвон? Неверное апрельское солнышко? Ленивец, которого одолевают пороки?
Настроение у меня было испорчено, тяжело было думать о том, как люди переменчивы. Наговорят с три короба и тут же обо всем позабудут.
Когда я дошел до конца длинного коридора, Хасан окликнул меня из комнаты.
Впервые я видел его таким неряшливым, не заботившимся о своем внешнем виде. Словно это и не он. Глубоко запавшие глаза помутнели, потускнели от пьянства и бессонных ночей. Неважно выглядел он при свете.
Без улыбки смотрели мы друг на друга.
— Прости,— угрюмо произнес он.— Не вовремя ты пришел.
— Вижу.
— Тебе не вредно знать обо мне все.
— Ты не показывался у нас несколько дней. Я хотел узнать, что с тобой.
— Дела были. Кроме этих.
— Я пришел из-за Юсуфа тоже. Что-нибудь произошло? Он приходил к тебе, ты не впустил его в дом.
— Не всегда бывает настроение разговаривать.
— Он привык к тебе. Полюбил тебя.
— Полюбил? Это слишком. А привычка — пустяки. Ни в том, ни в другом я не виноват.
— Ты протянул ему руку, избавил от одиночества и бросил. Почему?
— Я ни к кому не могу привязываться навечно. И в этом мое несчастье. Стараюсь, но не получается. Что в этом удивительного?
— Я хотел бы знать причину.
— Причина во мне.
— Ну хорошо. Прости.
— Ты говорил, что любил его. Ты в этом уверен?
— Не знаю.
— Значит, нет. Зачем ты привел его, если не хотел принимать?
— Я его принял.
— Ты выполнял свой долг, ожидая от него благодарности. А он отчуждался и все больше укреплялся в ненависти.
— В ненависти? К кому?
— К каждому. Может быть, и к тебе.
— За что ему ненавидеть меня? — спросил я, растерявшись от одной только мысли об этом, хотя не раз задумывался, страшась ее.
— Ты должен был сделать его своим другом или прогнать. А так вы сплелись, словно две змеи, из которых каждая проглотила хвост другой.
— Я надеялся, тебе удастся то, что не получилось у меня.
— И мне бы хотелось, чтоб это сделал кто-то другой. Все думают одинаково. Поэтому мы ничего и не делаем. Не хватит ли на сегодня? Меня ждут.
Запах водки и табака исходил от него, он был груб и резок, готов к ссоре, неприятен.
— Это тебе Юсуф рассказал? — спросил я.
Он молча повернулся и ушел.
Хорошо, что я видел его и таким.
Хасан непоследователен. Хасан не знает, чего он хочет, или знает, но не может ничего сделать. Хасан полон добрых намерений, но он слабоволен, Хасан пытается, но ему не удается, и, может быть, беда его и заключается в этих безнадежных начинаниях, он строит мосты, по которым не ходят. Это проклятое его желание, оно не ослабевает и не сбывается. Он непрестанно ищет, ищет увлеченно, но быстро остывает, оставаясь неоплодотворенным. Мысль как бы влечет его, но сил у него не хватает. Это выглядит странным и огорчительным, не оттого, что он отказывается, но потому, что все время пытается начать заново. Значит, все заключается в нем самом, а не в другом.
И тем не менее я искал причину извне.
Он виноват в том, что оттолкнул Юсуфа. И я спрашивал себя абсолютно нелогично: почему? Не замечая, что тем самым перекладываю вину на другого.
Я пытался понять, отчего порыв Хасана столь быстро погас. Что сделал Юсуф? Я хотел, чтоб Хасан сказал мне об этом, а он обвинял самого себя. Я отнес это самообвинение на его счет, но продолжал спрашивать: что сделал Юсуф?
Я спрашивал себя, спрашивал Хасана во имя себя самого. Тайна преследовала меня, как тьма, я ощупью связывал ее, как и все вокруг, со своим несчастьем, которое кольцом сомкнулось рядом, стало для меня пищей и воздухом, сердцевиной и осью жизни. Я должен был раскрыть эту тайну — от нее зависело все — и лихорадочно мучился, вновь приглядываясь к каждому человеку, заново оценивая каждое событие, каждое слово, которое касалось меня и моего погибшего брата. Разве может остаться тайной происходящее между людьми?
Разрыв между ними заставил меня обратиться к прошлому.
Я опять восстанавливал в памяти бесчисленное количество раз одно и то же, все мне было знакомо, но снова ворошил я то, что давно улеглось, пока в этой мучительной игре не начали устанавливаться неожиданные связи, вырисовываться смутная возможность решения. В минуты просветления мне казалось, что в этом утомительном переплетении нет никакого смысла, ничего не могут дать поиски сокровенной сути, даже любого самого незначительного жеста или слова, но я не мог остановиться, я полностью погрузился в это. Собрав все воедино, я увижу, что удалось обнаружить. Это походило на азартную игру, возможно и безнадежную, но полную страсти. Я не надеялся на верный выигрыш, однако и в неизвестности была своеобразная прелесть. Крупицы золота, на которые я натыкался, ободряли меня, побуждали искать золотоносную жилу.
А может быть, я защищался от страха, который был готов поглотить меня. Он был недалеко, мерцал рядом, подобно огненному обручу. Я защищался иллюзией, будто чем-то занят, будто веду оборону, будто я не совсем беспомощен. Нелегко было оживлять в памяти людей, с которыми когда-то встречался, заставлять их снова произносить знакомые слова. В этом призрачном движении, кипении, перешептывании, суете, в этой безумной попытке что-то соединить мне удавалось иногда уцепиться за одну мысль, я напоминал матроса, схватившегося за канат, чтоб волна не смыла его в море во время бури.
А когда я распутаю узлы, когда сделаю нужный выбор, станет ясно, случайно ли я попал в мутный поток или же есть на то причины и есть виновники.
В изолированном мире, накрытом безостановочным шумом дождя, воркованием голубей, унылостью облачного дня или мраком глухой ночи, мою комнату заполняли свидетели, вначале неумелые, напуганные, как и я сам, но постепенно мне удавалось привести их в систему, отделяя одного от другого, как на следствии. Я разделил их на значительных и незначительных. Незначительными были те, кто оказывался виноват, ибо они были ясны. Значительными — те, кто не все сказал.
А когда я восстановил то, что было можно восстановить, в беседах, где выступали я, и их тени, и их слова, мне пришлось заняться проверкой всех подозрений и сомнений. Я не мог сделать этого с тенями и словами, ибо они оставались неизменными. Я пошел к живым людям, чтобы выяснить тайну.
Я ждал, пока пройдет какое-то время и все покроет забвение. К счастью, люди быстро забывают то, что их не касается. Я стремился внушить каждому, будто я тоже позабыл или переболел, испугался, погрузился в молитву. Пусть каждый берет то, что его устраивает.
Я позвал к себе моллу Юсуфа. И его тоже во время ночных допросов заставил повторять все, что он говорил и делал. Я волновался, так как разговор был важным. Я признал, что согрешил перед богом и перед людьми, ведя себя неразумно в несчастье, что недостойно звания, которое на мне лежит. Меня ослепила печаль и любовь — единственное оправдание для меня. Я позабыл о том, что так хотел господь и что это он покарал брата, или меня, или нас обоих за грехи, о которых мы не знаем. Чужими руками, но по своей воле.
Юсуф слушал сосредоточенно, без той настороженности, которую обыкновенно проявлял. То ли мои смиренные слова и тихий голос пробудили его, то ли в душе его ожило воспоминание о собственном несчастье, но он смотрел мне прямо в глаза. И в то же время я чувствовал его тревогу, чуть ли не злобу.
— Не знаем, за какие грехи? — отрывисто спросил он.
— Мы узнаем о них в день Страшного суда.
— День Страшного суда далеко. Что нам делать до тех пор?
— Ждать.
— А виновата ли чужая рука, что карает нас во имя господа?
Я был ошеломлен. Никогда прежде не говорил он так резко и не спрашивал так зло. Он прервал мою исповедь и заговорил о себе. Он думал о солдатах, что убили его мать, о ее странных для него грехах и о себе, безгрешном. Он сам приблизил то, к чему я стремился.
— Не знаю, сын мой,— спокойно отвечал я.— Знаю лишь, что каждый ответит перед богом за все содеянное. И знаю еще, что не все люди виноваты, но только те, которые виновны.
— Я не говорю о тех, кто сотворил зло, но о тех, кому причинили зло.
— Ты говоришь о себе. Тебе причинили зло. Потому я и не умею ответить. Если я скажу, что они не виновны, ты рассердишься, да это и не так. Если я скажу, что виновны, то поддержу тебя в твоей ненависти.
— Какой ненависти? Кого я ненавижу?
— Не знаю. Может быть, меня.
Он сидел у окна, сосредоточенно разглядывая сцепленные пальцы, за окном был серый день и хмурое небо, подобное ему. Услыхав слова Хасана, он быстро повернулся и посмотрел на меня растерянно, смятенно, но пристально, воистину с ненавистью. А потом отвел взгляд и произнес почти шепотом:
— У меня нет ненависти к тебе.
— Слава богу,— ответил я, спеша успокоить его, опасаясь, как бы он не ушел, что бывало прежде.— Слава богу. Мне хотелось бы вернуть твое доверие, если оно исчезло. Если нет, тем лучше. Я ценю новую дружбу, в ней любовь, которая нам всегда нужна, но старая дружба нечто большее, чем любовь, поскольку она часть нас самих. Мы с тобой срослись, точно два дерева, если их разделить, они оба будут повреждены. Корни наши переплелись и ветви. И опять-таки мы могли бы больше, чем просто произрастать на той почве воспоминаний, каждый живя своей жизнью. Мы могли быть одним целым. Теперь мне жаль этого, жаль всего, что мы упустили. Почему мы молчали? Зная, что каждый думает о случившемся, которое нельзя позабыть. Себя я упрекаю больше, чем тебя, я старше, у меня больше опыта. Меня защищает лишь мысль о том, что любовь к тебе всегда была неизменна. Твоя отчужденность держала меня на расстоянии. Ты ревниво оберегал для себя свое несчастье, подобно тому как обезьяна носит на груди уже умершего ребенка. Мертвых нужно хоронить, ради себя. Только я один мог тебе помочь. Почему ты никогда не спрашивал меня о матери? Я, один, единственный, знаю о ней все. Не истязай себя, не замыкайся в себе, я не скажу ничего, что причинит тебе боль, я любил и ее и тебя.
— Ты любил ее?
Голос его звучал глухо, хрипло, с угрозой.
— Не бойся. Я любил ее как сестру.
— Почему как сестру? Она была курвой.
Меня испугало выражение его лица, ранее мне незнакомое, злое, безжалостное, как у человека, готового на все, я знал, что он груб и что он терзает себя печалью, ожившей во время этого нашего первого разговора о матери. Меня ошеломила неистовость, с какой он бередил свои раны. Неужели он так страдает?
— Ты жесток, потому что тебе тяжело,— пытался я успокоить его.— Твоя мать была хорошей женщиной, она жертва, а не грешница.
— Почему ее тогда убили?
— Потому что те были глупцами.
Он молча глядел в пол, я мог лишь вообразить себе, каково ему, хотя и сам я, ощетинившись, лишь предугадывал ужас его страданий. А потом, зло посмотрев на меня, в последней надежде, что я не смогу защититься, спросил:
— А как ты поступил?
— Я просил за нее, и просил напрасно. Я увез тебя в другое село, чтоб ты не видел. Потом, спрятавшись, я рыдал в одиночестве, питая отвращение к людям и жалея их, потому что целый день они прятали глаза, стыдясь друг друга.
— Немного, всего один день. Кто… Как ее убили?
— Не знаю. Я не мог смотреть. А спрашивать не хотел.
— Что о ней потом говорили?
— Ничего. Люди легко забывают о том, что не дает им возможности гордиться.
— А ты?
— Я вскоре уехал. Я стыдился. И жалел тебя и ее, очень долго. Тебя особенно. Мы были друзьями, лучшего у меня не было никогда.
Он закрыл глаза и стал раскачиваться из стороны в сторону, словно теряя сознание.
— Я могу уйти? — тихо произнес он, не глядя на меня.
— Тебе плохо?
— Мне не плохо.
Я положил ему руку на лоб, с огромным усилием заставив себя сделать это столь обычное движение, чувствуя, как вспыхнула моя ладонь, еще до того, как я приложил ее. Но когда я коснулся его пылающего лба, он едва удержался, чтоб не отдернуть голову, неестественно замерев, будто шел под нож.
— Иди,— ответил я.— Нас измучил разговор, и тебя и меня. Нужно привыкнуть.
Он вышел пошатываясь.
Я велел Мустафе поить его медом, заставлять гулять, уговаривал снова приняться за переписку Корана, предлагал раздобыть золотистой и красной краски, а он отказывался, замыкался в себе, все более отчуждаясь. Словно мое внимание стало для него подлинной пыткой.
— Ты разбалуешь его,— с напускной укоризной говорил хафиз Мухаммед, но нетрудно было заметить, что он доволен. Его волновала чужая доброта, хотя он сам никогда не хотел ни с кем себя связывать. Доброту он считал равной восходу солнца: ею следовало любоваться.
— Ослабел он,— ответил я, защищаясь.— Что-то с ним происходит.
— Ослабел в самом деле. Не влюбился ли?
— Влюбился?
— Чему ты удивляешься? Он молод. Лучше бы ему жениться и уйти из текии.
— Кто пойдет за него? Та, в которую он влюблен?
— Нет, ни за что! Но разве мало у нас девушек?
— Я вижу, тебе что-то известно. Почему ты заставляешь меня гадать?
— Да нет, я знаю совсем немного.
— Скажи, что знаешь.
— Вероятно, не следует говорить об этом. Может быть, это только мои домыслы.
Я не настаивал, я знал, что хафиз Мухаммед заблуждается, и знал, что́ он расскажет. Его отговорки смешны, ведь для того он и начал разговор, чтобы все выложить. И бог знает что он видел и что придумал в своей наивности. Не много ожидал я от его рассказа.
Однако рассказ его показался мне странным. Однажды хафиз Мухаммед шел к отцу Хасана и у ворот дома, где живет кадий, увидел моллу Юсуфа. Тот нерешительно заглядывал в окна, потом направился к двери, остановился, затем медленно, озираясь, удалился. Он чего-то хотел, чего-то ожидал, кого-то искал. Хафиз Мухаммед не стал его ни о чем расспрашивать, когда они встретились, юноша отговорился тем, что случайно забрел сюда во время прогулки. И вот именно эти-то его слова вызвали у хафиза Мухаммеда подозрения и сомнения, ибо вовсе не случайно он там оказался и не во время прогулки. Хорошо, если дело обстоит иначе, чем он думает. Поэтому он и молчал до сих пор.
— Что ты подозреваешь? — оробело спросил я, внезапно приблизившись к тайне.
— Мне стыдно говорить об этом. Но он странно вел себя. И потом солгал, чтоб оправдаться, значит, чувствовал за собой вину. Я решил, что он влюблен.
— В кого? В сестру Хасана?
— Ну вот, ты тоже об этом подумал. Пусть аллах покарает меня за грешную мысль, если это не так.
— Может быть,— угрюмо ответил я.— С людьми всякое бывает.
— Надо бы с ним поговорить. Зачем ему напрасно страдать.
— Ты думаешь?
Он удивленно взглянул на меня, не понимая моего вопроса, не сознавая всего его коварства, и сказал, что ему жаль юношу, ржавчиной разъест его эта любовь без надежды на взаимность, да и позором покроет и его и нас. Позор перед людьми и перед нею, замужней и честной женщиной. Он, хафиз Мухаммед, будет молиться богу, чтоб юноша свернул с этого пути, а ему простился грех, если он не то увидел и дурно подумал.
Он был подавлен, высказав все, и раскаивался. Но мучился бы, если б умолчал.
Какое счастье было бы, окажись правдой слова этого человека, который опасается греха даже там, где его нет и в помине. А может, есть? Разве это невозможно?
Меня всколыхнула греховная мысль, я моментально развил ее, приладил ей крылья, понимая, какие великолепные возможности она таит. Я вспомнил прекрасные руки женщины, которые бессознательно гладили и жадно сжимали друг друга, неутоленную страсть, притаившуюся в ее холодных глазах, напоминавших бездонное озеро, ее безмятежное бесстыдство, с каким она мстила за что-то. Но я помнил и о том, что многое случилось, что Харун уже был убит, когда она просила меня предать Хасана. Конечно, она не знала о моем брате, возможно, никогда и не слыхала его имени, но я забывал об этом, у меня в памяти она осталась жестокой, как и ее муж, кадий, они оба были для меня кровожадными скорпионами, мое сердце не могло желать им добра. Поэтому ненависть ликовала во мне: какое счастье! Я увидел ее в миг слабости, подавленную молодостью Юсуфа, и кадия — униженного извечной оправданностью греха.
Но я тут же отогнал от себя эту мысль, понимая, как она низка, сознавая, что меня унижает желание мелкой мести. Мне открылось еще одно важное обстоятельство: я увидел свое бессилие, свой страх перед ними, а страх и бессилие рождают низменные инстинкты. Мысленно я предоставил биться другому, и пусть минуту, но со стороны радовался их поражению. Но каково же было это поражение, чего стоило это сведение счетов в сравнении с тем, что потерял я?
Устыдившись, я испугался. Нет, говорил я себе, полный твердой решимости, так я не хочу. Что бы там ни было, но я все должен сделать сам. Или простить, или найти удовлетворение. Это честно.
После разговора с хафизом Мухаммедом я снова призвал моллу Юсуфа. В ожидании его я разглядывал подарок Хасана, книгу Абу-ль-Фараджа в сафьяновом переплете, с четырьмя золотыми птицами на крышке.
— Ты видел? Это подарок Хасана.
— Как красиво!
Он поглаживал пальцами сафьян, раскрытые крылья золотых птиц, разглядывал чудесные инициалы и великолепные буквы и на моих глазах преобразился. Красота, странным образом взволновавшая его, сняла тревогу, с какой он переступил мой порог.
Я понимал, что могу получить серьезное преимущество, если заставлю его ждать в напряжении, он будет гадать, какой разговор ему предстоит, лихорадочно перебирать все свои грехи, поскольку они есть у любого. Однако я не хотел выигрыша, который сулил мне его страх. Я предпочитал доверие.
Я сказал, что намеренно возобновляю разговор, который у нас недавно был, поскольку его тревога растет, а такое состояние не из приятных, я знаю по себе, когда человек не может ни на что решиться, когда его убивают страдания, которые он не в силах определить, и когда любое дуновение ветерка раскачивает так, что вырывает с корнями. Я хотел бы помочь ему, насколько могу и насколько он готов принять мою помощь. Я делаю это для него, но и для себя, возможно, я виноват перед ним, упустил случай крепче привязать его к себе и таким образом вернуть ему чувство уверенности. Я потерял брата, пусть он заменит его. Я не прошу рассказывать, что с ним происходит, у каждого есть право таить свои мысли, каковы бы они ни были, да и не всегда легко высказаться, очень часто мы вертимся, как флюгера, и не можем определить свое истинное положение из-за растерянности. Мы мечемся между отчаянием и жаждой покоя, не зная, что, собственно, принадлежит нам. Замирая в одной точке, повернуться в одну сторону — вот то, что нужно и чего трудно достичь. Независимо от того, каким окажется решение, исключая то, которое обременит нашу совесть, оно лучше состояния растерянности, вызванного неизвестностью. Однако не надо спешить с решением, нужно помочь решению созреть, когда придет тому час. А муки его рождения могут облегчить друзья, но только облегчить, а никак не устранить. Они нужны, как повитуха при родах. Мне это знакомо по собственному опыту. Когда было очень тяжело, когда в поисках выхода я хотел наложить на себя руки, аллах послал Хасана, чтоб он ободрил меня и придал мне мужества. Его внимание и доброта, а может быть, я смею сказать, и любовь вернули мне веру в себя и в жизнь. Знаки этого внимания могут показаться незначительными, но для меня они обладали ценностью, которую трудно преувеличить. Мои безумные блуждания прекратились, мой ужас стих, во льду, что сковал меня, я ощутил теплый ветер человеческой доброты, да простит мне он, молла Юсуф, это волнение, которое я сейчас испытываю при дорогом воспоминании, но большей милости, чем та, никто никогда в жизни мне не оказывал. Я стоял один, покинутый всеми, брошенный в пустынной тишине своего несчастья, дабы несправедливость полнее покарала меня, был на грани сомнения во всем том, во что верил, поскольку все рушилось, засыпая меня. Но достаточно было узнать, что в мире существует добрый человек, пусть один-единственный, и я смог примириться с остальными людьми. Странно, наверное, что его поступку, который должен был бы считаться обычным у нас, я придаю такое значение и испытываю к Хасану такую благодарность. Но я убедился в том, что его поступок необычен и выделяет этого человека среди прочих. А я, кроме того, был виноват перед ним, и помощь его стала для меня еще более ценной.
Молла Юсуф поднял голову.
Да, виноват. Я совершил дурной поступок по отношению к Хасану, очень дурной. Безразлично какой, безразлично почему. Возможно, я смог бы найти причину и оправдание, но это неважно. Его дружба была необходима мне как воздух, но я был готов лишить себя ее, поскольку перед ним не мог утаить ложь. Я хотел, чтоб он простил меня, но он сделал больше: он одарил меня большей любовью.
— Ты принес ему зло? — с усилием спросил молла Юсуф.
— Я его предал.
— А если б он презрел тебя? Оттолкнул? Рассказал о твоем предательстве?
— Все равно я уважал бы его. Он еще раз доказал, что подлинное благородство лишено корысти. Он вдвойне помог мне, и ему вдвойне за это воздали. Я сказал Хасану, что люди, подобные ему,— подлинная благодать, дар, который посылает нам аллах, и я в самом деле думаю так. Каким-то неведомым чувством он познаёт тех, кто нуждается в помощи, и протягивает ее как лекарство. Он волшебник, ибо он человек. И он никогда не покидает того, кому оказал помощь, он вернее брата. Самое прекрасное заключается в том, что его любовь не нужно ничем заслуживать. Если б было иначе, он не обласкал бы меня ею или же я давно бы ее утратил. Он бережет ее сам, одаривает ею, ему не нужны никакие причины, кроме потребности в ней, а это он сам замечает, не требуя ничего взамен, от своей любви он получает удовлетворение и радуется чужому счастью. Я воспринял поучение, которое он дал мне: человек приобретает, давая. И я перестал колебаться, его любовь исцелила меня, дала способность самому стать опорой для других. Она дала мне способность любить, и я отдам ее молле Юсуфу, коль скоро она может быть ему полезна.
Я улыбался радостно и мягко, не без усилия удерживая все, что хотел сказать и что казалось мне важным, испытывая, правда, некоторую тревогу при мысли о том, что сам Хасан иначе объяснил бы свою дружбу. Но у каждого своя манера, а у меня задача потяжелее.
Молла Юсуф выглядел еще более угрюмым и неразговорчивым, чем при первой нашей встрече. И не менее встревоженным. Он сидел передо мной на коленях, застывший, оцепенелый, и старался подавить судорогу, сводившую его пальцы, в изнеможении моргал лихорадочно горевшими глазами, с мукой поднимая их на меня. Он не мог скрыть того, какие опустошения производят в его душе мои смиренные слова. В какой-то момент, когда мне показалось, что он разрыдается, я хотел было отпустить его, не мучить ни себя, ни его, но потом принудил себя завершить начатое. Судьба делала свое дело.
Я говорил, что дружба Хасана и этот подарок, с которого начались отношения между нами, привели меня к спасительным размышлениям. У меня оставалась одна-единственная вещь из родного дома, память о матери, я берег ее в сундуке — платок с четырьмя вышитыми золотом птицами. Хасан перенес их на переплет книги и растрогал меня этим, как ребенка, да просто глупца. Тогда я постиг самое главное. Помнит ли он, молла Юсуф, ведь его я тоже спрашивал, о золотой птице, что означает счастье. Теперь я убежден: это дружба, любовь к ближнему. Все остальное обманчиво, но это — нет. Все остальное может миновать, оставив нас опустошенными, но это — нет, ибо зависит от нас самих.
Я не могу сказать ему: стань мне другом. Но могу сказать: я стану тебе другом. Ближе его, Юсуфа, у меня никого нет. Пусть он станет мне вместо сына, которого я не родил; пусть он будет мне вместо брата, которого я потерял. А я для него буду всем, кем он желает и кого он лишен. Теперь мы равны, злые люди сделали нас несчастными. Почему же нам не стать друг другу защитой и утешением? Мне, возможно, будет легче, ибо у меня в сердце навсегда остался образ мальчугана с равнины, даже тогда, когда мое собственное несчастье целиком поглотило меня. Я надеюсь, что ему тоже не будет трудно: я буду терпелив, буду ждать, пока вновь оживет дружба, которую, я хорошо это знаю, раньше он испытывал ко мне.
Сломился ли он? Застонал ли? Замер ли вопль на поверхности его пересохших губ?
Тщетно, нет нам спасения, несуженый друг.
Поэтому я могу сказать ему (продолжал я неумолимо) то, чего не сказал бы, если б его судьба вовсе меня не волновала. Или сказал бы иначе, с иными намерениями и с целью поддержать репутацию нашего ордена. Сейчас это будет дружеский разговор, касающийся только нас двоих. Мне нелегко будет говорить, а ему слушать, но выйдет еще хуже, если мы оба промолчим.
— Да,— произнес он, чуть дыша, испуганный и встревоженно-любопытный, ошеломленный уже тем, что услышал, не зная, закончил ли я; его скованность говорила о том, что он чего-то еще ждет, чего-то важного, самого важного в сравнении с предыдущим: конечной цели нашего разговора. Я дал ему эту возможность, не открыв ничего, предоставив самому все обнаружить.
Я не слежу за тем, сказал я, куда он ходит и что делает, узнал об этом случайно и сожалею, что довелось узнать, если правда то, чего я опасаюсь. (Казалось, что у него выскочат зрачки, он смотрел на меня, как на змею, завороженный, он жаждал моих слов и страшился их.) Что он искал у ворот дома, где живет кадий? Почему он бледнеет? Почему он дрожит? Может быть, лучше отложить разговор, если он так волнует его, но именно это заставляет меня продолжать, ибо дело не кажется мне невинным. Я достаточно знаю о нем, знаю или догадываюсь, что с ним происходит, и хотя это нехорошо, но его волнение — свидетельство тому, что совесть в нем жива и она грызет его.
Голова юноши опускалась ниже, он сгибался под бременем ужаса, который ломал его, и мне казалось, будто у него хрустят позвонки.
Робко он попытался повторить, что попал туда случайно, но я махнул рукой, отказавшись тем самым разговаривать об этом.
Он ждал, почти не дыша, ждал и я, дыша с трудом. До самой последней минуты я не знал, смогу ли высказать то, что было единственно важным, из-за чего я поджаривал его на медленном огне, вынуждая признаться. Обезумевшее, кровоточащее, оно вопияло во мне, но я кусал губы, стараясь удержать обвинение. Однако я проиграю, коль скоро им овладеет абсолютный страх, который заставит от всего отказаться.
Так я вытягивал его на дыбе, вытянул до конца, почти лишил разума: я ждал, что вот-вот, оскалив зубы, он зарычит, бросится на меня, разорвет в надежде увидеть то, что таится в моем сердце.
Мои подозрения росли, но доказательств пока не было.
Теперь следовало ослабить пружину, обратить все в игру. Если у него на лице появится выражение облегчения, значит, я на верном пути. Он виновен.
Подавляя бурю в душе, заглушая стук крови, я повторил наивное предположение хафиза Мухаммеда, что, может быть, он влюблен в сестру Хасана. Я сожалел бы, если б его сердце, жаждущее любви, высохло и обуглилось в пламени грешного и безнадежного желания. Это доконало бы его и отдалило от людей, а может быть, и от меня. И пусть он не обессудит, я говорю ему то, что сказал бы брату, которому мои советы больше не могут помочь. Я надеюсь, он поймет мои слезы, может быть, сейчас, может быть, позже, когда за спиной у него окажется большая часть жизни, когда придется думать только об утратах и бороться за то, чтоб сохранить любовь друзей, которые еще остаются.
Я плакал на самом деле, плакал слезами горя и злобы, измученный вконец, как и этот смятенный юноша. Наш страшный разговор следовало бы закончить объятием. Но на столько меня не хватило. А поступи он так, боюсь, я задушил бы его, потому что уже знал все.
Я знал все. Знал, выбравшись из чащи намеков, которые были тысячами занесенных ножей, но только один из них нес погибель, и он был готов к ней, когда я вывел его на поляну, распутал бесчисленные узлы, которыми безжалостно связал, когда я освободил его от животного ужаса мягким напоминанием, и над его головой внезапно раскрылось чистое небо, без единой угрозы, на его измученном лице появилось безумное удивление, безумная радость возвратившейся жизни.
Дурак, думал я, с ненавистью глядя на него, ты думаешь, будто избежал западни.
Но тут произошло нечто, чего я не ожидал, чего вовсе не предвидел. Радость освобождения лишь на миг озарила его и удержалась совсем недолго, тут же утратив первоначальную силу и свежесть. Почти в ту же секунду его поразила иная мысль, с лица его исчезла живость, изгнанная бессильной тоской.
Почему? Устыдился ли он своего ликования? Сразила ли его мгновенная радость? Или он пожалел меня за детскую наивность? Или вспомнил о том, сколь опасно отрицание?
Осторожно, небывало медленным движением он коснулся лбом пола, как бы кланяясь, как бы падая, с трудом оперся на руки, мне подумалось, что они не выдержат его, и встал, как во сне. И вышел, как во сне, полностью уничтоженный.
Я был жесток к нему и к себе. Но у меня не было иного пути. Я хотел узнать. Хасан жил с другими людьми, в другом мире, ему все легко открывалось. Мне никто ничего не говорил, и пришлось вывернуть наизнанку свою душу и душу Юсуфа, чтобы дойти до истины. Долог был этот путь, я узнавал каплю по капле, одно за другим. Мне понадобилось много времени, чтоб узнать, о чем шепчутся два ничем не примечательных человека на углу улицы при мимолетной встрече. Мысль, которая при этом открывалась мне, поражала: как я изолирован от людей, как я одинок. Тогда я заглушил ее, я поразмыслю позже, когда все свершится.
Ливни прекратились, сразу же наступила теплая солнечная пора. Я вышел на улицу и долго брел по берегу вдоль реки, глядя, как дышит земля под буйной травой, погружаясь в бездонный простор неба, которое повсюду одинаково — и над равниной, и над моей родиной,— желание уехать больше не манило меня, исчез страх, и утих угрожающий гул подступающих во мраке вод, миновала и моя беспомощность. Вот он я! — злорадно говорил я кому-то, зная, что угрозой является самый факт моего существования. Я испытывал потребность в движении, хотелось делать что-нибудь определенное и полезное.
У меня была цель.
Я пошел к людям, тихий, смиренный, запасшись терпением. С благодарностью принимал все, что они могли мне дать: и брань, и насмешку, и знание.
Шел не наугад. Но если и сворачивал с дороги, если и бродил по бездорожью, то неизменно возвращался на путь, который искал. Путеводителем было мое упрямство, случайно услышанное слово, намек, радость по поводу моего несчастья, удивление происшедшей во мне перемене, и я ступал все увереннее в поисках тайны, все более обогащенный и все более обедненный этим сбором колосьев, милостыней чужих слов, чужой ненависти, чужой жалости.
Я разговаривал с ночным сторожем, с Кара-Заимом, с солдатами, с учениками медресе, с дервишами, с озлобленными, неудовлетворенными, подозрительными, с людьми, которые мало знали каждый в отдельности, но которые вместе знали все, я показывал доброе лицо человека, который не ищет ни мести, ни справедливости, но который хочет восстановить оборванные связи с миром и утешиться в своей любви к богу, что остается единственным прибежищем, когда уже все потеряно. Многие были недоверчивы ко мне, многие — жестоки и бесцеремонны со мной, но я оставался смиренным, когда меня осыпали ругательствами, страшась опускал голову, улавливая частицы истины в интонациях голоса, в ругани, в радости, в подлинном или притворном сочувствии, даже в благородстве, которое ошеломляло меня больше, чем низость. И запоминал все.
Когда я прошел путь страдания, узнав даже то, что вовсе мне не было нужно, моя наивность скончалась от стыда.
Так я закончил свою последнюю школу и приблизился к концу. Должно было случиться то, чего я ожидал. Но ничто больше не могло случиться, и я ничего больше не ожидал. Я был разбит — это все, чего я достиг. А у людей в памяти осталась трогательная история о смешном дервише, который толковал с ними о жизни, призывая их к любви и прощению, подобно тому как простил он сам, который и себя и их утешал именем бога, и верой, и той жизнью, что прекрасней этой.
Вернувшись от Абдуллы-эфенди, шейха Синановой текии (я и до него добрался; выяснилось, что мы понапрасну подозревали друг друга, и один аллах знает, сколько зла он нанес мне из-за пустого подозрения и какой сторицей я воздал ему), я увидел в саду у реки моллу Юсуфа. Он вздрогнул, когда я открыл калитку и вошел, тревожно посмотрел на меня воспаленными глазами.
Он знал, куда я хожу и что я ищу.
Мы не поздоровались. Я ушел к себе в комнату, она была темной и холодной, а я-то воображал, будто она превратится в просторную и светлую судную палату, когда наступит эта минута. Комната отталкивала меня своей пустынностью, мы позабыли друг друга, пока я искал разгадку тайны, я потерял ее расположение и ничего не нашел в другом месте.
Встав у окна, я бездумно смотрел на сверкавший под солнцем день. Это было все, что я мог сделать, хотя и сознавал бессмысленность этого.
Дверь отворилась, и я знал, кто вошел. Я молчал. Он тоже. Казалось, будто я от двери различаю его прерывистое дыхание.
Долго длилось мучительное молчанье, долго он стоял за моей спиной, подобно недоброй мысли. Я знал, что он придет вот так, незваный. Я давно ждал этой минуты. А теперь мне хотелось, чтоб он ушел. Но он не уходил.
Он заговорил первым, голос его звучал отчетливо, но тихо.
— Я знаю, куда ты ходил и что искал.
— Чего ты тогда хочешь?
— Ты не напрасно искал. Осуди или прости, если можешь.
— Уходи, молла Юсуф.
— Ты ненавидишь меня?
— Уходи.
— Мне было бы легче, если б ты меня возненавидел.
— Знаю. Ты почувствовал бы, что тоже имеешь право на ненависть.
— Не казни молчанием. Плюнь в лицо или прости. Мне нелегко.
— Не могу ни того, ни другого.
— Зачем ты говорил о дружбе? Ты все знал уже тогда.
— Я думал, что ты поступил так случайно или из страха.
— Не отпускай меня так.
Он не просил униженно, но требовал. Это напоминало мужество отчаяния. А потом он умолк, обескураженный моей холодностью, и направился к двери. Остановился и повернулся ко мне.
— Я хочу, чтоб ты знал, как ты измучил меня, толкуя о дружбе. Я знал, что это не может быть правдой, и хотел, чтоб это стало ею. Я хотел, чтоб случилось чудо. Но чуда нет. Теперь мне легче.
Голос его звучал теперь звонко.
— Уходи, Юсуф.
— Могу я поцеловать тебе руку?
— Прошу тебя, уходи. Я хочу остаться один.
— Хорошо, я ухожу.
Я подошел к окну и смотрел на заходящее солнце, не зная, на что гляжу, я не слыхал, как он вышел, как затворилась дверь. Снова он был тихим и приниженным и, казалось, довольным, что все завершилось именно так. Я выпустил крысу из мышеловки, не ощущая ни великодушия, ни презрения.
Взгляд мой блуждал по горам, окружавшим город, по окнам домов, в которых отражалось заходящее солнце.
Вот так. Что теперь? Ничего. Сумерки, ночь, рассвет, день, сумерки, ночь. Ничего.
Я понимал, что не очень это интересные мысли, но мне было безразлично. С какой-то смутной усмешкой, словно со стороны, наблюдал я за собой: вышло бы лучше, если б поиски продолжались, продолжались непрестанно, передо мной была бы цель.
И тут в комнату вбежал хафиз Мухаммед, точнее, ворвался, взволнованный и перепуганный. Почти вне себя. У меня мелькнула мысль, что сейчас у него начнется приступ кашля, как бывало всегда, когда он волновался, и мне придется самому решать тайну его тревоги. К счастью, он отложил это на другое время и, заикаясь, сообщил, что молла Юсуф повесился в своей комнате и что Мустафа вынул его из петли.
Мы спустились.
Молла Юсуф лежал на постели, лицо его было иссиня-багровым, глаза закрыты, дыхание почти оборвалось.
Мустафа стоял перед ним на коленях и, разжимая стиснутые губы ложкой и толстыми пальцами левой руки, поил его водой. Головой он сделал нам знак уйти. Послушавшись его, мы вышли в сад.
— Несчастный юноша,— вздыхал хафиз Мухаммед.
— Он остался жив.
— Слава всевышнему, слава всевышнему. Но почему он это сделал? Из-за любви?
— Нет, не из-за любви.
— Он только что вышел от тебя. О чем вы говорили?
— Он предал моего брата, Харуна. Он дружил с ним и предал его. Он признался.
— Почему он предал твоего брата?
— Он был осведомителем у кадия.
— О господи боже!
Благородный старик, источник благородства которого заключался в отсутствии жизненного опыта, вероятно, легче перенес бы мою пощечину, чем ту подлость, которой я обогатил его знание жизни.
Он бессильно опустился на скамью и тихо заплакал.
Возможно, это лучше всего. Возможно, это самое разумное из всего, что можно сделать.
Широкая земля стала тесна им, сердца их преисполнились одиночеством и ощутили печаль.
Моя тревога возросла, простираясь в прошлое: я думал о том, как давно я окружен, как давно чужие глаза подстерегают каждый мой шаг, выжидая, когда один из них окажется неверным. А я ничего не подозревал, я ходил как во сне, убежденный в том, что все мое касается только меня и моей совести. Мой духовный сын наблюдал за мною, по чужому приказу, а я, подобно глупцу, был убежден, будто обладаю свободой. Годами, оказывается, я пленник бог знает чьих и бог знает скольких глаз. Я чувствовал себя униженным, отстраненным, утратившим даже тот простор, который до несчастья считал своим. Меня лишили его, не стоило больше возвращаться к этому даже в воспоминаниях. Беда пришла много раньше, чем я осознал ее. Какие только люди не спускали с меня глаз, не подслушивали моих разговоров, сколько платных или добровольных соглядатаев следило за мной, помнило о моих поступках, призывая меня в свидетели против самого себя. Количество их стало устрашающим. Я шел по жизни без страха и подозрения, как слепец по краю пропасти, теперь же ровная дорога казалась мне пропастью.
Городок словно превратился в одно огромное ухо, в один глаз, которые улавливали любой мой вздох и шаг. Исчезла моя простота и уверенность в отношениях с людьми. Если я улыбался, то это считали лестью; если я разговаривал о пустяках, меня обвиняли в скрытности; если говорил о боге и его справедливости, меня считали глупцом.
Я не знал, что делать со своим «другом» моллой Юсуфом. С горечью произносил я это слово «друг», но, думаю, было бы куда хуже, если б мы в самом деле оказались друзьями. А так я ничего не терял. Знаю, я польстил бы себе, если б мог посетовать: смотрите-ка, как поступил со мной друг. Но я не хотел этого. Если я обвинил бы только одного этого человека, то все свелось бы к взаимным расчетам между ним и мною, поскольку, оскорбленный предательством друга, я позабыл бы об остальных. Теперь же, не выделяя его из толпы, я увеличивал значение и его вины, и своей потери. Я поступал так бессознательно, со смутным желанием сделать более всеобъемлющими и мою боль, и мою удовлетворенность. Я говорю — боль, но не ощущаю ее. Я говорю — удовлетворенность, но не испытываю ее. Люди стали моими должниками, но я ничего от них не требую.
Молла Юсуф встречал меня со страхом в потемневших глазах, я же устало улыбался, обуглившись изнутри. Изредка, но лишь изредка, мне казалось, что я удушил бы его во сне или когда он сидит, погруженный в задумчивость. Иногда я хотел удалить его от себя, отослать в другую текию, в другой город. Но не предпринимал ничего.
Хасан и хафиз Мухаммед были тронуты моим великодушием и прощением, а мне, к моему удивлению, доставляло удовольствие их признание того, что не было правдой. Ибо я не забыл и не простил.
Это вернуло мне Хасана, я вновь ощущал трудно объяснимое удовольствие от его дружбы, она была внутренним озарением без причины, почти без смысла, но я принимал ее как дар и хотел, чтоб она длилась вечно, непрерывно.
— Ты поступил разумно, оставив его в покое,— говорил Хасан, имея в виду не столько мою доброту, сколько пользу для меня: в похвале Хасана порой звучало предостережение.— Если ты прогонишь его, на его место придет другой. Этот менее опасен, раз ты знаешь, что он собой представляет.
— Мне больше никто не опасен. Я оставлю его в покое, пусть живет как знает. У меня нет сил ненавидеть. Я даже жалею его.
— Я тоже. Непонятно, как может человек жить, думая только о своей беде, думать о своей и готовить чужую. Он точно знает, что его ждет в аду.
— Почему ты ничего не сказал мне, зная обо всем?
— Я ничему не смог бы помешать. Все уже произошло. Я предоставил тебе самому искать, чтоб свыкнуться с этой мыслью. Бог знает, что бы ты мог выкинуть, внезапно узнав.
— Я готов был пойти на многое, узнав виновника. Но я бессилен что-либо предпринять.
— Ты много делаешь,— серьезно возразил он.
— Я не делаю ничего. Я позволяю времени уходить, я потерял опору, я лишен радости от того, что я делаю.
— Нельзя так. Займись чем-нибудь, не поддавайся.
— Как?
— Уезжай куда-нибудь. Куда хочешь. Домой, в Йоховац. Перемени обстановку, людей, небо. Сейчас сенокос. Засучи рукава, возьми косу, взмокни от пота, выложись до конца.
— Печаль теперь царит в моем доме.
— Тогда поедем со мной. Я собираюсь в дорогу, к Саве. Будем ночевать в блошиных ханах или под сенью буков, объедем пол-Боснии, если хочешь, заглянем в Австрию.
— Ты уверен, что путешествие всем столь же приятно, как тебе? И что оно целительно? — засмеялся я.
Я коснулся его больного места, и струна зазвенела.
— Время от времени каждого человека стоит насильно отправлять путешествовать,— вспыхнул Хасан.— Более того, нельзя оставаться на одном месте дольше, чем нужно. Человек не дерево, и привязанность к одному месту — его беда, она лишает его мужества, уверенности в себе. Осев на одном месте, человек примиряется со всем, даже с самым скверным, и пугает сам себя грядущей неизвестностью. Перемена места кажется ему уходом, потерей чего-то, кто-то другой займет его место, а ему придется начинать заново. Окапывание {5} — истинное начало старения, ибо человек молод до тех пор, пока не боится начинать заново. Оставаясь на месте, он или мучается, или мучает других. Уезжая, он сохраняет свою свободу, поскольку готов переменить обстановку, навязанный ему образ жизни. Куда и как уехать? Не улыбайся, я знаю, что нам некуда деться. Но иногда мы можем создать видимость свободы. Мы, дескать, уходим, дескать, меняемся. И вновь возвращаемся, смирившиеся, найдя обманчивое утешение.
Я всегда с трудом улавливал момент, когда в его словах начинала звучать насмешка. То ли он опасался утверждать что-либо, то ли попросту не верил ни в одно из своих утверждений?
— Поэтому ты все время ездишь? Чтоб сохранить видимость свободы? Означает ли это, что свобода вовсе не существует?
— И да и нет. Я двигаюсь по кругу, уезжаю и возвращаюсь. Свободный и связанный.
— Стоит ли тогда мне ехать? Ведь, судя по всему, безразлично, уезжать или оставаться на месте. Если я связан, значит, я не свободен. А если возвращение является целью, к чему тогда уезжать?
— Вся суть и заключается в возвращении. Тосковать в одной точке земного шара, покидать ее и снова в нее возвращаться. Без точки, с которой ты связан пуповиной, нельзя полюбить иной мир,— иначе тебе неоткуда будет уезжать, иначе ты окажешься нигде. А быть нигде нельзя, раз ты владеешь только одной этой точкой. Плохо, если ты не думаешь о ней, не тоскуешь, не любишь ее. Нужно думать, тосковать, любить. Итак, готовься в дорогу. Покидай текию, хафиза Мухаммеда, освобождайся от них, пусть и они освободятся от тебя, готовься к тому, чтоб на белом коне, с покрытой ранами задницей встать у ворот другого царства.
— Не очень соблазнительно.
— Раны есть раны, дервиш.
— Место уж больно неудобное.
— Как любое другое. Нельзя ехать верхом, сидя на голове, кое-кому это покажется странным. Это будет походить на бунт. Значит, договорились?
— Да. Я никуда не еду.
— Вот беда! Ты напоминаешь мне капризную девицу, с которой никогда не знаешь, как поступить. Ну, бородатая капризуля, видно, ты твердо надумал оставаться в нерешительности. Но если передумаешь, если тебе надоест бороться со своим черным демоном — одной-единственной мыслью, разыщи меня, ты знаешь, где меня можно найти.
Мне не хотелось никуда уезжать. Довольно давно я было собрался уйти, побродить по неведомым тропам. Но то была пустая мечта, бессильное стремление к освобождению, жажда невозможного. С тех пор она больше не появлялась. Город удерживал меня силой поразившего несчастья. Оно, как копьем, пригвоздило меня. У меня осталось мало мыслей, мало движений, мало дорог. Я сидел в саду на солнышке или у себя в комнате, склонившись над книгой, гулял над рекой, понимая, что делаю это по привычке, машинально, без удовольствия. Но все чаще и чаще я ловил себя на том, что мне приятно сидеть на солнцепеке с книгой в руке, над бегущей водой. Это стало будничным, доставляло удовольствие и приносило покой. Мне казалось, будто я по-настоящему забываюсь, душа исцелялась тишиной. А потом вдруг внезапно, без видимых причин, без уловимых ассоциаций меня пронзала молния, подобно приступу мучительной, потаенной болезни, подобно судороге. Что это? — спрашивал я себя, делая вид, будто удивлен, боясь признаться самому себе в этом ненужном мятеже и отвлекая себя мелочами, что находились под рукой или не касались сути.
Я чего-то ожидал.
То были смутные и переменчивые настроения, какие бывают у человека, который не здоров, но и не болен и которого внезапные признаки болезни поражают сильнее, чем если бы она длилась годами.
Из этого мучительного состояния меня вывела ненависть. Она прижилась и ожила, вспыхнув в один прекрасный день, в один миг ярким пламенем. Она разгорелась, говорю я, ибо до тех пор мерцала притаившись, она лизнула меня, изнемогая от собственной мощи, обжигая жаром сердце. Она жила во мне наверняка очень давно, я носил ее, как искру, как змею, как нарыв, который вдруг прорвался, а я сам не знал, где она таилась до той поры, почему молчала и пряталась, почему внезапно вырвалась в тот момент, который ничем не был благоприятнее всех других, ушедших. Она вызревала в тиши, как любое чувство, и появилась на свет сильной и могучей, долго питаемой ожиданием.
И, диво дивное, приятно было сознавать, как неожиданно она явилась, а я ведь чувствовал ее в себе все время, притворяясь, будто теперь не узнаю ее. Я боялся ее мощи, а теперь благодаря ей я стал сильнее, выставив ее впереди себя, как щит, как оружие, как факел, опьяненный ею, как любовью. Я полагал, будто знаю, что такое ненависть, но все, что до сих пор я считал ненавистью, оказалось лишь жалким ее подобием. Нахлынувшее на меня чувство жило во мне, как мрачная, устрашающая сила.
Медленно, не торопясь, расскажу я, как это произошло. Произошло в самом деле словно землетрясение.
Не считайте мертвыми тех, кто погиб на стезе Всевышнего.
Мы шли к золотых дел мастеру хаджи Синануддину Юсуфу, я и Хасан, он повсюду водил меня с собой, тогда я уже знал, что мы друзья и что мне приятно быть возле него. Я не испытывал больше потребности в покровительстве, но испытывал потребность в человеческой близости, без какого бы то ни было иного умысла.
В квартале ювелиров нам попался Али-ходжа, в старой потрепанной одежде, в стоптанных туфлях, в некрасивом чулахе на голове. Я не любил встречаться с ним, мне он был неприятен со своим напускным безумием: посмотрите-ка на меня, что думаю, то и говорю. Получалось это у него как-то грубо.
— Ты согласен на разговор, который не принесет тебе пользы? — не глядя на меня, спросил Али-ходжа Хасана.
— Согласен. О чем будем говорить?
— Ни о чем.
— Значит, о людях.
— Все ты знаешь. Потому что ничто тебя не касается. Сегодня утром я сватался к твоей сестре.
— У кого ты просил мою сестру?
— У ее отца, у кадия.
— Кадий ей не отец.
— Тогда тетка.
— Ладно, а что ты сказал этой тетке?
— Я сказал: отдай мне ее в жены, жалко, понапрасну гибнет ее юность и красота. Она и так засиделась возле тебя. Я и приданое возьму, наверняка ведь все чужое, по крайней мере на тысячу лет приму на себя твой адский огонь, тебе полегче станет. Брось, сказал он, шагай своей дорогой. Я шагаю своей дорогой, ответил я, а вот почему ты не позволяешь ей идти своей? Неужели ты так ненавидишь ее? Я думал, что хоть к ней, одной-единственной во всем мире, ты не питаешь злобы. А ты, куда ты идешь?
— К хаджи Синануддину Юсуфу, ювелиру.
— Ступай. Я с тобой не пойду. Я не знаю, каков он.
— Не знаешь, каков хаджи Синануддин?
— Не знаю. Он занят только арестантами, каждую пятницу носит им еду, из-за них он и разорится, все спустит на них.
— Разве это плохо?
— А что бы он делал, если б не было узников? Стал бы несчастным. Помогать арестантам — его страсть, как у иного охота или выпивка. А может ли быть страстью человеческое несчастье? Наверное, может, я не думал об этом.
— Разве это плохая привычка — делать доброе дело?
— Разве доброе дело может стать привычкой? Оно рождается, подобно любви. И когда свершаешь доброе дело, нужно таить его в себе, чтоб оно осталось навеки. Как делаешь ты.
— Что я делаю?
— Носишь хаджи Синануддину подарки для узников, но скрываешь это. Так вышло у тебя, и стыдно тебе обнаружить любовь. Поэтому ты идешь один.
— Я не один. Разве ты не узнаешь шейха Нуруддина?
— Как мне не узнать шейха Нуруддина? Где он?
— Здесь, со мною.
— С тобой? Не вижу. Почему он не скажет ни слова, чтоб хоть услышать его голос?
— Ты не желаешь видеть меня, не знаю отчего. Ты сердишься?
— Вот видишь, нету его,— сказал Али-ходжа, делая вид, будто разыскивает меня.— Ни голоса его, ни образа. Нету шейха Нуруддина.
И он ушел, не прощаясь.
Хасан смущенно улыбнулся.
— Грубый он.
— Грубый и злой.
— Странный человек.
— Почему он не желал меня видеть?
— Он разумно говорил. Ему удобно притворяться безумцем, чтоб спасти себя.
Нет, это не было безумием. Он что-то хотел сказать, на что-то намекал. Нету шейха Нуруддина, сказал он. Может быть, потому, что я больше не тот, каким был? Может быть, оттого, что я не вернул удара? Не сделал того, что следовало сделать? И вот я не существую.
— Что ты думаешь о нем? — спросил я Хасана, не желая показывать, как я задет, хотя своим вопросом невольно выдавал себя. Хасан хотел утешить меня, но получилось это у него как-то неловко. Он тратил много слов, говорил слишком серьезно.
— Не знаю. Он справедлив и искренен. Только нет у него чувства меры. Это стало его страстью, как он говорит. И пороком. Он не защищает справедливость, он использует ее для нападения; она стала для него оружием, а не целью. Может, он и не подозревает, что стал языком многих, кто молчит, испытывает удовольствие, решаясь делать то, чего они не смеют, принося к ним их собственное невысказанное слово? Они рады ему, ибо он — их собственная, в искаженном виде явленная потребность говорить, его бы не было, если б они сами посмели эту свою потребность удовлетворить. Он прост и неизбежен, потому что у него есть корни, он необязателен и преувеличен, потому что он один. Поэтому он так груб, поэтому лишен чувства меры. Он убедил себя в том, будто стал совестью города, и бедностью оплачивает это удовольствие. Может быть, иногда он приносит свежее дуновение, подобно ветру, но я не верю, что он в ладах с искренностью или справедливостью. Эти вещи ему кажутся странными. Видимо, он жестоко мстит, получая удовлетворение, и в этом ничего нет от благородной потребности, которую стремятся выразить люди. Он сам стал своим врагом, превратившись в полную противоположность всему, чего, может быть, искренне желал. Возможно, этот человек — предостережение, но никак не указующий перст. Ибо, если бы мы все думали и поступали, как он, если бы говорили откровенно и грубо о недостатках другого, если бы мы вцеплялись в волосы каждому, кто нам не по душе, если бы мы требовали от людей, чтоб они жили так, как мы считаем нужным, мир превратился бы в еще более страшный дом для умалишенных, чем он есть. Жестокость во имя справедливости ужасна, она связывает по рукам и ногам, убивает лицемерием. Я предпочитаю жестокость, основанную на силе, по крайней мере ее можно ненавидеть. А так мы уходим в сторону, сохраняя по крайней мере надежду.
Я не думал, верно ли то, что он говорил, и искренен ли он. Я знал, что он на моей стороне, что он защищает меня от нападения: он почувствовал, что мучает меня. И ничем он так не успокоил бы меня: ни насмешкой, ни резкостью, ни полным отрицанием,— как этим потоком слов, будто специально предназначенных для моих ушей. Это убеждало, ибо не было мелочно, оставляло за мною право завершить мысль, защититься. Злобный комедиант! — с гневом думал я. Бешеный пес! Встал над миром и плюет в каждого, в правого и в виноватого, в грешника и в жертву. Что он знает обо мне, чтобы судить!
Но гнев мой улетучился быстро. Вскоре я позабыл об Али-ходже, а приятное тепло от слов Хасана продолжало согревать меня. Я больше не думал о смысле сказанного, я знал, что это красиво и доставляет мне удовольствие. Хасан вновь протянул руку, защитил меня. А это много важнее глупого каприза спятившего Али-ходжи.
И пока Хасан рассказывал хаджи Синануддину Юсуфу о нашей встрече, я размышлял о том, какой мой друг добрый и внимательный человек, какое счастье, что он встретился мне на пути. Они смеялись, хаджи Синануддин — тихо, одними ясными глазами и уголками губ, Хасан — громко, обнажая перламутр ровных зубов, беседовали, не пытаясь быть ни слишком умными, ни слишком серьезными, не сдерживая себя, болтали, как дети, как друзья, которым доставляет удовольствие общество друг друга.
Хасан преувеличивал, искажая слова Али-ходжи. Будто тот не захотел прийти, потому что боится хаджи Синануддина. Забота об узниках доставляет удовольствие хаджи Синануддину, как охота, как кости, как любовь. Мир без заключенных погубил бы его. Как бы тогда проявлялось его благородство? Он не мог бы жить без них, и, если б они исчезли, он был бы несчастлив и растерян. Он отправился бы к властям просить, чтоб они не губили его, чтоб арестовали кого угодно! Горе мне без заключенных! А если б не нашлось ни души, он предложил бы арестовать своих друзей, чтоб иметь возможность проявить о них заботу. Так лучше всего можно доказать свою любовь.
— И ты б, наверное, тоже доставил мне такое удовольствие,— смеялся старик, принимая шутку Хасана, его совершенно не волновало, что в действительности сказал о нем Али-ходжа. И тут же отпарировал:
— А что он о тебе сказал? Что ты одинаково не способен ни к добру, ни к злу? Так он, видно, подумал?
— Плох, если не видит личной корысти, хорош, если не надо ни за что отвечать. Нечто вроде грешного ангела, порочной девицы, честного жулика.
— Испорченный и благородный, смиренный и робкий, рассудительный и упрямый. Всякий. И никакой.
— Не очень ты высокого мнения обо мне.
— Нет,— произнес старик озаренно,— не очень. И взгляд его говорил: люблю тебя.
Тихо и приятно было в этой чистой лавке, свежестью пахло от вымытых, еще влажных половиц, в каменную раму распахнутых дверей струилось мягкое тепло летнего дня, слышался дробный перестук молоточков ювелиров, словно в детской игре, словно во сне. Под сводчатым каменным потолком притаился зеленоватый полумрак, отбрасываемый тенью развесистого дерева, подобно тихому отсвету глубокого водоема. Я чувствовал себя хорошо, приятно, уверенно. Пока Хасан рассказывал об Али-ходже, я знал, что он ничего не скажет обо мне, я не боялся ни предательства, ни неосторожности. В присутствии этих двух людей спокойствие опустилось на меня, как цветочная пыльца, как летняя роса. Они были двумя тенистыми деревьями, двумя чистыми источниками. Внушил ли я себе это, или же мои воспоминания превращались в запах, но мне казалось, будто я в самом деле вдыхаю свежесть и мягкий аромат, струившийся в воздухе: не помню, не то хвои, не то лесных трав, весеннего ветерка, утра байрама, чего-то дорогого и чистого.
Давно не доводилось мне наслаждаться столь безмятежным покоем, каким одарили меня эти два человека.
Их подобная лунному свету чистота, их дружба без пафоса и пышных слов, их удовлетворение всем тем, что они знают друг о друге, заставили и меня улыбаться, разбудив во мне уснувшую желанную доброту, подобную той, какая заливает нас, когда мы смотрим на детей. Я словно и сам стал прозрачным, легким, исчез след того злонравного бремени, которое долго угнетало меня.
— Давай-ка женим тебя, чтоб ты успокоился,— с ласковой укоризной говорил старик Хасану, наверняка уже не в первый раз.— Давай, разбойник!
— Рано мне, хаджи. Мне же нет еще и пятидесяти. Да и многие дороги ждут меня.
— Неужели тебе не надоело, бродяга! Сыновья с нами, пока мы сильны, и покидают нас, когда они нужны нам.
— Оставь сыновей, пусть идут своей дорогой.
— Оставляю, бродяга! Неужели мне и пожалеть нельзя?
Тут я перестал улыбаться. Я знал, что сын хаджи живет в Стамбуле. Может быть, это из-за него он стал заботиться о заключенных, чтоб заглушить печаль, ибо годами не видел его. Может быть, потому он привязался к Хасану, что тот напоминал ему сына.
— Ну вот,— обратился Хасан ко мне, шутливо укоряя старика,— жалеет, что его сын получил образование, а не стал ковать чужое золото в этой лавке, что живет в Стамбуле, а не в этом протухшем городе, что посылает ему полные уважения письма, а не требует денег на кости и на блудниц. Скажи ему, шейх Нуруддин, чтоб не брал греха на душу.
От моей растроганности не осталось и следа. То, что хаджи Синануддин сейчас ответит ему, или мог ответить, как сомнительно счастье в чужом краю, важнее всего любовь и тепло между теми, кто готов отдать тебе свою кровь, могло и мне напомнить об отце и брате. Могло, но не напомнило. То, что Хасан обратился ко мне впервые в течение всего разговора, без нужды, просто из учтивости, чтоб я не скучал, напомнило мне, что я здесь лишний, что им хватает друг друга.
Только что я был уверен, что Хасан не упомянет об обиде, которую нанес мне Али-ходжа, знал, что он пощадит меня. Теперь же я подумал, что в их разговоре просто не было для меня места. Меня отрезвило его запоздалое внимание, оно все испортило.
Трудно было расстаться с благодатным покоем, которым я был наполнен, с добрыми воспоминаниями, которые хотелось удержать, но я никак не мог подавить свои сомнения. Слова Али-ходжи о себе и о хаджи Синануддине он передал, сделав их даже тяжелее, чем они были на самом деле. Обо мне же умолчал. Только ли из учтивости?
Почему он не вспомнил их? Отчего хотел меня пощадить, если в самом деле считал того безумцем? Нет, не думает он, что тот безумец, оттого и умолчал. Он понял, почему Али-ходжа не пожелал меня видеть. Для Али-ходжи и для всего городка я больше не существую. Ни образа, ни голоса его, сказал он. Нет его, нет шейха Нуруддина, скончалось его человеческое достоинство. А то, что осталось, лишь пустая чешуя от существовавшего некогда человека.
Если же он думал иначе, неужели он мог так шутить, как и со всем прочим? Или он хотел пощадить мои нервы? Если так, то я в выигрыше, хотя мне и больно.
И пока я пытался освободиться от сжимавшего мое сердце обруча, не слыша, о чем говорят эти люди, я вдруг увидел, как по улице прошел человек, из-за которого течение моих мыслей мгновенно изменилось. Я позабыл и о презрении Али-ходжи, и о необъяснимом умолчании Хасана. Мимо лавки прошел Исхак, беглец! Все было его: и походка, и уверенная манера держаться, и спокойный шаг, и бесстрашие!
Сказав какие-то слова, чтоб оправдать свое внезапное исчезновение, я выбежал на улицу.
Но Исхака не было. Я поспешил в соседнюю улицу, ища его. Откуда он здесь взялся? Посреди бела дня, в своей одежде, никуда не торопясь, как он осмелился, чего он ищет?
У меня перед глазами стояло его лицо, каким я увидел его из полутьмы лавки, сверкающее и ясное, как в ту ночь, в саду текии, это он, у меня почти не было сомнений, я вспоминал его черты теперь, после всего: это он, Исхак. Не думая о том, почему мне это нужно, почему мне важно его видеть, я искал его; как жалко, что люди не оставляют запаха, подобно хорькам, как жалко, что человеческий взгляд не проходит сквозь стены, когда желание становится безумным, я хотел окликнуть его по имени, но у него нет имени, почему ты появился, Исхак, не знаю, хорошо это или плохо, но это необходимо, ведь он тогда сказал: я приду однажды, и вот он пришел, вот оно, это однажды, и все снова ожило во мне, и боль, и страдание,— как прежде, я думал, что оно умерло, обратилось в прах, я думал, что оно погрузилось на самое дно души, недостижимое, но вот нет же. Исхак, где ты? Мысль ли ты, семя ли ты или цветок моей тревоги? Я видел его в ту ночь в саду, и сейчас я его увидел, только что, на улице. Это не призрак. Но я не могу догнать его.
Потерпев неудачу, я вернулся обратно в лавку.
Хасан посмотрел на меня и ничего не спросил.
— Показалось, будто знакомый прошел.
К счастью, они не обратили внимания на мою растерянность, наверняка успели покончить со всеми своими заботами, пока я искал Исхака, и теперь вели разговор иной, другим тоном, другими словами. Мне безразлично, дружба их стала тягостна для меня. Она казалась несозревшей. Или просто красивой ложью. То, что сейчас происходит во мне, гораздо серьезнее и важнее.
Снова отключил я окружающий мир, и тотчас заросла тропа, что вела меня к людям, я думал об Али-ходже, об Исхаке, о себе, встревоженный и омраченный.
Их разговор не касался меня, я слушал его, не понимая.
— Не хочу,— говорил Хасан, отвергая что-то.— Нет у меня ни времени, ни охоты.
— Я думал, ты храбрый.
— Разве я говорил, что я храбрый? Не стоит дразнить меня. Я не хочу в это вмешиваться. И лучше было б и тебе не влезать.
— Робкий, упрямый, никакой,— тихо заключил старик.
В его голосе не было больше любви.
Вот так лучше, малодушно думал я, бессознательно оправдывая свое уединение. Так лучше, без сладких слов, без пустых улыбок, без обмана. Все хорошо, пока нам ничего не нужно, а друзей искушать опасно. Человек остается верен сам себе.
И пока, оговаривая других, я утолял свою тревогу, без радости и без злорадства, в лавке стало темнеть, голубые тени превратились в черные.
Я обернулся: в каменной раме дверей стоял муселим.
— Заходи,— пригласил его хаджи Синануддин, не поднимаясь с места.
Хасан встал, спокойно, без суеты, и указал ему, где сесть.
Я отодвинулся в сторону, хотя в том не было необходимости, невольно выказав свою растерянность. Впервые после смерти Харуна я видел его вблизи. Я не знал, какой будет наша встреча, не знал этого и сейчас, пока смотрел на него встревоженный, переводя взгляд с Хасана на хаджи Синануддина, на свои руки, смятенный и напуганный, не перед ним, но перед собой, потому что не знал, что произойдет, наброшусь ли я на него в самую худую минуту и самым худым образом или же страх заставит покорно улыбнуться вопреки тому, что я чувствовал, за что буду презирать себя всю жизнь. Я терял присутствие духа, чувствовал, как у меня сосет под ложечкой и кровь мучительно приливает к сердцу. Я взял табакерку, которую протянул мне Хасан (неужели он уловил мою тревогу?), и, с трудом открыв крышку, начал собирать тонкие желтые волокна, просыпая их дрожащими пальцами на колени. Хасан взял табакерку, наполнил чубук и протянул его мне, я курил, втягивая обжигающий дым впервые в жизни, сжав обе руки, я ждал, что муселим посмотрит на меня, скажет что-нибудь, а пот заливал мне глаза.
Нет, он не сядет, объяснил муселим хаджи Синануддину, он забрел случайно, проходя мимо, и вспомнил, что надо кое о чем поговорить.
(Прилив крови слабел, дышалось легче, я искоса поглядывал на муселима, он помрачнел, стал еще безобразнее, чем тогда, хотя, ей-богу, не знаю, приходило ли мне вообще когда-нибудь в голову, какой он мрачный и безобразный.)
Это не его дело, но ему сказали, будто хаджи Синануддин не хочет платить сефери-имдадие, «военный взнос», определенный указом султана, а из-за него и другие медлят, а если видные люди, подобные ему, хаджи Синануддину, не исполняют свой долг, чего можно ожидать от остальных, бездельников и захребетников, которым нет дела ни до страны, ни до веры и которые готовы пустить все к черту, только бы их денежки остались нетронутыми в сундуке. Он надеется, что хаджи Синануддин случайно запамятовал, что он забыл или упустил из виду, он сделает это сразу же во избежание ненужной ссоры, которая никому не принесет пользы.
— Это произошло не случайно,— ответил хаджи Синануддин спокойно, без страха и вызова, терпеливо дождавшись, пока муселим выскажет все, что хотел.— Не случайно, и я не позабыл, не упустил из виду, просто я не хочу платить то, что не является законным. Бунт в Посавине — это не война. Зачем тогда платить «военный взнос»? А султанский указ, на который муселим ссылается, к этому случаю не относится, следует подождать ответа Порты на петицию, отправленную уважаемыми людьми, так все думают, и никто ни за кем не идет, если же султан прикажет платить, то заплатят.
— Хаджи Синануддин хочет сказать, что надежнее всего послушаться воли султана, ибо, заплатив, они сделали бы это самовольно и незаконно, а самоволие и беззаконие рождают смуту и беспорядки,— вмешался Хасан с серьезным видом, подойдя к ним сбоку и сложив на груди руки, преисполненный готовности все объяснить муселиму, если тот не понял.
Однако муселим не любил шуток, его не смутило это наивное толкование. Ничем не выразив своего недовольства вмешательством Хасана и гнева из-за плохо скрытой насмешки, а вернее, даже презрения (ведь для гнева человеку его положения вовсе не нужно искать причины), муселим посмотрел на Хасана неподвижным, тяжелым взглядом, который вряд ли даже его жена смогла бы назвать благородным, и обратился к хаджи Синануддину:
— Поступай как знаешь, меня это не касается. Только я думаю, иногда бывает дешевле уплатить.
— Меня не волнует, дешево ли это, но справедливо ли.
— Справедливость может дорого обойтись.
— И несправедливость также.
Они смотрели друг на друга какое-то бесконечное мгновение, я не видел взгляда муселима, но знал, каков он, а старик даже улыбнулся, любезно и добродушно.
Муселим повернулся и покинул лавку.
Мне хотелось поскорее выбраться на улицу, меня душил воздух, которым он дышал, меня сведут с ума слова, которыми обменяются эти двое друзей, ехидно посмеиваясь.
Но они решили изумлять меня до конца.
— Ну? — спросил старик, даже не глядя вслед муселиму.— Ты передумал?
— Нет.
— Слово Хасана твердо, как у султана. Не везет мне сегодня.
Он улыбнулся, точно отказ Хасана обрадовал его, и стал прощаться.
— Когда ты придешь? Я скоро возненавижу и свои, и чужие дела, они мешают мне встречаться с друзьями.
Ни слова о муселиме! Словно его и не было здесь, словно какой-то нищий забрел в поисках милостыни! Они позабыли о нем сразу же, едва он вышел за дверь.
Я был удивлен. Как же они надменны, по-чаршийски, по-господски, вот так начисто отбрасывают то, что презирают? Сколько лет должно пройти и сколько поколений должно смениться, чтобы человек подавил в себе желание высмеять, плюнуть, выругать? И как это делается естественно, без усилий. Они просто уничтожили его.
И почти даже оскорбили этим меня. Неужели можно так пройти мимо этого человека? Он заслуживает большего. О нем стоит задуматься. Его нельзя позабыть, нельзя просто стереть из памяти.
— Как это вы ни слова не сказали о муселиме, когда он ушел? — спросил я Хасана на улице.
— А что о нем надо было сказать?
— Он угрожал, оскорблял.
— Он может принести несчастье, но не может оскорбить. С ним приходится считаться, как с огнем, как с возможной опасностью, вот и все.
— Ты говоришь так потому, что он не сделал тебе зла.
— Может быть. А ты был взволнован. Ты испугался? Табак сыпался у тебя меж пальцев.
— Я не испугался.
Он посмотрел на меня, должно быть удивленный моим тоном.
— Я не испугался. Я вспомнил обо всем.
Я вспомнил обо всем бог знает в какой раз, но не так, как бывало прежде. Я ощутил волнение, увидев его, и, пока он разговаривал с хаджи Синануддином, не мог ни понять, ни удержать ни одной мысли, они мелькали в мозгу, встревоженные, оробевшие, смятенные, перепутанные, жаркие от воспоминаний, обиды, злобы, боли, до тех пор, пока он не скользнул по мне холодным, угрюмым взглядом, тяжелым от презрения и пренебрежения, иным, чем он смотрел на тех двоих. И в тот краткий миг, когда наши взгляды скрестились, как два обнаженных клинка, могло случиться, что во мне возобладал бы страх. Он уже появился и заливал меня, быстро прибывая, как полая вода.
Мне приходилось и прежде переживать тяжелые минуты, в душе сталкивалось многое, приходилось успокаивать и робость инстинкта, и осторожность разума, но не знаю, случалось ли прежде, как в тот момент, превратиться в средоточие столь противоречивых желаний, ведь хлынули горячие волны, чтоб затопить все, и лишь трусость и испуг удержали их. Ты убил моего брата, вопила во мне лютая злоба, ты обидел меня, уничтожил. И в то же время я понимал, как плохо, что он видел меня именно с этими людьми, которые презирают его и прекословят ему. Вот так случайно, помимо собственной воли, я оказался на другой стороне, против него, но мне хотелось, чтоб он этого не знал.
Решающее слово сказал, по-видимому, именно страх. Стыд перед самим собой вытеснил его, самый тяжелый и самый горький стыд, который рождает мужество. Мое волнение утихло, исчез безумный вой, мысли больше не метались, подобно птицам над пожарищем, я утвердился в одной-единственной, родилась тишина успокоения, в которой пели ангелы. Ангелы зла. Ликуя.
То была радостная минута моего преображения.
После этого я смотрел, чуть ли не просветленный этим новым огнем, полыхающим изнутри, смотрел на могучую шею муселима, чуть сутулые плечи, на плотную фигуру, мне было уже все равно, повернется ли он ко мне с улыбкой или презрением, все равно, он мой, он необходим мне, я связан с ним ненавистью.
Я ненавижу тебя, страстно шептал я, отводя взгляд, я ненавижу его, думал я, глядя на него. Ненавижу, ненавижу, мне достаточно одного этого слова, я был не в силах насладиться, все время повторяя его. Это было наслаждение, сочное и свежее, буйное и болезненное, подобное любовной страсти. Он! — твердил я про себя, не позволяя ему уйти далеко от меня, не позволяя ему исчезнуть! Он! Я думал о нем, как думают о любимой девушке. Изредка я чуть отпускал его от себя, как зверька, чтоб иметь возможность идти по его следу, и опять приближался, чтоб не выпустить его из виду. Все, чем я был расстроен, что во мне было сломано, оборвано, все, что искало выхода и решения, успокоилось, стихло, обрело силу, которая непрерывно росла.
Сердце мое нашло опору.
Я ненавижу его, шептал я страстно, идя по улице. Я ненавижу его, думал я, склоняясь к молитве. Я ненавижу его, чуть ли не вслух произнес я, входя в текию.
Когда я проснулся утром, ненависть уже ждала, не смыкая глаз, подняв голову, подобно змее, притаившейся в извилинах моего мозга.
Нам не суждено больше расстаться. Она овладела мною, я нашел ее. Жизнь обрела смысл.
Вначале мне пришлась по душе эта мечтательная вспышка, подобная первым минутам лихорадки, мне было достаточно черной, жуткой любви. Это походило на обретенное счастье.
Я стал богаче, собраннее, благороднее, лучше, даже, пожалуй, умнее. Взбаламученный мир успокоился в своем ложе, я снова определил свое отношение ко всему, я освобождался от мрачной жути, связанной с бессмысленностью существования, желанный порядок вырисовывался передо мной.
Назад, болезненные воспоминания о детстве, назад, скользкая немощь, назад, ужас растерянности. Я больше не та ободранная овца, загнанная в колючий кустарник, моя мысль больше не бродит ощупью во мраке, слепая, сердце мое — кипящий котел, в котором варится пьянящий напиток.
Спокойным и открытым взглядом смотрел я в глаза всем, ничего не боясь. Я шел всюду, где рассчитывал увидеть муселима или по крайней мере макушку его тюрбана, я поджидал на улице кадия и шел за ним вслед, глядя в его узкую, согбенную спину, и возвращался медленно, один, изнемогая от потаенной страсти. Если б ненависть имела запах, после меня оставался бы запах крови. Если б она имела цвет, черный след оставался б от моих ног. Если б она могла гореть, пламя вырывалось бы из всех пор моего тела.
Я знал, как она родилась, когда усилилась, причины ей были не нужны. Она сама стала причиной и самоцелью. Но я не хотел забывать начало, чтоб она не утратила силы и жара. Чтоб она не пренебрегла теми, кому обязана всем, и не стала достоянием любого. Пусть она останется верна именно тем.
Снова отправился я к Абдулле-эфенди, шейху Синановой текии, и попросил его помочь мне разыскать могилу брата. Я пришел к нему, сокрушенно сказал я, поскольку не осмеливаюсь сам просить тех, в чьей власти оказать или не оказать милость, они откажут мне, и тогда все двери закрыты, поэтому я вынужден послать вперед беделов и буду питать надежду до тех пор, пока окажусь в состоянии их находить. Я обратился к нему первому, уповая на его доброту и прикрываясь его авторитетом, поскольку мой теперь незначителен и один бог знает, что так случилось без моей в том вины. Он очень обязал бы меня, ибо я хотел бы похоронить брата, как велел аллах, дабы успокоилась душа его.
Он не отказал мне, но отметил, что вследствие своего несчастья я меньше сто́ю и меньше понимаю. Он сказал:
— Душа брата успокоилась. Она больше не принадлежит человеку, она переселилась в иной мир, где нет ни печалей, ни тревог, ни ненависти.
— Но моя душа пока принадлежит человеку.
— Значит, ты делаешь это для себя?
— И для себя.
— Ты скорбишь или ненавидишь? Берегись ненависти, чтоб не согрешить перед собою и перед людьми. Берегись скорби, чтоб не согрешить перед всевышним.
— Я скорблю, как подобает человеку. Я берегусь греха, шейх Абдулла. Все мое в руках божьих. И в твоих.
Я вынужден был спокойно выслушать его поучение и польстить, показав свою зависимость от него. Люди готовы проявить благородство, полагая, что они выше нас.
Я не был ни настолько силен, чтобы иметь право проявить нетерпение, ни настолько слаб, чтоб найти причину для гнева. Я использовал других, позволяя им чувствовать себя более сильными. У меня была опора и был указатель, зачем мне быть мелочным?
Он помог мне, я получил позволение войти в крепость и разыскать могилу. Хасан пошел со мной. Слуги с пустым табутом и лопатами сопровождали нас.
На тюремное кладбище нас отвел то ли солдат, то ли надзиратель, то ли могильщик, трудно было определить профессию этого молчаливого человека, не привыкшего говорить, не привыкшего смотреть людям в глаза, испуганно-любопытного, сердито-услужливого, будто он вел непрерывную борьбу между желанием помочь нам и нас выгнать.
— Здесь,— кивнул он на пустую площадку, густо заросшую ежевикой и бурьяном, с опухолями свежих холмиков и ранами осевших могил.
— Ты знаешь, где могила?
Он исподлобья молча посмотрел на нас. Это могло означать:
— Как не знать, я сам его закапывал!
И точно так же:
— Откуда мне знать? Посмотри, сколько их здесь без надгробного камня и без имени.
Он шел между могилами, в беспорядке разбросанными, наскоро вырытыми, без благословения, словно бы рыли бурты для овощей. Иногда он останавливался, смотрел секунду на слежавшуюся землю и качал головой:
— Никола. Гайдук.
Или:
— Бечир. Мешин внук.
Возле других он чаще молчал.
— Где Харун?
— Здесь.
Я пошел один между засыпанными ямами, чтоб найти мертвого брата. Может быть, я почувствую его по нахлынувшему волнению, по печали, по непонятному знаку, может быть, меня предупредит шум крови, или слеза, или дрожь, или неведомый голос, не всегда же мы подчинены бессилию своих органов чувств. Неужели таинство единоутробия не подаст свой голос?
— Харун! — беззвучно призывал я, ожидая ответа от самого себя. Но ответа не было, ни знака никакого, ни волнения, ни даже печали. Я походил на сырую глину, таинство оставалось безмолвным. Меня поглощали горькая опустошенность, спокойствие, которое не было моим, я постигал какой-то отдаленный смысл, более важный, чем все то, что знают живые.
Один среди могил, я позабыл о ненависти.
Она вернулась ко мне, когда я пришел назад к людям.
Они стояли над одной из ям, такой же, как и все другие.
— Эта? — спросил Хасан.— Точно?
— Мне безразлично, берите кого угодно. Здесь.
— Откуда ты знаешь?
— Знаю. Его закопали в старую могилу.
И в самом деле, слуги нашли два скелета, собрали один в пустой табут, накрыли чабуртией и пошли вниз по склону.
Кого мы несем? — думал я с ужасом. Убийцу, палача, жертву? Чьи кости мы потревожили? Погубленных много, не одного Харуна зарыли в чужую могилу.
Мы шли вслед за слугами, что несли на плечах табут с чьими-то останками, накрытыми зеленым сукном.
Хасан коснулся моего локтя, словно пробуждая меня от сна.
— Успокойся.
— Почему?
— Взгляд у тебя странный.
— Печальный?
— Если бы печальный.
— На кладбище я ждал, что внутренний голос подскажет мне, когда мы будем стоять над могилой Харуна.
— Ты слишком много требуешь от себя. Достаточно того, что скорбишь.
Мысль его осталась для меня неясной, но переспрашивать я не стал. Опасался, как бы он не угадал, что происходит во мне. Не без причины возвращал он меня к скорби.
В чаршии, на улицах люди подходили к нам, я чувствовал, что все больше ног идет вслед за нами, все более глухо звучит их шаг, все гуще становится людская масса, я не ожидал увидеть их столько, я сделал это для себя, не для них, но вот мое уходило от меня, передавалось им. Я не оглядывался, чтоб увидеть их, но всем сердцем ощущал, как, подобно волне, меня подхватывает толпа, я рос вместе с нею, становился более значимым, более сильным, она была то же, что и я, умноженный бесконечно. Своим присутствием они молча оплакивали, осуждали, ненавидели.
В этих проводах — оправдание моей ненависти.
Хасан что-то тихо сказал.
— Что?
— Молчи. Ничего не говори над могилой.
Я кивнул головой. Я не буду говорить. Иное дело тогда, в мечети. Они сопровождали меня, когда я возвращался от ворот смерти, и мы — я и они — не знали, чему суждено было случиться. Теперь мы знаем. Они не ждут от меня слов, не ждут осуждения, все созрело в них, и они все понимают. Хорошо, что я это сделал, мы не предадим земле этого человека в знак оправдания, невинного, мы сделаем больше: рассеем его кости, пусть это будет памятью о несправедливости. И пусть вырастет, что должно вырасти, что пошлет бог.
Так моя ненависть стала более благородной и более глубокой.
Табут, накрытый зеленой чабуртией, поставили перед мечетью на камень. Я совершил омовение, встал перед гробом и начал читать молитвы. А потом спросил, не по обязанности, как того требовал обычай, но с вызовом и ликованием:
— Скажите, люди, каким был усопший?
— Хорошим! — уверенно прогудела сотня голосов.
— Прощаете вы ему все, что он сделал?
— Прощаем.
— Ручаетесь за него перед господом?
— Ручаемся.
Никогда до сих пор свидетельство за умершего человека, перед тем как ему уйти навеки, не было столь искренним и вызывающим. Я мог спрашивать их десятки раз, и они отвечали бы громче и громче. Возможно, мы стали бы кричать, угрожая, неистово, с пеной на губах.
Потом покойника несли на плечах, передавая табут друг другу, оказывая ему почести во имя доброго дела и упорства.
Мы похоронили его у стены текии, в том месте, где улица раскрывалась навстречу городу. Чтоб он находился между мною и людьми — щит и предостережение.
Я не забыл: мусульман некогда хоронили в общих могилах, как равных между собой и после смерти. Отдельно стали хоронить лишь тогда, когда они стали неравными в жизни. Я тоже отделил брата, чтоб он не смешался с другими. Он погиб, потому что воспротивился,— пусть воюет и мертвым.
Оставшись в одиночестве, после того как все разошлись, бросив по горсти земли в могилу, я опустился на колени возле выросшего холмика, перед вечным убежищем в память о Харуне.
— Харун! — шептал я земле-дому, холмику-сторожу.— Харун, брат, теперь мы больше чем братья, ты породил меня сегодняшнего, дабы я стал памятью; я породил тебя, дабы ты стал символом. Ты будешь встречать меня утром и вечером, каждый день, я буду больше думать о тебе, чем при твоей жизни. И пусть все позабудут, ибо память людская коротка, я не забуду ни тебя, ни их, я клянусь этой и той жизнью, брат Харун.
На улице меня поджидал Али-ходжа, он с уважением отнесся к моему разговору с тенью усопшего. Мне хотелось избежать встречи с ним, особенно сейчас, после похорон, но я не смог уклониться. К счастью, он был серьезен и приветлив, хотя выглядел так же странно, как обычно. Он выразил соболезнование и пожелал терпения мне и всем людям по поводу утраты, она принадлежала всем, это приобретение, поскольку мертвые могут быть полезнее живых, они такие, какими они нам нужны, то есть не стареют, не ругаются, у них нет своего суждения, они молча соглашаются быть солдатами и не изменят до тех пор, пока их не призовут под другие знамена.
— Разве ты видишь меня? — спросил я.— Разве ты меня узнал?
— Я вижу и узнаю тебя. Кто не знает шейха Нуруддина!
Теперь он не презирал меня, я для него больше не пустое место.
На что он надеется, признавая, что я существую?
Хасан и ювелир Синануддин дали деньги, чтоб на могиле поставили памятник из прочного камня и окружили ее красивой железной оградой.
Возвращаясь в первую пятницу после похорон с молитвы, издали я увидел во мраке горящую свечу на могиле Харуна. Рядом кто-то стоял. Я подошел ближе и узнал моллу Юсуфа, он молился.
— Это ты зажег свечу?
— Нет. Она горела, когда я пришел.
Ее поставили и зажгли чьи-то руки во имя успокоения и памяти об убиенном.
С тех пор в канун каждого праздника горели свечи на камне.
Я останавливался, взволнованный, и смотрел на крохотные трепетные огоньки, сперва они меня трогали, потом я стал гордиться. Это мой брат, его чистая душа горит огоньками, это его останки приводят сюда неизвестных людей, они зажигают нежное пламя в память о нем.
Он стал любовью города после смерти. При жизни его мало кто знал.
Для меня это было кровоточащим воспоминанием. При жизни он был мне всего лишь братом.
Доброе слово как прекрасное дерево, корни его уходят глубоко в землю, а ветви неба касаются.
Верность памяти брата вернула мне дружбу Хасана. Может быть, в его словах и поступках и были какие-то скрытые причины, желание остановить меня на том пути, который он предвидел, или я обманывался, моя восприимчивость улавливала то, чего не было. Но так или иначе, в его дружбе я мог не сомневаться.
Он в моей — также. Я полюбил его, я был уверен в этом потому, что он стал мне необходим, я не мог ни в чем его упрекнуть, как бы он ни поступил и что бы он ни говорил, ибо все, что связано с ним, стало для меня дорогим. Должно быть, любовь — единственная вещь в мире, которую не нужно объяснять, которая не нуждается в отыскании причин. И тем не менее я это делаю хотя бы потому, чтобы еще раз вспомнить о человеке, который принес столько радости в мою жизнь.
Я привязался к нему (удачное слово: привязался, как в бурю на корабле, как при спуске в ущелье), ибо он был рожден, чтоб быть другом людей, он избрал именно меня и непрерывно, снова и снова приводил в восторг тем, что таким другом мог быть только он, казалось бы пустой и насмешливый на первый взгляд человек.
Я всегда считал, что друг — это человек, который тоже ищет опоры, половинка в поисках другой, неуверенный в себе, немного надоедливый, в меру докучный, но тем не менее дорогой, хотя и чуть поблекший, как собственная жена. А он, Хасан, цельный, всегда свежий и всегда другой, умный, дерзкий, беспокойный, уверенный во всем, что он предпринимает. Я ничего не мог ни добавить к его облику, ни отнять, и без меня и со мною он был тем, кто он есть, я не был ему нужен. Однако я не чувствовал себя ниже его. Однажды я спросил его, как вышло, что именно меня он одарил своей дружбой. Дружба не выбирает, ответил Хасан, она рождается сама по себе, как любовь. И не тебя я одарил, а самого себя. Уважаю людей, которые и в беде остаются благородными.
Я был благодарен ему за это признание, верил в его правдивость.
Но его дружба была особенно ценна для меня и из-за той ненависти, которая все более возрастала во мне. Не знаю, могла бы она заполнить всю мою душу, но так было лучше. С одной стороны я черный, с другой — белый. Таков был я, поделенный, но целый. Любовь и ненависть не переплелись, не мешали друг другу и не убивали друг друга. Они обе были мне необходимы.
Я вошел в жизнь Хасана по праву дружбы, по его доброй воле, но я обманывался, надеясь, что все в нем станет для меня ясным и знакомым. Не потому, что он что-то скрывал, но потому, что он был глубоким и темным колодцем, дно которого нелегко разглядеть. И не потому, что именно он таков, но потому, что таковы люди, тем более неуловимые, чем лучше мы их познаем.
Он взял отца в свой дом, окружил его вниманием, правда довольно странным, радостным, каким-то беззаботным, делал вид, будто его вовсе не тревожит болезнь старика, вел себя с ним так, словно тот был здоров, рассказывал обо всем ему: о чаршии, о людях, о делах, женитьбах, замужествах и даже о девушках, которые с каждым годом становились все краше, вероятно еще и оттого, что он сам становился старше, ах, как жаль, что отец их не видит, он понял бы, что они подобны райским гуриям. Старик вроде бы хмурился, но заметно было, как ему это приятно: видно, надоело поддаваться болезни, готовиться к смерти.
— В присутствии детей и стариков люди любят болтать всякие глупости,— как-то в сердцах сказал он, вспоминая, по-видимому, тот большой угрюмый дом, где он жил прежде.— Только вот мой своенравный сын обращается со мной как с человеком, все потому, что он меня, к радости моей, не уважает.
Хасан смеялся и платил ему той же монетой, считая, что имеет дело с нормальным, здоровым человеком.
— С каких это пор я тебя не уважаю?
— Давно уже.
— С тех пор как я покинул Стамбул и вернулся сюда? С тех пор как я стал бродягой, гуртовщиком? Ты несправедлив, отец. Я маленький человек, у меня обыкновенный ум, скромные способности, детям в школе никогда бы не ставили меня в пример.
— Ты способнее многих, которые на высоких местах.
— Это нетрудно, отец, на высоких местах много глупцов. Да и что бы я делал с высоким местом и место со мною? А так я удовлетворен. Но оставим этот разговор, мы ведь никогда не могли закончить его. Давай лучше я попрошу у тебя совета. Я веду дела с одним человеком, неприятным, много о себе понимающим, глупым, бесчестным, неотесанным, он смотрит на меня свысока, я вижу, что он презирает меня, разве только не требует, чтоб я целовал ему туфли, и недостаточно ему того, что я молчу о том, как он глуп и непорядочен, он злится, что я не восхваляю повсюду его ум и благородство, а самое скверное, что он сам уверовал в это. Скажи, пожалуйста, что делать?
— Чего ты меня спрашиваешь? Пошли его к дьяволу, вот и все дела!
— Я послал его к дьяволу, отец, тогда, в Стамбуле,— рассмеялся Хасан,— и вернулся сюда, чтоб стать гуртовщиком.
Они любили друг друга странной, причудливой любовью, но по-настоящему нежной, словно хотели возместить время, когда их разделяло их же собственное упрямство.
Старик требовал, чтобы Хасан женился («Не могу прежде тебя»,— смеялся Хасан), оставил свое дело и покончил с длительными путешествиями, чтоб не покидал его. Он лукавил, притворяясь, будто тяжело болен, тяжелее, чем на самом деле, смертный час может прийти в любую минуту и ему будет легче, если сын, плоть от плоти его, окажется рядом, тогда душа без мучений покинет тело.
— Кто знает, кому суждено первым,— отвечал Хасан.
Тем не менее он смирился с лишениями, которых требует любовь, без особого, правда, восторга, главным образом из-за поездок; осень, пора отправляться в путь, он привык уходить, когда отлетают аисты. Ласточки уже улетели, скоро закричат в вышине дикие гуси, следуя своим путем, а ему придется смотреть в небо, провожая взглядом их клинья, и думать о прелестях бродяжничества, ради одной любви лишившись другой.
В доме Хасана произошли важные перемены. Фазлия, муж черноокой красавицы Зейны, той, что жила с молодым парнем, заботливо нянчился со стариком. Оказалось, его грубые крестьянские руки могут быть и нежными, и чуткими. Хасан в комнате отца хранил деньги, так как знал молодого парня и опасался, как бы его верность не ослабела.
Свою опасную связь парень решительно оборвал. Ее внешняя прочность оказалась слабее, чем могла себе представить любая, самая злобная выдумка. Стойкую крепость предало вечное непостоянство любви.
Отец, несколько оправившись и почувствовав, что смерть отступила, передумал и решил не отдавать в вакуф все имущество, однако доля вакуфа тем не менее была велика, и, помимо мутевели (один честный и разумный человек, писарь в суде, согласился принять предложенного мутевелийского воробья вместо неверного кадийского голубя; тогда-то мне стало ясно, кто сообщил Хасану о несчастье с Харуном), надо было найти помощника. Хасан позвал своего слугу в комнату и предложил ему достойную и хорошо оплачиваемую должность с условием, что тот никогда больше не появится в его доме, кроме как по личному к нему, Хасану, делу, и что нигде и никогда не станет встречаться с Зейной, разве что случайно, но и то без всяких бесед. Если он примет предложение и останется верен своему слову, он может порадоваться предоставившейся возможности; если же примет должность, но нарушит слово, тогда скатертью ему дорожка.
Хасан готовился услышать возражения, жалобы, даже готов был кое в чем уступить, ну, скажем, пусть все идет по-прежнему, потому что где-то уже сам стал раскаиваться, что поставил слишком жестокие условия. Однако парень согласился. Малый был сметливый и ловкий. И Хасану стало противно.
Потом он позвал женщину, решил поговорить с ней, но малый успел все обделать сам, он сказал Зейне, что, к сожалению, они не смогут больше встречаться, он уходит искать свою судьбу, а у нее с судьбой все в порядке, пусть не поминает его лихом, а он о жизни в этом доме будет вспоминать только добром, но вот бог захотел, чтоб так было.
Надо присмотреть за ним, с неприязнью подумал Хасан.
Зейна молча стояла возле двери, сквозь ее смуглую кожу проступала бледность, нижняя губа дрожала, как у ребенка, руки беспомощно свисали вдоль полных бедер, вяло выглядывали из складок шальвар.
Так она и осталась стоять, когда парень вышел из комнаты. Так она и продолжала стоять не шелохнувшись, когда Хасан подошел к ней и надел на шею нитку оставшегося от матери жемчуга.
— Получше присматривай за отцом,— произнес он, не желая откровенно показывать, что платит ей за печаль, пусть будет чиста перед мужем.
Две недели она ходила по дому и по двору с жемчугом на шее, вздыхала и ждала, глядела в небо и на ворота. Потом перестала вздыхать, вновь раздался ее смех. Перегорело, или поглубже спрятала.
Муж горевал дольше.
— Пусто без него, а он, неблагодарный, о нас позабыл,— с укоризной говорил он спустя много времени после ухода парня.
Хасан был недоволен и собой, и ими. Он все сделал, чтоб уладить дело, а вышло не так.
— Ну вот, вмешался, чтоб развязать узел,— сказал он улыбаясь,— а чего добился? Только этому себялюбцу потрафил, женщину сделал несчастной, хотя и освободил от опасности, мужу повесил на шею разозленную бабу, себе же вновь доказал, что всякий раз, когда собираюсь сделать что-то с добрым умыслом, выходит плохо. К черту, нет ничего хуже, чем преднамеренно совершать добрые дела, и ничего глупее, чем создавать все по своему образцу.
— А что тогда не худо и не глупо?
— Не знаю.
Странный человек, странный, а дорогой. Так и не был он мне до конца ясен, да и самому себе тоже, и все раскрывался, раскрывался и искал. Правда, делал это без мучений, без озлобленности, как бывает у других, с каким-то детским простодушием, с легким шутливым сомнением, им-то он чаще всего и опровергал себя.
Он любил рассказывать, и рассказывал прекрасно, корни его слов уходили глубоко в землю, а ветви касались неба. Его рассказы стали для меня потребностью и источником удовольствия. Не знаю, что содержалось в них, отчего они озаряли меня, некоторые из его рассказов я с трудом вспоминаю, после них оставался какой-то дурман, что-то необычное, светлое и прекрасное: рассказы о жизни, но лучше самой жизни.
— Я неисправимый болтун, я люблю слова, все равно какие, все равно о чем. (В беспорядке записываю то, что он говорил однажды ночью, когда городок безмятежно спал.) Разговор — это связь между людьми, может быть единственная. Этому меня научил старый солдат, мы вместе попали с ним в плен, нас бросили в темницу, приковали цепью к железному кольцу в стене.
— Что будем делать: рассказывать или молчать? — спросил старый воин.
— А что лучше?
— Лучше рассказывать. Легче будет жить в подземелье. Легче умирать.
— Какая разница.
— Вот видишь, есть. Нам покажется, будто мы что-то делаем, будто что-то происходит, станем меньше ненавидеть друг друга, придет то, что должно прийти, но это уже не в наших силах. Встретились вот так однажды два неприятельских солдата в лесу, что делать, как быть, начали свою работу исполнять, ту, к которой приучены. Пальнули из ружей, ранили друг друга, выхватили сабли, рубились летним днем до полудня, пока не обломали их, а когда остались с кинжалами, один другому и говорит:
— Погоди, давай передохнем. Полдень миновал, не волки ж мы, люди все-таки. Сядь-ка ты тут, а я здесь. Хороший ты боец, уморил меня.
— Ты меня тоже.
— А раны твои болят?
— Болят.
— Мои тоже. Приложи табаку, он кровь останавливает.
— Ничего, и мох сойдет.
Посидели они, потолковали о том о сем, о семье, о детях, о нелегкой жизни своей, все у них похожее, много что одинаковое, поняли друг друга, сблизились, потом встали и сказали:
— Ну вот и отвели душу. Даже о ранах позабыли. Пора кончать начатое.
Обнажили кинжалы и успокоили друг друга навеки.
Весельчаком оказался мой товарищ в подземелье, взбодрил он меня своим ироническим нравоучением. Взбодрил, придал мужества. Иной сказал бы, что два солдата в лесу расстались друзьями, ну и вышла бы омерзительная ложь, даже если бы так и случилось. А горький конец правдив, ибо более всего избавлял меня от ненужных страхов, как бы он не сделал их лучше, чем они есть. И опять-таки (а это я вовсе не мог себе разумно объяснить) именно потому, что конец оказался безжалостно правдивым, осталась у меня в душе детски наивная мысль, упрямая надежда, а вдруг солдаты все-таки примирились. Если не те двое, может быть, другие, ведь эта история чуть-чуть так не закончилась. Хотя для моего товарища вовсе не это было главным — он рассказывал, чтоб не быть одному. Он много побродил по свету, всякое видывал и умел рассказывать интересно, живо, осязаемо, приятно, ну и разбивал все мои сомнения, что с ним будет сидеть тяжелее, нежели одному. Я просыпался по ночам, прислушиваясь к его дыханию.
— Ты спишь? — спрашивал я.— Расскажи что-нибудь, если не лень.
— А что будем делать, когда все перескажем?
— Станем рассказывать снова, по второму разу, наоборот.
— А когда и наоборот перескажем?
— Тогда помрем.
— Довольные друг другом, как те два солдата.
— Довольные, как те два дурака, что выполнили свой долг.
— Ехидный ты,— сказал он без упрека.
— А ты разве нет?
— Нет, с чего бы? Сам видишь, пошел я воевать, значит, заранее примирился с тем, что буду ранен, взят в плен, убит. Случилось меньшее зло из того, что могло случиться, чего ж мне быть ехидным?
И едва начинал звучать его тихий голос, ночь становилась менее пустынной. Он воздвигал между нами мост из паутины, мост из слов, они парили над нами, описывали круги, утекали, исчезали, он был истоком, я — устьем. Какая-то тайна рождалась между нами, и чудесное безумие, что зовется речью, совершало чудо: две безжизненные колоды, лежавшие друг возле друга, вдруг оживали и оказывались прочно соединенными. Мы расстались без сожаления, когда нас обменяли на неприятельских пленных. Такой человек всегда найдет слушателей, потому что они нужны ему, да и я сам стал их находить. В разговоре люди становились мне ближе. Не все, конечно. Некоторые ведь глухи к чужим словам, это несчастье и для себя, и для других. Но пытаться всегда стоит. Ты спросишь: зачем? Да ни зачем. Может, не так глухо и пусто станет вокруг. Давно это было, когда я только занялся торговлей, рассказали мне историю одной женщины из Вышеграда, вдовы какого-то спахии. У нее никого не было, кроме сына, паренька лет двадцати. Можешь себе представить, как она любила его, он был единственный сын, в нем заключалась вся ее жизнь. И когда юноша погиб на войне, мать обезумела: сперва она не верила этому, потом заперлась в комнате, сидела на черном хлебе с водой, спала на голом полу, каждый вечер кладя себе на грудь тяжелый черный камень. Она хотела умереть и не имела сил убить себя. Как назло, смерть не приходила. Двадцать лет прожила она так, на черном хлебе и воде, с тяжелым камнем на груди, от нее остались кожа да кости, она поседела, почернела, обуглилась, повисни она на балке, вид у нее был бы куда лучше, но она продолжала жить. Помню, меня особенно поразил черный камень, который она клала себе на грудь каждую ночь, я как-то яснее почувствовал, какие муки она испытала. Он меня и привел к ней, этот камень. Дом был большой, о двух этажах, небеленый, покосившийся, земли вокруг достаточно, и, к моему удивлению, хорошо обработанной, в доме с хозяйкой жила еще одна старушка, совсем древняя. Она и рассказала, что никто им не помогает, хозяйство большое, субаша, правда, обо всем заботится, но хозяйка не хочет иметь с ним дела, не желает брать деньги, он оставляет их себе, а им дает столько, чтоб хватило в живых остаться, бог не хочет прибрать ее, прекратить ее муки. Я солгал, будто один мой друг, тоже погибший, рассказывал мне о ее сыне, вот я и приехал навестить ее, ибо испытываю такое чувство, словно сам знал его. Я солгал, так как это был единственный способ заставить ее вступить со мной в разговор. Конечно, о сыне. Она годами молчала, годами ожидала смерти, годами думала о нем, отравляя себя болью, и теперь она могла вдосталь говорить о нем. Я ее разбудил. Я позабыл о том, что говорил вначале, ложь ненадежный спутник, теперь я говорил так, будто в самом деле его знал. Но ошибиться я не мог. Она не замечала, что я был еще ребенком, когда он погиб, может быть, даже считала его моложе меня, потому что для нее он не изменился. Я говорил, что он был красив, умен, добр и благороден со всеми, очень нежно вспоминал мать, он выделялся из тысячи. Я раскрывал перед ней ее собственные мысли, и преувеличения здесь не могло быть. Каждая моя похвала казалась этой женщине слабой, недостаточной. Она говорила тихо, шепелявя, но каждое слово, срывавшееся с ее уст, будто было обласкано, поцеловано, оно было проникновенным, напоенным любовью, окутанным ватой давних воспоминаний. Я был новый человек, незнакомый, и ей хотелось все рассказать о сыне, вознаградить себя за упорное молчание. Подсознательно она пыталась объяснить, как велико ее горе и как оно становится меньше, когда она говорит, ибо тогда видит его живого и ненаглядного. Я думаю, что впервые это удалось ей полностью; в ее одиночестве, да и в присутствии знакомых, он оживал лишь как тень, она знала, что он мертв. Сейчас она позабыла о смерти, отстранила от себя все, кроме того давно ушедшего времени, когда еще не произошло несчастье. Конечно, это не могло длиться долго, мысль о смерти приблизится, я ждал, когда ее окутает черное облако, я замечу это по тени на ее лице, но все равно хотя бы на миг она освободилась. С тех пор я навещал ее всякий раз, когда появлялся в тех краях, направляясь куда-нибудь, или на обратном пути, и женщина находила в своей памяти новые картины, и сын ее становился все меньше, моложе, всегда одинаковый и всегда живой. Она погружалась в минувшее от той черной минуты, которая оборвала ее жизнь. Она ждала мига воскресения, как праздника, как байрама, она целыми днями ожидала меня, в большой комнате топили, если было холодно, впервые за много лет готовили еду, которой она не пробовала, для меня расстилали съеденные молью подушки и пожелтевшие простыни, если я соглашался провести день-другой, чтоб продлить ее праздник. Она почти не изменила своего образа жизни, по-прежнему сидела на ржаном хлебе, запивая его водой, по-прежнему спала на голом полу, кладя черный камень на грудь, но в глазах ее была теперь не только мысль о смерти. Я уговорил ее, и она согласилась потребовать у субаши оставшуюся прибыль от хозяйства, чтобы построить в деревне для детей мектеб и помочь им одеждой и продовольствием, потому что наверняка так поступил бы ее сын. Она построила мектеб, привела хаджи, помогла бедным крестьянам, чтоб их дети не ходили голыми и голодными в школу, сделала доброе дело, облегчила свою муку.
— И все хорошо кончилось, все были счастливы, как в сказке,— произнес я, посмеиваясь на этой историей.
Мне показалось, что этот назидательный рассказ адресован мне и должен послужить для меня примером: наверное, мне тоже рекомендовали собрать детей и юношей вокруг себя и повести их к счастью. Все выглядело наивно, не вязалось с его характером, противоречило всему, что я знал о нем. Однако неплохую школу он прошел у старого солдата в темнице.
Хасан улыбнулся, без торжества, но и не смалодушничал.
— Да нет, не все хорошо закончилось. Крестьянам помощь пришлась весьма кстати, они запили и стали пропивать даже свое имущество. Довольно скоро в этом разобрались их жены, потому что пьяные кулаки куда тяжелее и болезненнее; женщины принялись проклинать вдову. Проклинали ее и мужики, потому что ребята перестали присматривать за скотиной и помогать в поле, а в школу ходили редко, да и учитель не из лучших попался, они мало чему могли у него научиться, а то, чему выучились, забыли через год-другой, тогда в деревне стали поговаривать, что ж это за школа такая, всю задницу обдерешь, пока выучишься, а за год перезабудешь. Вдова прожила двадцать лет в ожидании смерти и умерла в третью весну нашего знакомства, вышла встречать меня в метель, а я задержался по дороге дольше обычного.
— Значит, все вышло нехорошо?
— Нет. Почему? Она умерла, ожидая друга своего сына, понимаешь? В ней было много добрых слов, она хотела поговорить о своей любви к сыну и не думала о смерти. Крестьяне остались ни с чем, без выпивки и без помощи, ибо наследники быстро разделили ее имение. А в деревне сохранилась добрая память о ней, все плохое позабылось. Осталась легенда: жила-была одна странная и добрая женщина. Никому от этого, правда, никакого толку, но зато красиво.
Тронула меня эта история, горькая и необыкновенная, как жизнь, и неуловимая, как жизнь. Тронуло полное насмешки смирение Хасана, или его спокойное отрицание, его мучительный порыв, который человек должен смирить, чтоб не сойти с ума.
Я засмеялся, пытаясь облегчить возможную горечь и резкость своего вывода:
— Остановись на чем-нибудь, ради бога, определись, найди точку опоры. Ты во всем сомневаешься.
— Ты прав, во многом я сомневаюсь. Это плохо?
— И не хорошо.
— Значит, не плохо, но и не хорошо. А не сомневаться — это хорошо. А может быть, плохо?
— Не понимаю.
— Существует ли что-нибудь, в чем ты абсолютно уверен?
— Уверен в том, что есть бог.
— Вот видишь, а те, кто не верят в бога, уверены, что его нет. Может быть, было бы хорошо, если б они не были так уверены.
— Да. И что тогда?
— Ничего.
Но я уже раскаивался в том, что спросил, не заметив ловушки обманчиво мудрой логики. Как разумна и опасна эта мысль! А Хасан подвел меня к ней играючи.
Он силен своей неуверенностью.
Мне это не мешало, ничто в нем мне больше не мешало. Я полюбил его и, даже не соглашаясь с ним, считал его правым. Он был мне дорог даже тогда, когда я считал, что он не прав.
Даже один день, проведенный без него, казался мне пустым и бесконечным. Я безмятежно существовал в его тени.
Отец его уже без страха ожидал неизбежного конца, окруженный обновленной любовью сына.
Для нас с ним Хасан стал самым необходимым человеком в мире. Поэтому я огорчился, узнав, что он отправляется в путь.
Я пошел к нему, так как не видел его уже целые сутки. Он играл в тавлу с отцом, сидя у его постели.
Старик сердился, бросая кости среди черных и белых треугольников.
— Ух, прах побери, как ты ходишь! Фазлия,— жаловался он слуге,— не идут кости.
— А ты подул на них, ага?
— Подул, не помогает. А Зейна где? Пусть она их положит между грудями.
— Стыдно, отец!
— Мне уже ничего не стыдно. Разве стыдно, Фазлия?
— Нет, ага, боже сохрани.
— Лучше, отец, потри их о рукав дервиша.
— В самом деле? Ты не рассердишься, Ахмед-эфенди? Ей-богу, помогает.
— Рад, что ты пришел,— улыбнулся мне Хасан.
— Я со вчерашнего дня тебя не видел.
— Подождите со своими разговорами,— сердился старик,— пока я не выиграю. Вот, кажется, теперь у меня пошло.
— Отец, ты поправился.
— Ты хочешь сказать, что я злюсь?
Он в самом деле выиграл и был утомлен и счастлив. Он словно ребенок и так похож на Хасана.
— Я отправляюсь на днях в Дубровник,— сказал Хасан, смущенно улыбаясь, словно провинился в чем-то перед отцом.
— Зачем?
— Торговать. Мои друзья тоже едут, вот вместе и отправимся.
— Едет латинянка, едет и он. А про торговлю все выдумал.
— Не выдумал.
— Выдумал. Если б торговать, я бы смог тебя отговорить. А раз из-за нее — не смогу, она сильнее.
— Ты сам, отец, всякое выдумываешь.
— Неужели? Я состарился, но не все еще позабыл. А вот в голове у меня кое-что не укладывается, но это другое дело.
— Разве есть что-нибудь, что не укладывается у тебя в голове?
— Есть.
Старик обратился ко мне, делая вид, будто сердится на Хасана.
— Есть. Не укладывается у меня в голове, как это он отправляется в дорогу вместе с женщиной и ее мужем. Кто дурак? Мой сын или тот латинянин?
— Или оба,— смеялся Хасан, нисколько не обижаясь.— Ты, кажется, не признаешь дружбу?
— Дружбу? С женщинами? Дитя мое, тебе тридцать лет от роду, что с тобой происходит! С женщинами водят дружбу только любители мальчиков.
— А может, они с мужем друзья? — вмешался я в этот неприятный разговор, хотя Хасан только посмеивался.
— Тебя, Ахмед-эфенди, я бы не стал упрекать, ты в этих делах мало разбираешься. У них муж всегда друзей жены принимает, жена друзей мужа — никогда.
— Отец, ты поперхнешься.
— На твою беду не поперхнусь, сегодня ясный день и воздух чистый, напрасно ты меня пугаешь. Ведь говорил я ему: если тебе нет до нее дела, не трать понапрасну время; если она не хочет тебя, найди другую; если ты ее любишь и она тебя, уведи ее.
— У моего отца все просто.
— А зачем он едет, почему он едет с ними, сам дьявол не разберет. Наверняка только для того, чтобы защитить своих друзей от нападения гайдуков. А на него самого разве не могут напасть гайдуки? У нас все просто! Гораздо проще у вас, запутавшийся мой сын, у вас все неразумно.
— Какую истину ты сейчас изрек, отец! Испокон веку сыновья неразумнее отцов, и разум вовсе исчез бы, да, к счастью, сыновья обретают его, сами став отцами.
— А ты когда-нибудь обретешь разум?
— Мука мученическая с сыновьями, отец.
— Не смейся. Сколько ты пробудешь в дороге?
— Пятнадцать дней.
— Почему столько, бедный мой сын? Знаешь ли ты, сколько это, пятнадцать дней?
— Может быть, и больше.
— Ладно, поезжай. Раз тебе все равно, то безразлично и мне. Через пятнадцать дней ты ко мне на могилу можешь прийти. Ладно, поезжай.
— Ты сказал, что тебе лучше.
— В мои годы лучше и хуже стоят друг возле друга и сменяются, как день и ночь. Свечке тоже лучше, когда она догорает.
— Ты хочешь, чтоб я остался?
— Чтоб ты остался? Во-первых, ты врешь. Во-вторых, мне вышло бы боком, если б ты даже остался. Сейчас поздно, езжай. Долго не задерживайся. Пятнадцать дней для меня много, для тебя — достаточно. И возьми с собой побольше народу, я заплачу. Мне будет легче, если я буду знать, что ты в безопасности.
— Шейх Ахмед станет навещать тебя, пока я буду в дороге.
— Самый лучший подарок, который сделал тебе всевышний,— послал этого доброго и разумного человека. Но не худо и ему отдохнуть от тебя, поэтому за все пятнадцать дней мы ни слова не скажем о тебе.
И все пятнадцать дней мы говорили только о нем.
Отъезд Хасана нас обоих превратил в бедняков. И одно лишь упоминание его имени радовало нас. Старику было тяжелее, он жалел о каждом дне, проведенном без своего вновь обретенного сына, который умел отгонять у старика мысли о смерти. Его брюзжание было наполнено любовью, беспокойной и суровой, и она помогала забывать о близкой гостье. Черная птица кружила над ним. Он знал о ней и боялся. А без любви разве ему было бы легче?
Я тоже горевал из-за отъезда Хасана, он приучил меня к себе и особенно сейчас стал мне необходим.
Как раз здесь проходил водораздел в моей жизни — то, что было, и то, что мне предстояло и чего я не знал. Я притаился в засаде, как охотник, внимательный и терпеливый, и размышлял, а не подстерегают ли меня тоже, не окажусь ли я сам в ловушке. Мой друг, будь он рядом, унял бы мою дрожь, когда я готовился к следующему шагу, который заставит меня сделать судьба. В этом ощущении мрака и тайны за всем, чего я не видел, тайны, которая лишь откроется мне, таился ужас, но вместе с тем и тихое ликование: наконец-то свершится ожидаемое, я избран осуществить волю, которая сильнее моей. Я не только орудие, не чужая рука, я не камень и не дерево, я — человек, иногда я боюсь, как бы душа моя не оказалась слабее желания, как бы не разорвала меня накопившаяся ненависть, подобно тому как созревшее семя прорывает свою оболочку. С Хасаном я могу спокойно ждать, с Хасаном я могу спокойно дозреть до того часа, когда зеленое знамя взовьется над городом, а не зеленая чабуртия накроет мое тело.
Мы со стариком оба ждали, когда вернется единственный человек, до которого, нам было дело. Старик не скрывал своей тревоги. Он принимался было ругать сына, старое его властолюбие вновь набрало силу, но неловко скрываемая нежность незаметно переходила в беспомощные сетования.
— Черт бы его побрал вместе с этой дубровчанкой. Она ему дороже родного отца. Было б хоть за что! Драма благородной плоти не найдешь в ней. Но пусть, пусть она водит его по белу свету своими маслеными глазками, раз он такой простофиля. Пятнадцать дней, сын мой горемычный! Дожди могут начаться, морозы могут ударить, гайдуки могут напасть. Все без толку дураку говорить. Сиди, отец, здесь, в своем углу, прислонившись, как чубук, и жди. Обмирай всякий раз, когда открывается дверь и когда кто-нибудь проворно пробегает по ступенькам, вздрагивай в недолгом сне от черных видений и недобрых предчувствий. Год жизни отнимет у меня его поездка, если я переживу. А ведь обещал, что больше ни шагу из дому не сделает, обещал и не сдержал слова. Вот и роди таких на свою муку, чтоб самому тяжелей было. Ох, господи, прости, что́ я болтаю.
Фазлия предлагал ему привести друзей для беседы или сыграть в тавлу, хотел вывести жеребца во двор, под окна, собирался уйти в горы на поиски родниковой воды, что очищает и укрепляет кровь. Старик отказывался ото всего, потребовав только, чтоб ему положили подушки на лавку у окна, и целыми днями глаз не спускал с ворот, словно Хасан мог раньше вернуться или ему было легче так ожидать возвращения сына.
Как он жил столько лет без сына? — думал я, потрясенный такой любовью и такой тоской. И мне вспоминались странные слова Хасана, что только их упорная ссора оправдывает эту любовь. Если б такая любовь существовала всегда и неизменно, она бы обессилела, слиняла. И пересохла бы, не будь в ней потребности. Сперва это их чувство не трогало меня, я оставался холоден к нему, даже, пожалуй, не принимал его. Чего ты хочешь, старик, спрашивал я про себя сердито, неужели весь мир должен знать о твоей любви? И разве необходимо именно так ее проявлять? Легче вздыхать и стонать, нежели молчать. И что такое твоя любовь? Старческая разнеженность, страх смерти, инстинкт продолжения рода, эгоизм, что хватается за чужую силу, голос родительской крови? Во имя чего? Во имя мелкого насилия, чтобы беспомощно пытаться удержать за руку сына, когда все остальное ускользает.
Однако напрасно восставал я, осуждая и презирая, против этого чувства. Оно поражало меня. Я ловил себя на том, что думаю о своем отце и пытаюсь приблизить его к себе. Возможно ли, чтобы я с радостью ждал его слов, чтобы я страдал во время его болезни, чтобы ради него я отказывался от всего, что мне дорого? Отец, шептал я, свыкаясь с этим, вкладывая в это всю муку своей жизни, надеясь сожалением разжечь в душе потребность любви, отец, родной. Но других слов я не находил, нежности между нами не было. Может быть, именно поэтому я так изувечен: как бы там ни было, потребность в близких — врожденное свойство человека. Может быть, именно поэтому я с такой жаждой отнесся к дружбе с Хасаном, надеясь найти выход человеческой потребности, куда более сильной, чем разум.
Вначале старик принял меня с недоверием. Пытался говорить о всяком, но ненужные слова душили его, он не мог лицемерить. Я удивлялся, как похож на него Хасан, только тот лучше отшлифован, обтесан, смягчен.
— Странный ты человек,— сказал он мне.— Мало говоришь, прячешься.
Я поспешил объяснить, что, возможно, это особенность моего характера, которая в нашем ордене еще больше укрепилась. Если же я кажусь странным, то, вероятно, это последствие всего, что произошло со мной.
— Прячешься ты за слова. Не вижу я твоего нутра. Вот случилось у тебя несчастье, измордовали тебя — лучше не надо, а не слышал я от тебя ни слова проклятия или скорби. А о брате ты говорил.
— То, что произошло у меня, слишком тяжело, чтоб я мог об этом говорить. Я могу поделиться этим только с тем, кто для меня вроде брата.
— Ты нашел такого?
— Да.
— Прости, я не о себе спрашиваю.
— Понимаю. Оба мы привязаны к нему, ты — больше, по крови и плоти, я — по дружбе, которая прочнее всего, что человек в состоянии чувствовать, не впадая в грех.
Я мог бы обмануть его, если б хотел, ибо имя сына усыпляло в нем недоверчивость и мудрость опыта. Но я не хотел этого, я искренне так считал. И я говорил торжественно лишь ради старика, чтоб вышло красивее, чтоб избавить его от страха перед людьми, которые куда-то прячутся.
Ради сына он испытывал меня, ради сына принял. И хитрость и доверие происходят от одного корня.
Отсутствие Хасана заставило нас сложить сказку о нем. Жил-был царевич…
Но сам Хасан, на удивление, чаще говорил о своих неудачах без сожаления, посмеиваясь. И в силу закона противодействия, как он сам однажды метко подметил, его неудачи не выглядели ни тяжелыми, ни серьезными. Даже неудачи благодаря чарам его светлой откровенности оборачивались удачами, о которых он не любил говорить, да они и не особенно его заботили.
Позже я пытался отделить сказку от реальности, но, как бы хорошо я ни знал правду о нем, мне с трудом удавалось освободиться от чар, под которые мы нередко подпадаем, стремясь возвысить своего героя.
Если судить по тому, что не было вымыслом, то получалось, в нем нет ничего необыкновенного. Со всем пылом юности пройдя в школе сквозь пламя религиозного фанатизма и еще в молодости с помощью какого-то нищего философа-бунтаря, каких на Востоке водилось много и которого он часто вспоминал с любовью и насмешкой, познав критическую, верную природе философию Абу-ибн-Сины, Хасан вошел в жизнь с грузом представлений, который носит большинство из нас: перед глазами стоял пример великих людей, им хотелось подражать, но не было знаний о маленьких людях, с которыми мы сталкиваемся. Одни быстро избавляются от этих нестоящих идеалов, другие медленнее, третьи вовсе никогда. Хасан, веровавший в то, что нравственные достоинства непременно найдут признание, с трудом приспосабливался к реальности, ему мешали и чувствительный характер, и происхождение. Оказавшись в сверкающей столице империи с ее сложными связями и отношениями между людьми, как правило лишенными милосердия, точно акулы в открытом море внешне благопристойными, приглаженно лицемерными, сплетенными между собой нитями паутины, лишенный жизненного опыта благородный юноша оказался на подлинном шабаше ведьм. Со своим скромным багажом, при помощи которого он надеялся пробраться сквозь стамбульские заросли, с наивной верой в людскую честность, он напоминал человека, с голыми руками кидавшегося на вооруженных до зубов пиратов. Сохраняя всю свою незлобивую бодрость, благородство и приобретенные знания, Хасан вступил в этот зверинец уверенным шагом невежды. Но, будучи неглупым по природе, он вскоре увидел, по каким угольям ступает. Выбор зависел от него: принять все как есть и прозябать или же уйти. И он, человек незаурядный, не приемля столичной жестокости, стал чаще вспоминать свою родину, сравнивая мирную жизнь глухой провинции с бушующим морем столицы. Над ним смеялись, с презрением отзываясь о его заброшенном, отсталом вилайете.
— О чем вы говорите? — возражал он.— Здесь в часе ходьбы от центра есть такие задворки, какие трудно себе и представить. У вас под носом рядом с византийской роскошью и собранными со всех концов империи богатствами ваши собственные братья, как нищие, ютятся в этих трущобах. А мы — ничьи, мы — всегда на меже, мы — всегда чья-то добыча. Что ж удивительного в том, что мы бедны? Столетиями мы ищем и едва узнаём друг друга, скоро вообще забудем, кто мы такие, мы не помним уже о том, что вообще чего-то хотим, другие нам оказывают честь, когда принимают под свои знамена, поскольку у нас нет своих, покупают, когда мы нужны, и плюют нам в лицо, когда в нас пропадает потребность, самый злосчастный кусок земли во всем мире, самые несчастные люди на земле, мы теряем свое лицо, а принять чужое обличье не можем, оторванные от родной почвы и не пустившие корней в другой, чуждые всем и каждому, и тем, кто нам близок по крови, и тем, кто не считает нас родными. Мы живем на перекрестке миров, на границе народов, под угрозой любого удара, всегда перед кем-то виноватые. Как о скалы, о нас разбиваются волны истории. Нам надоело насилие, и поневоле свое убожество мы превратили в достоинство, стали благородными из упрямства. Вы же бессовестны от переполняющей вас злобы. Кто же тогда отсталый?
Одни его возненавидели, другие стали презирать, третьи избегали, и он чувствовал все большее одиночество и тоску по родине. Однажды он дал пощечину какому-то своему земляку, который рассказывал грязные анекдоты о боснийцах, и ушел, чувствуя горечь и стыд за своего земляка и за себя самого. И тут на улице услыхал разговор: дубровчанка и ее муж стояли возле лавки и говорили на его родном языке. Никогда прежде человеческий язык не казался ему более прекрасным, и никто не был ему ближе этой стройной женщины с благородными манерами и этого пузатого дубровницкого купца.
Многие месяцы Хасан уже ничего не делал, разъедаемый бездельем, сознавая, как тщетны его скитания по огромному городу, а отец щедро посылал деньги, гордясь тем, что его сын служит султану. И пока дубровчанин заканчивал свои дела, Хасан сопровождал его жену по прекрасным уголкам Стамбула, слушал самый прекрасный язык из самых прекрасных уст, забывая о своих муках, да и женщина, судя по всему, тоже не очень стремилась избегать его. Нежную дубровницкую горожанку, воспитанную у миноритов, больше всего привлекали в молодом боснийце не его образованность, красота, изысканность манер, но то, что, обладая всем этим, он оставался боснийцем. Жители далеких провинций в ее представлении были грубыми, глупыми, неотесанными, своенравными, она считала, что они обладают тем сортом мужества, которое умные люди не слишком ценят, да и не всегда, по наивности гордясь тем, что вечно служат тому, кто не является их другом. А этого юношу не назовешь грубым, неотесанным, невеждой, его можно сравнить с любым дубровницким аристократом, он был приятным собеседником, интересным спутником, он увлекся ею (это усилило ценность всех его качеств) и был настолько сдержан, что она даже с подозрением рассматривала себя дома в зеркале. Ей в голову не приходила мысль о любви, но она привыкла быть в центре внимания мужчин. С трепетом и некоторым смущением ожидала она очередного флирта, но, когда это не состоялось, была удивлена и с большим вниманием стала приглядываться к юноше. Хасан, юный и порядочный, не умел играть словами, которые ни к чему не обязывают ни его, ни женщину, он тоже не думал о любви и только радовался простым свиданиям. Однако любовь нашла его сама: вскоре он влюбился. Обнаружив это, он утаил свое открытие от нее, стараясь ничем не выдать себя. Женщина тем не менее сразу заметила, едва робкие огоньки вспыхнули в его глазах (ей пришлось признать, что они красивы), и, чтобы спасти положение, стала преувеличенно подчеркивать свою дружбу, нимало не стесняясь, вела себя как сестра. Хасан проваливался в любовь, как в бездну, или вздымался ввысь на гребне ее волны, и этому не приходилось удивляться: женщина была красива (упоминаю об этом мимоходом, в любви важно иное), обворожительно приятна (в любви это главное), она первая развеяла его смутную тревогу и убедила, что на свете есть вещи, о которых молодой человек не имеет права забывать безнаказанно.
Он помог ее мужу через одного боснийца, сына ювелира Синануддина, побыстрее завершить свои дела, ради которых он и приехал,— это касалось разрешения и привилегий в торговле с Боснией. Таким образом, Хасан приобрел дружбу ее мужа, к сожалению сократив срок их пребывания в столице, он радовался доверию, считая, что этим прощается ему грех любви, горюя из-за скорого расставания, которое породит тоску, еще более глубокую, чем раньше. То ли дубровчанин в самом деле почувствовал к нему доверие, то ли решил таким образом связать ему руки, а в людях он разбирался неплохо, то ли верил жене или был лишен воображения, то ли ему было все безразлично — трудно сказать, да и не он главное лицо в этой несуразной страсти. Я говорю «несуразной» и говорю «страсти», поскольку она и была такой. Напуганный или подстегнутый их скорым отъездом, Хасан признался Марии (ее звали Мейрима) в любви. Пораженный ее бледностью, хотя она услышала то, что уже знала, или по своей наивности Хасан сказал ей вещи, которые мудрому и опытному человеку не пришло бы в голову говорить: дескать, он не мог не объясниться, но сожалеет об этом, поскольку он друг ее мужа, возможно, он этим оскорбляет и ее самое, она ведь порядочная женщина, но все равно, он не может скрывать, так как не знает, что с ним будет, когда она уедет. Женщине пришлось прикрыться верностью мужу и семейной честью и вернуть его на безопасное место друга семьи. И диво дивное, искренняя наивность Хасана, кажется, победила ее неприступность, именно в этот момент она и полюбила его. Она воспитывалась в монастырской школе и, боясь грехопадения, подальше запрятала свою любовь, в самые дальние уголки сердца, заставив тем самым и его, осчастливленного ее любовью, не принуждать ее к откровенности силой. А поскольку он все рассказал ей о себе, открыв даже то, что не доверял никому, она предложила ему вместе с ними на корабле отправиться в Боснию через Дубровник, коль скоро его и без того ничто не удерживает в Стамбуле. Она хотела доказать и себе и ему, что не боится ни себя, ни его. Это будет немного lа route des écoliers, сказала она, объяснив, поскольку он не знал французского, что это означает путь подлиннее, но понадежнее, путь, которым велят детям возвращаться из школы. Она защищалась даже французским языком, ибо чувствовала, что приводит юношу в восторг знанием этого удивительного языка, созданного для женщин. Она упускала из виду, что он все равно восторгался бы ею, говори она даже по-цыгански. Равно как забывала о том, что опасно защищаться тем, от чего он в восторге. На корабле они виделись реже, чем надеялся Хасан. Купец плохо переносил качку и почти всю дорогу не вылезал из постели, страдая — его выворачивало наизнанку. Хасан знал об этом, до него доносился тяжелый запах, из-за которого часами приходилось проветривать каюту, но в тот самый миг, когда помещение было проветрено и вымыто, оно снова оказывалось опоганенным, а бедняга лежал пластом, желтый и мокрый, как на смертном одре. Он может умереть, думал юноша с опасением и надеждой, а позже раскаивался в своем жестокосердии. Мария в каком-то исступлении почти не отходила от мужа, чистила и проветривала каюту, утешала его, держала за руку, поддерживала ему голову, когда у него начинались судороги, что нисколько не уменьшало его мучений и нисколько не увеличивало ее любви к супругу. Когда он засыпал, она поднималась на палубу, где Хасан в нетерпении ждал момента, чтоб увидеть ее тонкую, гибкую фигуру, а потом с ужасом считал минуты, когда долг призовет ее в вонючую каюту, где, умиляясь собственной жертве, она мечтала о свежем морском ветерке, вспоминая звуки нежного голоса, говорившего о любви. Они говорили не о своем чувстве, о чужом, что, впрочем, одно и то же. Она вспоминала любовные стихи европейских поэтов, он — восточных, что, впрочем, одно и то же. Никогда до тех пор чужие слова не были им столь необходимы, а это равнозначно тому, как если бы они сами придумывали свои. Укрывшись от ветра за капитанской рубкой или за ящиками и палубными надстройками, они равным образом прятались за эту поэзию, и тогда поэзия полностью оправдывала себя, что бы о ней ни говорили. А когда женщина осознавала свой грех, когда чувствовала, что ей слишком хорошо, она наказывала себя, возвращаясь к мужу и принося себя в жертву.
— Мария,— шептал юноша, пользуясь разрешением называть ее по имени, что казалось ему высшей милостью,— выйдете ли вы сегодня?
— Нет, дорогой друг, слишком много стихов сразу, это нехорошо и может вызвать печаль. Да и ветер холодный, я не прощу себе, если вы простудитесь.
— Мария,— задыхался юноша.— Мария…
— Что, дорогой друг?
— Значит, я не увижу вас до завтра?
Она позволяла ему держать себя за руку, слушала удары волн и стук его крови, желая, может быть, позабыть о времени, а потом приходила в себя.
— Заходите к нам в каюту.
И он шел к ним в каюту, изнемогал в прокисшей атмосфере тесного пространства, изумленно наблюдая, с какой самоотверженностью ухаживает она за мужем. Он боялся, как бы при виде этого его тоже не свалила морская болезнь.
Уже перед самым Дубровником, в последнюю ночь, она пожала ему руку — он безуспешно пытался ее удержать — и шепнула:
— Я навсегда запомню это путешествие.
Может быть, из-за Хасана и стихов, а может быть, из-за мужа и морской болезни.
В Дубровнике он дважды был желанным гостем у них в доме, среди множества тетушек, родственниц, знакомых, друзей, и оба раза с трудом подавлял желание сбежать от этих неведомых людей, которые на улицах города едва обращали внимание на его восточную одежду, а в салоне шьора Луки и шьоры [10] Марии пялили на него глаза как на чудо. Будто что-то неприличное было в этом его визите, и он чувствовал себя неловко и робел. Когда же вдобавок он натолкнулся на учтивое внимание натянуто улыбавшейся Марии, отчего она показалась ему совсем чужой и далекой, то понял, что именно у них в доме отчетливо видна их подлинная отчужденность. Здесь они встретились, как два иностранца, которых все разделяло, и не со вчерашнего дня. Привычки, обычаи, манера разговаривать, манера молчать, то, что они прежде думали друг о друге, не зная друг друга как следует,— все это образовало пропасть между ними. Он понял, что в этом городе Мария отгорожена и защищена от него, прикрыта домами, стенами, церквами, небом, запахом моря, людьми, собой, какой она нигде не была. И отгорожена от него, может быть, только от него. Возможно, даже и он от нее. Ибо он приходил в ужас при одной мысли, как можно вообще жить в этом прекрасном месте, одному или с нею, душу его наполняла печаль, какой он не чувствовал никогда раньше, и он с радостью простился с ними, когда встретил какой-то торговый караван, который уходил в Боснию. Радость переполняла его, когда он увидел снег на Иван-планине и боснийский туман, когда пронесся злой ветер Игмана, когда, растроганный, вошел в накрытый тьмою город, зажатый горами, и поцеловался с земляками. Городок показался ему меньше, а дом стал больше. Сестра любезно сообщила, что будет жаль, если материнский дом останется пустым. Она боялась, как бы он не поселился в большом отцовском доме. С отцом он тут же поругался, скорее всего из-за того, что старик повсюду разнес молву о его успехах и славе в Стамбуле, чтоб напакостить зятю-кадию, которого вообще не выносил, и теперь чувствовал себя обманутым и опозоренным. В городе возвращение Хасана расценили как неудачу, поскольку ни один разумный человек не стал бы возвращаться сюда из Стамбула, не покинул бы высокой службы у султана, если б не было к тому веских причин. Он женился из-за Марии, из-за воспоминаний, из-за пустых комнат, из-за чужого вмешательства, еле-еле выдержал одну зиму с женой, глупой, болтливой, жадной, потом освободил себя от нее и ее семьи, подарив им имение в окрестностях города и деньги, дав их якобы взаймы. И с тех пор не переставал улыбаться. Его родина не земля обетованная, его земляки не ангелы. А он не в силах их больше ни исправить, ни испортить. Они сплетничали на его счет, подозревали и оговаривали, новая родня накинулась на него, как волки, зная о его желании как можно скорее избавиться от жены, он долго был мишенью для чужих пересудов, он пришелся им в самый раз, чтоб разогнать их скуку. Он вспоминал, как в Стамбуле защищал благородство своих земляков, и смеялся. К счастью для себя, он никогда ни в чем не упрекал, не горевал, все, что с ним произошло, он воспринимал как жестокую шутку. У других еще похуже, возражал он, защищая, думается мне, скорее свои прежние восторги, чем правду. За два-три года он снова полюбил своих земляков, привык к ним, как и они к нему, стал даже уважать их по-своему, чуть насмехаясь, но без злобы, почитая больше жизнь и то, что в ней существует, нежели свои мечтания о ней. Умные это люди, как-то сказал он мне в своей странной манере, перемежая издевку с серьезностью, которая часто смущала меня. Они приемлют безделье Востока и приятную жизнь Запада; они никогда не спешат, ибо спешит сама жизнь; их не интересует то, что готовит завтрашний день, придет то, чему суждено, а от них мало что зависит; они вместе только в несчастьях, поэтому и не собираются часто; они мало кому верят, и легче всего обмануть их красным словцом; они не похожи на героев, но труднее всего испугать их угрозой; они долго ни на что не обращают внимания, им безразлично, что происходит вокруг, а потом вдруг все начинает их касаться, они все переворачивают и ставят с ног на голову, а потом вновь впадают в сон и не любят вспоминать о том, что было; они боятся перемен, поскольку перемены часто им приносили беду, но им легко может наскучить любой, даже если он делал им добро. Странный мир, он оговаривает тебя, но любит, целует в щеку и ненавидит, высмеивает благородные деяния, но помнит о них спустя много лет, он живет упрямством и добрыми делами, и не знаешь, что возобладает и когда. Злые, добрые, мягкие, жестокие, неподвижные, бурные, откровенные, скрытные — это все они и все где-то между этим. А в довершение всего они — мои и я — их, как река и капля воды, и все то, что я говорю о них, я говорю о себе.
Он находил в них тысячу недостатков, но любил их. Любил и ругал. Он стал водить караваны на Восток и на Запад, наверное из упрямства, хотел показать презрение к занятиям, которым ранее посвящал свое время, возможно разозленный упреками имущих людей, а скорее всего, пожалуй, для того, чтобы отдохнуть от городка и своих земляков, чтоб не возненавидеть их, чтоб стосковаться по ним, чтоб увидеть зло и в других странах. И эти непрерывные блуждания, из одной исходной точки на земле, которая придавала смысл этим блужданиям, которая делала их отъездом и возвращением, а не бродяжничеством, означали для него подлинную или воображаемую свободу, что в конце концов одно и то же. Без этой точки, к которой ты привязан, ты не сможешь полюбить и другой мир, тебе некуда будет уйти, потому что ты будешь нигде.
Эта мысль Хасана, не очень для меня ясная, эта неизбежность привязанности и усилие освобождения, эта необходимость любви к своему и потребность в понимании чужого, не есть ли это невольное примирение с маленьким пространством и утолением жажды к большему? Или это изменение мерок, чтоб свои не стали единственными? Или сокрушенное половинчатое бегство и еще более сокрушенное возвращение? (Трудно мне было понять это еще и потому, что моя мысль шла совсем иным путем: существует мир с подлинной верой и мир без нее; остальные различия менее важны, и мое место может оказаться всюду, где я буду необходим.)
Весной, спустя год после возвращения Хасана из Стамбула, в город приехал шьор Лука с супругой, дубровчанкой, и все началось сначала, с новой силой и новыми перипетиями.
Городок тоже не способствовал их любви. Кто-то из них неизменно оказывался иностранцем. И если они разбивали стены квартала латинян и мусульманского города, то оставались их собственные внутренние ограждения. Женщина наверняка не могла больше обманывать себя, говоря о дружбе. Но кроме взглядов и ласковых слов — так по крайней мере казалось,— больше ничего себе не позволяла. Да и в своих грешных мыслях о любви к Хасану она, вероятно, сокрушенно призналась на исповеди. А Хасан отправлялся в свои поездки и возвращался все с тем же чувством, которое росло в нем за долгие месяцы разлуки. Не эта ли странная любовь придавала смысл его порывам? Не из-за нее ли ощущал роковую привязанность, непрестанно прилагая усилия, чтоб освободиться?
Это была частичная правда о Хасане, то, что я слышал, узнал, додумал, дополнил, связал разрозненное в целое. Чуть искаженная повесть о человеке без настоящей родины, без настоящей любви, без настоящих мыслей, который свою жизненную неустроенность воспринял как судьбу и не сокрушался из-за этого. Может быть, в этой его примиренности содержалась какая-то дорогая ему приятность и храбрость, но это был промах.
Драгоценным было для меня понимание этого, я убедился, что он не сильнее меня.
Но тогда я был зачарован и охотнее придумывал сказки о своем друге: жил-был герой… Своими знаниями и умом он затмевал всех мудеризов в Стамбуле, захоти — и он стал бы муллой стамбульским или визирем у султана. Но он дорожил своей свободой и позволял своему независимому слову выражать свои мысли. Он никому не льстил, никогда не лгал, никогда не настаивал на том, чего не знал, никогда не скрывал того, что знал, и не боялся ни любимчиков султана, ни вельмож. Он любил философов, поэтов, сторонников уединения, хороших людей и красивых женщин. С одной из них он покинул Стамбул и уехал в Дубровник, а потом она приехала за ним в его родной город. Он презирал деньги, положение, могущество, презирал опасности и искал их в мрачных чащах и пустынных горах. А стоит ему захотеть, и он выполнит задуманное, и тогда далеко разнесется о нем молва.
В самом деле, смешно, как с помощью небольшой поправки или опустив мелочи, умолчав о причинах, чуть-чуть исказив действительные события, поражения могут превратиться в победы, неудачи — в геройство.
Должен, правда, признаться, что сам Хасан никакого отношения к созданию этой сказки не имел. Она была нужна нам, а не ему. Нам хотелось верить в то, что есть люди, которые могут сделать больше обычного. И он был таким в известном смысле, он мог пойти на подвиги, по крайней мере судя по тому, как он принимал все, что с ним случалось. Улыбкой он возмещал ущерб, он создал свое внутреннее богатство, он верил, что в жизни существуют не только победы и поражения, но и дыхание, созерцание, возможность слышать, существует слово, любовь, дружба, обыкновенная жизнь, которая во многом зависит только от нас самих.
Ну ладно, существовать-то они существуют, несмотря ни на что, но звучит все это довольно смешно, похоже на детские рассуждения.
За три дня до возвращения Хасана Али-ага так разволновался, что не мог ни разговаривать, ни играть в тавлу, ни есть, ни спать.
— Ты ничего не слыхал о гайдуках? — то и дело спрашивал он и посылал меня и Фазлию разведать на постоялых дворах у погонщиков, а мы приносили благоприятные известия, которым он не верил или толковал их по-своему, соответственно своей тревоге:
— Давно о них ничего не слыхать, а это еще хуже. Одолели они, никто их не преследует, того и гляди, на дороге засаду поставят. Фазлия! — внезапно окликнул он слугу, не обращая внимания на то, что в комнату вошла его дочь, жена кадия; судьба Хасана была для него важнее.— Собери десяток вооруженных людей, найми лошадей, поезжай навстречу. Подожди его в Требинье.
— Он рассердится, ага.
— Пускай сердится! Придумай какую-нибудь причину. Покупай смокву, покупай что хочешь, только не возвращайся ко мне без него. Вот тебе деньги. Плати не торгуясь, загони лошадей, но поскорее возвращайся.
— А как ты, ага?
— Я буду ждать вас, вот я как. И больше не спрашивай, ступай!
— У тебя денег хватит? — спросила дочь.— Я могу добавить.
— Хватит. Садись.
Она опустилась на скамью, у ног отца.
Я хотел выйти вслед за Фазлией. Старик остановил меня, видимо не желая оставаться наедине с дочерью:
— Ты куда?
— Пойду в текию.
— Текия может и без тебя обойтись. Когда сам станешь таким, как я, поймешь, что все обходятся без нас.
— Только мы не обойдемся без всего, даже если станем такими,— спокойно, без улыбки произнесла дочь, упрекая отца за Хасана.
— А чего ты удивляешься? Разве я уже умер, чтобы обойтись без всего?
— Нет, не дай бог, я и не удивляюсь.
Мне было неприятно. Я помнил наш с нею разговор о предательстве и теперь отводил взгляд, чтоб наши глаза не встретились. Она смотрела спокойно, прекрасная, уверенная в себе, такая же, как и во время того разговора, о котором я не забываю. Как и в моих воспоминаниях, которые рождались помимо моей воли.
Я отводил взгляд в сторону, но видел ее, какая-то искра мерцала во мне и тревога. Она заполнила собой все пространство, изменила его, все стало странно волнующим, грех пал на нас, мы оба несли в себе тайну, словно прелюбодеяние.
Но как она может быть спокойна?
— Тебе ничего не нужно? — заботливо спрашивала она отца.— Тебе не тяжело одному?
— Я давно один. Привык.
— Неужели Хасан не мог отложить поездку?
— Это я его послал. По делам.
Она усмехнулась на эту ложь.
— Я рада, что он с друзьями. В компании легче. И он у них под рукой, и они у него. Я только сегодня узнала, что он уехал, и поторопилась к тебе.
— Могла бы прийти и когда Хасан дома.
— Я только что встала с постели.
— Ты болела?
— Нет.
— Чего ж ты тогда лежала?
— Господи, неужели я все должна говорить? Кажется, ты станешь дедом.
Перламутровые зубы ее сверкали в улыбке: ни тени смущения, ни стыда не было в ней заметно.
Старик приподнялся на локте, ошеломленно глядя на нее, немного встревоженный, как мне показалось.
— Ты беременна?
— Кажется.
— Да или кажется?
— Да.
— Ух! Дай бог счастья.
Она встала и поцеловала ему руку. И снова уселась в ногах.
— Я хочу и ради тебя. Ты наверняка обрадуешься внуку.
Старик пристально смотрел на нее, словно не веря или слишком переживая это сообщение.
— Обрадуюсь? — чуть слышно произнес он, побежденный.— Еще как обрадуюсь.
— А Хасан? Он жениться не собирается?
— Думается мне, нет.
— Жаль. Милее бы тебе был внук от сына, чем от дочери.
Она засмеялась, словно сказала это в шутку, хотя ни одного слова она не произнесла впустую.
— Я хочу внука, дочь. От тебя или от него, безразлично. От дочери вернее, моей крови, тут обмана быть не может. Я уж боялся, что не дождаться мне.
— Я молилась, чтобы бог не оставил меня бездетной, и вот, слава аллаху, помогло.
Еще бы, много тут помогает молитва!
Я слушал их разговор, потрясенный ее холодной расчетливостью, ошеломленный наглостью, скрытой под личиной прекрасного образа, восхищенный ее мужской уверенностью. В ней не было ничего от отца, ничего от Хасана, а в них — от нее. Кровь ли отцовская подвела, лишь сохранив то, что в них обоих не могло развиться? Или она мстила за пустую жизнь, за отсутствие любви, за девичьи мечтания? Обманутая в своих надеждах, жестокая, она теперь спокойно сводила счеты со всем миром, без сожаления и раскаяния, без милости. Как безмятежно смотрела она на меня, словно меня нет, словно между нами никогда не было того недоброго разговора в старом доме. Или она настолько презирает меня, что смогла обо всем позабыть, или потеряла способность стыдиться. Я не простил ей умершего брата, но не знал, как разделаться с ней в своей душе, ее, единственную, я не причислил ни к одной из сторон: ни к малочисленным друзьям, ни к врагам, которых ненавидел. Может быть, из-за упрямства, с которым она думает только о себе и никто больше ее не касается. Она живет собою, возможно не имея понятия о том, как она дерзка. Как вода, как туча, как буря. А может быть, как истинная красота. Я не питал слабости к женщинам, но ее лицо нелегко позабыть.
Когда она ушла, старик долго смотрел на дверь и на меня.
— Беременна,— произнес он задумчиво.— Беременна. Что ты скажешь?
— Что мне сказать!
— Что тебе сказать! Поздравить меня! Но теперь больше не надо, поздно. Ты опоздал, значит, не веришь. Погоди, мне тоже не ясно. Столько лет моему уважаемому зятю не удавалось ничего посеять, а старость его, ей-богу, не одарила силой. Желание и молитва тут слабо помогают. Единственно разве кто-нибудь помоложе, господи помилуй, перескочил через забор, а какое мне дело, безразлично мне, я бы даже хотел, чтоб так получилось, чтоб не дала побегов гнилая кадийская лоза, да, трудно в это поверить тому, кто знает мою дочь. Никому она не дает власти над собой, гордая и настороженная. Только если убила его потом. А не слыхать было, чтоб кого-то прикончили. И зачем она пришла об этом сказать? Это нельзя утаить, узнают так или иначе. А ведь убеждена, что меня обрадует. Я обрадовался?
— Не знаю. Ты ничем не одарил ее.
— Вот видишь. Я ее не одарил, ты меня не поздравил, что-то тут нечисто.
— Ты разволновался и просто позабыл об этом.
— Да, разволновался. Но если б я по-настоящему в это поверил, я бы не позабыл. Она скорее обеспокоила меня, чем обрадовала. Не понимаю.
— Почему обеспокоила?
— Она чего-то хочет, а я не знаю чего.
На другой день, когда я пришел после ичиндии, он встретил меня необыкновенно живо, с наигранной веселостью, стал угощать яблоками и виноградом — дочка прислала.
— Спрашивала, чего я хочу, что мне приготовить, и я послал ей подарок, горсть золотых монет.
— Хорошо сделал.
— Вчера я разволновался. А ночью не спал и все время думал. Зачем ей обманывать меня, что ей с того? Если из-за имения, знает, что и так ей останется, не возьму я с собой на тот свет. А быть может, мой злосчастный зять, кадий, вспыхнул свечой перед тем, как испустить последний вздох, и сделал хоть одно доброе дело в жизни. А если аллах помог как-то иначе, спасибо ему за любой способ, но я думаю, она сказала правду, не могу я найти никакой причины, ради которой она стала бы врать.
— Я тоже.
— Ты тоже? Вот видишь! Меня еще могла родительская любовь обмануть, тебя — вряд ли.
Я поверил, потому что он этого хотел, но на долю Хасана выпадет еще много страданий за эту отцовскую радость, какой бы она ни была.
Я собирался подольше остаться с Али-агой, он был встревожен сообщением дочери, в которое я не верил, но не стал разубеждать его, и волновался из-за скорого возвращения Хасана, а у меня от этого тоже обмирало сердце. Однако за мной пришел молла Юсуф и позвал в текию: меня ожидал миралай Осман-бег, проходивший мимо с войском и пожелавший остановиться на ночлег в текии.
Старик слушал его с любопытством.
— Знаменитый Осман-бег? Ты с ним знаком?
— Только слышал о нем.
— Если у тебя тесно и если миралай-бег захочет, пригласи его сюда от моего имени. Здесь хватит места, найдется и для него, и для его спутников. Для моего дома было бы честью принять их.
Али-ага по привычке предложил гостеприимство, но говорил торжественно, по-старинному. Он питал слабость к знаменитостям, почему и рассердился на Хасана, когда тот пренебрег славой.
Но тут же он вдруг передумал:
— Может быть, лучше ему остаться в текии. Фазлия уехал встречать Хасана, у Зейны достаточно забот со мною, я не смогу встретить его как подобает.
Я понял, почему он это сделал — из-за Хасана.
— Не думаю, что миралай принял бы приглашение,— успокоил я старика.— Люди султана сворачивают в текию, когда никого не хотят беспокоить. Или когда никому не верят.
— А куда он с войском?
— Не знаю.
— Ничего не говори ему. Может быть, Хасану не понравилось бы, если б миралай переночевал у нас. Да и мне тоже,— великодушно поддержал он сына.— Если тебе что-либо нужно: постели, продовольствие, посуда,— пришли.
— Можно кому-нибудь из дервишей переночевать у тебя, если понадобится?
— Можете все.
На улице мне попался Юсуф Синануддин, золотых дел мастер. Обычно по вечерам он захаживал к Али-аге, но сейчас стоял на перекрестке и словно к чему-то прислушивался. Увидев меня, он пошел навстречу.
— У тебя славный гость,— обратился он ко мне необычайно растерянный.
— Да, мне только что сообщили.
— Спроси его, как он себя чувствует. Он приобрел славу, сражаясь с врагами империи, а сейчас идет убивать наших людей. В Посавине. Печальная старость. Лучше бы ему умереть вовремя.
— Не мое дело спрашивать об этом, Синануддин-ага.
— Знаю, что не твое, я бы тоже не стал. Но трудно отделаться от этого.
В воротах он снова остановился, и мне опять показалось, будто он к чему-то прислушивается.
Хафиза Мухаммеда и моллу Юсуфа я отправил ночевать к Али-аге, сам перешел в комнату хафиза Мухаммеда, свою предоставил Осман-бегу, а в комнате моллы Юсуфа разместились солдаты.
Я поразился, увидев, как стар миралай — с белой бородой, усталый, молчаливый. К счастью, он не был груб, как я ожидал. Принес извинения, что помешал мне, но в городке он никого не знает, поэтому решил, что удобнее остановиться в текии, удобнее для него, не для нас, разумеется, но он надеется, что мы уже привыкли к случайным прохожим, он останется только на одну ночь, на рассвете тронется дальше. Он мог бы переночевать в поле со своим отрядом, но в его годы лучше под крышей. Он собирался заглянуть к местному ювелиру хаджи Синануддину, так как дружен с его сыном, но не уверен, возможно, кому-то это будет приятно, а кому-то досадно, поэтому решил поступить так. Правда, у него есть кое-что для хаджи Синануддина: как раз накануне выступления в поход сын хаджи был назначен султанским силахдаром. Это мог бы передать ему и я, может быть, старик обрадуется.
— Как не обрадоваться! — ответил я, с трудом приходя в себя от изумления.— Из нашего города никому не удавалось подняться так высоко.
Но сераскер израсходовал весь запас своих слов, свое внимание и поэтому умолк, утомленный, неулыбчивый, жаждущий остаться один.
Я ушел к себе в комнату, встал у окна, взволнованный и обеспокоенный.
Султанский силахдар, одно из самых могущественных лиц в империи!
Не знаю, почему эта весть так взволновала меня, раньше мне было бы все равно, может быть, я удивился бы или порадовался его счастью, может быть, пожалел бы его. Теперь же она отравила меня. Благо ему, думал я, благо ему. Пришло время расплачиваться со своими врагами, а они были у него наверняка. Теперь они дрожат, ожидая, пока падет на них его длань, ставшая в течение ночи тяжелой, как свинец, в ней заложено много смертей. Это так невероятно, подобно сну, обманчиво, слишком хорошо. Господи, какое это неохватное счастье — возможность действовать. Человек жалок со своими праздными мыслями, со своим устремлением в облака. Бессилие уничтожает его. Сегодня вечером не спится силахдару Мустафе, как и мне, все клокочет в нем от счастья, к которому он еще не привык, у его ног Стамбул, залитый лунным светом, утихший, окованный золотом. Кто еще не в силах уснуть этой ночью из-за него? Знает он их всех наперечет, лучше, чем родных по крови. «Ну, каково вам? — спрашивает он тихо, не проявляя нетерпения.— Как вы чувствуете себя сегодня?» Судьба возвысила его не ради них, не для того, чтобы карать или пугать их, более важные дела ожидают его, но именно из-за этих дел он не может оставить их в покое. Ох, из-за своей ненависти наверняка. Невозможно, чтоб он не чувствовал ее, невозможно, чтоб он не таил ее в себе, нося, как туман, как яд, в крови, невозможно, чтоб он не ждал этой священной ночи, чтоб воздать за все обиды, за прежнее свое бессилие.
В эту ночь я раздваивался, я знал, как велико ликование силахдара, я даже ощутил его, словно оно было мое, но мне становилось еще тяжелее оттого, что мои желания лишь воздух, свет, который зажигает и озаряет одного меня, утешая и заставляя страдать.
Мне хотелось завыть в ночи: почему именно он? Разве ему необходимее всех удовлетворение? Разве сила моего желания слабее его? Какому дьяволу нужно уступить мне свою омытую горючими слезами душу, чтоб на меня свалилось такое счастье?
Однако напрасно я мучился, судьба глуха к сетованиям, слепа, выбирая исполнителей.
Не будь сейчас ночь, я отправился бы к золотых дел мастеру Юсуфу Синануддину, чтоб сообщить ему радостное известие, он ведь ничего не знает, не гадает. Оно отдано мне, как драгоценность, чтоб я берег его и наслаждался им, хотя оно принадлежит другому. Ночь не помешала бы мне, а ювелир был бы благодарен, даже если б я разбудил его, он позабыл бы, что осуждал миралая, и поспешил бы выразить ему свою признательность. Но я никуда не пошел, может быть, и не смог бы из-за караула у ворот, мне стало противно, если они остановят меня или вернут, им покажется подозрительным мое поведение, это небезопасно, а мне не хотелось идти к миралаю просить разрешения, он удивится: неужели это так важно и спешно?
В самом деле, почему это так важно для меня?
Я разволновался из зависти, из ненависти, из-за чужого счастья. И не по каким-либо иным причинам, поскольку меня это не касалось. Я не спешил отнести эту весть тому, кому она принадлежала, я остался в текии.
И мне даже в голову не приходило, насколько этот незначительный поступок окажется решающим в моей жизни.
Пойди я к хаджи Синануддину и скажи ему то, что мне стало известно, по крайней мере лишь для того, чтоб обрадовать его или чтоб вместе провести бессонную ночь, моя жизнь пошла бы совсем иным путем. Я не говорю о том, стала бы она лучше или хуже, но наверняка она была бы совсем иной.
Придавленный сном, городок тихо мерцал в свете осенней луны, голосов не было слышно, люди вымерли, птицы улетели, река пересохла, жизнь угасла, где-то там, вдалеке, она кипела, где-то там происходило то, чего желали здесь люди, вокруг нас пустыня и тьма; что нужно сделать, чтоб выбраться из пустыни этой бесконечной ночи? О создатель, почему ты не оставил меня незрячим, чтоб я спокойно сидел во мраке безмятежной слепоты? Почему сейчас ты держишь меня, изуродованного, в капканах бессилия? Освободи меня или приверни ненужный фитилек во мне, избавь от бремени как бы то ни было.
К счастью, я не утратил рассудка, хотя моя молитва походила на бред, слабость продолжалась недолго, понемногу занялся рассвет и во мне. Тьма в душе медленно таяла, обозначилась одна мысль, неясная, неуверенная, далекая, она приближалась, светлела, созревала и наконец залила меня целиком, подобно утреннему солнцу. Мысль? Нет! Откровение свыше.
Не беспричинной была моя тревога, причина запала мне в душу, но я пока не понял ее, однако семя дало росток.
Скорее, время, пришел мой час. Единственный, ибо завтра уже будет поздно.
На рассвете с улицы раздался тревожный перестук конских копыт. Миралай сразу же вышел из комнаты, словно вовсе не спал. Вышел и я. В рассеянном утреннем свете он выглядел старым, совсем слепым из-за мешков под глазами, седой, увядший. Какую ночь он провел?
— Прости, я надымил в комнате. Я много курил. И не спал. Ты тоже, я слышал твои шаги.
— Мы могли бы побеседовать, если б ты позвал меня.
— Жаль.
Он говорил словно мертвец, и я не понял: сожалеет ли он о том, что мы не побеседовали, или ему было жалко тратить время на разговоры.
Два солдата водрузили его на коня. Он тронулся по пустынной улице, сгорбившись в седле.
Возвращаясь из мечети, я увидел возле пекарни моллу Юсуфа, он разговаривал с ночным сторожем и подмастерьем булочника. Он поспешил догнать меня, объясняя, что не пришел в мечеть потому, что читал утреннюю молитву с Али-агой и хафизом Мухаммедом, а потом его остановили эти люди и рассказали, что сегодня ночью какие-то посавцы, жители Посавины, бежали из крепости.
Три стражника поспешно прошли по улице, муселим наверняка не спал всю ночь, кадий — тоже. Многие провели бессонную ночь. Мы были отделены друг от друга, но судьба пряла всю ночь свою пряжу, соединившую нас. Она обо всем позаботилась, эта судьба, и теперь внушила мне окончательное решение. Я ожидал его, зная, что оно придет. А когда я увидел его, колени мои задрожали, желудок отяжелел, мозг воспалился, но я уже не выпускал то, что схватил.
Мы стояли у могилы Харуна. Я смотрел на камень, закапанный воском сгоревших свечей, и читал молитву о спасении души брата.
Молла Юсуф тоже поднял руки, шепча молитву.
— Я вижу, ты часто молишься над этой могилой. Ты делаешь это ради людей или ради себя?
— Не ради людей.
— Если ради него и ради себя, значит, ты не совсем испорчен.
— Я отдал бы все, чтоб позабыть.
— Ты сделал большое зло и ему и мне. Мне больше, чем ему, потому что я остался жив, я все помню, у меня болит рана. Ты знаешь об этом?
— Знаю.
Голос его звучал устало, будто исходил откуда-то из глубины желудка.
— Знаешь ли ты о моих бессонных ночах, о той тьме, в которую ты меня толкнул? Ты заставил меня думать о том, как уничтожить тебя и зло в тебе, отдать ли тебя на суд законов ордена или удушить своими руками.
— Ты был бы прав, шейх Ахмед.
— Если б я был уверен, я бы это сделал. Но я не уверен. Я предоставил все богу и тебе. И я знал, что есть более виноватые. Ты был камнем в их руке, ловушкой, в которую попадались глупцы. Я жалел тебя. А может быть, и ты жалел нас.
— Я жалел, шейх Ахмед, бог мне свидетель, я жалел и жалею.
— Почему?
— Он был первый, кто пострадал из-за моего послушания. Первый, насколько я знаю.
— Ты говоришь, что жалеешь. Это не пустые слова?
— Это не пустые слова. Я думал, ты убьешь меня, я ожидал тебя по ночам, я вслушивался в твои шаги, убежденный в том, что ненависть приведет тебя ко мне в комнату. Я не двинул бы рукой, чтоб защититься, клянусь аллахом, я рта не раскрыл бы, чтоб кого-либо позвать.
— Если б я тогда попросил тебя кое-что сделать для меня, что бы ты ответил?
— Я сделал бы все.
— А сейчас?
— И сейчас.
— Тогда я спрашиваю тебя: сделаешь ли ты все, в самом деле все, что я скажу тебе? Подумай, прежде чем отвечать. Если не хочешь, иди спокойно своей дорогой, я не стану упрекать тебя. Но если ты согласишься, не смей ни о чем спрашивать. И никто не должен знать, только ты и я и всевышний, который направил меня.
— Я сделаю.
— Слишком скоро отвечаешь. Ты даже не подумал. Может быть, это нелегко.
— Я давно подумал.
— Может быть, я потребую, чтоб ты кого-нибудь убил.
Он с ужасом поглядел на меня, не готовый в душе, словно согласие слишком быстро вылетело у него, эта могила и воспоминания вынудили его к послушанию. Он сказал: все, так он определил свою меру. Теперь он не хотел отказываться от своих слов.
— Да будет так, если это нужно.
— Ты можешь еще отказаться. Я потребую многого. Позже возврата не будет.
— Все равно. Я согласен. Что может принять твоя совесть, пусть примет и моя.
— Ладно. Тогда поклянись здесь, перед этой могилой, которую ты сам выкопал: пусть аллах осудит меня на самые тяжкие муки, если я кому-нибудь скажу хоть слово.
Он повторял за мной серьезно и торжественно, как молитву.
— Смотри, молла Юсуф, если скажешь сейчас или позже или если не сделаешь, если предашь, тебя ничто больше не спасет. Я буду вынужден защищаться.
— Тебе не придется ни от чего защищаться. Что я должен сделать?
— Иди к кадию, прямо сейчас.
— Я больше не хожу к кадию. Хорошо, я пойду.
— Скажи ему: хаджи Юсуф Синануддин помогал посавцам бежать из крепости.
Голубые глаза юноши раскрылись от ужаса и изумления. Мое требование кого-нибудь убить, вероятно, меньше бы его поразило.
— Ты понял?
— Понял.
— Если он спросит, кто тебе сказал, отвечай, что услышал случайно, от каких-то людей в хане, или тебе кто-то шепнул ночью, или скажи, что не можешь ничего сказать. Придумай. Мое имя не называй. Тебя пусть тоже не называют. Хватит с них имени, которое ты им даришь.
— Он пострадает.
— Я велел тебе ни о чем не спрашивать. Не пострадает. Мы позаботимся о том, чтобы с ним ничего не случилось. Хаджи Синануддин — мой друг.
Юсуф не производил сейчас впечатления разумного человека, лицо его выражало крайнее смятение. Тщетно пытался он найти какой-нибудь смысл в услышанном.
— Ступай.
Он продолжал стоять.
— А потом? После?
— Ничего. Возвращайся в текию. Больше ничего не нужно. Смотри, чтоб кто-нибудь тебя не увидел у кадия.
Он ушел, подобно слепому, не зная, что несет и чему служит.
Я пустил стрелу. Кого-то она сразит.
Желтые ребристые листья падали с деревьев, те самые, что я трогал весной, мечтая, чтоб их соки потекли в меня, чтоб я стал бесчувственным, как растение, чтоб я увядал осенью и расцветал весной. Но произошло иначе, я увял весною и расцветаю осенью.
Началось, брат Харун. Приближается желанный час.
Скажи: пришла Истина!
Я мог смотреть на часы и точно предсказывать: вот молла Юсуф у кадия, вот стражники перед лавкой хаджи Синануддина, вот все готово. Я принял во внимание их привычки, чувство безнаказанности, стремление к мести, поэтому был убежден, что не напрасно бросил приманку. Привычки заставляют повторять поступки, чувство безнаказанности лишает рассудительности, стремление к мести ускоряет решения. Если они ничего не предпримут, мне останется ожидать конца света.
Но странное дело, чаршия спокойна, над ней поднимается обычный шум слов, топот, стук, удары, возгласы, люди работают или разговаривают, придавленные будничностью.
Даже голуби спокойно копошатся на мостовой.
Мне ничего не удалось привести в действие. Что случилось? Где я ошибся?
Слишком ли многого я ожидал от этих людей? Неужели они будут молчать, как тогда, когда арестовали меня? Обманулся ли я, бросив приманку, или в них проснулся разум? Увели ли его из дому и эти люди пока не знают или им безразлично?
Невозможно. Иное дело я, наш орден велит нам плыть по течению, когда с нами случается беда, ибо мы незначительные частицы могучего целого, беспомощные, когда нас покидают. А хаджи Синануддин — одно целое с чаршией, если с ним что-либо произойдет, каждый подумает, что опасность угрожает ему лично. Они — одно целое, в котором каждый важен сам по себе, и опасность над головой одного нависает над всеми, как облако.
Или я поторопился, подгоняемый нетерпением, которое не умеет рассчитывать?
Или они не осмеливаются ударить по нему?
Или молла Юсуф обманул меня?
Или весь свет стал на голову?
Медленно шел я по улице между откинутыми чефенаками, слушая спокойное журчание жизни, хотя едва ли когда-нибудь с большим трудом выносил все это.
Только что я был бодр, уверен в себе, я управлял событиями и мне чудилось, будто я выше их. Вещи и люди выглядели меньше, чем они есть, а я словно парил над ними. Впервые довелось мне испытать чувство превосходства, но оно уже казалось естественным. Я почти не замечал его, пока оно было во мне, все мое существо излучало его, как запах, как силу, как право, которым я даже не гордился, поскольку оно было неотделимо от меня, стало одним из моих качеств. Теперь это казалось странным и далеким; люди и жизнь уже были не подо мной, но возле меня, запертые, закрытые, как стена, как безысходность. Не знаю, существуют ли в жизни победы, поражения всегда налицо.
Не могу точно определить, сколько продолжалось это самосозерцание, возможно, я сразу заметил перемену, как только она возникла, возможно, органы чувств сразу сигнализировали мне, когда появилось что-то странное.
Сначала я услыхал тишину. В окружавшей меня сфере замерли голоса, прекратились удары, постукивание, чеканка, безмолвие покатилось дальше. Это походило на вздох изумления, на перехваченное судорогой горло, но продолжалось одно мгновение, и, каким бы оно ни было странным и жутким, словно кровь перестала пульсировать в каком-то огромном теле, я уже знал, что произошло. И вздохнул с облегчением.
Я не ошибся, Харун! Многих страданий это мне стоило, но я познал людей.
И тут вновь послышались голоса, только иные, чем прежде, иные, чем каждый день, хриплые и угрожающие, похожие на тонкий вздох, на подавленный рык. Я улавливал в них изумление, ужас, злобу, я слышал глухие раскаты грома, словно приближалась буря перед концом света, я слышал то, что мне хотелось.
И снова обрел я чувство легкости и уверенности.
Я пошел следом за людьми, смешавшись с ними, чувствуя их ярость и горький запах их тел (это запах растерянности и злобы, которые пока не нашли своего пути; в бою человеческий запах пьяняще сладок, пахнет кровью), слышал их едва различимые вопросы, словно заклинания, безумное бормотание, журчание глубокой реки, подземный гул, и не важны были слова, когда слышишь это змеиное шипение, эти неясные желудочные звуки, которые превратили людей в нечто неведомое, опасное, во что-то, чего они сами уже не ощущали.
Мы катились по чаршии в одном направлении, подняв голову к неведомому, долгожданному, неслись вперед, касаясь плечами, сжатые, не видя друг друга, выбрасывая слабых, нас становилось все больше, неразличимых, превратившихся в массу, ставших ее силой и страхом. Я едва мог противостоять необъяснимому и могучему желанию стать бездумной, охваченной гневом частицей, я слышал свой собственный рев и испытывал опьянение в преддверии опасности, которая мне тоже угрожала. Я пытался оживить в себе чувство превосходства, чтоб не уступить извечному инстинкту мчаться с племенем, которому грозит опасность.
Лавка хаджи Синануддина была настежь открыта и пуста.
Мы побежали по другой улице, по третьей и в Казазах замерли перед неподвижной толпой. Я с трудом пробился вперед. Посередине улицы в толпе людей, которые раздвигались, уступая дорогу, и снова смыкались, стражники вели хаджи Синануддина.
Плечами прокладывал я себе дорогу и вышел вперед. Больше я не мог быть одним из многих, мой час пробил.
Я вступил на свободное пространство, смятенный, зная, что на меня смотрят сотни горящих глаз, и пошел за стражниками.
— Стойте! — крикнул я.
Толпа перекрыла улицу.
Солдаты остановились, с удивлением глядя на меня. Посмотрел на меня и хаджи Синануддин. Лицо его было спокойно, даже почудилось, будто он усмехнулся мне дружески, или мне только хотелось этого, взволнованному, жаждущему ободрения, а я был на самом деле взволнован из-за этих людей, из-за него, окруженного солдатами, из-за важности того, что я делал, из-за тех, кого я ненавидел, из-за всего того, чего ожидал целую вечность.
В безмолвии, которого я ждал, но которое хлестнуло меня, как кипяток, стражники сняли ружья и направили их на толпу. Пятый из них, незнакомый, невооруженный, злобно спросил:
— Чего тебе надо?
Мы стояли друг против друга, как два борца.
— Куда вы ведете его?
— Какое тебе дело?
— Я — шейх Ахмед Нуруддин, раб божий и друг этого доброго человека, которого вы уводите. Куда вы ведете его? Я спрашиваю от имени тех людей, которые знают его, я спрашиваю от имени дружбы, которая связывает меня с ним, я спрашиваю от его имени, потому что он не может сейчас защищаться. Если его оговорили дурным словом — это ложь. Мы все ручаемся и все свидетельствуем, что это самый порядочный человек в городе. Если вы арестуете его, то кто должен оставаться на свободе?
— Ты взрослый,— хмуро ответил человек,— и мне бы не следовало давать тебе советы. Но лучше тебе не вмешиваться.
— Иди домой, шейх Ахмед,— сказал хаджи Синануддин на удивление спокойно.— Спасибо тебе за дружеские слова. И вы, добрые люди, расходитесь. Произошла какая-то ошибка, она наверняка будет исправлена.
Все так думают: ошибка. А ошибки нет, существует лишь то, чего мы не знаем.
Человеческая гроздь раздвинулась, и стражники увели хаджи Синануддина. Я смотрел им вслед, стоя на месте, меня тоже так вели, и Харуна, только никто не вышел сказать о нас доброе слово. Я сказал его и знал, что я выше их. Меня не волновало, что схвачен хороший человек, потому что, если б дело обстояло иначе, все это не имело бы никакого смысла, ничему не служило бы. Если он и пострадает, это послужит более важной и большей цели, чем жизнь или смерть одного человека. Я сделаю для него все, что в моих силах, а там пусть аллах решает, как знает. К счастью, того, что было бы самым бессмысленным, не произошло: его сразу не выпустили.
Люди пошли вслед за хаджи Синануддином и стражниками, и, пока последние заворачивали за угол, я увидел моллу Юсуфа возле какой-то пустой лавки. Я не окликнул его, он сам приблизился как зачарованный, с испугом в бегающем взгляде. Чего он боится? Мне показалось, его взгляд и его мысль не следуют за хаджи Синануддином, они заняты только мною, застывшие, перепуганные, не решающиеся избежать меня.
— Ты здесь стоял все время?
— Да.
— Почему ты так смотришь на меня? Ты испугался? Что случилось?
— Ничего.
Он с усилием попытался улыбнуться, но это походило на судорогу, на спазм, и опять выражение испуга, которое он тщетно пытался скрыть, появилось у него на лице, уже начавшем блекнуть, терять свою свежесть.
Я пошел по улице, он — следом за мной, моею тенью.
— Чего ты испугался? — повторил я тихо, не оборачиваясь.— Произошло что-нибудь непредвиденное?
Он поспешил нагнать меня, словно опасаясь пропустить хоть одно мое слово. Но не из любви.
— Я сделал все, как ты сказал. Я обещал и сделал.
— И теперь тебе обидно?
— Нет, мне не обидно, мне ничуть не обидно. Я сделал так, как ты велел, ты сам видел.
— Ну и что?
Я повернулся к нему, может быть, слишком быстро, удивленный его дрожащим голосом и прерывистой речью, злясь на себя из-за того, что спрашиваю об этом и что это меня касается, но я хотел знать, не случилось ли что-нибудь, в чем он не смеет признаться, поскольку сейчас любая ошибка могла стать роковой. И когда я внезапно взглянул на него, может быть из-за неожиданности или угрозы, прозвучавшей в моем голосе, он вздрогнул, невольно замер на месте, словно сраженный ударом или парализованный ужасом, а лицо его превратилось в маску испуга. И тут я понял: он боялся меня. В этом убеждали его раскрытые губы, сведенные мышцы не могли привести их в движение и закрыть, скорчившееся тело, не выдержавшее в какой-то момент, до краев наполненное ужасом. Это продолжалось мгновение, совсем недолго, потом сократившиеся сосуды пропустили замершую кровь, губы приобрели свою обычную форму, крохотный голубой шарик в середине зрачка снова ожил.
— Ты меня боишься?
— Не боюсь. Чего мне бояться?
Меня охватывал гнев, и я ничем больше не мог его сдержать.
— Ты посылал людей на смерть, а теперь судороги сводят тебе кишки, ибо ты увидел, что я могу быть опасным. Я не выношу твоего страха, ибо это путь к предательству. Берегись. Ты сам согласился, ходу назад нет. Пока я тебя не прогоню.
Меня прорвало неожиданно, словно вдруг возникла необходимость избавиться от груза, выговориться после долгих часов напряжения. Из меня выплескивался мутный осадок, которому разум и осторожность не позволяли прежде подняться. Может быть, и сейчас было неразумно и неосторожно так поступать, но, бичуя парня давно живущими в моей душе словами, я чувствовал, как неудержимо они рвутся из моих жил, наполняя меня сладостью, о которой я не имел понятия. Когда первая вспышка ослабла и когда я заметил, какое впечатление оставляет на лице юноши одолевшая меня волна ненависти и презрения, меня вдруг осенило, что его страх может оказаться полезным: он привяжет его крепче, чем любовь.
Его ошеломленность доставляла мне удовольствие, теперь он видел перед собой совсем другого человека, не того прежнего шейха Нуруддина. Этот юноша помог умереть тому спокойному и мягкому человеку, верившему в мир, который не существует. Новый, теперешний, родился в муках, и только вид его остался прежним.
Он думает, я мщу. Меня это не касается. Лишь я один мог знать, что этот новый шейх Нуруддин очень похож на того юного дервиша, который с обнаженной саблей в зубах переплывал реку, чтоб атаковать врагов веры, на того безумного дервиша, не похожего на этого, сегодняшнего, тем, что он был лишен хитрости и мудрости, которыми может одарить нас лишь тяжкая жизнь.
Вечного тебе успокоения, прежний неопытный юноша, в котором горел чистый огонь и жила потребность в жертве.
Вечного успокоения и тебе, почтенный и благородный шейх Нуруддин, веривший в силу незлобивости и слова божьего.
Я зажигаю вам свечу в памяти и в сердце, вам, которые были добрыми и наивными.
Теперь тот, кто носит ваше имя, продолжает ваше дело, не отрекаясь ни от чего вашего, кроме наивности.
Время до сих пор было пучиной, медленно колыхавшейся между высокими берегами бытия. Теперь оно стало походить на стремительную реку, безвозвратно уносящую мгновения. Ни одного из них мне нельзя терять, с каждым связана одна-единственная возможность. Я испугался бы, если б так думал раньше, меня свели бы с ума могучий шум и безостановочное движение, а теперь я был вынужден нагонять его, подготовленный в душе, потому что спешил. Но я не был поспешен, я хорошо измерил каждый миг, который мог возникнуть из мрака грядущего, и каждое свое действие, которым я мог его оплодотворить, дабы произошло то, чего я ожидал, дабы все соединилось в цепи причин и следствий.
Я знал, что скажет мне Али-ага, услыхав об этом, и поэтому сперва поспешил к нему. Он уже все знал, молва обогнала меня. И я услыхал то, что надеялся услышать завтра или после полудня, это только звучало сочнее, чем я предполагал. Он приподнялся на постели, желтый, прозрачный, исхудалый, и ругался, угрожал, проклинал, следовало, говорил он, мне так им сказать, вспомнить им их мать и отца, хотя мне и неловко по моему сану и званию, но все равно, я поступил по-человечески, всяческая мне честь, я сказал им то, что должен сказать один честный человек о другом честном человеке.
Я стоял и ждал, пока схлынет эта словесная волна — старик распалялся сильнее, пусть себе бушует,— и думал о том, как все заняты судьбой хаджи, как взбудоражены и оскорблены, а ведь никто даже не опечалился и не разгневался, когда схватили меня, никто не сказал того, что должен сказать один честный человек о другом честном человеке. Кто же бесчестен, я или они? Или, может быть, и не стоит говорить о честности, для каждого благородно то, что его касается? А я не принадлежу к ним, я ничей и должен со всем покончить один. Один, как и тогда, но теперь они станут моей армией и я ничем не буду им обязан. Я не принадлежу к ним, и они не касаются меня. Я пустил по течению их человека, и они сами будут его извлекать, не имея понятия о том, что работают на меня. И на справедливость, ибо я на стороне всевышнего, пусть и они окажутся там невольно.
Я обязан был так поступить (отвечал я Али-аге, преуменьшая свое участие), и мой долг сделать еще больше. Если мы не защитим справедливость, ее вовсе не будет. Я не восстаю против власти, но меня постигнет божья кара, если я не выступлю против врагов веры, а им является каждый, кто подрывает ее основы. Если мы не воспрепятствуем им, наш страх взбодрит их и они принесут еще большее зло, попирая и нас, и божьи законы. Можем ли мы, смеем ли мы допускать до этого?
Немного я знаю о врагах веры, сказал Али-ага, но мы не должны допускать насилий над хорошими людьми. Мы и сами виноваты в том, что позволили всяким ничтожествам и мошенникам угнетать себя. Мы смотрим на них свысока, нам все стало безразлично, и они забрали силу, позабыли о том, кто они. Но пускай, мы бы тоже не проснулись, окажись они поумнее.
— Пошли за кадием,— приказал он мне, позабыв об осмотрительности, как и всякий человек, которому богатство дает право управлять людьми.
Я боялся, что он скажет это, и приготовился заранее, не зная, как поступит кадий. Если он откажет ему, это будет хорошо, он приведет в ярость и его, и чаршию. Но если он согласится, если старику удастся его напугать или подкупить, чтоб он отпустил хаджи Синануддина, все может печально окончиться, не успев начаться. Поэтому я воспротивился его желанию, чтобы не пускать дело на волю случая и не стать достойным осмеяния. Тогда мне ничего не оставалось бы, кроме как безнадежно ожидать другой подходящей возможности.
Спокойно, уверенный в силе своего суждения, я спросил:
— Зачем тебе нужен кадий? Из всего того, что ты можешь ему предложить или чем ты можешь ему пригрозить, для него важнее всего собственная безопасность. Если он отпустит его, то тем самым обвинит себя.
— Чего ты хочешь? Чтоб мы сидели у моря и ждали погоды? Читали молитвы?
— Надо послать письмо в Стамбул, сыну хаджи Синануддина, Мустафе, пусть спасает отца, как умеет.
— Пока письмо придет, будет поздно. Мы должны спасти его раньше.
— Мы сделаем и то и другое. Если не удастся его спасти, то пусть хоть их не минует наказание.
Он растерянно посмотрел на меня, ошеломленный возможностью гибели друга.
— Такой честный человек, как он, не мог сделать ничего худого. Что с ним может случиться?
— Я тоже так думал о брате. Ты сам знаешь, что с ним случилось.
— Э, здесь иное дело, ей-богу!
— Что иное, Али-ага? Хаджи Синануддин не такой мелкий и незначительный, как мой брат, за него есть кому заступиться. Ты это хотел сказать? Может быть, и так, но об этом знают и кадий, и муселим. Почему же тогда они схватили его? Чтоб отпустить, когда вы пригрозите? Не будьте наивны, ради бога.
— Чего ты хочешь? Отомстить?
— Я хочу преградить дорогу злу.
— Ладно,— произнес он задыхаясь,— пусть будет и то и другое. Кто напишет письмо?
— Я уже написал. Поставь и ты свою печать, если хочешь. И надо кого-нибудь найти, чтоб отвез поскорее. Надо заплатить. Мне нечем.
— Я заплачу. Давай письмо.
— Я сам отнесу.
— Никому не веришь? Может быть, ты прав.
Удивительное место — почтовая станция, мне запомнилась она по острому запаху лошадей и конского навоза, по тем странным физиономиям, которые возникают откуда-то и куда-то исчезают, по рассеянным взглядам и пустым глазам путников, чьи мысли мчатся вперед или тянут назад, как груз, какие-то потерянные, будто ссыльные.
Теперь, к моему удивлению, все смотрели на меня с любопытством и подозрением.
— Письмо важное? — спросил почтарь.
— Не знаю.
— Сколько денег дал Али-ага?
Я показал.
— Кажется, важное. Хочешь, пошлю с гонцом?
— Я должен сказать ему, кому вручить.
— Как хочешь.
Он ввел в комнату гонца и вышел.
Тот спешил.
— Безымянное? Мало даешь.
Он нагло смотрел на меня маленькими глазками, лицо его огрубело от ветров, от солнца, от дождя, что-то безжалостное было в физиономии этого человека, что мчится по дальним дорогам, неся сообщения о чужих бедах и удачах, а его самого не волнуют ни слезы, ни радость.
— Не я плачу. Я только выполняю чужую просьбу.
— Мне безразлично. Плати за все сразу. Бакшиш дашь, когда вернусь.
— Половину — сейчас, половину — когда вернешься. А бакшиш получишь у того, к кому едешь.
— Это еще не известно. Если весть добрая, забывают дать от счастья. Если худая, печалятся и опять же забывают.
— Тот, к кому везешь, важный человек.
— Тем хуже. Они думают, будто для нас честь служить им. Плати сразу.
— Ты, кажется, вымогательством занимаешься, друг.
Он держал письмо на ладони, словно взвешивая его.
— Может, и вымогательством. Как ты думаешь, сколько я получу, если отдам его кому-нибудь другому?
— Кому другому?
— Ну, например, муселиму.
Я вздрогнул и почувствовал, как меня облил холодный пот. Никогда нельзя все предвидеть, мы зависим от игры случая больше, чем думаем. Напрасно я все рассчитал и подготовил: жадность почтового гонца могла погубить меня в самом начале. Он мгновенно раскусил мою неопытность, и мне нечем было его припугнуть.
Первой мыслью моей было овладеть письмом любой ценой: у меня уже дрожали руки, готовые схватить гонца за воротник. К счастью, я овладел собой, даже нашел в себе силы улыбнуться и спокойно ответил:
— Поступай как хочешь. Я не знаю, что в письме, и не знаю, выгадаешь ли ты.
— Я подумаю.
— Слушай, друг. Может быть, ты шутишь, но я тебе теперь не верю. Давай письмо.
— Шучу, говоришь? Я не шучу. Я хотел узнать, опасно ли то, что я везу. Теперь знаю, опасно. Сам сказал.
— Что я тебе сказал?
— Все. Ты оцепенел, когда я упомянул муселима. Ты хорошо знаешь, что в письме. Вот оно, держи. Другой гонец пойдет через пять дней. Ему ты заплатишь больше.
Я дал ему то, что он просил, и назвал имя силахдара, с облегчением подумав о том, как глупо он шутил со своей и моей жизнью.
Я вышел усталый, почти без сил, холодея от мысли не выпустить его живым. И вручил ему опасное письмо снова, когда убедился, что он просто лукавит.
Я старался сделать это непринужденно, пытаясь освободиться от внутренних сомнений, но они вновь охватили меня, едва я вышел на улицу. Неужели я дал обвинение против самого себя и себя погубил? Оставил ли я доказательства в неверных руках гонца? До этого я неразумно твердил: все сделаю сам. А как может человек все сделать сам?
Дважды выходил я, чтоб забрать у него письмо, и вновь возвращался, не находя в себе твердой решимости выйти из игры, наконец в третий раз, когда страх заставил меня, я вошел во двор почтовой станции с твердым намерением покончить со всем, уничтожить бумаги, говорившие против меня. Однако гонца уже не было. Он вышел в чаршию, и никто не знал зачем.
Теперь мне оставалось только ждать. Я бродил по окрестным улицам, взволнованный, оробевший, злясь на себя, не зная, что делать: продолжать ли вот так глупо блуждать или спрятаться, я был настолько не уверен в себе, что напоминал перепуганного ребенка.
Не следовало этого делать, упрекал я себя, не зная точно, в чем ошибся. Стоило ли вообще начинать или не надо было отправлять письмо? Не начинать — означало умыть руки, не отправлять письмо — означало ничего не делать, примириться, а этого я не хотел. В чем же моя ошибка? Или я разволновался из-за случайности, которую не предусмотрел в своих расчетах, а такие вещи, видимо, и оказываются решающими в жизни? Или вследствие неизбежной зависимости от многих людей, но я никому не мог верить.
И должно быть, тогда, абсолютно опустошенный, я почувствовал усталость, пришло успокоение, и я целиком решил положиться на судьбу. Ничто больше не зависит от меня, и я ничего не могу изменить. Будет то, чему быть суждено. Жаль, что не по справедливости. Все равно что, но не по справедливости. О гонце я перестал думать, настолько он незначителен, как ему меня уничтожить? Да и не может человек думать обо всех гонцах на свете.
До полудня я продолжал все же разыскивать его, не понимая, зачем мне это нужно; прошло столько времени, он мог уже сделать все, что хотел. Его я не нашел, он отправился в свой далекий путь.
Если он показал письмо, все скоро кончится. И мне некуда бежать.
У меня не было сил ждать. Два часа неизвестности сморили меня. Чтоб избавиться от кошмара, я направился к полицейскому управлению. Стало легче, едва я принял решение. Конец один, независимо от того, найдут ли меня или я отдамся сам в их руки. И в то же время все иначе, ибо я сам иду навстречу решению. Ко мне вернулось мужество, вернулось бодрое настроение, потому что я передвинул центр тяжести, взяв решение на себя. Что-то было жалкое и походило на обман в этом обращении лицом к угрозе, но все заключалось именно в этом. Действуешь, не ждешь. Ты участник, а не жертва. Может быть, в этом заключается суть храбрости? Неужели нужно было потратить столько лет, чтоб открыть столь важную тайну?
Я назвал себя караульному и попросил передать муселиму, чтобы он принял меня. Только пусть не говорит «какой-то дервиш», пусть запомнит имя и звание, это важно.
Если он примет меня, я многое смогу ему сказать. Попросить милости для друга, хаджи Синануддина. Объяснить, почему я просил стражников отпустить его. Предупредить о волнении, что охватило чаршию. Высказать массу вещей, которые ни к чему не обязывают, но говорят о доброй воле.
Я волновался, но знал, что это самое лучшее из всего, что я могу сделать: я не прячусь, не убегаю, пришел сам, чтоб поговорить, с добрыми намерениями и чистой совестью.
Если он получил письмо, меня сразу пропустят, и все быстро выяснится. Но даже если это и случилось, все равно есть надежда. Письмо от имени Али-аги, я только написал его. И пришел, чтоб рассказать.
И пока я ожидал, размышляя о возможных вопросах, мне пришло в голову, что, помимо этого отвратительного ожидания и разговора, полного полуправды и лжи, мне придется совершить многое, что нельзя будет оправдать добрым делом. Может быть, я буду вынужден совершить нечто, чего устыдился бы в иной, пустой жизни, совершить во имя справедливости, которая важнее всех мелких грехов.
Однако еще можно остановиться, если это божья воля.
Господи, жарко шептал я про себя, глядя на серое небо над городом, набрякшее снеговыми тучами, боже, хорошо ли то, что я творю? Если нет, поколеби мою твердость, ослабь мою волю, лиши меня уверенности. Дай мне знамение, оживи листву тополя дуновением ветерка, здесь не было бы никакого чуда в эту осеннюю пору. И я откажусь, каково бы ни было мое желание все исполнить.
Не дрогнули кроны тополей на берегу. Они стояли спокойно, вонзившись тонкими вершинами в облачное небо, молчаливые и холодные. Они напомнили мне о тополях родного края, над рекой, которая шире и прекраснее этой, под небом, которое просторнее и прекраснее этого. Случай был неподходящий, чтоб погружаться в воспоминания, они возникли, как молния, как вздох. И исчезли. А серый день остался, и тяжелые облака над головой, и какой-то мутный осадок в душе.
Появится ли тень Исхака? Это ее час.
Караульный возвратился. Муселим не может меня принять.
— Ты сказал, кто я? Не забыл мое имя?
— Ахмед Нуруддин. Шейх текии. У него нет времени, говорит. Приходи в другой раз.
О письме он не знает.
И вдруг исчезли все тени, я позабыл о тополях, о сером дне, о печали, о воспоминаниях. Я был прав: ничего не нужно ждать, всему следует идти навстречу. Если человек не глупец и не трус, тогда он не беспомощен.
В воротах Али-аги стояла служанка Хасана в шальварах. Шепотом Зейна сообщила мне, что супруга кадия у отца, ей дважды понадобилось ходить за ней. Ага требовал, чтоб она обязательно пришла, зачем — неизвестно.
Я замер на ступеньках. Из распахнутой двери доносился разговор. Я не стал бы подслушивать, если б он не поразил меня и если б не был мне столь необходим. Старик настаивал, чтобы кадий непременно пришел к нему.
— Это важно,— хрипел он.— Он сделал глупость, он или кто другой, но ему тоже достанется. Пусть придет ко мне или пусть отпустит человека. Чтоб я тоже мог успокоиться.
— Я не вмешиваюсь в его дела, они меня не касаются. А сейчас менее всего. Да и тебе лучше в них не влезать.
— Ты думаешь, я хочу в них влезать? Не хочу. И не могу. Я стар, немощен, болен. Как могу я заботиться о других? Но я должен. Этого ждут от меня.
Его ли это голос, плаксивый, малодушный, размягченный от жалости к самому себе? Его ли это слова? Господи всемогущий, неужели я никогда ничего не пойму в людях!
— Ты не должен, ты сам хочешь. Ты привык к тому, чтоб звучало твое слово. Тебе это нравится.
— Не нравится. Я не хочу ничего, у меня нет сил ни для чего. У меня нет сил даже в этом признаться. Помоги мне, пусть освободят хаджи ради меня. Чтоб не толковали, будто я позабыл друга. А я позабыл о нем… Та капелька жизни, что сохранилась во мне,— для тебя. И для Хасана. Как мне им об этом сказать?
— Хорошо, отец, мы еще поговорим, конец света пока не наступил.
— Скорей. Как можно скорей.
— Я приду завтра.
— Приходи пораньше, скажешь, что он говорил. Ночь — лучшее время для разговоров.
Что такое? Первая трещина появилась там, где скала казалась мне самой надежной. Презрение к слабости, которую он таит, и стыд, словно я застал его за позорным деянием, родились у меня в душе.
Я прошел к месту, где оставляют обувь, словно только что появился.
Она подняла руку, чтоб опустить на лицо яшмак, но, узнав меня, не опустила его. Я осведомился о здоровье отца, она ответила кратко и хотела пройти мимо. Мне пришлось задержать ее, я больше не был робким, как прежде.
— Только на два слова, если ты не спешишь.
— Спешу.
— Весной мы начали с тобой разговор, пора завершить его. Брат, правда, умер, но я жив.
— Позволь мне пройти.
— Я дружен с твоим отцом. Очень дружен.
— Какое мне дело до этого?
— Я помогу тебе в том, чего ты хочешь, чтоб он не забыл тебя перед смертью. А ты уговори кадия отпустить хаджи Синануддина. Иначе тебе не на что надеяться. Я предлагаю тебе уговор, тебе же будет польза.
— Ты мне предлагаешь уговор?
— Предлагаю. И не отвергай моих слов.
В сверкающих зрачках ее появилась тень ненависти или презрения. Я оскорбил ее, но к этому я и стремился. Теперь кадий наверняка не освободит хаджи Синануддина, даже если он собирался это сделать.
Мне нелегко далась эта грубость. Ее злость, как бичом, обожгла меня. И как понадобилась бы мне божья помощь, если б эта женщина удостоила меня своей вражды.
Я вошел в спальню Али-аги, думая больше о молнии во взгляде его дочери, чем о ее красоте. Куда стремится ее потаенная мысль, слишком горячая для того, чтоб пребывать в покое? Чем обернется ее презрительное молчание? Она могла стать хорошей женой и отличной матерью, что поделаешь, если не стала?
— Ты отнес письмо?
Я отсутствующе смотрел на старика, придавленный презрением женщины.
— Дочь приходила?
— Каждый день приходит. Беспокоится, что я мало ем. Ты разговаривал с ней?
— Разве она с кем-нибудь разговаривает?
— Иногда разговаривает. Ты не любишь ее?
— Я просил за хаджи Синануддина. Пусть уговорит кадия отпустить его.
— Ну? Что она сказала?
— Ничего.
— Странной она бывает иногда.
— Как ты себя чувствуешь? Выглядишь бодрым.
— Я настолько хорошо себя чувствую, что, господи помилуй, буду просить, чтоб у меня каждый день арестовывали друзей.
Опять его голос звучал энергично и решительно. Разве я не слышал только что другой голос, испуганный и плаксивый?
Что за игру он ведет? С кем? С самим собой для других? Или с другими для себя? И что такое он сам? Сплетение привычек? Нечто воображаемое? Застывшее воспоминание? Что важнее — то, чего ждут от него другие, или его собственное бессилие? Но и то и другое живет в нем. Гордость заставляет его вмешиваться, а его теперешнее состояние противится этому. Предсмертная усталость заставляет его смежать веки, но людям он показывает видимость былой силы, тень ее. Неужели каждый человек кончает тем, что борется с самим собою, некогда существовавшим?
Что перевесит?
— Гонец хотел припугнуть меня, чтоб деньгу выжать,— сказал я, садясь у него в ногах.— Он совсем обнаглел, когда увидел, что на письме нет имени.
— А чего ты не послал его в… Прости. Надо было заплатить. Тогда бы он уступил.
— Я испугался. И это заставило меня подумать о том, правильно ли я сделал, обременив тебя этой заботой и уговорив вмешаться.
— Не понимаю, о чем ты говоришь.— Голос его звучал раздраженно, он казался оскорбленным.— Уговорить можно дурака или неразумного ребенка, а не меня. Ты говорил только о письме. Я отвечал, что мы должны сделать больше. Разве мне разум совсем изменил? А чем ты обременил меня? Подняться я не могу, но говорить, к счастью, в силах. И никто не может избавить меня от тревоги за друга. Это дело моей совести.
— Это становится опасным.
— Для меня больше нет никаких опасностей. Если хочешь знать, все опасно. Смерть притаилась за дверьми, ждет. Когда я что-нибудь делаю, я не думаю о ней, она не волнует меня. Я живу.
Он говорил твердо, и слова его звучали убедительно. Как и только что сказанное им. Но ведь что-то из двух должно больше принадлежать ему, больше отвечать тому, что он на самом деле думает и чего хочет.
Впрочем, безразлично. Я буду утверждать в нем то, что выгодно мне.
— Мне приятно, что ты так говоришь. Я ценю храбрых и благородных людей,— льстиво заметил я.
— Так и надо. Если найдешь их. Только старые люди не храбрые и не благородные. Я тоже нет. Может быть, я только хитрый, но это от долгой жизни. Что мне сделают, вот такому? Арестуют или убьют человека, уже вступившего на свою последнюю тропу? Люди глупы, пожалеют бесполезного старика, прикончат юношу, перед которым лежит жизнь. Поэтому я все возьму на себя, именно все, я воспользуюсь этим преимуществом, оно дается один раз в жизни.
Закашлявшись, он рассмеялся.
— Пакостно, да? Быть героем, когда нет опасности. Пакостно и весело.
Не знаю, весело ли, я не был уверен в том, что его пощадили бы. Но пусть будет, старик, по-твоему. Я буду сожалеть, если ты пострадаешь, но еще больше, если мне не удастся задуманное. Ни ты, ни я больше не важны.
К моему удивлению, до сих пор он ни разу не спросил меня, за что арестован хаджи Синануддин, виновен ли он. Я сам сказал, что слышал, будто хаджи причастен к бегству посавцев и что его арест — начало преследований именитых людей из-за все более участившегося их отказа подчиняться указам султана и вали, а поводом является невыплата взноса на военную помощь. Это должно посеять страх после мятежей в Посавине и Крайне, дабы злое дело никому не послужило примером. И не должно служить. Именно поэтому во избежание большей смуты, чтоб не началось то, чего никто из умных людей не хочет, нужно удалить тех, кто сеет смуту и вызывает недовольство, кто чинит насилия якобы под видом закона и кто своими скверными деяниями может побудить людей к мерзким и кровавым делам. Если беда хаджи Синануддина поможет избавить нас от них, то ни она, ни все наши тревоги не окажутся напрасными.
Он отмахнулся от возможного греха хаджи Синануддина, потому что или он не казался ему тяжким, или не верил в него, а что касается преследований, то заметил, что их всегда увеличивает страх, но в то же время в них есть резон, значит, все идет не к лучшему, а к худшему, или нам так только кажется, ибо всегда тяжелее то, что есть, чем то, что было, и всегда легче выплаченный долг, чем тот, что висит на шее.
Он не верит в слухи, потому что, захоти они в самом деле так поступить, не стали б трезвонить. А коль скоро они трезвонят, значит, ничего не сделают, а просто пугают народ. Что касается власти, она всегда тяжела, всегда принуждает нас к тому, что нам неприятно. Что вышло бы, если б эти, нынешние, исчезли? На его веку сменилось, изгнано или убито, столько кадиев, муселимов, каймекамов, что само число их неведомо. А что изменилось? Не многое. Люди продолжают верить, что будет иначе, и хотят перемен. Они мечтают о хорошей власти, а с чем ее едят? Что касается его, Али-аги, то он мечтает о взяточниках, их он больше всего любит, потому что есть дорога к ним. Хуже всего честные, которым ничего не нужно, которые лишены человеческих слабостей и знают лишь какой-то высший закон, обычному человеку труднодоступный. Они могут причинить больше всего зла, поскольку рождают такую ненависть, что на сто лет хватит. А эти, наши? Да они никакие. Мелкие они во всем. Не умеют быть ни злыми, ни добрыми. В меру и жестоки, и осторожны. Ненавидят люд, но боятся его. Потому они злые и мстят, когда могут. Или когда думают, будто могут. Они были бы ужасны, если б смели делать, что хотят, но они всегда боятся ошибок. А могут ошибиться и если уступят, и если перегнут. Сильнее всего на них действует угроза, если ее тихо высказать и не раскрыть до конца, ибо у них нет опоры и они лишены своей собственной ценности, всегда зависят от случая и от кого-то повыше и всегда могут оказаться пешкой в чьих-то расчетах. Словом, ничтожества и поэтому иногда очень опасны. Все, чего он хочет,— это помочь хаджи Синануддину, и безразлично ему, уцелеют ли эти или их унесет дьявол.
Его точка зрения несколько отличалась от моей, но бессмысленно было возражать, пока он мне не мешал.
Он попросил, чтоб молла Юсуф переночевал у него. Никого из слуг нет в доме.
Юноша опустил глаза, чтоб скрыть радость, когда я велел ему остаться.
Смутные сумерки, облака тяжкие и неподвижные, тишина над городом.
Весь день люди чего-то ждали, напрягая слух, широко раскрыв глаза, пренебрегая обычными разговорами и делами, слишком спокойно было после вчерашнего волнения, слишком глухо, словно вражеское войско отступило в свой лагерь и ожидает ночи или утра, чтоб начать бой. Именно эта тишина, это отсутствие движения, это опустевшее поле битвы без кликов, без брани, без угроз рождали напряженность, усиливавшуюся с каждой минутой; когда она лопнет, наступит конец. Люди смотрели друг на друга, смотрели на прохожих, смотрели на улицу, ждали. Все могло оказаться сигналом. Я тоже смотрел на улицу. Пока не начиналось. Но я жду, мы ждем, что-то произойдет, скоро, трещит основание старого городка, чуть слышно воет ветер в вышине, скрежещет мир.
С криком несутся птицы по черному небу, люди молчат, у меня стынет кровь от ожидания.
Истина со мной. Истину я говорю.
Долго не мог я уснуть той ночью. Наконец заснул и просыпался почти каждую минуту, чтоб не потерять одну мысль и во сне и наяву, не успевая додумать ее, убежденный, что не сомкну глаз и всю ночь проведу так, полуодетый, чтобы события не застали врасплох.
Я не мог рассуждать последовательно, может быть, из-за сна, что обрывал нить и нарушал порядок, или из-за нетерпения, заставлявшего поскорее добраться до сути, я непрерывно снова переживал встречи с этой троицей, больше всего с кадием, медленно, без спешки, следя за каждым их жестом, полным изумления, страха, надежды, продлевая этот миг, елико возможно,— этот дивный миг, когда все рушится: корень вырван, но никто этого еще не осознал, живут по старой привычке, в них нет растерянности, они еще не унижены. Их страх — вот что прекрасно. Протест против собственного падения. Страх, неизвестность, проблеск надежды, беспокойство во взгляде. Или еще лучше (я вводил их опять в игру, заставлял начать сначала): для них все кончено, а они этого не знают, не верят, стоят пока прямо, дерзко, уверенно, как прежде, как всегда до сих пор. Мне не хотелось видеть их уничтоженными, моя ненависть угасала, когда мысль невольно, не повинуясь мне, уходила дальше, чем я хотел. Ненависти, как и любви, нужны живые люди.
Меня разбудила частая стрельба где-то в городе. Началось?
Стояла еще хмурая ночь. Я зажег свечу и взглянул на стенные часы. Скоро рассвет.
Одевшись, я вышел в коридор. Хафиз Мухаммед стоял в дверях своей комнаты, накинув кафтан на меху. Неужели он никогда не спит?
— Я услышал, как ты одеваешься. Куда спозаранку?
— Почему стреляют?
— Не впервой. Что тебе за дело?
— Не из-за хаджи Синануддина ли?
— Почему станут стрелять из-за хаджи Синануддина?
— Не знаю.
— Не ходи. Узнаем, когда рассветет.
— Я тотчас вернусь.
— Темно, опасно, разные люди бродят. Боже милостивый, неужели тебя так огорчила его беда? Неужели из-за своей доброты ты должен пострадать?
— Я должен посмотреть.
— Чего ты ждешь?
Я пробирался вдоль заборов, вдоль стен, нырнул во тьму, когда мимо пробежали какие-то солдаты, после тюрьмы меня преследовал непонятный страх перед быстрыми чужими шагами и суетливой беготней, я боялся всего, что происходит внезапно. Сейчас мне хотелось знать, что происходит. Мне хотелось успеть, увидеть, вмешаться.
Вмешаться во что?
В самом деле, чего я жду, на что надеюсь?
Все мои надежды заключались в письме, которое гонец увез силахдару Мустафе в Стамбул. И если оттуда вскоре не придет катул-фирман или хотя бы письмо о смещении виновных, значит, нет больше в мире сыновней любви и порядочности. А об этом страшно и подумать, поскольку жизнь не стоила бы тогда медного гроша.
Но даже если этого нет, я верю в дерзость всемогущих людей. Это обмануть не может. Неужели султанский силахдар может допустить, чтобы провинциальный чиновник таскал его отца по тюрьмам? Он будет бороться с этим своим позором, даже если более сильные стоят перед ним, а от этих вообще полетят перья во все стороны; нрав у него наверняка не ангельский, рука нелегка, если он сел на такое место.
Он все сделает вместо меня. Мне оставалось только ждать, и это самое лучшее и самое надежное. Но как изолировать чаршию? Как только я избрал хаджи Синануддина в качестве приманки, я тут же привлек обитателей чаршии. Они могли все испортить, но как по-другому я мог поступить? Если бы хаджи Синануддина освободили слишком скоро, без шума, не причинив ему вреда, все оказалось бы напрасным. А я ожидал все-таки, что он предпримет что-то посерьезнее и потяжелее. Не знаю что. Может быть, его посланец уже пришел к вали с обвинительным иском. Может быть, он наймет головорезов, бывших солдат, чтоб они похитили узника. Может быть, он натравит янычар, чтоб лишить их всех власти. Мало кто знает об их делах, но я надеялся, что такие вещи не пройдут тихо. Надо, чтоб услышали как можно дальше. Но не хотелось бы, чтоб это произошло помимо меня. Я должен получить по своему счету.
Возле каменного моста навстречу попался ночной сторож.
— Куда спозаранку, шейх-эфенди?
— Часы обманули.
— Боже мой, вот она жизнь. Кто может, тому не спится, а кого все время в сон клонит, тому суждено ночь на ногах провести.
— Есть что-нибудь новое?
— Как не быть! Всегда что-нибудь новое происходит. Только мне никто ничего не рассказывает, вот я и не знаю.
— Где-то стреляли недавно.
— К счастью, не в моем квартале.
— Ты мог бы разузнать?
— Меня не касается.
— Я заплачу́.
— Ты не заплатил за то, что было для тебя важнее. Или тебе это важнее? Погоди, чего злишься? Скажу тебе бесплатно. Спрашивал я соседа, тоже ночного сторожа. Да и он не знает. А раз он не знает, это все равно что ничего и не было. Не у кого больше спрашивать.
Огни загорались в окнах, дома открывали глаза.
Когда совсем рассвело, молла Юсуф принес мне две новости: одну — что Хасан вернулся рано утром, всю ночь ехал, и вторую, странную,— о том, что чаршия закрыта.
В самом деле, лавки и магазины были заперты на засовы, ставни опущены, навешены висячие замки, по самым торжественным праздникам не бывало так пусто.
Молодой портной, приезжий, торопливо сворачивал работу, испуганно озираясь.
— Почему чаршия закрыта?
— Не знаю. Я рано пришел, работал, огляделся — вокруг ни одной живой души.
Он дернул дверь, положил в карман ключ, стараясь запрятать его поглубже, и поспешил уйти.
Подошли два купца, они шагали медленно, словно стража, и спокойно смотрели вслед портному.
— Вы не сказали ему, что чаршию закроют? — спросил я.
— А кто кому говорил?
— Разве вы не договорились?
Они удивленно посмотрели на меня.
— Для чего нам договариваться?
— Почему тогда лавки закрыли?
— Я подумал, давай-ка я сегодня не буду открывать. Должно быть, и другие также.
— Но почему?
— Почему? А откуда мы знаем почему?
— Неужто вы в самом деле не договаривались?
— Эфенди, как же может вся чаршия договориться?
— Ну вот, а все заперто.
— Потому и заперто.
— Почему?
— Потому что не было договора.
— Ладно, а не из-за вчерашнего ли?
— Ну и из-за вчерашнего.
— Или из-за утренней стрельбы?
— Ну и из-за стрельбы.
— Или из-за чего-то другого?
— Ну и из-за чего-то другого.
— Что происходит в городе?
— Мы не знаем. Потому и запираем.
Оба смотрели мимо меня, серьезные, отсутствующие, озабоченные, неуловимые.
— И что теперь будет?
— С божьей помощью, ничего.
— А если будет?
— Ну вот видишь, мы заперли.
Может быть, этим торговцам наши дервишские суждения кажутся столь же непонятными, как и нам их?
А я не могу сказать, что они неискренни или слишком осторожны. Но лишь предчувствуют опасность: тут у каждого свой нюх.
Я рассказал Хасану об этом разговоре. Странное впечатление произвели на меня эти два человека, которые буквально за ночь превратились в чужеземцев из-за того, что я начал. Разве не должны они были стать мне ближе? Я высказал это Хасану несколько иначе: неужели мы не должны думать почти одинаково, раз нас взволновало одно?
Он переодевался у себя в комнате. Принял ванну, уже второй раз, говорит, устал, спешил к отцу, друг его, дубровчанин, не выдержал, наверняка будет отсыпаться два дня и две ночи. Сам Хасан не выглядел усталым, но был, скорее, рассеян. Отсутствующее выражение лица делало его мечтательным, далеким от всего. Будто лунатик с улыбкой счастья на губах, с поглупевшим лицом, он светился изнутри и совершенно не воспринимал окружающий мир. Да, конечно, отвечал он, но казалось, будто не понимает меня, как я не понимал тех купцов.
— Ты пока не вернулся к нам,— сказал я, отчасти смущенный, отчасти обрадованный его рассеянностью.
— Что? Ах, это! Ну нет, вернулся и уже все знаю: отец тяжело болен, хаджи Синануддин арестован, миралай Осман-бег отправился резать посавцев, что-нибудь еще есть?
Он радостно улыбался, словно это были самые веселые новости, какие ему когда-либо доводилось слышать.
— Как это Али-ага тяжело болен? Вчера вечером он хорошо себя чувствовал.
— Его взволновал арест хаджи Синануддина.
— Нас всех взволновал. Боимся мы за него.
— Почему? Отпустят его. Нашлись люди, что любят деньги. Представь себе, попадаются и такие!
В это утро все дела для него перестали существовать. Он лишь смеялся.
— Всю жизнь хаджи заботился об арестантах, пока сам не стал арестантом. Странное дело — превратиться в предмет своей любви.
— Мы очень жалеем его,— сказал я.
Это был упрек. Мне хотелось отвлечь его от странных мыслей. Но он не позволил сбить себя с толку.
— Мне его тоже жаль. И я думаю о том, как всю свою жизнь он подавал милостыню другим, а сейчас другие подают ему. Может, так и надо.
Я знал — он не любит нежностей, но это прозвучало слишком круто. А может быть, я много требую от него, ведь он сегодня может думать только о своем счастье.
— Как тебе было в Дубровнике?
— Хорошо. Там еще лето. Странно, что не весна {6}.
Во дворе открылись ворота, и Хасан подошел к окну.
Фазлия, пришедший с улицы, дал ему знак спуститься.
— Ты можешь посидеть с отцом?
— У меня мало времени.
— Останься хоть ненадолго. Я скоро вернусь.
Али-ага выглядел так же, как вчера вечером, и был даже, пожалуй, оживленнее.
— Куда ушел Хасан?
— Не знаю. Сказал, скоро вернется.
Старик интересовался, что происходит в городе, удивлялся, почему закрыта чаршия, просил уговорить Хасана остаться дома ради него, мало ли что может приключиться с больным.
— Почему ты сказал Хасану, что тебе хуже?
— Это правда. Мне хуже.
— С каких пор? Вчера вечером ты напоминал птицу. Именно об этом я и хотел рассказать Хасану, да не успел.
— Неужели вам не о чем говорить? Мне было лучше, теперь стало хуже, и я хотел бы, чтоб он был возле меня, что в этом странного?
— Ничего. На самом деле ты хочешь удержать Хасана у своей постели, пока все не окончится. Разве не так?
— Для него лучше. Ты знаешь, какой он скорый. Выкинет что-нибудь, чего никак не ожидаешь. Погляди, не вернулся ли он?
И тут мне все стало ясно: и его странное поведение, и причитания перед дочерью, и просьба к кадию отпустить узника, и утренняя болезнь — все это ради Хасана, чтоб уберечь его от опасности, помешать ему выкинуть какую-нибудь глупость. Он привязывает сына своей болезнью, потому и играет в эту странную игру, смысл которой я не сразу постиг. Он хотел как можно скорее спасти хаджи Синануддина, чтоб это не пришлось делать Хасану. Любовь одарила его страхом, предприимчивостью, фантазией.
Я поспешил успокоить его.
— О Хасане не беспокойся. Он не сделает ничего неразумного.
— Почему?
— Он думает только о дубровчанке. Жаворонки поют у него в сердце. Мне кажется, будто я слышу их щебетание.
— Ты думаешь, я не слышу? Этого я и боюсь, друг.
— Чего ты боишься?
— Этого щебетания. Из-за него он и делает глупости. В таком состоянии каждый добр и других жалеет.
— Жалеет, но ничего не предпринимает. Любовь эгоистична.
— Эх, дервиш, что ты знаешь о любви! Я себя подставил ради него. Разве это эгоистично?
Я хотел спросить старика — и спрошу при случае,— что бы он сделал ради сына, и от чего бы отказался ради него, и во что превратилась бы его любовь, если б сын пострадал. Она обернулась бы самой лютой ненавистью, которую мне доводилось видеть.
Для него в жизни существовала только любовь к сыну, и ничего больше. Даже перед смертью, в ожидании кончины, она хранит его, поддерживая в нем жизнь. Может быть, это непростое и глубокое лукавство старости, страх смерти, превратившийся в любовь, дабы последние цветы расцвели в состарившемся сердце. Сердце сына — букет, и не надо его удобрять, чтоб он расцвел; любовь отца для него — одно из многих чувств, может быть, он воспримет ее как помеху, она обременяет его. Для старика это единственный якорь.
Я говорю «может быть», ибо я не знаю.
Городок спокоен. Словно бы замирая, он дышит медленнее, живет тише.
Я сидел во дворе мечети на камне возле чесмы, в то время как по чаршии и по улицам ходили люди в одиночку или группами, ходили как во сне, погруженные в думы, словно еще не пробудившиеся, отчего-то несчастные, обманутые, опустошенные, ходили для того, чтобы прошло время или чтобы пришло время, опутывая меня паутиной своих причудливых путей и частой сетью следов.
— Что происходит? — спросил я.
Они не слышали меня.
Неужели их так взволновал арест хаджи Синануддина? Какими странными узами связаны они между собой, в каком кругу заперты, неизвестном мне и недоступном? Что произошло с ними? Они не разгневаны, но и не угнетены, производят впечатление людей, вырванных из обычной обстановки. Словно смотрят на городок и на мир с каким-то мертвым любопытством, дремотным, но упорным, и ждут. Они утратили все свои черты, свои собственные, и приобрели общие, неуловимые.
Что-то следовало предпринять, ибо мне казалось, препятствия увеличивались, они были невидимые, тянулось пустое время, оно отделяло меня от меня самого и от них, я так и не знал, где мое место.
Мне казалось, я забрел в неведомые края, к незнакомым людям.
Я отводил от них взгляд и смотрел на тонкую струйку воды, что разбивалась о камень на бесчисленное множество лишенных цвета капелек, ибо не было солнца: я надеялся, что меня успокоит то, что живет для себя и вовеки. Но тоска росла.
И тут я увидел, что они остановились, прислушиваясь к чему-то, чего я не слышал, потом двинулись все в одном направлении.
— Куда? — спросил я одного из них.
— Туда.
— Зачем?
— Все идут.
От Куршумли-мечети неслись вопли.
Люди ожили и зашагали быстрее.
Улицы были забиты, я ничего не мог разглядеть, услышать, я пытался протиснуться и внезапно погрузился в колышущуюся толпу, как в водоворот. Она сжимала меня, волокла вперед и назад, от одной стены к другой, не оставляя ни на секунду, крепко держа в своих объятиях, жарких, беспокойных, тесных, неприятных, было скверно, было смешно, точно сам дьявол позаботился о том, чтоб запутать меня в сетях человеческих ног и рук и таким образом отделить от всего происходящего. Сжатый в толпе людей, я мог толкаться, подобно им, мог кричать, угрожать, но не мог решать. И вот так безвыходно спутанный, я стал одним из многих, стал бессмысленной и страшной силой.
И тут со мной произошла странная вещь: я позабыл о трудности моего положения, о том, что оно непереносимо, внезапно ожившие воспоминания слили меня с ними, уравняли нас. Я не был больше в ловушке. Меня не раздражали толчки, мне не был больше неприятен запах пота, я позабыл о том, что надо куда-то пробиваться, что-то решать. Здесь было мое настоящее место, я одно целое с ними, возбужденный толпой, возбужденный криками, возбужденный общей силой, я опирался на плечи людей рядом с собою, поднимал руки, угрожал кому-то, кого не было здесь, я освободился от страха, убежденный, что пришло время, когда оплачиваются все счета, даже самые старые, сохранившиеся в крови, и кричал громко, как все вокруг. Что я кричал? Не знаю. Может быть, слово «смерть»? Так я думал. Или я просто присоединял свой неслышный голос к другим, он становился воплем, угрозой, чтоб она стала сильнее, ибо я принадлежал им. Нет! Я принадлежал себе, стоголосый, сторукий, стоглавый, тысячи страданий заключались во мне, всеобщих, но моих. Я выл: а-а-а! Думая про себя: месть! Думая: кровь! Думая: конец! Чему конец? Ох, всему, что никуда не годится, что создано не для людей. Я был уверен в этом, даже не задумываясь. Ослепительное небо раскрывалось надо мной.
А потом я снова обосабливался, отрывался от своего корня, опять меня раздражали острые локти, запах пота, и я злился, что люди воют и что я не могу выбраться.
— Пустите меня! — вопил я, ненавидя их, стиснутый и обессиленный, абсолютно чужой им.
Тогда я стал различать, что́ они вопят, на что жалуются, кому угрожают. Никто из них не упоминал хаджи Синануддина, никто не вспоминал о нем даже невзначай. Они помнили только о том, что касалось их, о том, что мешало им. А мешало им многое: нехватка, дороговизна, страх, большие и малые обиды, пустые обещания, голодные годы, обманутые желания, слишком рано наступающие ночи, ранняя старость, маленькая любовь, огромная ненависть, неуверенность, унижения — все то горе, что зовется жизнью.
Копилось и накопилось много этих лоскутьев, сейчас они вопили о своем недовольстве, словно на ярмарке, ожесточенно демонстрируя свое богатство; они приносили его в дар — бери кто хочет, предлагали в обмен — за ненависть, за кровь.
А в паузах между двумя воплями, словно в бою между двумя выстрелами, они, задыхаясь, скупо говорили о том, как вчера вечером убили часового на башне, без ружья и без ножа, и он остался стоять на ногах, мертвый; как в Каранфил-квартале родился ребенок с одним глазом во лбу. Они хотели, чтоб какое-нибудь знамение судьбы озарило эту их ярость.
Я изнемогал. Становилось все жарче, все теснее, все безумнее, толпа увлекала меня, вертела, как щепку, как пылинку, меня затягивал водоворот, я упирался локтями в чьи-то ребра, кричал, другие тоже кричали, я кого-то топтал, волна ревела, мои ноги скользили, меня сейчас растопчут, я цеплялся за чью-то шею, словно утопающий, потом поток хлынул в другую сторону, мы захлебнемся, загудело на другой улице, плотина подалась, теперь дышалось легче, я спешил за кем-то, пытаясь остановить, успокоить, ужас охватил меня, они не знали больше, куда они несутся, чего хотят, они — обрушившаяся лавина, они — обезумевший поток.
Возле полиции раздались выстрелы.
— Что такое?
— Стражники стреляют.
Никто не останавливался.
Когда я, задыхаясь, подбежал, на мостовой лежал паренек в окровавленной бязевой рубашке. Его окружали какие-то люди, и кто-то из них, чьего лица я не видел, опустился на колени подле убитого, пытаясь приподнять его голову.
Толпа ворвалась в здание, из окон долетал шум разгрома.
Муселима и стражников нигде не было, они сбежали.
Я подошел к человеку, что склонился над окровавленным юношей. Оба они были в крестьянской одежде, и мне было жаль, что это так, а не иначе.
— Умер?
Он держал его голову, как малому ребенку, левой рукой, с ужасом глядя в белое как мел лицо, ожидая, что вернутся краски, что дрогнут губы, что все будет как прежде.
Оба были молоды.
— Брат тебе?
— Приехали мы на рынок…— Испуганные глаза его искали у нас сочувствия, он весь был во власти прошлого, не осмеливаясь заглянуть в настоящее.— Соли купить.
— Опусти его на землю.
— И гвоздей. Дом мы строим.
— Опусти его, мертвый он.
— Я ему говорю, зря приехали, заперто. А он говорит…
Неуклюжими, грубыми крестьянскими пальцами он нежно коснулся лица умершего и тихо позвал его:
— Шевкия! Шевкия!
Отец рассердится, что вы задержались, отец отругает тебя, что не хочешь идти с ним домой, вставай, Шевкия, проснись.
Шевкия, где ты?
Где ты, Харун?
Где вы, братья, потерянные и погубленные?
Зачем нас разделяют, когда мы и так разделены? Для того ли, чтоб осознать это? Или для того, чтоб возненавидеть, раз мы не умели любить?
— Убили твоего брата. Хочешь, похороним его здесь?
Он согревал ему щеку горячей ладонью.
— Унеси его. Пусть хоть проводы у него красивые будут.
Он нес мертвеца. Как ребенка, как сложенное пополам сукно, как сноп пшеницы, широко ступая по мостовой, походкой земледельца, в безумной надежде не сводя глаз с лица брата.
Я шел впереди погибшего юноши и громко читал молитвы.
Я слышал, как кричали люди, много их было, ярость их еще не схлынула.
На перекрестке возле здания суда я отошел в сторону, чтоб все видели, как несут мертвого.
Люди окружили его полукругом и молча смотрели.
Я прочитал молитву и направился к мечети.
За мной, за нами слышался рев, звон стекла, частая дробь ударов.
Я не оборачивался.
У мечети мне попался хафиз Мухаммед, я попросил его позаботиться о мертвом и его живом брате, а сам пошел вдоль улицы.
— Ты куда?
Я махнул рукой. Я и сам не знал, куда я.
— Хасан тебя искал.
Это имя озаряло. Время, проведенное без него, как будто утомило меня. Сию минуту, сейчас, тут же он необходим мне больше, чем когда бы то ни было. Но я еще подожду.
Я шел в гору, чтоб ощутить подъем, чтоб полной мерой ощутить усталость. Я хотел отключиться, с самого утра я в напряжении, оно со мною каждый миг.
Пусть время длится без меня, делает само все, что хочет.
Мне надо было уйти из чаршии именно сейчас, отодвинуться подальше от огня, чтоб не быть ни обвиняемым, ни свидетелем.
Я пытался изолировать себя.
Осень поздняя, сливовые деревья стоят голые, и угрюмые вершины каменных гор в дымке. В провалах между домами тихо посвистывает ветер.
Скоро выпадет снег, говорю я себе.
И не волнует это меня.
Я пытаюсь прохаживаться, как досужий гуляка.
Давно не бывал я здесь.
И безразлично мне.
Вижу, дети играют в чижика. Странно, говорю я, дети играют в чижика.
И смотри-ка, это задело меня.
Дети играют, а внизу, в чаршии, бушуют их отцы.
Городок лежит в долине, тихий и спокойный. Люди идут по улицам, маленькие, неторопливые, простодушные. Отсюда, издали, с высоты, они напоминают своих ребятишек. А они ведь не дети. Никогда мне не доводилось видеть столько обезумевших лиц, столько суровых взглядов, я не узнавал людей с налитыми кровью белками и оскаленными зубами, словно чудища в карнавальном шествии на рождество. Какой жуткий праздник для них!
Я не желаю думать ни о ком, я не думаю ни о чем, время течет, время все завершит без меня. Я не в силах ни остановить, ни ускорить его.
Время каплет, подобно этому дождю, капля за каплей.
Я укрылся под навесом ветхой мечети, прижался к стене.
И дети разбежались.
Старый ходжа с белой бородой, скрючившийся над палкой в дрожащей руке, нереальный в этой тишине, медленно шел к мечети, один, без единого прихожанина. Они все внизу, в городе, но его это не касалось. Его старость видит более важные вещи. Перед мечетью он призвал правоверных: напрасный, чуть слышный призыв к кому-то, кого нет.
Полдень.
Я на ногах с раннего утра. Устал, точно это измеренное время придавило меня.
Прислонившись спиной к стене мечети, я смотрел на все более густые струйки дождя, отделявшие меня от мира, слушал слабое журчание молитвы. Голос ходжи звучал потусторонне, безнадежно печальный, абсолютно одинокий, и плохо, что я слышу его, ибо он говорит и о моем одиночестве. Я не могу помочь ему, как и он мне, я отделен от него стеной.
Один. Один. Один.
Один, словно под грузом вины.
Но почему я виноват? Разве я мог что-нибудь сделать? Сегодня утром их никто не мог остановить. Пришло их время, предназначенное для зла, как фаза луны, сильнее моей, сильнее их собственной воли. Отговаривай или отвращай я их, вышло бы одинаково.
Что происходит внизу? Или уже произошло? Не знаю, меня это не касалось. Буря взросла, ибо был посеян ветер.
Разве что-то должно случиться? Наверняка все уже стихло, они разошлись по домам, устыдившиеся и неудовлетворенные, теперь они одарят своих жен остатками своей злобы и ярости, и я без всякой надобности пытаюсь отделиться от них, напрасно связывая свое рассеянное внимание с осенью, обнаженными ветками слив, каменными вершинами гор, скорым снегом, напрасно, ибо мысли мои внизу, в городке. Может быть, ничего не случилось и то, что я сделал, осталось без последствий.
Но даже если я и грустил, может быть даже чувствовал стыд, оттого что показал мертвого юношу разъяренным людям, трудно было примириться с возможностью, что ничего не случилось. Я хотел, чтобы случилось, и соглашался перед богом принять на себя свою долю вины.
Эти сомнения были мучительны, но они доставляли мне своеобразное удовольствие: сознание мое живо, даже когда речь идет о них.
Дервиш жесток, как ястреб, и чувствителен, как старая дева. Так однажды сказал Хасан, насмешничая по обыкновению. Может быть, он был прав, потому что мучительное чувство не покидало меня.
И вот, пока над моей головой сменялись темные и светлые тени, пока я защищался от вины, которой не хотел дать название, по улице галопом промчались пять всадников в длинных свитках, с ружьями в чехлах.
Я узнал муселима и его приспешников.
Он меня тоже узнал и придержал коня, глядя со злорадным изумлением.
В первый миг меня напугала неожиданность встречи в этом уединенном месте. Никто не поможет мне здесь, никто даже не увидит, если что случится. А сегодня день злых дел.
Наверняка он тоже немало удивился, увидев меня здесь, такое невозможно даже во сне представить. О чем подумал он, о том ли, что я его злая судьба или загнанная добыча? Я представлял собой удобную цель, распятую на белой поверхности стены.
Но страх быстро покинул меня. Я смотрел ему прямо в глаза, готовый к сопротивлению, я все знал, обо всем вспомнил, словно все произошло только что. Пожалуй, не то что вспомнил, это жило во мне, порожденное инстинктом, это извечное презрение. Я не сводил глаз и с четырех его спутников, это они налетели на меня в тесном переулке, тогда, когда все началось. Не знаю, что бы я сделал, если б они сейчас двинулись на меня, как в тот раз, но меня не испугали их взгляды, точно ружья, направленные мне в сердце. Исцеляющая ненависть, как вино, придала мне сил.
Решись, муселим, и начнется для тебя курбан. Откуда ему было знать, как горько он пожалеет об упущенной возможности!
— Мы еще встретимся, дервиш.
Дай боже, подумал я, но не промолвил ни слова. Ничего другого, кроме грубых слов, я бы не смог сказать и тогда не увидел бы больше ни его, ни кого-либо другого.
Они повернули лошадей и промчались мимо.
Они убегали из города!
Будь у меня время, я вышел бы на дорогу и посмотрел бы им вслед, проклиная и наслаждаясь той минутой, которая снова соединит нас. Но я не мог терять ни секунды, кончилось мое ожидание. Муселим убегает. Значит, свершилось. Не напрасно бросил я семя.
Я не испытывал стыда, исчезли неловкость, раскаяние. Мне нечего стыдиться и не в чем раскаиваться, я могу гордиться, могу радоваться тому, что я не на стороне зла. Бог рассудил, народ исполнил: ненависть принадлежит не мне одному. Я не одинок, я не колеблюсь, я бодр, как всякий добрый верующий, знающий, что на его стороне всевышний.
Я поспешил в город, навстречу попадались редкие прохожие, они были растерянные, словно случайно уцелели после дикой свалки, воспламенившей эти улицы.
В чаршии не было ни души. У здания суда тоже. Двери были сорваны, окна разбиты, на полу валялись бумаги.
Али-хаджа на корточках собирал протоколы, записи, решения, бесчисленные бумаги, груды свидетельств греховности и жестокости. Люди записывают все, что делают. Неужели они не считают себя жестокими?
Я тоже нагнулся. Здесь записано преступление, которое более всего касается меня.
— Что ты ищешь?
— Хочу посмотреть, что они написали о моем брате.
— Зачем? Чтоб иметь оправдание своей ненависти? Я все это сожгу. Ведь вы, волки, станете копаться в этом дерьме, чтоб найти причину для новых преступлений.
— Хочешь оскорбить? Это нетрудно. Для этого нужна только наглость.
— Я не оскорбляю. Я издеваюсь. Потому что я страдаю.
— Из-за чего?
— Смилуйся, уйди. От людей я страдаю. Оставь меня в покое.
Я оставил его в покое, это было самое разумное. Защищенный безумием, он сильнее нас всех.
Я вошел в здание. Нигде не было ни души, как и тогда, когда я приходил ради брата. Та же давящая тишина, от которой начинает звенеть в ушах. Та же тревога от невидимых человеческих теней, прячущихся по закуткам. Только затхлость исчезла, в разбитые стекла и разваленные двери свободно влетал ветер.
Из комнаты кадия доносились приглушенные голоса, там кто-то был.
Я вступил в опустевшую комнату и замер в пустой раме дверей: мертвый кадий лежал на полу.
Мне никто не сказал этого, но я знал, что он мертв. Знал, прежде чем пришел сюда. Знал, ожидая под навесом старой мечети. Из-за этого я и ушел в другой конец города, чтоб это произошло без меня.
Посреди комнаты стояли какие-то люди. В глазах их была скорбь; не принадлежу ли и я к кругу лиц, что жалеют его?
Я прошел вперед и остановился у тела. Нагнулся и отвернул ткань, которой накрыли голову.
Лицо его было желтым, как всегда, лишь лоб посинел и был залит кровью. Веки опущены, в глазах пустота, он опять таился от всех, как и при жизни.
Несчастный, подумал я, не ощущая ни ненависти, ни ликования, ты причинил мне много зла. Да простит тебе бог, если захочет.
Смерть отделила его от меня, недобрые воспоминания больше не удерживали, и это было все, о чем я мог думать. Я не жалел, не помнил, не прощал. Его нет, вот и все.
Целовать его на прощание, как велит обычай, я не хотел. Слишком уж лицемерно: люди знают, как он поступил со мной.
Прочитать молитву об усопшем — это я мог.
И тут я услышал шаги и повернулся. К покойному подходила его жена.
Я отодвинулся, чтоб дать ей место, не испытывая торжества, даже любопытства. Я ненавидел его, пока он был жив, и мне казалось странным, что кто-то его мог жалеть. Однако мучительно было думать, что жена станет оплакивать его, неискренне, ради порядка, чтоб исполнить красивый обычай.
Не обращая на нас внимания, она открыла лицо и опустилась на колени. Долго смотрела не шелохнувшись, без вздоха, без звука, потом нагнулась и поцеловала в плечо и в лоб. Тщательно вытерла лицо шелковым платком, задержав руку на желтой щеке. Пальцы ее дрожали.
Неужели она в самом деле горевала о нем? Я ожидал любого выражения горя, глубокой скорби, даже слез, но никак не дрожащих пальцев на лице мертвого. Меня потрясла нежность, с какой она вытирала кровь, как ребенку, ласково, чтоб не причинить боли, чтоб не ушибить.
Она поднялась, и я подошел к ней.
— Хочешь сразу перенести домой?
Она резко повернула голову ко мне, словно я ударил ее. И лишь много времени спустя я вспомнил, что глаза у нее были подведены сурьмой и полны слез. Легче ей было услышать, чем увидеть? Однако тогда я на это не обратил внимания, меня ошеломил взгляд, которым она оттолкнула меня, опалила, пронзила, взгляд смертельного врага.
Меня смутила и ее угроза, и ее неожиданная печаль. Может быть, не так уж глухо было в их пустынном доме, может быть, так будет только теперь. И, не зная отчего, не имея никакого для этого повода, я пожалел и ее и себя. Я чувствовал себя опустошенным и одиноким, подобно ей. Может быть, вследствие усталости, которая сумерками надвинулась на меня.
Позже я вспомнил и о том, какой прекрасной показалась она мне, более прекрасной, чем тогда вечером в огромном доме, прекрасной, с полными слез глазами, с лицом, осененным ненавистью. Рука ее, встревоженная, забытая, поползла по краю чадры и замерла, напуганная тишиной.
Мне захотелось подставить свой лоб под эту руку, которая что-то искала, и, закрыв глаза, позабыть об усталости и о сегодняшнем дне. И примириться с нею. И со всем миром.
В этом смутном настроении я вышел на улицу, в серый дождливый день, насыщенный влажными хлопьями снега, придавленный кучами черных облаков, накрывших мир.
Ветер свистел во мне, как в насквозь продуваемой пещере.
Как излечить пустое сердце, Исхак, видение, что всегда заново выдумывает моя немощь?
Я бродил бесцельно, останавливался перед ханом, долго рассматривал только что прибывший караван и не знал, хорошо ли или плохо быть путником, стоял над могилой Харуна, и мне нечего было ему сказать, даже поведать о том, как чувствует себя победитель.
Следовало вернуться в текию, остаться одному, набраться сил. Однако я не мог ни на что решиться.
И тут появился молла Юсуф, и моего безволия как не бывало, словно поднялась пелена тумана. Я не думал о нем, пока ожидал свершения всех важнейших дел. Теперь он вынырнул как из-под воды и неприятно напомнил о себе.
— Хасан тебя ищет,— сказал он,— просил прийти к хаджи Синануддину.
О хаджи Синануддине я тоже позабыл. Разве он уже дома?
Коротко, больше уступая моей просьбе, чем своему желанию, он рассказал, как сегодня утром Хасан узнал, что муселим отправил хаджи Синануддина под стражей в крепость Врандук, откуда мало кто возвращается, и как Хасан помчался со своими парнями за ними, однако могло получиться, что они напрасно измучили бы коней, если бы вода не снесла какой-то мост возле крепости, они догнали конвой и спасли хаджи Синануддина. Его спрятали в какой-то деревне и сразу послали за ним, едва узнав, что творится в городе.
При других обстоятельствах и из других уст меня больше заинтересовал бы этот рассказ. Сейчас же я лишь подозрительно посматривал на юношу. Он показался мне холодным и сдержанным. И цедил слова, словно все это меня нисколько не касалось.
— Не нравится мне, как ты смотришь на меня, не нравится и как говоришь,— сказал я со злобой, которую с трудом подавлял в себе.
— Как я смотрю? Как я говорю?
— Ты держишься на расстоянии. И меня не подпускаешь. Неплохо было бы тебе вообще позабыть о том, что ты знаешь!
— Я позабыл. Меня это не касается.
Ответ его поразил меня и вновь заставил вооружиться осторожностью и твердостью, которые было покинули меня.
— Не так! Тебя это касается, но ты должен позабыть. Все, что я сделал, мне одному не принадлежит.
— Позволь мне уйти из текии,— ответил он быстро, уже не в виде просьбы, но требования.— Пока я у тебя на глазах, ты все время будешь думать о возможном предательстве.
— Ты напоминаешь и о горе, которое принес мне.
— Тем хуже. Позволь мне уйти, чтобы нам позабыть друг друга. Чтоб освободиться от страха.
— Ты боишься меня?
— Боюсь. Как и ты меня.
— Я не могу тебя отпустить. Мы связаны одной цепью.
— Ты губишь и свою, и мою жизнь.
— Ступай в текию.
— Так нельзя жить. Мы следуем друг за другом по пятам, как смерть. Почему ты не позволил мне умереть?
— Ступай в текию.
Он ушел подавленный.
В тот день мы скажем аду: «Ты наполнился?»
И ад ответит: «Есть ли еще?»
Снег, дождь, туманы, нависшие облака. Давно грозятся предвестники зимы, а зима будет бесконечной, почти до Юрьева дня. Я думал о том, сколько страданий выпадет на долю муфтия: шесть месяцев дрожать, шесть месяцев мерзнуть. Трудно понять, почему он не уезжает отсюда. Я велел доставить ему буковых или дубовых дров, переложить дымоходы и печи, топить снаружи, из коридора, днем и ночью, а комнаты окуривать ветками можжевельника и андузом.
Я и сам стал зябнуть. В моей и хафиза Мухаммеда комнатах уютно потрескивает огонь глинобитной печи с красными и голубыми горшочками. Я нанял и нового слугу: Мустафа не успевает, да к тому же он все время невыносимо брюзжит, ворчит и рычит, как состарившийся медведь. Я не выношу больше холода в комнате, как бывало, особенно когда возвращаюсь из суда, намокший и ощетинившийся, пропитанный водой, как половая тряпка.
Многое изменилось в моей жизни, но я сохранил прежние привычки. Правда, я позволил себе жить чуть поудобнее, но не слишком, да еще прибавилось простоты в обхождении с людьми, может быть потому, что мне ничто не угрожает, а должность и звание кадия придают мне приятное ощущение уверенности. И силы, которой я не ищу, но вижу даже во взгляде хафиза Мухаммеда, когда по вечерам вхожу к нему в комнату, чтоб узнать, как он себя чувствует и не нужно ли ему чего-нибудь.
Должность кадия не оставляет мне много свободного времени, и давно уже я не заглядывал в свои записи. А когда вспомнил о них вечером, то едва не усомнился в своей памяти, прочитав некоторые странички. Возможно ли, что это писал я и что я в самом деле так думал? Больше всего меня изумило собственное малодушие. Неужели я мог так сомневаться в божьей справедливости?
Сперва меня удивило предложение отцов города принять на себя должность кадия. Я никогда не думал об этом, не желал этого. В иных обстоятельствах я бы, возможно, и отказался, но тогда это показалось мне спасением. Потому что вдруг, после всего, что произошло в чаршии, я почувствовал себя усталым, обессиленным, неприятно осознал глубину западни, которая угрожала не только мне и не только со вчерашнего дня. Человек слишком открыт, и ему необходима защита.
К счастью, я быстро свыкся со своим новым положением, словно бы дождавшись осуществления какого-то давнего сна. Может быть, это была золотая птица из детских сказок, может быть, втайне от самого себя я давно ожидал такого доверия, испокон веку. И не позволял неясным мечтам оформиться, так как наверняка боялся разочарования, если б этого не случилось, я засовывал их в темные, потаенные утолки души вместе с прочими опасными желаниями.
Я возвысился над страхом, над будничностью и больше не удивлялся. А кто же сочтет свое счастье незаслуженным?
В первую ночь я стоял у окна и смотрел на город так, как, я представлял себе, стоял силахдар, и, прислушиваясь к учащенному бегу крови, видел свою огромную тень над долиной. Внизу маленькие люди поднимали ко мне глаза.
Я был счастлив, но не наивен. Я понимал, что мне помогли многие случайные обстоятельства, они нанизывались на первоначальную причину — несчастье с братом Харуном. Хотя не такие уж и случайные: удар придал мне сил, всколыхнул меня. Так хотел аллах, но он не одарил бы меня, если б я сидел сложа руки. Выбрали именно меня, потому что я был отчасти героем, отчасти жертвой, человеком народа, и ничего более, в достаточной степени приемлемый и для народа, и для тех, кто вершит его дела. А решающую роль, видимо, сыграла их уверенность в том, что они с легкостью сумеют управлять мною и делать все, что захотят.
— Ты по-прежнему думаешь, будто сможешь поступать, как захочешь? — спросил меня Хасан.
— Я буду поступать так, как мне велят закон и совесть.
— Каждый полагает, будто сумеет перехитрить остальных, ибо уверен, что только он не глуп. А думать так — значит быть глупым по-настоящему. Тогда мы все глупы.
Я не почувствовал себя оскорбленным. Его резкость лишь подтвердила, что его одолевает беспокойство, не знаю какое, но, я надеялся, преходящее. Будет плохо, если оно продлится долго, плохо и для него, и для меня. Он нужен мне целехонький, без бремени, без горьких мыслей. Я буду любить его и таким, любить, каким бы он ни был, особенно когда я стал равен ему, но мне приятнее, если он останется моим светлым началом. Он необязательность, свободный ветер, чистое небо. Он то, чего я лишен, но это мне не мешает. Он единственный человек, который не считается с моим теперешним званием и жалеет обо мне прежнем, а я стараюсь как можно больше походить на того, каким он хочет меня видеть. Иногда я сам верю, что я такой. Я искал его после той встречи с покойным кадием, он был мне необходим, он один, его одного хотелось мне видеть, лишь он мог прогнать мой непонятный ужас. Я привязал себя к нему еще раз, навсегда, и буду возвращать его себе всякий раз, когда это потребуется. Я не понимал точно почему, может быть потому, что он не боялся жизни. Моя должность придает мне уверенность, но она же приносит мне и одиночество. Чем ты выше, тем пустыннее вокруг тебя. Поэтому я буду беречь друга, он станет моим войском, теплой обителью.
Вскоре еще более возросла необходимость в этом.
Я взял на себя тяжелую ношу, считая, что она будет щитом и оружием в борьбе, к которой меня принудили. Но прошло совсем немного времени, и мне пришлось защищаться. Молнии, правда, пока не ударили, но зловещие раскаты грома уже раздавались.
Получив султанский указ, которым силахдар Мустафа выразил свою благодарность и подтвердил мое звание, я решил впредь советоваться только со своей совестью в том, что мне предстояло делать. И сразу же подул холодный ветер. Те, кто поставили меня на это место, вдруг смолкли, увидев, что я не уступаю. Но зато чаще стали раздаваться голоса, будто я виноват в смерти прежнего кадия. Напрасно разыскивал я людей, которые разносили слухи, легче было догнать ветер. Кто же сказал, раз никого нельзя было притянуть к ответу, или знали и прежде, а теперь это им понадобилось? Может быть, на меня и не пало бы подозрение, если б я был абсолютно чист.
Не знаю, уступил бы я, с упрямством, свойственным не от рождения, не будь я уверен в защите сверху, не знаю, пошли бы они на какую-нибудь сделку. Мы стали подстерегать друг друга.
Не давали мне покоя и муселимы, и бывший и теперешний. Прежний сидел в своем селе, угрожал и слал письма в Стамбул. А теперешний, которому раньше уже приходилось бывать муселимом и он знал, как это ненадежно, смотрел на все сквозь пальцы, избегая портить отношения с теми, кто мог ему хоть чем-нибудь навредить. До меня дошло даже, что он предупредил своего предшественника, чтоб тот укрылся, перед тем как выслал стражников якобы на его розыски. И никто не ставил ему этого в вину.
Горожан я чуждался. Отчасти потому, что презирал их, но больше из-за того, что хорошо запомнил, сколько в них злобы и разрушительной ярости. Я больше не умел разговаривать с этими людьми, ибо не знал, кто они, а они, чувствуя мою неприязнь, смотрели на меня пустыми глазами, будто я был вещью.
Я посетил муфтия. Все повторилось, как и в тот раз, когда я спасал брата, прикидываясь дурачком. С той лишь разницей, что теперь я считал, будто мне не нужно унижаться или по крайней мере не очень. Он спрашивал: какой муселим, какой кадий? Потом начинал рассказ о стамбульском мулле, словно его одного во всем свете он только и знал. А однажды довольно жестоко пошутил, по какой-то запоздавшей ассоциации у него всплыл в памяти мой брат Харун, и он поинтересовался, не выпустили ли его из крепости. Малик взирал на него как на кладезь премудрости. Наконец он отпустил меня нетерпеливыми жестами желтой руки, и больше я не приходил к этому бедняге, который был бы самым настоящим дураком, не окажись он муфтием. Малик повсюду разнес, что муфтий не выносит меня. Все поверили, потому что хотели поверить.
Я было собирался не брать жалованья, но потом пришлось отказаться от этого прекрасного намерения. Я окружил себя доверенными людьми, чтоб не бродить ощупью во мраке, а они снабжали меня в изобилии неприятными новостями, которые якобы слыхали или сами выдумали. Все так делали, и мы знали все друг о друге или считали, будто знаем. Я платил Кара-Заиму, чтоб он сообщал, что говорят у муфтия. Один бог знает, кто из моих людей подслушивал мои слова для других!
И только молла Юсуф, которого я оставил при себе из-за его прекрасного почерка и на всякий случай, молчал и спокойно делал свое дело. Я надеялся, что он верен мне из страха. Но следил и за ним.
Я жил как в лихорадке.
Не находя покоя, я занялся делом довольно-таки скверным, но объяснимым. В поисках покровителей я принялся писать письма чиновникам визиря, ему самому, султанскому силахдару, посылая подарки и кляузы. Подарки были полезны, кляузы — докучливы. И я понимал это, но не мог иначе, как бы теряя разум. То были предостережения, что нужно помешать безбожникам, призывы спасти веру, которой угрожает опасность, вопли не покидать меня одного в этом городе, столь важном для империи, но как бы ни чувствовал я вред этих заклинаний и проклятий, к которым не мог приложить ни союза, ни мощной поддержки, ни особой выгоды и даже, напротив, обнаруживал свою беспомощность, я испытывал невыразимое удовольствие, посылая их в мир и ожидая какого-то решения. Так осажденный полководец, потерявший свое войско, шлет призывы и ждет помощи.
Стоит ли говорить о том, что мне это не помогло?
Мне удалось лишь свернуть шею прежнему муселиму, после того как по моей просьбе — положить конец беззаконию — приехал тефтердар от вали и, пригласив муселима на беседу, под конвоем отправил его в Травник, где тот был удавлен.
Меня стали обвинять и в этой смерти. Тогда вали потребовал покорности, а о ней в этом городе давно позабыли. Я согласился, не имея выхода.
Иногда я подумывал все бросить и отступить, но понимал, что уже поздно. Меня свалили бы тут же, едва я выглянул бы из амбразуры.
(Знаю, что рассказываю слишком поспешно и отрывисто, знаю, о скольком невольно умалчиваю, однако я не могу иначе. Будто обручем все вокруг меня стянуто, и нет у меня ни времени, ни терпения писать медленно и в деталях. Я не спешил, пока был спокоен, теперь тороплюсь, перебиваю самого себя, словно над головой занесен топор. Не знаю даже, зачем я пишу, чем-то напоминаю приговоренного к смерти, который окровавленным ногтем выцарапывает на стене память о себе.)
Хасан тоже отдалялся. Сперва я подумал, будто молла Юсуф рассказал ему о хаджи Синануддине, потом убедился, что причина совсем другая. И не из-за дубровчанки — она сбежала от нашей лютой зимы, и я знал, что лишь весной она вернется.
К своему и моему несчастью, он отправился к каким-то родственникам под Тузлой, пострадавшим, как и многие другие, во время мятежа. Миралай Осман-бег хорошо сделал свое дело, разорил, сжег, согнал с земли, отправил в ссылку, и люди встречали зиму в лютой беде. Хасан привез этих родственников, женщин и детей, и разместил у себя. С тех пор он стал совсем другим, тяжелым, усталым, скучным. Он рассказывал о расправе, о пепелищах, брошенных мертвецах и особенно о детях, бродящих вокруг сожженных домов, голодных, перепуганных, со страхом в глазах после всего, что им довелось увидеть.
Исчезли его беззаботное легкомыслие, насмешливая легкость, оживленная болтовня, исчезли его воздушные мосты из слов. С горечью он говорил лишь о посавской трагедии, говорил мучительно, тяжело и неясно. В нем не осталось и следа прежней игривости.
Жертвы, которые лежали в черной земле Посавины или брели по неведомым дальним дорогам в ссылку, он называл самоубийцами и боснийскими безумцами. Наш восторг столь же опасен, говорил он, как и наша неразумность. О чем они думали, если думали вообще? Неужели они рассчитывали справиться с султанским войском, которому не нужны ни храбрость, ни воодушевление, потому что оно вооружено и бездумно? Неужели надеялись, что их оставят в покое, разве позволят искре разгореться, каким ветхим ни был бы дом? Разве не стоит попридержать нашу силу, что швыряет бревна, и не заниматься дешевым лихачеством, после которого остаются пепелища? Как можно неразумным отцам так играть судьбами своих детей, оставляя им в наследство страдания, голод, безысходную нужду, страх перед своей тенью, трусость, передающуюся из поколения в поколение, убогую славу жертв?
Иногда он говорил совсем иное: ничто так не унижает, как трусливая покорность и мелочная разумность. Мы настолько подчинены чьей-то чужой воле, вне нашей и поверх ее, что это становится роком. Лучшие люди в лучшие свои минуты избавляются от этого бессилия и зависимости. Борьба против собственной слабости — это уже победа, завоевание, которое однажды в будущем станет более длительным и более стойким, и тогда это уже не попытка, но начало, не упрямство, но уважение к самому себе.
Я слушал его и ждал, что это пройдет, ибо знал, что у его восторгов и у его горестей короткий век. Лишь одно-единственное длится бесконечно — его глупая любовь к дубровчанке, но она настолько необъяснима, что ее скорее можно назвать потребностью в любви, чем самой любовью. Он не воплощает себя, не выражает, не определил себя в пространстве: за все хватается, но ничего не завершает, всегда бьет мимо цели. Он промахнется и в благородстве.
Однажды он показал мне калеку Джемаила, которого дети тащили в тележке, а в свою портняжную мастерскую он вползал на костылях, подтягивая изуродованные, высохшие ноги. Когда он сидел, люди поражались его красоте и силе, мужественному лицу, теплой улыбке, широким плечам, сильным рукам, торсу, как у борца. Но стоило ему встать, вся эта красота разрушалась, и к тележке ковылял калека, на которого невозможно было смотреть без сострадания. Он сам себя изуродовал. Будучи пьяным, острым ножом колол себе ноги, пока не перерезал все сухожилия и мышцы, теперь же, напиваясь, вонзал нож в усохшие культяпки, не подпуская к себе никого, да никто и не смог бы с ним справиться, такая сила сохранилась у него в руках.
— Джемаил — точная копия нашего боснийского,— сказал Хасан.— Сила на культяпках. Сам себе враг. Могущество без смысла и цели.
— Что же мы тогда? Безумцы? Несчастные?
— Мы самые непонятные люди во всем мире. Ни с кем история не выкидывала таких шуток, как с нами. До вчерашнего дня мы были такими, о каких сегодня хотим позабыть. Но мы не стали и другими. Остановились на полпути, разинув рот. И никуда больше не можем двинуться. Мы оторвались, но никуда не пристали. Подобно речной протоке, что ушла в сторону от реки-матери, и нет у такого рукава больше ни течения, ни устья, он слишком мал, чтоб превратиться в озеро, и слишком велик, чтоб впитаться в землю. Со смутным чувством стыда — за свое происхождение, и вины — за свою измену, мы не желаем оглядываться назад, но нам некуда смотреть и вперед, поэтому мы удерживаем время, боясь принять какое бы то ни было решение. Нас презирают и братья, и пришлые люди, а мы обороняемся своей гордостью и ненавистью. Мы хотели бы сохранить себя, но настолько утратили свою суть, что больше не знаем, что мы такое. Беда в том, что мы полюбили эту свою мертвечину и не хотим расставаться с нею. Но за все надо платить, за эту любовь тоже. Неужели мы волей случая стали такими преувеличенно мягкими и преувеличенно жестокими, разнеженными и суровыми, веселыми и печальными, каждую минуту готовыми удивить любого, в том числе и самих себя? Неужели волей случая прячемся мы за любовь, единственно известную величину в этом хаосе? Неужели без причины мы позволяем жизни топтать нас, неужели без причины мы уничтожаем самих себя, иначе, чем Джемаил, но с тем же успехом? Зачем же мы это делаем? Потому что нам не безразлично. А раз нам не безразлично, значит, мы честны. А раз мы честны, честь и слава нашему безумию!
Вывод был довольно-таки неожиданный, как, впрочем, странными выглядели и сами рассуждения. Но удобными, ибо он мог объяснить все, что делает человек или чего не желает делать. Я не страдал этим врожденным местным заболеванием, поскольку вера открывала мне вечную истину и безмерные просторы мира. Точка зрения Хасана была у́же, но я не возражал ему, у меня имелись заботы поважнее, мы были друзьями, и я считал, что мысль его, хоть она и раскольническая, безопасна, ибо подавляет самое себя. Эта надуманная мука даже кое-что мне объяснила, она явилась своего рода поэтическим толкованием его собственной никчемности, походила на объяснения большого умного ребенка, понимающего, что он понапрасну транжирит свою жизнь. Он богат и честен, как иначе он мог поступить? Богатство он приобрел не своими руками, поэтому не дорожил им, но и лишаться его не желал. Он позволял жизни искусственно щекотать себя, выдумывая мелкие курьезные небылицы, чтоб успокоить совесть.
Я обманулся и в этом, как и во многом другом, что касалось Хасана.
Снова прошло немало времени, и я ничего не записывал. Жизнь стала невыносимой.
И чем невыносимее она становилась, тем больше я думал о сестре Хасана. Мне запомнился ее странный взгляд и полная скорби рука. Женщина не впустила меня в дом, когда я пришел, чтобы покончить со сплетнями. Тогда я попросил передать, что посватаюсь к ней, если она согласится. Она отказалась без каких бы то ни было объяснений. Я узнал, что она в самом деле беременна. И искренне оплакивает своего кадия. Я считал, что она видит его моими глазами, а она, видимо, нашла в нем то, чего не разглядел никто. Или он был настолько нежен с нею, насколько жесток с другими, и она знала лишь эту его сторону. Вдовье горе пройдет, но, видно, я рано забеспокоился. Жаль. Женитьба на ней лучше всего защитила бы меня от обвинений, я вошел бы в имущую семью, и она сумела бы меня защитить. Только вот Айни-эфенди мешал мне и из своей могилы.
Мой хороший Хасан совсем обезумел. Я объяснял это тем, что любое чувство может превратиться в страсть, коль скоро вобьешь его себе в голову. Это, конечно, не объяснение, но это единственное пришло мне на ум. Весь во власти своих мыслей, он несколько раз ездил в Посавину. До меня дошли слухи, будто он выкупает конфискованные участки, принадлежавшие бунтовщикам. Я спросил его отца, правда ли это. Старик лукаво улыбался.
— Верно, покупаем. Это доброе дело, будем продавать даром.
— У тебя есть деньги?
— Есть.
— А зачем тогда в долг берешь?
— Все ты знаешь. Хочу купить побольше, потому и беру. Такого дела у меня в жизни не было.
— У бедняков отнимаешь?
— Отнимаю.
И он радостно, как ребенок, смеялся. Это поставит его на ноги. Он тоже спятил от любви к сыну. Причины разные, но последствия одинаковы. Они погубят себя.
— Это выгонит из тебя болезнь,— смеялся и я, веселый, как он, веселый, каким давно не был.
— Чувствую, как поправляюсь.
— Будешь здоровый и бедный. В этом ли счастье?
— Буду здоров, и мне нечего будет есть. Не знаю, в этом ли счастье.
— Кто тебя будет кормить? Сын или дочь? Я могу присылать тебе еду из текии. Так тоже жить можно.
— Встану в очередь у имарета.
Мы смеялись как безумные, хохотали так, словно это была самая удачная шутка, мудрая и полезная. Мы хохотали над тем, как человек губил себя.
— А ты знаешь, хитрец? — спрашивал он меня.— Откуда знаешь? Почему не веришь, что благое дело делаю?
— Знаю. Разве вы оба смогли бы что-нибудь путное сделать? Особенно если сын тебя уговорил. Неразумно, но красиво.
— Да, сын уговорил. Значит, это разумно и красиво. Будь у тебя сын, ты бы понял.
— Понял бы, как потерю превратить в радость.
— Разве это мало?
— Не мало.
Наверняка он без ничего не останется, покупая конфискованные участки, чтоб вернуть их согнанным беднякам. Разум Али-аги сумеет устоять и перед своей, и перед сыновней увлеченностью, но расходы будут велики, ибо Хасан постарается наделать как можно больше глупостей, раз уж он начал. Он все делает скоропалительно, с вдохновением, которое недолго длится. Сейчас он убежден, что это единственное, что надо сделать, и, пока он не устанет, пока ему не наскучит, а это скоро придет, он немало долгов повесит на шею и себе и отцу.
У меня никогда ничего не было, и я не хотел ничего иметь, но в крови где-то притаился крестьянский страх перед расточительством. Это начало бездорожья. И походило на запой, когда человек не знает меры, когда слишком замахивается и у него бурлит кровь, когда трудно остановиться, когда от бессмысленного восторга трудно предугадать последствия. В этом было что-то от уничтожающего самого себя Джемаила. И тем не менее за всем этим, чего мой разум не мог постичь, я чувствовал прилив необъяснимой бодрости, едва уловимую причину для глубокой радости. Именно потому, что это непонятно, смешно, похоже на шутку: ну-ка отмочим что-нибудь похлеще. Потому что этому трудно найти объяснение.
Наверняка они отрезвеют, когда все пройдет, и увидят, как дорого обошлось им их благородство. Все равно это будет настолько прекрасно, что не найдется причин для раскаяния. Их ослепит гордыня, когда люди, которым это не стоило ни гроша, станут восхвалять их.
Я же все больше убеждался в том, какое тяжелое и сложное дело — власть. Я возился с мучительными вещами, защищался и нападал, рыл землю руками и ногами, чтоб удержаться, внушал другим страх и сам испытывал его, чувствовал, как вместе с трудностями увеличиваются и мои силы, поскольку мне не требовалось больше соизмерять удары, хотя со странной печалью и необъяснимой завистью представлял я себе лицо Хасана, его радость, с какой он отказывался от надежной опоры, надежду, которую он пробуждал в сердцах людей. Не очень это было серьезно, однако заставляло задумываться над неизученными возможностями.
А потом произошло несколько важных событий.
(Будь я праздным, как прежде, я не лишил бы себя удовольствия поразмыслить над тем, насколько они похожи на другие, а важными они стали лишь потому, что коснулись определенных людей, и тут были важны уже не события сами по себе, а их значение, лишь поэтому мы выделили их среди прочих. Словом, нечто похожее. Есть неизъяснимое удовольствие в подобных рассуждениях, будто паришь над явлениями. Однако теперь я сам увяз в них и лишь мимоходом успеваю делать пометки.)
В Посавине, в тот день, на который была назначена продажа конфискованной земли, Хасан столкнулся с неожиданным препятствием. Глашатай объявил, что от имени визиря его человек купит все, а это равнялось для остальных приказанию не вступать в торг. Однако, если по моим понятиям это служило препятствием, по понятиям Хасана таковым ничуть не являлось. Не обращая внимания на желание визиря, он купил несколько участков, остальные — большую часть — взял представитель визиря почти даром. Хасан оставил деньги и на то, чтоб хоть как-нибудь починить дома и купить еды семьям, которые здесь поселятся, и, довольный, вернулся домой.
— Зачем тебе понадобилось затевать спор с визирем? — спросил я в шутку, не думая, что гнев сановника долго продлится.— Неужели ты в самом деле никого не боишься?
Мне ответил старик, ходивший по комнате в накинутом на плечи меховом кафтане:
— Бога — немного, султана — ничуть, а визиря — не более, чем своего гнедого.
— Чего мне его бояться? — произнес Хасан, возвращая мне джилит.— У меня есть ты. Наверное, защитишь?
— Лучше, чтоб не понадобилось защищать.
— Дервиш никогда прямо не ответит,— засмеялся Али-ага.
— Он прав,— серьезно возразил Хасан.— Лучше всего, чтоб никому не понадобилось меня защищать. Чтоб я сам себе был защитой. Нехорошо взваливать на друга беды, к которым сам причастен. Кто не умеет плавать, тому лучше не прыгать в воду, рассчитывая только на то, что его кто-то вытащит.
— Но он не был бы другом, если б не вытащил. Ты понимаешь дружбу как свободу, я — как обязанность. Мой друг — это я. Оберегая его, я оберегаю себя. Разве нужно об этом говорить?
— Не нужно. Но отец затеял этот пустой разговор для того, чтоб помешать мне рассказать о нем самом. Ты знаешь, что он спрятал от меня золото? Тысячу дукатов! Я обнаружил их по возвращении в ящике под ключом!
— Я сам тебе сказал.
— Ты сказал, когда уже было поздно.
— Зачем мне прятать? И от кого? Они твои, делай с ними что хочешь. В могилу я их с собой не возьму.
Старик что надо, не растерял еще разума!
— А если б даже и спрятал, что тут плохого? Но ведь не прятал, просто позабыл о них. Ничего в этом странного нет при моей старческой памяти.
По нежеланию настаивать, по улыбке, с какой Хасан соглашался с наивными отцовскими доводами, даже не пытаясь получить от него более убедительного объяснения, по той терпимости, с какой решалась эта пустяковая проблема, я мог судить, что Хасану приятно, что так получилось. И доброе дело сделано, и дукаты целехоньки. Да и живущая в их доме семья перестала мешать.
Как бы там ни было, другие и столько не давали. Благородство отца и сына, пусть и умеренное, пусть даже и со скрипом явленное, как-то ближе и понятнее мне. В нем больше человеческого, и есть четкая для меня граница. Она не самоубийственна, не оскорбляет неистовостью. Безрассудная щедрость — это ребяческое мотовство, когда отдают все, не зная цены ничему.
На второй день рамазанского байрама в текию пришел Пири-воевода, в обязанности которого входило следить за подозрительными личностями, а для него ими был весь мир, и передал мне письмо дубровчанина Луки, друга Хасана, адресованное дубровницкому сенату. Письмо обнаружили у купцов, утром ушедших с караваном товаров.
— Зачем ты его взял?
— Прочти, увидишь.
— Это важно?
— Прочти, увидишь.
— Где купцы?
— Ушли. Прочти и скажи мне, надо ли было позволить им уйти.
Сам черт посадил мне на шею этого человека, глупого, упрямого, неподкупного, подозрительного, который свою собственную мать наверняка провожал подозрительными взглядами. Ничего не соображая, но во всем обвиняя всех и вся, он засыпал меня доносами, помня о каждом из них и интересуясь моими решениями. Почти все беды, а в них недостатка не было, случались из-за него, и я свыкся с мыслью, что это наказание свыше, что у каждого есть свой Пири-воевода. Мой только оказался самым трудным. Я даже подумывал, что его нарочно подсунули ко мне в подчиненные, чтоб он приглядывал за мной, и в выборе они не ошиблись. Он был ничьим человеком, никому не служил, кроме разве своей глупости, а ее хватало, чтобы трижды за день вывести меня из терпения. Сам же он оказывался неуязвимым. Напрасно я пытался вначале вразумить его, потом пришлось отступиться. Он едва удостаивал меня внимания, высоко задирая голову, наглый, полный презрения, или искренне удивлялся, сомневаясь в моем разуме и моей правоте, он истязал меня своим невыносимым усердием. Мне оставалось либо удушить его в одном из припадков ярости, либо бежать сломя голову, когда станет совсем невмочь. Самое скверное заключалось в том, что можно было найти тысячу причин назвать его дураком, но ни одной, чтоб обвинить в непорядочности. В нем уживались жажда какой-то изуродованной справедливости и страстное желание наказать всех людей, неважно за что, и вся моя суровость была для него недостаточной. Кое-кто упрекал меня в жестокости, он же укорял только за уступчивость. Мои враги воспользовались тем и другим.
Он рассказал, как гайдуки в горах напали на караван дубровчан, и, пока купцы отбивались, у них вырвался конь; мчась к городу, он забежал в село. Напрасно искали его дубровчане, так и ушли, не найдя, потому что спешили засветло миновать перевал. Пири-воевода немедленно узнал о коне и тут же нашел его, заставил крестьян вернуть взятое, а я уверен, что они бы отдали ему свое собственное имущество, не только чужое. Тут он и обнаружил письмо, понес его к меняле Соломону, чтоб тот прочел, сам он латинского алфавита не знал.
У меня закружилась голова от этого путаного рассказа, я с трудом улавливал, что произошло, и тут, конечно, любой разумный человек махнул бы рукой, но Пири-воевода пошел до конца, сражаясь с тенями и вылавливая шпиона!
Он стоял передо мной и ждал. Я прочитал письмо и узнал о том, что знал и раньше: как иностранцы пишут об увиденном и услышанном в чужой стране, все об этом знают, все это делают, но тем не менее каждый раз приходят в ужас, когда это обнаруживается. Я прочитал и вздохнул с облегчением: в письме не было ничего о Хасане, что могло бы бросить на него тень, ни обо мне, что могло бы меня оскорбить. Дубровчанин писал главным образом о визире и об управлении страной. Иногда довольно точно, но на бумаге это выглядело гнусно. («Хаос управления высосал силу страны… Если б вы видели, как глупы эти люди, эти каймекамы и муселимы. Вы бы удивились, возможно ли, что эти люди, которых нельзя причислить к порядочному обществу, могут иметь такое правительство… Сеть шпионажа в Боснии простирается через чиновников и тайных осведомителей, как в ином западном государстве… Визирь насаждает бесправие, возомнил себя державой, и кто не пошел с ним на уговор, тот враг… Он сам назначает, перемещает, увольняет чиновников, правит страной по своей прихоти, законов, как он много раз сам говорил, он не знает… Он ненавистен и мусульманам, и христианам. Но правительству нелегко его свергнуть, за семь лет он накопил дукатов и с их помощью держится в Стамбуле… На дукатах держится и все его племя… С помощью этих безнравственных, жестоких, продажных приспешников он сел народу на шею, так что никто не смеет даже пикнуть… Эта полицейская система террора, естественно, должна была сделать Боснию мертвым членом империи, в ней больше не верят приятель приятелю, отец сыну, брат брату, друг другу, ибо каждый опасается черных османских людей и счастлив, если о нем не слышно в стране…» Упоминалось о приобретении конфискованных имений в Посавине, о цене, за которую их купили, по дешевке, назывались имена друзей и любимчиков из визирева племени, перечислено все, что они взяли, награбили, получили. Нет, латинянин не сидел здесь, в Боснии, с закрытыми глазами!)
— Ужасно,— произнес я для Пири-воеводы, который с любопытством ожидал моего суда.
— Надо его взять.
— Нелегко взять иностранца.
— Разве иностранец может творить все, что ему вздумается?
— Не может. Я посоветуюсь с муфтием.
— Посоветуйся. Но прежде нужно его взять.
— Может быть, я подумаю.
Он вышел, глубоко неудовлетворенный.
Несчастье господне! Не суй он нос куда не надо, я был бы в безопасности, по крайней мере с этой стороны. Не знаю, и точка. Но теперь я знаю, меня это касается. Как бы я ни поступил, я могу ошибиться, и нисколько мне не поможет совесть, на которую я так рассчитывал. Это были минуты, когда преждевременно седеют волосы.
Муфтий во время байрама не желал даже и слушать о делах. Правда, он не желал этого и без байрама, а мне было важно не его мнение, но его имя.
Муселима не оказалось дома. Ушел в чаршию, сказали домашние. Я нашел его на службе. Во время байрама! Он обо всем уже знал.
— Надо его арестовать,— без обиняков выпалил он.
— А если ошибемся?
— Извинимся!
Меня удивила его решительность, несколько необычная. Лучше всего не слушать его советов, так как он не из тех, кто желает мне добра, это я знал. Но если послушаю — ответственность равная.
— Пожалуй, так лучше всего.
Я согласился, не будучи убежден.
Пири-воевода освободил меня от одной муки, но тут же взвалил другую. Он явился сообщить, раздосадованный тем, что произошло, и довольный тем, что его подозрения оправдались: дубровчанин с помощью Хасана бежал из города. Они пешком вышли в поле, а там их ожидали на лошадях люди Хасана. Хасан вернулся один.
— Нехорошо,— крутил головой муселим.
Очень уж он выглядел озабоченным: и голос, и согнутые плечи, и рука, вцепившаяся в бороду, все, кроме чуть приметной усмешки на тонких губах. Будет странно, если он не сообщит вали, что настаивал на аресте, но, к сожалению, не он решает.
Пири-воевода, снимая с себя вину, обвинял:
— Я говорил, надо было сразу брать.
— Нехорошо,— повторял муселим, будто забивая мне гвоздь в лоб.
Еще как нехорошо, я и сам это знал. Теперь дубровчанин не виноват, ибо он скрылся. Виноваты те, кто остались. Виноват Хасан, и виноват я, потому что я его друг и потому что я допустил, чтоб купец убежал. Виноват из-за чужих дел, чужой неверности и чужой глупости. Виноват перед вали, который был моим заступником.
Мы немедленно послали за Хасаном, и я со страхом ожидал его появления, он будет оскорблен нашим допросом, исполненный презрения, горячий, а я не сумел предупредить его, напомнить об опасности, потому что вспыльчивость делу не поможет. Я надеялся, он сам поймет и мое, и свое положение, но успокоиться я смог, лишь услыхав, как он отвечает. Да, сказал он, дубровчанин уехал домой, торопился, получил весть, что его мать при смерти. Он предоставил ему своих слуг и лошадей, так как на станции отдохнувших коней не нашлось. И проводил до поля, как всегда провожает друзей. Говорили они о самых обычных делах, настолько обычных, что он с трудом припоминает, но припомнит, если нужно, хотя не понимает, какое это может иметь значение. Друг ничего не рассказывал ему о письме (шпионском, пояснил муселим). Это очень странно, потому что человек занимается только торговлей и ни в какие иные дела не влезает. Его он тоже уговаривал повернуть свои караваны и свои товары на Дубровник вместо Сплита и Триеста, если он, Хасан, снова этим займется. К остальным дубровчанам он не смог присоединиться лишь потому, что письмо из дому получил после их отъезда (это легко проверить: человек, доставивший письмо, еще в хане), и собирался торопливо, взяв лишь самое необходимое.
Когда мы показали ему письмо, он пробежал его глазами и, качая головой, выразил удивление по поводу того, что это писал его друг, он, правда, в этом не уверен, они никогда не переписывались и почерк ему незнаком, а если судить по мыслям, именно они-то и не похожи. Ну а если это в самом деле его письмо, а, судя по всему, это так и есть, то тогда он человек двоедушный и эту свою вторую натуру до сих пор не показывал. Хасан засмеялся, прочитав письмо, и сказал, что, конечно, обидно выглядеть дураком, если еще при этом наносится ущерб твоему народу. Но к счастью, это не так, ибо все, что здесь написано, может сказать любой человек о любой стране, теперь никого не удивишь такими вещами. Не его дело нам давать советы, да и не в его это привычках, но он считает, что не стоит без нужды раздувать огонь, да и гасить тоже, он сам собою погаснет. Позора и огласки избежать можно, ибо позор не в том, что совершается, а тем более не в том, что не совершается, он в том, что становится известным. Осталось лишь намерение, которое предотвратили. Значит, и оскорбления нет, разве что нам оно нужно. Так что из этого дела еще может выйти польза. Нет, ей-богу, он не согласен с тем, что прочел, хотя давно не считает людей ангелами, но своего друга не хочет ни оскорблять, потому что это непорядочно, ни защищать, потому что никому это не надобно. Он может лишь говорить о себе и, хотя невиновен, готов выразить сожаление и нам и визирю, что оказался замешанным в глупейшую историю, которая доставила нам больше хлопот, чем она того заслуживает.
Я с любопытством слушал его. Насчет того, что он не знал о причине бегства дубровчанина, я сомневался, но впечатление оставалось такое, что совесть его чиста, а наверняка так оно и было, поскольку его не касалось ни письмо, ни авторитет визиря. На все у него был готов спокойный и вразумительный ответ. И может быть, только я один улавливал отзвук насмешки в каждом слове, ибо я внимательно следил за тем, что он говорил, радуясь, как удачно он отражает нападки… Я убедился еще раз, сколь он близок мне, и несчастье с ним поразило бы меня в самое сердце. Я нелегко уступил бы, если б они захотели отомстить ему, но мне было дорого, что он сам выкрутился. Я люблю то, что есть, а не то, к чему меня вынуждают.
О себе я не очень беспокоился: я был нужен визирю.
В пятницу после джюмы молла Юсуф сообщил мне, что в здании суда меня ожидает тефтердар от вали. Какой шайтан привел его сюда в такую плохую погоду!
Я завернул к муселиму. Он только что ушел домой, у него началась горячка, сказали мне. Я знал, какая это горячка, он прикрывался ею при любой неприятности, но от этого мне ничуть не легче.
Тефтердар встретил меня любезно, передал привет от вали и сказал, что хотел бы сразу покончить с тем, ради чего приехал, и надеется, что долго это не продлится, он устал с дороги, от долгой скачки и хотел бы поскорее помыться и отдохнуть.
— Неужели дело такое спешное?
— Можно сказать, что спешное. Сегодня же я должен сообщить вали о том, что предпринято.
Без обиняков он высказал все сразу, тут же подчеркнув, что вали рассердило и оскорбило то письмо (он давал мне сразу понять, насколько серьезно обстоит дело), но ему обидно и за меня, почему я позволил дубровчанину убежать, хотя мог воспрепятствовать. (Эти слова вышли отсюда и вот вновь вернулись к своему источнику!) Вали написал дубровницкому сенату и потребовал, чтобы виновника наказали за ложь и нанесенные ему лично оскорбления, позорящие тем самым страну, которой он по милости султана управляет. Если же виновного не накажут по заслугам и если ему об этом не сообщат с необходимыми извинениями, он будет вынужден прекратить торговлю и все связи с Дубровником, поскольку это означает, что с их стороны нет ни дружбы, ни желания поддерживать добрые отношения, полезные и нам и им, но больше все-таки им, чем нам. Он сожалеет также, что за оказанное гостеприимство, которого мы не лишаем благонамеренных людей, они отблагодарили гнусными выдумками, оклеветав его, вали, лично и самых видных людей вилайета, что в свою очередь показывает, сколь мало правдолюбия и сколь много ненависти таится в сердце упомянутого купца, который то письмо писал. Поэтому коль скоро они поступят как подобает и коль скоро наши отношения останутся добрыми, чего он от всего сердца желает и что наверняка является и желанием почтенного сената, то пусть они пришлют подлинного друга, и нашего и их, а такие наверняка найдутся, поскольку наши связи не вчера установлены, и человека достойного, который будет уважать обычаи и власти страны, что его принимает, и не станет плевать на наш хлеб и соль или неприлично вести себя, к стыду своему и позору республики, его направляющей, не станет водить дружбу с недостойными людьми, какие повсюду найдутся, в том числе и у нас, которые не думают о благе ни для себя, ни для страны, где они родились, а услуги которых названный купец приобрел нечестным способом, что почтенному сенату, разумеется, известно.
— Ты, конечно, знаешь, кого имеет в виду визирь?
— Не знаю.
— Знаешь.
Он был толст, тефтердар, мягок, округл, окутан широченной шелковой одеждой. Он походил на старую женщину, как все, кто годами пресмыкается перед вельможами.
— Вали желает, чтоб его арестовали.
— За что его арестовывать? Он оправдался, он не виноват.
— Вот видишь, ты сообразил, о ком идет речь.
Да, я сообразил, я знал это, едва услыхал о том, что ты приехал, я знал, что ты потребуешь его голову, но я его не отдам. Любого другого отдал бы — его не отдам.
Я ответил тефтердару, что желание светлого визиря для меня всегда было повелением. Разве я не повиновался всему, что от меня требовали? Но сейчас я прошу его отказаться от своего намерения ради авторитета его, визиря, и ради справедливости. Хасана люди любят и уважают, их оскорбит его арест, тем более что доказана его невиновность. Если вали не в курсе дела, я готов поехать все ему объяснить и попросить о милости.
— Он все знает.
— Почему тогда он этого требует?
— Дубровчанин виноват? Значит, Хасан тоже. А может быть, и больше его. Иностранец всегда может оказаться врагом этой страны, наш человек не может. Это противоестественно.
Мне хотелось сказать, если б я только смел: разве визирь и эта страна — одно и то же? Но в разговоре со всемогущими приходится проглатывать доводы разума и принимать их манеру рассуждать, а это заранее означает, что ты побежден.
Напрасно убеждал я, что Хасан не является врагом, что он не виновен, тефтердар лишь отмахивался, отметив, что мы слепо поверили в его дерзкую отговорку.
— Утверждал он, что якобы дубровчанин не мог найти свежих лошадей на станции? А они даже не ходили туда.
— Кто сказал? Муселим?
— Неважно, кто сказал. Но это так, мы проверяли. И не только это, вся его история лжива. Вы разговаривали с человеком, который якобы доставил из Дубровника письмо его другу? Нет. Он врал, и он виновен, поэтому арест оправдан. А коль скоро вали желает, чтоб вы это здесь выполнили, то потому, чтоб не говорили, будто он совершает насилие, ибо насилия нет, он просто не желает вмешиваться в ваши дела. Каждый должен исполнить свой долг по совести.
— По какой совести? Хасан — мой лучший друг, единственный.
— Тем лучше. Каждый убедится, что речь идет не о месте, но о справедливости.
— Я прошу визиря и тебя пощадить меня в этом случае. Если я соглашусь, я сделаю страшное дело.
— Ты сделаешь разумное дело. Ибо вали спрашивает, как твои друзья могли столь быстро узнать обо всем.
Ну вот, своими пухлыми руками он начал затягивать крепкую петлю вокруг моей шеи.
— Ты хочешь сказать, что вали подозревает меня?
— Я хочу сказать, что для судьи лучше всего не иметь друзей. Никогда. Ни одного. Потому что люди ошибаются.
— А если они у него есть?
— Тогда он должен выбирать: или друг, или справедливость.
— Я не хочу грешить ни перед другом, ни перед справедливостью. Он невиновен. Я не могу этого сделать.
— Дело твое. Визирь ни к чему не принуждает. Только…
Я знал это «только». Оно кружилось надо мной, как черная птица, маячило повсюду, будто я в замкнутом кругу направленных на меня копий. Я знал, но решительно твердил себе: не отдам друга. Это была смелость, не приносящая облегчения. Тьма вокруг меня сгустилась.
— Скажи,— заговорил он, зябко потирая полные руки,— ты, должно быть, знаешь, сколько людей тебя не любит и сколько жалоб ушло в Стамбул. Все требуют твоей головы. Большинство бумаг визирь задержал у себя. Он твоя опора, без его защиты тебя давно разнесли бы на куски твои ненавистники. Если ты не знаешь этого, тогда ты дурак, а если знаешь, то как ты можешь быть настолько неблагодарным? А почему визирь тебя защищает? За красивые глаза? Потому что он полагал, что может на тебя опереться. А если увидит, что не может, зачем ему оберегать тебя дальше? Власть — это не дружба, но союз. Странно также и то, что ты строг по отношению ко всем, а мягок лишь с врагами вали. А друзей своих недругов вали считает своими врагами. Если вали и страна оскорблены, а ты не желаешь их защитить, значит, ты тоже перешел на их сторону. Прочитай-ка это,— он протянул мне какой-то свиток.
Едва разбирая слова и с трудом осознавая смысл, я прочитал письмо помощника стамбульского муллы, в котором он осведомлялся у вали, почему он, вали, столь упорно покрывает кадия Ахмеда Нуруддина, который подстрекал к мятежу чаршию, из личной ненависти участвовал в убиении прежнего кадия, почтенного алима и судьи, что доказано обвинением его вдовы и заявлениями свидетелей, а кроме того, налицо жалобы видных людей, опечаленных самоволием Ахмеда Нуруддина, его стремлением забрать в свои руки всю власть, что является грехом перед шариатом и перед высочайшим пожеланием султана, чтобы власть, данную падишаху аллахом и переносимую им на своих слуг, нигде не держал в руках один человек, поскольку это путь к преступлениям и неправдам. Если же дело обстоит иначе, если вали придерживается иного мнения и у него иные основания, то пусть сообщит, чтоб он знал обо всем.
Письмо ошеломило меня.
Я знал о жалобах и наветах, но впервые держал в руках доказательство этого. Мне показалось, будто мимо моей головы просвистела стрела. Стало страшно.
— Что скажешь?
Что я мог сказать? Я молчал. Не из упрямства.
— Напишешь постановление?
О аллах, помоги мне, я не могу ни написать, ни отказаться. Лучше всего было бы умереть.
— Напишешь?
К чему меня принуждают? Осудить друга, единственное существо, которое я сохранил для своей неутоленной и голодной любви. Кем я стану тогда? Ничтожеством, которое будет стыдиться самого себя, самым презираемым бедняком на свете. Все, что было во мне человеческого, оберегал он. Я покончу с собой, если выдам его. Не принуждайте меня к этому, это слишком жестоко.
— Не принуждайте меня к этому, это слишком жестоко,— сказал я безжалостному человеку.
— Не хочешь написать?
— Не хочу. Не могу.
— Как знаешь. Письмо ты прочитал.
— Прочитал и знаю, что меня ждет. Но пойми меня, добрый человек! Неужели ты стал бы требовать, чтоб я убил отца или брата? А он для меня больше значит. Больше, чем я сам. Я держусь за него, как за якорь. Без этого человека мир станет для меня темной пещерой. Он — все, что у меня есть, и я не отдам его. Делайте со мной, что хотите, я не выдам его, ибо не хочу тушить последний луч света в себе. Пусть я пострадаю, но его не отдам.
— Это очень хорошо,— издевался надо мной тефтердар,— но неразумно.
— Будь у тебя друг, ты понял бы, что это и хорошо, и разумно.
К сожалению, я не сказал ни этих слов, ни иных подобных. Позже я думал, что, может быть, было бы благородно, если б я сказал их. Произошло же совсем иначе.
— Ты напишешь постановление? — спросил меня тефтердар.
— Должен,— ответил я, видя перед собой письмо, видя перед собой угрозу.
— Нет, не должен. Решай по совести.
Ох, оставь мою совесть в покое! Я решу из страха, решу от ужаса и уберу руки от себя, увиденного в мечтах. Я стану тем, кем стать должен,— дерьмом. Пусть позор падет на них, они заставили меня делать то, чего я гнушался.
Но тогда я об этом не думал. Мне было невыносимо, я чувствовал, что происходят страшные вещи, настолько бесчеловечные, что трудно себе представить. Но и это я подавил, заглушил ужасом, который проникал внутрь безумным клокотанием крови, душившей набегающими волнами и огнем. Мне хотелось выбраться наружу, глотнуть свежего воздуха, избавиться от черного тумана, но я понимал, что все должно решиться сразу, сейчас же, и тогда я избавлюсь от всего. Я уйду в горы, заберусь на самую высокую вершину, останусь до самого вечера один. Я ни о чем не буду думать, буду дышать, только дышать.
— У тебя дрожит рука,— удивился тефтердар.— Неужели тебе так жаль его?
У меня стоял ком в горле, меня тошнило.
— Если тебе так жаль его, зачем ты подписал?
Я хотел чем-то ответить на эту насмешку, не знаю чем, но продолжал молчать, опустив голову, долго, пока не вспомнил и не взмолился заикаясь:
— Я не могу больше здесь оставаться. Я должен уехать куда-нибудь, все равно куда. Только подальше.
— Почему?
— Из-за людей. Из-за всего.
— Какое же ты ничтожество! — спокойно, с глубоким презрением сказал тефтердар, и я не знал, не мог даже себе представить, за что он меня презирает. Меня это не обидело, я лишь повторял про себя это скверное слово, перебирая, как четки, не вникая в его истинный смысл. И единственное, что жило во мне,— ощущение страшной угрозы, словно перед облавой. Все закрыто вокруг, выхода нет. А мне не безразлично, я боюсь.
— Кто пойдет за Хасаном?
— Пири-воевода.
— Пусть отведет его в крепость.
Я вышел в коридор и налетел на моллу Юсуфа. Он возвращался откуда-то к себе.
Лишь на одно мгновение, на одно-единственное, замерли его глаза, когда он взглянул на меня, и меня осенило: он подслушивал и все знает. Если он выйдет, то предупредит его. Он предупредил и о дубровчанине, как это до сих пор не пришло мне в голову?
— Никуда не выходи, ты понадобишься.
Он опустил голову и ушел в свою комнату.
Мы молча ждали.
Тефтердар подремывал на скамье, но при каждом шуме открывал глаза, быстро поднимая опухшие веки.
Когда Пири-воевода вернулся, я уже знал, что все кончено. Я даже не осмелился спросить у тефтердара, как он поступит с Хасаном. У меня нет больше права на это и нет сил лицемерить.
Я остался один. Куда идти?
Я не слышал, когда вошел молла Юсуф, походка его была беззвучной. Он стоял у двери и спокойно смотрел на меня. Впервые я заметил, что он не испытывает волнения в моем присутствии. Потому что теперь мы равны.
Теперь у меня остался только он один. Я ненавидел его, презирал, боялся, но сейчас мне хотелось, чтоб он подошел поближе, чтоб мы помолчали вместе. Нет, пусть скажет что-нибудь, или я ему. Пусть хотя бы положит мне руку на колено. Посмотрит иначе, не так. Пусть хоть упрекнет по крайней мере. Нет, на это у него нет права. При одной мысли об этом внутри поднимался протест, даже гнев, и я подумал: мне нужны слова сочувствия или ничего. Я стою на той границе, когда могу до конца сломиться или стать зверем.
— Ты сказал, что я буду нужен.
— Больше нет.
— Я могу уйти?
— Ты знаешь, что произошло?
— Знаю.
— Я не виноват, меня заставили угрозами.
Он молчал.
— Я ничего не мог сделать. Мне приставили нож к горлу.
Он продолжал молчать, являя собой протест, не позволяя приблизиться к себе.
— Почему ты молчишь? Хочешь показать, как ты меня осуждаешь? На это у тебя нет права. У тебя нет права.
— Лучше тебе уйти из города, шейх Ахмед. Страшно, когда люди отворачиваются от тебя. Я это знаю лучше всех.
Нет, так ему не следовало говорить со мной. Это хуже, чем упрек, это убивающая холодность, презрительное ликование. Но все-таки мое оледеневшее сердце ожидало любых слов, утешения или оскорбления, только бы вернуться к жизни. Оскорбление, может быть, даже лучше; утешение совсем добило бы меня.
— Какое же ты ничтожество! — ответил я задыхаясь, повторяя слова, которые обожгли меня.— Как раз потому, что ты знаешь, я думал, мы будем разговаривать иначе. Немного у тебя разума, ты выбрал недобрый час для отмщения. Нет, люди не будут отворачиваться от меня. Возможно, они будут со страхом смотреть на меня, но презирать не станут. И ты тоже будь в этом уверен. Меня вынудили принести в жертву друга, почему я должен быть к кому-то внимателен?
— Тебе не станет легче от этого, шейх Ахмед.
— Может быть, и нет. Но и другим тоже. Я запомню, что и ты виноват в его муках.
— Если у тебя спадет груз с сердца от этих ругательств, то продолжай.
— Если б дубровчанин не убежал, Хасан сейчас спокойно сидел бы дома. А дубровчанин не стал гадать на кофейной гуще, что его ожидает.
— Он знал, что письмо перехвачено, что еще ему требовалось?
— Ты и это знаешь.
— Ты спрашиваешь меня или обвиняешь? Видимо, в самом деле тяжелее тем, кто остается.
— Ты не остался. Тебя оставили. А теперь вон!
Он вышел не оборачиваясь.
Все тщетно, беды слетаются стаями, как вороны.
На другой день мы проспали утреннюю молитву, тефтердар и я. Тефтердар — от усталости и сознания удачно сделанного дела, я — после бессонной ночи и сна, пришедшего лишь на рассвете. Однако ужасную новость я узнал первым, так и должно быть, меня она более всего касалась. И вполне естественно, что я услыхал ее от Пири-воеводы, страшную, как и он сам.
Сначала я не понял, о чем он говорит, настолько это было невероятно и неожиданно. Чуть позже, хотя все по-прежнему казалось невероятным, я что-то уразумел.
— Мы выполнили приказ,— сообщил отвратительный человек.— Диздар немного удивился, но я сказал, что это не его дело. Ему надо слушаться, как и мне.
— Какой приказ?
— Твой. О Хасане.
— О чем ты говоришь? О том, что произошло вчера?
— Нет. О том, что произошло сегодня ночью.
— Что произошло сегодня ночью?
— Мы передали Хасана стражникам.
— Каким стражникам?
— Не знаю. Стражникам. Чтоб его увезли в Травник.
— Тебе тефтердар приказал?
— Нет, ты сам.
— Подожди, прошу тебя. Если ты пьян, тебе надо проспаться. Если же нет…
— Я никогда не пью, кадий-эфенди. Я не пьян, и мне не нужно проспаться.
— Куда лучше было бы, если б ты оказался пьян, и для тебя, и для меня. Ты хоть видел, что это мой приказ? Кто его принес?
— Как же не видел, твоей рукой писан, твоею печатью скреплен. А принес его молла Юсуф.
И тут я сел, ибо ноги не держали меня больше, и выслушал чудесную повесть о чужой дерзости и своей беде.
Где-то после полуночи Пири-воеводу разбудил молла Юсуф и показал ему мой приказ о том, чтобы крепостной диздар в присутствии Пири-воеводы передал узника стражникам, которые в сопровождении моллы Юсуфа отвезут его в Травник. В приказе стояло еще, что упомянутому Хасану не следует развязывать руки, а город он должен покинуть до рассвета. Стражники на конях остались у ворот крепости, они вдвоем с моллой разбудили диздара и вручили ему мой приказ. Диздар ворчал, почему его не предупредили раньше, тогда он не отправлял бы узника в нижние темницы, а теперь нам надо будет подождать, а у него пропала ночь, и так он не знает, когда ночь, когда день, а Пири-воевода сказал ему, что его дело выполнять, да и молла Юсуф посетовал: дескать, на нас это дело, а не на нем, ну вот и приходится делать то, к чему душа не лежит, но ведь важное дело, и вали так желает, но не хочет, чтоб люди узнали от отправке Хасана, народ здесь безумный, недавно только доказал, и лучше все сделать тихо и незаметно. Он добавил еще, что просил меня позволить Пири-воеводе отправиться со стражниками и Хасаном, потому что он не привык на конях ездить, пока до Травника доберутся, у него раны откроются, но я ответил, что никак не могу отпустить Пири-воеводу, он нужен мне здесь, без него я как без рук, за что он и благодарит меня. (Никогда не говорите, что встретили самого глупого человека; всегда может случиться, что кто-то окажется глупее!) Когда Хасана привели связанного, он потребовал, чтоб ему освободили руки, спросил, куда его увозят, обозвал их ночными совами, сердился, что его разбудили во время самого сладкого сна, а когда молла Юсуф спокойно объяснил, что они лишь выполняют приказ, то спросил его, когда он раз навсегда повзрослеет и станет думать своей головой, а не по приказу, пора уж, наверняка он совершеннолетний, или он хочет наследовать ему, Пири-воеводе, чего он, Хасан, никак не советует, потому что никогда не достичь ему такого совершенства и он может стать лишь маленьким Пири-воеводой. Он, Пири, этого не понял, но думает, что тут кроется нечто обидное. Потом Хасан поблагодарил диздара за удобное размещение и абсолютную тишину, которой его окружили; ему было так хорошо, что из благодарности он желал бы того же самого и диздару. Пири-воевода прервал эту болтовню и велел трогаться.
— Ты прав,— сказал Хасан,— у вас столько дел впереди, жалко терять время.— А увидев стражников, спросил: — Что мне делать, ага и эфенди, чтоб оставить о себе добрые воспоминания? Поеду ли я верхом или побегу за вами?
— Не болтай лишнее! — ответил ему один из стражников, тот, что выделялся своим ростом, и, подняв его на коня, связал ему и ноги веревкой.
— Привет моему другу кадию! — крикнул Хасан, когда они тронулись.
— Они помчались галопом?
— Откуда ты знаешь?
— Теперь неважно все, что я знаю. А тебе, кажется, еще не ясно.
— Что мне должно быть ясно?
— Что они убежали. И ты им помогал.
— Я видел твой приказ.
— Я не отдавал никакого приказа. Его написал молла Юсуф.
— А стражники? Они ведь связали его.
— И развязали за первым углом. Это наверняка его люди.
— Я не знаю, его ли это люди, но почерк был твой. И твоя печать. Я не единожды получал от тебя приказы. Знаю каждую твою букву. Другому так не написать.
— Говорю тебе, дурак, я ни о чем не знал, обо всем услыхал от тебя первого.
— Ох, неправда это, все ты знал. Ты и придумал, ты и написал. Ради друга. Только зачем же ты меня погубил? Зачем меня? Неужели ты не мог найти кого-нибудь другого? Двадцать лет я служу верой и правдой, а теперь я твоя жертва. И молла Юсуф это подтвердит.
— Молла Юсуф больше не вернется.
— Ну вот видишь, ты знаешь.
Напрасно было с ним говорить, для него я был единственным виновником.
Тефтердар вошел, вытирая полное лицо шелковым платком, красный от волнения, но говорил тихо и внешне спокойно.
— Что ж, дервиш, ты начал откровенно издеваться? Ну ладно, ты свое сделал, теперь очередь за другими сделать по-своему. Только скажи мне, на что ты надеялся? Неужели тебе безразлично?
— Я ничего не сделал. Для меня это такая же неожиданность, как и для тебя.
— А это что такое? Твой приказ и твоя печать.
— Это написал мой писарь, молла Юсуф.
— Рассказывай! Для чего писарю это делать? Он родня Хасану? Или друг, как ты?
— Не знаю.
— Не был он ему другом,— вмешался Пири-воевода.— Молла Юсуф — человек кадия, он во всем его слушался.
— Не шибко ты умен, Ахмед Нуруддин. Кого ты думал провести дерзкой игрой?
— Если б я поставил свое имя, тогда я на самом деле оказался бы дураком. Или не был бы сейчас здесь. Неужели тебе это не ясно?
— Ты считаешь нас дураками, будто мы поверим в твои детские забавы.
— Я могу поклясться на Коране.
— Верю, что можешь. Хотя все абсолютно ясно. Хасан — твой друг, единственный и лучший, ты сам сказал. Вчера я убедился, как заботит тебя его судьба. А у твоего писаря не было никакой личной причины освобождать узника. Он только слушался тебя, как твой доверенный человек. Поскольку он тоже сбежал, то вину ты решил свалить на него. Ну хорошо, а если б к тебе поступил такой случай, как бы ты рассудил?
— Если б я знал человека так же, как ты меня, я поверил бы его слову.
— Сильное доказательство!
— Я ему тоже сказал: ты все сам написал. Ради друга,— изрек Пири-воевода.
— Ты помалкивай! Тебя заткнули в петлицу, как василек. Ловко подобрали, чтоб украсить все это. Вали очень обрадуется.
Таким образом, я оказался в странном положении. Чем больше оправдывался, тем меньше верили моему рассказу, пока мне самому он не стал казаться неубедительным. Люди связали мое имя с понятиями дружбы и верности: одни — с осуждением, другие — с признанием. Одно я готов был принять, от другого отказаться, но, судя по всему, одно не шло без другого. Я выбрал то, что было приятнее. Хафиз Мухаммед чуть ли не поцеловал мне руку, Али-ходжа назвал меня человеком, который не боится быть им, горожане смотрели на меня с уважением, незнакомые люди приносили подарки и оставляли у Мустафы для меня, а отец Хасана, Али-ага, прислал с хаджи Синануддином свою особую благодарность. Я не мог укрыться от тихого восхищения и даже стал свыкаться с этой мыслью, молча принимать дань восторга как награду за самое большое предательство, которое я совершил. Неужели для людей дружба настолько вне сомнений? Или они растроганы потому, что она не столь уж часто встречается? Злую шутку сыграли со мной: много чего в жизни я совершил, и доброго, и полезного, чтобы приобрести уважение людей, а получил его за недоброе дело, которое каждый тем не менее считал благородным. Я знал, что это не заслуженно, но мне это льстило, и лишь иногда мучила мысль о том, что именно так следовало поступить самому. Правда, ничего бы не изменилось, кроме моего душевного состояния. И все-таки так лучше (не хорошо, но лучше): люди уважали меня, будто я это сделал, и я был уверен, что сумею опровергнуть обвинение, ибо знал, что ни в чем не виновен. А когда от Хасана и моллы Юсуфа пришло письмо муфтию, откуда-то с западной границы, в котором они оправдывали меня, рассказав истину, то люди окончательно утвердились во мнении, что мы договорились (ибо зачем им защищать меня, если я виноват перед ними). Я отнесся к этому письму как к свидетельству, которым смогу убедить каждого в своей невиновности. Я надеялся, что теперь я найду много свидетелей в свою пользу, если дело дойдет до следствия.
Но до следствия дело не дошло. Все завершилось без меня, но ведь то, последнее, может окончиться только при моем участии.
В сумерках меня разыскал Кара-Заим, перепуганный больше из-за себя, чем из-за меня. Может быть, он даже и не пришел бы, если б не подошел срок получать ежемесячное вознаграждение, а в таких случаях он обычно приносил вести, которые считал важными. Эту он тоже посчитал важной, и на сей раз был прав.
Во-первых, он хотел, чтоб я увеличил сумму, ибо ему пришлось заплатить парню, что служит у муфтия, а узнал он от него.
— Это так важно?
— Ну, думаю, что да. Ты знаешь, утром прибыл гонец из Стамбула?
— Знаю. Но не знаю зачем.
— Из-за тебя.
— Из-за меня?
— Поклянись, что не выдашь меня. Положи руку на Коран. Вот так. Сегодня вечером тебя арестуют.
— Он привез указ?
— Кажется, да. Катул-фирман.
— Значит, меня задушат в крепости.
— Значит, тебя задушат.
— Что я могу поделать, судьба.
— Ты можешь бежать.
— Куда?
— Не знаю, я так говорю. Неужели тебе никто не сможет помочь? Как ты Хасану.
— Я не помогал Хасану.
— Теперь это все равно. Ты помог, так тому и быть. Ты помог, не разрушай сам свой памятник.
— Спасибо, что ты пришел, ты подвергался опасности из-за меня.
— Что делать, шейх Ахмед, бедность заставила. И знай, мне жаль тебя.
— Верю.
— Ты во многом мне помог, при тебе дышалось легче. Мы часто тебя вспоминаем, я и жена. А теперь будем еще чаще. Хочешь, поцелуемся, шейх Ахмед? Когда-то мы были вместе на полях сражений, я остался залатанным, ты — здоровым, но вот судьбе угодно, чтоб ты ушел первым.
— Иди поцелуемся, Кара-Заим, и вспоминай меня иногда добром.
Он ушел со слезами на глазах, я остался один в темной комнате, наповал сраженный услышанным.
Сомневаться не приходилось, это наверняка было правдой. Напрасно я обманывал себя безумными надеждами, иначе не могло быть. Вали поднял плотину, и течение подхватило меня.
Повторяю, я был бессилен: смерть, конец. А я полностью не осознаю этого, как прежде, в крепостных подвалах, когда ожидал ее, ко всему равнодушный. Теперь она кажется мне далекой, непонятной, хотя все ясно. Смерть, конец. И внезапно, словно я вдруг прозрел на пороге угрожающей тьмы, меня охватил ужас перед уничтожением, перед этим ничто. Это же смерть, это конец! Окончательная встреча с неизбежной судьбой.
Нет, ни за что! Я хочу жить! Что бы ни случилось, я хочу жить, в одном шаге до смерти, на узкой тропе над пропастью, но я хочу жить! Я должен! Я буду бороться, буду грызть зубами, буду спасаться, пока кожа не лопнет, я найду кого-нибудь, кто поможет мне, я приставлю ему нож к горлу, потребую, чтоб он помог мне, я помогал другим, да все равно, даже если и нет, я убегу от гибели и смерти.
Решительно, преисполненный силы, что дает страх и желание жить, я направился к выходу. Спокойно, только спокойно, чтоб поспешность, испуганный взгляд не выдали, скоро ночь, меня поглотит тьма, я помчусь быстрее гончей, буду бесшумнее совы, рассвет застанет меня в дремучем лесу, в далеком краю, только бы не дышать так прерывисто, словно уже убегаешь от погони, и пусть сердце не стучит так жестоко, оно выдаст меня, оно как колокол.
Но вдруг я обмяк. Исчезли бодрость и надежда. И силы. Все напрасно.
У здания суда стоял Пири-воевода, а по улице расхаживали три вооруженных стражника. Ради меня.
Я направился к текии.
И даже не оглянулся, чтоб еще раз окинуть взглядом здание суда, может быть, в последний раз я здесь, но оно ничем не привязывало меня. Я не хотел да и не мог ни о чем думать. Был опустошен, словно из меня вынули внутренности.
На улице у моста ко мне подошел незнакомый юноша.
— Прости, я хотел пройти к тебе, но меня не пустили внутрь. Я из Девятаков.
Он засмеялся, сказав это, и поспешил объяснить:
— Не сердись, что я смеюсь. Я всегда так, особенно когда волнуюсь.
— А ты волнуешься?
— А как же. Целый час твержу, что тебе сказать.
— И сказал?
— Все позабыл.
И опять засмеялся. Но он не казался взволнованным.
Из Девятаков! Моя мать из Девятаков, половина моего детства прошла в этом селе. Те же горы опоясывают нас, ту же реку мы видим, те же тополя на берегу.
Неужели в своих смеющихся глазах он принес мою родину, чтоб я увидел ее еще раз перед концом?
Что ему нужно? Ушел ли он из села, как это сделал я в свое время? Ищет ли он более широких путей в жизни, чем сельские? Или это шалость судьбы, напоминающей мне обо всем перед большой дорогой? Или это знак, ободрение, посылаемое богом?
Почему именно сейчас появился этот крестьянский парень, который ближе мне, чем он думает? Пришел ли он для того, чтоб заменить меня в этом мире?
Пири-воевода и стражники шли за нами. Обложили они меня со всех сторон, лишь один выход оставят.
— Ты где ночуешь?
— Нигде.
— Пошли в текию.
— Это твои люди?
— Да. Не обращай на них внимания.
— Отчего они охраняют тебя?
— Такой обычай.
— Ты самый важный в городе?
— Нет.
Когда мы вошли, он уселся на ковре в моей комнате, слабый свет свечей скользил по впадинам его худого лица, на стене и на полу приплясывала его огромная тень, я смотрел, как он уминает немудреную текийскую пищу сильными челюстями, может быть не имея понятия, что он ест, ибо думает, чем закончится наша встреча. Но он не озабочен, не растерян. Я не был таким, тогда. Помню первую трапезу, я с трудом проглотил три куска, они застревали у меня в горле.
Как мы различны, и как мы похожи. Это ведь я, иной, дитя природы, снова начинаю свой путь.
Может быть, я снова поступил бы так же, но сознание мое затуманивает скорбь.
— Ты, конечно, хочешь остаться в городе?
— Откуда ты знаешь?
— Не боишься его?
— Чего мне бояться?
— Здесь нелегко.
— А разве у нас легко, Ахмед-эфенди?
— Ты много ожидаешь от жизни?
— Половины твоего счастья мне будет довольно. Это много?
— Желаю тебе больше.
Он весело рассмеялся:
— Да хранит тебя бог. А началось хорошо. Мне и во сне не снилось, что так встретишь меня.
— Пришел ты в добрый час.
— Для меня добрый.
Может быть. Почему у всех должна быть одна тропа?
Я с интересом, может быть, даже с нежностью смотрел на него и словно видел себя, давнего, непостижимо молодого, лишенного опыта, без терний в сердце, без страха перед жизнью. Я с трудом удержался, чтоб не схватить его за руку, мускулистую, твердую, надежную, дабы, опустив веки, вернуть прошлое. Только еще один раз, пусть ненадолго.
Он заметил в моем взгляде печаль, которая к нему не имела отношения. Пользуясь моим неожиданным вниманием, он сказал:
— Ты странно смотришь, будто узнаешь меня.
— Я вспоминаю одного юношу, который точно так же пришел в город много лет тому назад.
— Что с ним?
— Он состарился.
— Пусть это будет единственное зло.
— Ты устал?
— Почему ты спрашиваешь?
— Я хотел бы поговорить с тобой.
— Можем, если хочешь, хоть всю ночь.
— Ты чей?
— Эмина Бошняка.
— Значит, мы родня. И близкая.
— Да.
— Чего ж ты молчишь?
— Жду, пока ты спросишь.
— Сколько тебе лет?
— Двадцать.
— Нету двадцати.
— Девятнадцатый год.
Меня душило волнение. Мы говорили о нем, о старом ходже, о людях, которых я знал, обходя то, что меня интересовало. Не для того, чтоб узнать, но чтоб поговорить, снова коснуться всего, раз уж произошло чудо и судьба посылает его мне именно этой ночью, чтоб я мог погрузиться в мысли о том, что когда-то лишь однажды было реальностью, а теперь стало тенью. Но это все, что у меня есть. Остальное чужое. Остальное — ужас.
— Как мои отец с матерью?
— Да хорошо. Могло быть хуже. Смерть Харуна подкосила их. И нас всех. Теперь они немного успокоились, но еще плохи, сделают самое необходимое по дому, усядутся, смотрят в огонь. Тоска.
Он засмеялся. Смех его был звонким, веселым.
— Прости. Сам собой вырывается, даже когда грущу. Вот так и живут. Люди им помогают, как могут. Да еще есть кое-что из того, что ты послал.
— Что я послал?
— Деньги. Пятьдесят грошей. У нас это богатство. А им много не нужно, едят, как птицы, латают тряпки, не самое это трудное.
Кто послал им пятьдесят грошей? Конечно, Хасан. Эта ночь ненужной нежности, ночь чудесных вестей перед наступлением самой страшной. Давно у меня не было таких ночей и никогда больше не будет.
Почему я не решаюсь идти до конца? И нежности больше не будет. Будет то, чему суждено быть.
— А твои родители, как они? Как Эмин?
— Со здоровьем хорошо, слава богу. А живется худо. То вода заливает, то солнышко подсушивает. Только у отца моего характер легкий, вот все и идет помаленьку. Одна у меня беда, что нет ничего, говорит он, а другая была бы, если б грустил я. Так и получается на одну меньше.
— А мать? Она знает, что ты ко мне пошел?
— Знает. Как не знать! Отец говорит: у него своих хлопот хватает — это у тебя. А мать: не укусит он его — это меня.
— Постарела она?
— Нет.
— Она красивой была.
— Неужто помнишь?
— Помню.
— И сейчас красивая.
— Я тогда с войны пришел. Двадцать лет тому назад.
— Ты был ранен.
— Тебе кто рассказывал?
— Мать.
Да, я помню. Я все помню сегодня вечером. Двадцать лет мне тогда было, может, чуть побольше, я пришел с войны, из плена, со следами свежих ран, только что затянувшихся и дававших о себе знать, гордясь своей храбростью и огорчаясь из-за чего-то, что так и осталось мне неясным. Может быть, из-за воспоминаний, которые то и дело оживали, из-за величия жертвы, что подняла нас к небесам, а потом было трудно ходить по земле, пустой и обыденной.
Но один день запомнился накрепко.
Я даже во сне видел эту картину, когда ранним утром, зная, что мы окружены и нам нет спасения, мы решили умереть, как умирают солдаты великого бога. Пятьдесят человек нас было на лесистой поляне, на пустынной осенней равнине, где дымились костры вражеских войск. Все послушались меня, я был убежден, что все думают так же, как я, мы совершили омовение песком и пылью, потому что воды не было, я громким голосом прочитал молитву, мы положили поклоны, разделись, чтоб было полегче, остались в белых рубахах и с обнаженными саблями вышли из леса, едва только взошло солнце. Не знаю, как мы выглядели, жутко или жалко, я не думал об этом, чувствуя лишь пламя в сердце и силу во всем теле, и ей не было границ. Потом мне казалось, будто я видел эту цепочку молодых парней в белых рубахах с напряженными мускулами, с саблями, в которых отражалось раннее солнце, тесно сомкнувшись, они шли по равнине. Это была самая чистая минута в моей жизни, самое полное забвение всех и вся, одурманивающий блеск солнца, торжественная тишина, которую нарушают лишь мои шаги. Удивился Кара-Заим, когда я рассказал ему об этом, он полагал, что только он знает о думах солдата. (Ничего не желал я сейчас, как снова испытать это чувство, но нет, не вернуться ему.) Враг боялся нас, долго отступал, долго пытался подкараулить нас, но их было много, больше, чем нас, и началась кровавая рубка, после которой много матерей зарыдало и у нас, и у них. Я был первым и пал первым, изрубленный, исколотый, изломанный, но упал не сразу, не скоро. Я долго нес перед собой окровавленную саблю, пронзая и рубя всех, на ком не было белой рубахи, а белых рубах виднелось все меньше, они становились красными, как у меня. Небо над нами нависало багровым покровом, земля под нашими ногами была красной. Мы смотрели красными глазами, дышали красным, кричали красным. А потом все превратилось в черное, в покой. Когда я очнулся, ничего больше не было, кроме воспоминаний. Я закрывал глаза и снова представлял себе тот великий момент, не желая ничего знать о поражении, о ранах, об истреблении отважных людей, не желая верить тому, что десять человек сдались без боя, я не принимал того, что стало недоброй данностью, я судорожно хранил образ великой жертвы в пламени и огне, не позволяя ей поблекнуть. Позже, когда иллюзия растаяла, я плакал. Весной по разбитым дорогам возвращался я домой из плена, без сабли, без сил, без бодрости, без самого себя, когда-то существовавшего. Я хранил свою память, как талисман, однако она тоже изнемогла, потеряла цвет, и свежесть, и бодрость, и прежний смысл. Я тащился, молчаливый, по грязи угрюмых равнин; ночевал молча на деревенских сеновалах и постоялых дворах, шел молча под проливным дождем, инстинктом животного находя дорогу, влекомый желанием умереть на родине, среди людей, которые дали мне жизнь.
Я рассказал юноше простыми, обыкновенными словами, каким я пришел в село той весной, двадцать лет тому назад. Рассказал без задней мысли, ради себя, словно разговаривал сам с собой, а его это не касалось. Но без него я не мог бы говорить, не мог бы разговаривать сам с собой. Я думал о завтрашнем дне.
Удивленный, он серьезно смотрел на меня.
— А будь ты здоровый и веселый, ты не вернулся бы на родину?
— Когда все отказывает, человек ищет прибежища, словно возвращается в материнскую утробу.
— А потом?
— Потом забывает. Его гонит тревога. Желание стать тем, кем он не был, или нет, кем был. Он бежит от своей судьбы и ищет другую.
— Тогда он несчастен, если думает, будто его судьба всегда где-то в другом месте, где его нет.
— Может быть.
— А этот свет и сверкание на поле боя, этого я не понимаю. И почему это самая чистая минута в жизни?
— Потому что человек забывает о себе.
— И что из этого? Что другим от этого?
Он не хотел знать о наших восторгах. Не знаю, хорошо ли это или плохо.
— Что было дальше?
— Разве тебе мать не рассказывала?
— Говорила, что ты был грустный.
Да, я был грустный, и она это знала. Знала и тогда, когда не видела меня. До них дошел слух, будто я погиб, да я и сам так себя чувствовал, словно ожил из мертвых или, еще хуже, словно меня ожидала смерть, от пустоты, от какого-то бессильного отупения, от горечи, от мрака, от страха, я не знал о том, что случилось, я где-то отсутствовал, блеск солнца и красные отсветы причиняли мне боль, ибо они горели во тьме, как во время болезни, что-то обрушилось там, где я был, и здесь, где мне следовало быть, все уходило из-под ног, как песчаный берег, подмываемый водой, и я сам не знал, как выплыл и почему.
Мать гасила угли и заливала жар, бросая расплавленный свинец в чашку с водой возле моей головы, потому что я молчал бодрствуя и кричал во сне. Для меня писали заговоры, водили в мечеть и учили молитвам, искали средства у бога и у людей, еще более напуганные тем, что я на все соглашался и что мне было все безразлично.
— Мать тебе еще что-нибудь рассказывала?
— Да. Что вы гуляли. Отец всегда смеялся, когда мы об этом говорили. Оба мы счастливы, говорит. Он, отец,— потому, что слыхал о твоей гибели; ты — потому, что не погиб. Потому, что, если б мать не услышала о твоей смерти, не вышла бы за него замуж. А так все трое налицо, и все трое счастливы.
Он немало знал, но не знал всего. Она ждала меня и после того, как прошел этот слух, продолжала бы ждать бог знает сколько. Не по своей воле она вышла замуж, ее выдали. За несколько дней до моего возвращения. Если б я поменьше спал, если б я шагал по ночам, если б меньше было во мне усталости, если б равнины были поменьше и горы, через которые вел путь, пониже, я пришел бы вовремя, она не вышла бы за Эмина, а я, может быть, не покинул бы село. И не случилось бы ничего из того, что болит во мне: ни смерти Харуна, ни этой ночи, последней. А может быть, и было бы — ведь какая-то ночь должна быть последней и всегда что-то должно болеть.
Он хотел узнать больше.
— Тебе тяжело было, когда мать вышла замуж?
— Тяжело мне было.
— И поэтому ты грустил?
— Поэтому тоже. Из-за ран, из-за усталости, из-за товарищей, что погибли.
— А потом?
— Ничего. Все забывается, перегорает.
Чего он ждет, чтоб я сказал? Что я ничего не забыл и ничто не перегорело во мне? Или же что мне было все равно? Лицо у юноши было напряженное, когда он смотрел на меня, какая-то неудовлетворенность мучила его. Смех его звучал фальшиво, словно он затаил что-то про себя, какую-то мысль. Сыновняя ли это ревность к чистому облику матери, в которой он не хочет усомниться? Но что-то его тревожит.
— Ты очень любишь мать?
— Как ее не любить!
— Сестры, братья у тебя есть?
— Нет.
— Вы часто говорили обо мне?
— Да. Я и мать. Отец слушал и посмеивался.
— Кто тебя послал ко мне?
— Она. Отец согласился.
— Что она тебе сказала?
— Если Ахмед-эфенди не поможет, тогда, говорит, больше некому.
— Отец согласился. А ты?
— Я тоже. Вот, пришел.
— Но без охоты.
Он покраснел — опаленные солнцем щеки вспыхнули пламенем — и со смехом ответил:
— Да, удивился я. Почему именно ты?
— Потому что мы родня.
— Они тоже так говорили.
— Я сказал Эмину: когда вырастет у тебя сын, пошли его ко мне. Позабочусь о нем. Уж настолько-то, наверное, смогу.
Я лгал, чтоб успокоить его.
Он тоньше, чем мне вначале показалось. Ему было неловко просить именно меня, что-то в этом было необъяснимое.
А для меня необъяснимого не было. Вот и узнал я в конце пути, что она не забыла меня. И не знаю, приятно ли это, потому что очень печально. Она часто вспоминала меня, значит, думала обо мне. И доверяет мне единственного сына, чтоб я помог ему, чтоб не остался он деревенской голытьбою. Любит она его, наверняка так любит, что согласна расстаться, только бы вырвать его из деревенской грязи и неуверенности в будущем. Может быть, я тоже виноват в том, что детей отсылают в город, людей обманывает молва обо мне.
Раскаешься ты, прекрасная женщина, когда узнаешь.
Не знаю, какова она сейчас, мне она запомнилась своей красотой. И выражением страдания на лице, какого мне никогда больше не приходилось видеть и которое я долго не мог забыть, поскольку сам был причиной этих страданий. Из-за этой женщины, единственной, которую я любил в своей жизни, я не женился. Из-за нее, утраченной, из-за нее, отнятой, я стал суровее и замкнутее перед всеми: я чувствовал себя ограбленным и не отдавал другим то, чего не мог дать ей. Может быть, я мстил себе, людям невольно, не осознавая этого. Она причиняла мне боль, отсутствующая. А потом я забыл ее на самом деле, но было поздно. Жаль, что я не отдал свою нерастраченную нежность кому-нибудь — родителям, брату, другой женщине. Но может быть, я говорю об этом без причины, сейчас, подводя итоги. Ведь я тоже покинул ее и ушел на войну, не жалея об этом, и пожалел лишь тогда, когда ничего более нельзя было изменить.
На третий день после своего возвращения, утомленный вниманием и хлопотами родителей, я утром ушел из дому и оказался на плоскогорье повыше села, над лесом, над рекой, в каменистой пустыне, где парили только орлы, прикоснулся ладонью к большому каменному стечаку, одиноко стоящему между пустотой неба и земли, успокоенному веками и никому не открывшемуся, я вслушивался, пытаясь услышать голос камня или могилы, словно под ним скрывалась тайна жизни и смерти, я сидел над бездной, над безграничными лесами и камнем, слушал змеиное шипение горного ветра посреди двоякой опустошенности одиночества и небытия, подобно извечному мертвецу под камнем. «Эй!» — крикнул я ему, далекому, в пустынность времени, и голос мой натыкался на острые камни. Одинокий голос и одинокий ветер.
Потом я спустился в лес, бился лбом о кору деревьев, в кровь разбивал колени о жилистые корни, замирал в раскрытых руках кустов, обнимался с буками и смеялся, падал и смеялся, поднимался и смеялся. «Эй!» — кричал я этому далекому, одинокому, замурованному в могиле, он хотел взлететь ввысь. «Эй!» — восклицал я и смеялся, убегая.
Я обошел стороной село, где она жила, чтоб не видеть ее, спустился к реке, здесь не было одиночества, я принес его снизу, принес из далей, я бродил по ровному берегу и заходил на отмель, выходил на берег и снова заходил в воду, как пьяный, завороженный тихим журчанием быстрины, вода доходила мне до колен, и я представлял себя тонущим все глубже и глубже в омуте, все глубже, вода доходит до подбородка, до губ, она поднимается над головой, надо мной журчит стремнина, вокруг зеленоватая тишина, колеблющаяся трава обвивает ноги, я и сам качаюсь, как травинка, рыбки заплывают мне в рот и выходят сквозь уши, раки цепляются клешнями за пальцы на ногах, о бедро лениво почесывается большая неуклюжая рыба. Покой. Все безразлично. «Эй!» — крикнул я беззвучно и сел в рощице между рекой и дорогой, между жизнью и смертью.
Никого не было, никто не ходил этой долиной между двумя селами, все люди были в полях или сидели по домам, одиночество порождало щекочущую боль, мне было грустно, но нечем было ее заменить, пахло теплой влагой весенней земли, на деревья слетались горлинки, на отмелях плескались голуби, раскрыв крылья, окружая себя изумрудными капельками, где-то вдали глухо звонил колокол. Знакомый край, знакомые краски, знакомые звуки; я смотрел вокруг — мое, вдыхал — мое, слушал — мое.
Мое и это, что теперь опустело, что не существует.
Я страшился прийти сюда, я нюхал ветер, как волк, мое желание определяло путь, и вот он я — здесь, нет чуда, на которое я надеялся, но хорошо, но прекрасно, но тихо. Тихо, как во сне, тихо, как при выздоровлении.
Я гладил ладонью мягкую траву, только что выглянувшую, нежную, как кожа ребенка, и забывал о пробудившейся земле.
Я думал о родном крае, о родном доме, торопясь сюда, и о ней — изредка.
Сейчас я думал только о ней.
Было бы лучше, если б ты ждала меня, шептал я, было бы легче. Не знаю почему, но было бы легче. Может быть, теперь, когда тебя нет, ты важнее родного края и отчего дома. Как хорошо, что тебя нет, было бы легче, было бы лучше. Без тебя для меня мучительны чужие дали, и пустынные дороги, и странные сны, которые я вижу и наяву, но не могу прогнать их без тебя.
Я не жалею, теперь все равно, но призываю ее тень, ее исчезнувший образ, чтобы проститься последний раз, чтоб еще раз расстаться с ней.
И мне удалось призвать ее, создать ее из зеленых кустов, из мерцания воды, из солнечного света.
Она стояла передо мной, далекая, вся из тени. Дохнет ветерок — растворится.
Я желаю этого и боюсь.
— Я знал, что ты придешь,— произнес я. И следом без паузы: — Поздно, ничего больше нет, разве что в моих мыслях. Пусть и того не будет. Аллахеманет,— сказал я на прощанье.— Я не позволю тебе преследовать меня, как привидение. Ты всегда стоишь между этими горами, как луна, как река, как муэдзин на минарете, как светлое дыхание, ты заполнила собою это пространство, как зеркало, ты напоила его ароматом, как постель. Я уйду в мир, там нет тебя, в этом ином краю, и твоего образа не станет во мне.
— Почему ты спрятал голову в ладони? — спросила она.— Тебе грустно?
— Я уйду,— сказал я и закрыл глаза, опустил веки, как забрало, как засов, чтоб погасить ее тающее изображение.— Я уйду, чтоб не видеть тебя, уйду, чтоб не думать о предательстве.
— Знаешь ли, каково мне было? Знаешь ли, каково мне сейчас?
— Я уйду, чтоб избежать ненависти к тебе, чтоб стать безразличным. Я рассеял твой образ по далеким путям, его разнесут ветры и размоют дожди, я надеюсь. Во мне его смоет открывшаяся рана.
— Почему ты ушел той осенью? Человек не должен уходить, если у него есть причина остаться.
— Я должен был уйти.
— Ты меня покинул. Чего ты искал в мире? Ты вернулся печальным. Это все, что ты приобрел?
— Я печалюсь о ранах, усталости, о мертвых товарищах.
— Ты печалишься и обо мне.
— Я печалюсь и о тебе, но не хочу тебе говорить об этом. Днями, неделями шел я, чтоб увидеть тебя. По вечерам я ложился в лесу под деревом, голодный, сбив ноги, продрогший под ледяным дождем, и забывал обо всем, разговаривая с тобой. Я шагал по бесконечным дорогам, я пришел бы в ужас от их числа и от этих страшных расстояний на свете, если б я не держал тебя за руку, не касался твоего бедра, стремясь добраться до ровной дороги, чтоб закрыть глаза, чтоб ты стала мне ближе и роднее. Почему ты плачешь?
— Говори еще, как ты думал обо мне.
Щеки ее были бледны, под глазами глубокие тени от ресниц, колени дрожали на земле, рядом с ними лежали руки, ладонями опираясь на траву, как только что мои.
— Зачем ты пришла?
— Уйдем вдвоем в мир. Я брошу все и убегу с тобой.
Уже три дня она чужая жена, следы чужих рук остались на ней, чужие губы сняли с нее пыльцу. Я сказал ей об этом в отчаянии.
— Именно поэтому,— отвечала она непонятно, неразумно.
Я схватил ее за руки, как утопленник, чужую, мне безразлично, мою изначала, я не знал, что навсегда, но помнил лишь об этом мгновении, единственно важном, которое уничтожало время и сожаления, дрожащие пальцы вонзились, как когти, никто не смог бы отнять ее у меня, разве что мертвую, я держал ее сильными ладонями, пригвожденную к земле, река смолкла, гремели лишь мои колокола, неведомые, нетронутые до сих пор, все колокола, словно набат, люди сбегутся, меня не касаются люди, нет людей, о мечта моя, ставшая жертвой.
Потом колокола смолкли, свет возвратился, я обрел способность видеть и увидел ее, заново рожденную, утонувшую, белевшую на траве, зеленой, как яд, превратившуюся в голую гальку, вросшую в землю, мак цветет у нее из-под мышек, подснежник между бедер, тополиный пух покрывает светлую кожу, оставить ее, или засыпать, или опустить ее в глубокий омут, или унести к каменной могиле над лесом, лечь ли рядом с нею и стать весенней травою, побегами ивы?
Я ушел не оглядываясь, не знаю, звала ли она меня, и запомнил ее загадочной, как каменный стечак.
— Эй! — кричал я иногда сквозь просторы времени, призывая белую весеннюю могилу, но даль молчала.
Так я и позабыл.
И верю, не вспомнил бы ее сейчас, если б этой ночью, именно этой ночью, не пришел ее сын. И мой, может быть.
Знаю, я мог бы сказать, как любой дурак: не случись то, что случилось, моя жизнь была бы иной. Не уйди я на войну, не убеги я от нее, не пригласи я Харуна в город, не погибни Харун… Смешно. Чем бы тогда была жизнь? Если б я не покинул ее, если б мне не казалось легче уйти, чем противостоять всему миру, может быть, не было бы этой ночи, но эту женщину я наверняка бы возненавидел, считая, что она встала на пути моего счастья, помешала мне преуспеть в жизни. Потому что я не знал бы того, что знаю сейчас. Человек — проклятое существо, он всегда жалеет обо всех дорогах, на которые не ступила его нога. А кто знает, что ожидало бы меня на других?
— Твое счастье, что ты ушел из деревни,— мечтательно говорил мне юноша.
— Иди спать, ты устал.
— Твое счастье.
— Я рано разбужу тебя. Я уезжаю.
— Далеко?
— Хафиз Мухаммед позаботится о тебе. Хочешь остаться в текии?
— Мне все равно.
Мне тоже. Пусть сам выбирает, сам пробует. Я ничем не могу ему помочь. Никто никому не может помочь.
Он хотел поцеловать мне руку, наверняка так его научили, чтоб польстить мне и проявить благодарность, которой он не испытывает. Я не позволил.
Он ушел усталый — немалый путь был от села до города (еще дальше от города до села),— может быть, немного удивленный тем, что все удачно сложилось, может быть, огорченный, что придется остаться. Мы разошлись, холодные и чужие.
Чуть ли не с отвращением думал я о том, что могло быть иначе, если б мы обнялись, расцеловались и я бы давал ему умные советы, если б с влажными глазами держал его мозолистую руку, слезливо шепча «сын мой», если б я глуповато искал свои черты в его лице, чтоб разнежить его последний раз своим взглядом, который останется в его памяти. Воистину лучше, чтоб в памяти у него осталось нечто более умное и прекрасное.
Да, я стоял над ним со свечой в руке, пока он спал крепким сном, который отпущен только юным и несмышленым, и тщетно искал в себе нежность. Свет прыгал по впадинам его лица, грудь вздымалась спокойно, крепкие губы, похожие на мои, улыбались тому покинутому, с чем он еще не расстался. Он заменит меня здесь, думал я, и в жизни, моя кость, может быть, я, прежний; жизнь продолжается. Но ничто не всколыхнулось во мне, пришедшая мысль не согрела меня, я не стал наклоняться, чтоб поцеловать его или коснуться ладонью. Я не способен к нежности.
И все-таки я желаю тебе счастья, юный человек.
Откуда-то из тьмы ночной сторож возвестил полночь. Последняя моя полночь, последний день: своим концом встречу я его начало.
Я осознаю это, но странное дело, все, что должно случиться, кажется далеким и совсем нереальным. Глубоко в душе я верю, что оно не случится. Я знаю, что произойдет, но все во мне ухмыляется, противится, сопротивляется. Это произойдет, но это невозможно. То, что я знаю, недостаточно. В моем сердце еще слишком много жизни, я не согласен примиряться. Может быть, и потому, что я пишу эти слова: я не сник, я противостою смерти.
Но когда я отложил перо, то долго не мог снова взять его оцепенелой рукой из-за усталости или безволия, из-за мысли, что подсказала трусливо: нет никакого смысла в том, что я делаю. И вот я остался беззащитным, мир вокруг ожил. А мир — это тишина и мрак.
Я встал и подошел к открытому окну. Мрак, тишина. Полная, окончательная. Нигде ничего, нигде никого. Перестала биться последняя жилка, угас последний луч. Ни голоса, ни дыхания, ни капельки света.
О мир, пустота, почему именно сейчас?
И тут в этой глуши, в этой смертоносности раздался чей-то голос, бодрый, молодой, чистый, и запел странную песню, полную мечты, тихую, но свежую и сильную. Как песня птицы. И так же смолк, как возник, внезапно. Может быть, его задушили, как птицу.
Но во мне он остался жить, он разбередил меня, взволновал, встревожил. Этот обыкновенный незнакомый мужской голос, на котором не остановилось бы мое внимание прежде. Может быть, оттого, что он родился в тишине того мира, может быть, оттого, что не боялся или же, напротив, боялся, или оттого, что прилетел ко мне, сочувствуя и ободряя.
Пришла запоздалая нежность. Человек, что поешь в пугающей тьме, я слышу тебя. Твой хрупкий голос звучит для меня назиданием. Но зачем оно теперь?
Где ты, Исхак, существовал ли ты когда-нибудь?
Ты страшный обман, золотая птица!
В комнате рядом бодрствует хафиз Мухаммед, возможно, он узнал и ждет, что я позову его или сам приду к нему, он дает мне возможность свести счеты с самим собой и вымолить милость у аллаха. Наверняка он оплакивает бессильными старческими слезами горе мира сего. Он жалеет всех людей. Не любит их по-своему, я — по-своему. Поэтому мы одиноки.
А может быть, он пожалел бы меня отдельно, может быть, он выделил бы меня из этой всеобщей печали и принял меня как последний человек последнего человека.
Сказать ему: я один, хафиз Мухаммед, один и опечален, протяни мне руку и лишь на миг стань мне другом, отцом, сыном, дорогим человеком, близость которого радует, позволь мне поплакать на твоей впалой груди, поплачь и ты обо мне, не о всех людях, задержи свою ладонь влажную на моем темени, это недолго продлится, а мне это необходимо, недолго, ибо вот уже запели первые петухи.
Первые петухи! Пакостные вестники, они подстегивают время, пришпоривают его, чтоб оно не медлило, поторапливают несчастья, поднимают их из их постелей, чтоб они встретили нас во всеоружии. Замолчите, петухи, остановись, время!
Закричать ли мне в ночь, созвать людей, искать помощи?
Напрасно. Петухи безжалостны, они уже поднимают тревогу.
Я сижу на коленях, слушаю. В безмолвии комнаты где-то за стеной, на потолке, в невидимом пространстве тикают часы, предсказывающие беду, безостановочный ход судьбы.
Ужас заливает меня, как вода.
Живые ничего не знают. Научите меня, мертвые, как можно умереть без ужаса или хотя бы без страха. Ибо смерть бессмысленна, как и жизнь.
Призываю в свидетели чернила, и перо, и написанное пером;
Призываю в свидетели серые сумерки, и ночь, и все то, что она оживляет;
Призываю в свидетели месяц, когда он нарождается, и зарю, когда она начинает алеть;
Призываю в свидетели день Страшного суда и укоряющую себя душу;
Призываю в свидетели время, начало и конец всего — ибо воистину человек всегда оказывается в убытке.
Собственноручно написал Хасан, сын Али:
Я не знал, что он был так несчастен.
Мир его измученной душе!
1962—1966
роман
Перевод О. Кутасовой
И з д а н и е в т о р о е

Meša Selimović
TVRÐAVA
roman
Sarajevo
1970
Маше и Есенке
Не могу рассказать, что было под Хотином, в далекой земле русской. Не потому, что не помню, а потому, что не хочу. К чему рассказывать о смертоубийстве, страхе людей, об изуверстве чужих и своих; об этом не надо бы и помнить — не оплакивать, не воспевать. Лучше всего забыть, изгнать из памяти людской всю эту мерзость и чтоб дети не пели песен про отмщение.
Скажу только, что я вернулся. Если бы я не вернулся, я не написал бы этого, и никто не знал бы, как все было. То, что не записано, того и нет; было и быльем поросло. Я переплыл вздувшийся от дождей Днестр и вот спасся. Остальных перебили. Со мной вернулся Молла Ибрагим, ротный писарь, с которым я сдружился во время нашего трехмесячного пути домой, к далеким родным местам; вернулся он потому, что я вплавь выволок его пробитую лодку из опасной стремнины, полдороги нес его, больного, на спине, тащил, ободрял, когда он падал ничком или валился на спину и устремлял неподвижный взгляд в чужое мутное небо, призывая смерть.
Я никому не рассказывал о Хотине, когда мы вернулись. Возможно, от усталости и смятения, оттого что хотинская война выглядела сейчас какой-то странной, словно все это происходило в другой жизни или я был совсем другой, не похожий на того, кто со слезами на глазах смотрел на свой родной город, с трудом его узнавая. Я ни о чем не жалел, меня не мучили раны, я не чувствовал себя обманутым, просто я не мог избавиться от пустоты и смуты в душе. Когда я оставил место учителя, простился с детьми, которых учил, и отправился воевать, я шел как на светлый праздник, а попал в болота, неоглядные днестровские плавни под Хотином, где были только вши и болезни, раны и смерть,— попал в сущий ад.
Из всего того чудовищного, что зовется войной, в памяти осталось множество мелочей и только два события, и рассказываю я о них не потому, что они тяжелее прочих, а потому, что не могу их забыть.
Первое связано с битвой, одной из многих. Мы брали редут, окруженный земляным валом. Много людей полегло на подступах к редуту, и наших и их: черная вода плавней побурела от крови и отдавала вековыми болотными отложениями и гниющими трупами, которые никто не убирал. А когда мы взяли земляной вал, разнесли его пушками и собственными лбами, я, обессилев, остановился: какая чушь! Что мы получили? Что они потеряли? И нас и их накрыла единственная победительница — безмятежная тишина древней земли, равнодушной к страданиям людей. В тот вечер я сидел, обхватив голову руками, на мокром пне перед тощим костром, который ел глаза,— сидел, оглушенный криками болотных птиц, напуганный густым туманом днестровских плавней, неотступно затягивающих нас в небытие. Не знаю, как в ту ночь мне удалось побороть страх в себе и вокруг себя, глубочайшую горечь поражения — после победы! Я сам себя не понимал. В ту долгую бессонную ночь, во мраке, в тумане, под крики и пересвист птиц, испытывая безотчетное отчаяние, безумный ужас не перед неприятелем, а перед чем-то в самом себе, я родился во второй раз, таким, какой я теперь, навсегда утратив уверенность в себе и в людях.
Другой случай омерзителен, и я тщетно пытаюсь выкинуть его из головы. Но он часто возникает в моей памяти вопреки желанию. Все воскрешает его, и даже совершенно противоположные вещи: чей-то веселый смех, голубиное воркованье младенца, трогательная песня о любви. А вспоминается мне этот случай всегда с конца, не так, как я сейчас рассказываю, поэтому в чем-то рассказ мой, может быть, выйдет и неточным, но иначе будет непонятно. В третьей роте мы, десятеро сараевцев, напуганные незнакомым краем, незнакомым врагом, незнакомыми другими солдатами, сразу стали держаться особняком. Друг в друге нам виделось что-то близкое, родное, нас объединяли мысли о родных местах и семьях, мы молча переглядывались и безмолвно задавались вопросом: что мы найдем на чужой стороне, кроме своего и чужого горя? Среди земляков я чувствовал себя как дома. Это были простые, добрые ребята. Одни пошли на войну по своей охоте, других погнала нужда.
Ахмед-ага Мисира, портной,— помню я его только пьяным — долго мечтал стать агой, а когда ему это удалось, его тотчас взяли на войну, о чем он, конечно, не мечтал. Гневливый старый Хидо, городской глашатай, бежал от нищеты. Могучий Мехмед Пецитава, вечно ходивший с голой грудью, последними словами крыл и войну, и того, кто ее выдумал, и себя за то, что вызвался в добровольцы, но почему вызвался, никогда не поминал. У Ибрагима Паро, переплетчика,— верхняя губа у него была заячья, примета счастливчика,— в Сараеве осталось три жены, и он шутил, что на войну сбежал от них. Двое сыновей цирюльника Салиха с Алифаковаца хотели избавиться от цирюльного ремесла, и, хотя один из них, старший, и прихватил из отцовской цирюльни бритву, брил он только себя и ни за что на свете не соглашался брить никого другого. Хаджи Хусейн Пишмиш завяз в долгах и укрылся от своих кредиторов на войне. Смаил-ага Сово, медник, пошел за компанию с другими, в пьяном угаре и воодушевлении, но воодушевление испарилось так же быстро, как и винные лары. Авдия Супрда, процентщик в мирной жизни, знаменосец на войне, честно и добросовестно выполнял оба эти дела, из которых не знаешь, что хуже.
И все погибли. Ахмед Мисира пробыл агой недолго, но заплатил за это дорого. Ибрагим Паро навсегда избавился от своих жен: добили его трое русских солдат, за каждую один. Хусейн Пишмиш все свои долги на этом свете оплатил собственной головой, сложив ее в днестровских плавнях. Старший из братьев как-то на рассвете в одном украинском селе, где мы расположились на постой, перерезал себе горло бритвой.
Вернулись, кроме меня, лишь Смаил-ага Сово да знаменосец Авдия Супрда. Смаил-ага убежал домой незадолго до конца войны; однажды ночью он исчез, спустя несколько месяцев, как только война окончилась, объявился в Сараеве, обезумевший от тревоги за жену и троих детей; его с трудом узнали, но, узнав, а это случилось тут же, повесили как дезертира. Знаменосец Авдия Супрда, смельчак, не ведающий страха, ходивший в десятки атак и невредимым вышедший из-под тысячи пуль, вернулся после роспуска войска в свое село Ласицу и занялся садоводством. Упал с груши и умер.
Вот так и получилось, что я, единственный оставшийся в живых, рассказываю о них, мертвых. Честно признаюсь, такой оборот дела меня устраивает больше, чем если бы они были живы и рассказывали обо мне, мертвом, к тому же неизвестно еще, что бы они обо мне рассказали, как и они не знают, что я о них скажу. Они свое сделали и исчезли бесследно. Останется только то, что я, правдиво или лживо, поведаю о них.
Итак, десятеро сараевцев вместе с тысячами других воевали за то, что им было не нужно, отстаивали интересы империи, нимало не задумываясь над тем, что ни им до империи нет никакого дела, ни империи до них; осознали это позднее их дети, для которых никто и пальцем не пошевельнул. Меня долго мучила бесполезная мысль, как это глупо и несправедливо, что столько хороших людей сложили свои головы за химеру, которой нет даже названия. Что им далекая Россия, далекий Днестр? Что там делать портному Ахмеду Мисире, переплетчику Паро, двум сыновьям цирюльника Салиха с Алифаковаца, меднику Сово, глашатаю Хидо? Удержи они этот злосчастный Хотин, захвати они чужую землю, что бы изменилось? Разве стало бы больше справедливости и меньше голода, а если б и стало, неужто не застрял бы в горле кусок, отнятый у другого? И разве жизнь пошла бы счастливее? Нет, ничуть. Другой портной Мисира кроил бы сукно, согнувшись в три погибели, а потом пошел бы умирать в какие-нибудь неведомые болота. Два сына другого цирюльника с Алифаковаца, связанные братской любовью, тоже помчались бы навстречу смерти в какой-нибудь другой Хотин на какой-нибудь другой Днестр.
Умный Молла Ибрагим говорит, что ничего глупого и несправедливого он в этом не видит. Такая уж у нас судьба. Когда бы не было войн, мы сами перебили бы друг друга. Поэтому любая мудрая империя ищет свой Хотин, чтоб пустить дурную кровь народу и отвести от себя накопившееся недовольство. Иной пользы или иного ущерба нет ни в победе, ни в поражении. Кто и когда после победы сохранил ум? А кто извлек урок из поражения? Никто. Никогда. Люди — это злые дети, злые делами своими, дети разумом. И во веки веков так будет.
Я не соглашался с Моллой Ибрагимом, хотя в чем-то он, вероятно, и прав. Долго не мог я примириться со смертью товарищей в хотинской трясине. Мне все это казалось немыслимым бредом, словно какая-то непостижимая, но страшная сила играла людьми. Я не мог освободиться от гнета памяти — слишком быстро я из безмятежной докуки учения попал в жестокие будни смертоубийства. А Молла Ибрагим присовокуплял: хорошо, что я виноватю непостижимую силу. Хуже было бы, если бы я стал искать виноватых на земле.
Однако ни я, ни всезнающий Молла Ибрагим не в силах были объяснить случай, о котором я хочу рассказать. Конечно, за долгие месяцы войны люди переменились, огрубели, стали жестче то ли из-за бескрайнего пространства, отделившего их от дома, то ли из-за суровости войны, постоянной близости смерти; и все-таки неужто можно настолько измениться, что в какой-то момент цепенеешь от ужаса и спрашиваешь себя в полной растерянности: кто эти люди? Разве это те самые люди, с которыми ты жил бок о бок два года? Будто война заразила их злом, и оно, до поры до времени затаившееся в них, быть может им самим неведомое, вдруг прорывается, как болезнь.
Под вечер я вернулся после караула к постою — к мазанке, которая стояла на клочке твердой земли среди болот. В ней жила молодая еще женщина с тремя детьми и тощей, хилой коровенкой в плетеном хлеву. И за детьми, и за коровой она ходила сама, муж ее, скорее всего, был по ту сторону болот — против нас. Она не говорила о нем, она вообще с нами не разговаривала, а мы не спрашивали. От солдат она старалась держаться подальше, а вечером затворялась с детьми в мазанке.
Была она точь-в-точь пригожая молодайка из нашего посавского села, мы провожали ее глазами, когда она шла в хлев или в осоку, суровая, прямая, но ничего не говорили. Может быть, из-за детей. Или из-за знаменосца Авдии, который любому снес бы голову с плеч за одно сальное слово о женщине. А возможно, нам было совестно друг перед другом.
В тот день, когда все произошло, знаменосца не было, он ушел по каким-то своим делам, а я был в карауле. Встретили меня хмуро, в глазах угроза. «Иди в хлев»,— сказали мне тоном приказа и несколько раз повторили, подгоняя меня и не отвечая на мои вопросы. Дети сидели на пороге мазанки.
Я обогнул дом и стог осоки, вошел в хлев. На земле лежала женщина. Ибрагим Паро стряхивал с себя солому и паутину и, затянув ремень, выскочил, не глядя на меня.
Женщина лежала неподвижно, ноги ее были голы. Она даже не пыталась их прикрыть, ждала, когда все кончится. Я опустился возле нее на колени. Бледное лицо, глаза закрыты, кровоточащие губы сжаты. Ужас сокрушил ее. Я прикрыл ее белой рубахой, платком стал вытирать кровь с лица. Она открыла глаза и с содроганием посмотрела на меня. Я улыбнулся, думая ее успокоить, не бойся, мол, я ничего тебе не сделаю. Но она как будто испугалась еще больше, глаза вспыхнули ненавистью. Я вытащил из сумки сухарь — в карауле не съел — и протянул ей: на, детям отдашь. В ярости она отбросила сухарь и плюнула мне в лицо. А я — я ничего не сделал, не пошелохнулся, не утерся. Мука ее пригвоздила меня к месту. В мгновение ока я понял все. Учини я по примеру прочих насилие над нею, уже изнасилованной, она перенесла бы это стиснув зубы и всю жизнь ненавидела бы нас как последних собак. А человеческое участие, сострадание тут же после насилия было для нее тем необратимым несчастьем, которым покарал ее господь бог и которое вовек не избудешь: в ней проснулась гордость, она осознала меру своего унижения. Из жертвы непостижимой судьбы она превратилась в жертву человеческой жестокости.
Я оскорбил ее сильнее, чем все остальные. Она встала и пошла к дверям, потом передумала, взяла сухарь и вышла, низко опустив голову.
Утром мы сидели перед хлевом, хмурые, злясь друг на друга, на себя и на весь мир, подавленные болотной мглой, а еще больше той, которая заволокла наши души. Женщина по одному вывела детей на порог и умыла их, потом прошла в хлев, не поднимая глаз, закутавшись в платок, чтоб скрыть кровавые печати на лице, подоила корову и унесла молоко в дом.
Паро, вздыхая, то и дело поминал бога.
Остальные сидели молча, в полном оцепенении.
Я встал, не выдержав этого напряженного, томительного молчания и холодной ненависти женщины; чтобы чем-то заняться, пошел к трухлявой колоде, возле которой лежал забытый топор, и взялся рубить сушняк. Женщина вышла из дому, выхватила у меня из рук топор и заперла за собой дверь.
Внезапно мы почувствовали себя в тисках ненависти. Наверняка она стояла за дверью, сжимая топор в руке. Как ее вчера одолели? Обманом, силой, застали врасплох? И всё, видимо, она снесла без звука, чтобы не напугать детей. Я был потрясен, сражен, уничтожен, но о женщине и о том, что произошло вчера, не проронил ни слова, другие тоже молчали. Все это костью стояло в горле.
Запертая дверь мазанки, спрятанные дети были немым укором.
Старший из сыновей цирюльника Салиха с Алифаковаца встал и пошел к осоке — видно, оправиться. Его долго не было, и младший брат пошел его искать и нашел за осокой — мертвым. Тот располосовал себе горло бритвой. Не сразу ему удалось распилить жилы от уха до уха, разрезать гортань и дыхательное горло, кровь била фонтаном, уходя в сырую землю. Боль, наверное, была адской, но он даже не застонал. Мы были в каких-нибудь пятнадцати шагах и ничего не слышали.
И все время, пока мы ждали, чтоб пришли из штаба составить акт о смерти, поскольку человек умер не от пули или вражеской сабли, мы не сводили глаз с разверстой кровавой раны на его шее и со страхом думали о том, что станет теперь делать младший брат, который без слез и рыданий пожирал глазами перерезанное горло, не позволяя прикрыть покойника. Слышны были только его глухие стоны.
Когда Молла Ибрагим со своим молодым помощником составили акт, совершенно бессмысленный, так как причина самоубийства осталась неизвестна — о вчерашнем насилии никто не упоминал, а ничего другого не приходило в голову,— женщина без слов указала, где лежит лопата, и снова заперлась в доме.
Младший брат сам выкопал могилу в сырой земле, положил охапку осоки на дно, в воду, и сам опустил туда брата, упорно отказываясь от нашей помощи. Второй охапкой осоки он укрыл мертвого, а на лицо ему положил свой платок. Забросав могилу землей, он подождал, пока все мы кинем по горсти грязи на сырой холмик, и движением руки попросил нас уйти.
Он долго просидел у могилы в полном одиночестве. Кто знает, о чем он думал, что говорил себе и мертвому брату, которого любил больше самого себя. Об этом мы уже никогда не узнаем. Наконец он встал. Но не нагнулся, не поцеловал могилу, не прочел молитвы, просто отвел глаза от сырого холмика и пошел в сторону болот. Мы звали его, бежали за ним, уговаривали вернуться. Он даже не оглянулся, да и слышал ли он нас? Мы видели, как он вошел в воду сначала по щиколотку, потом по колени и исчез в осоке. Куда он пошел, зачем, изменил ли ему рассудок, трудно сказать. Больше его никто не видел.
Молодой помощник Моллы Ибрагима, студент Рамиз, чтоб не возвращаться по ночной поре, остался у нас ночевать.
Он пустился с нами в разговоры, но больше слушал, нежели говорил, а говорил он удивительные вещи, будто ему было известно про нас все.
Я рассказал ему о том, что произошло, и он ответил, устало усмехаясь:
— Их убивают, они убивают себя. Народ только и знает, что голод, кровь, нищету, мучительное прозябание на своей земле и бессмысленную смерть на чужой. А богатеи вернутся домой, как один, и начнут плести сказки о славе и пить кровь из тех, кто останется в живых.
Никогда мне не приходилось слышать таких речей. Мы крыли почем зря и небо, и землю, и бога, и людей, но такого и в мыслях не держали.
— Зачем ты пришел сюда? — спросил я его.
— Чтоб видеть и это,— ответил он, задумчиво глядя в окружающую нас черную ночь.
Забылись другие события, более важные, тяжелые, жуткие, а если не забылись, они не преследуют меня как привидения. Я теперь почти не вспоминаю о сражениях, ранах, жестокости, которую называют геройством, об отвратительной кровавой бойне, о бездушном упоении боем, о животном страхе. Не вспоминаю широкий Днестр, вздувшийся от дождей, когда нас отрезало от основной армии, оставшейся на другом берегу, когда тысячи солдат полегли или попали в плен, а сотни потонули в страшной реке. Не вспоминаю, как переплывал Днестр, волоча за собой в продырявленной лодке ротного писаря Моллу Ибрагима, который обмарался от страха и умолял меня никому об этом не рассказывать. Забылось множество событий, которые могли бы запомниться и близостью смерти, и чувством ужаса или стыда, а вот эти два случая почему-то засели в памяти. Скорее всего потому, что я не в состоянии был понять их и объяснить, а загадки дольше держатся в памяти, чем простые истины.
Впервые я все это рассказал одной девушке, причем рассказал по порядку, с начала до конца. Тогда только и для меня самого это сложилось в связный рассказ, потому что до сих пор я блуждал в чаще разрозненных фактов, тонул в тумане страха, будто все происходило за пределами определенного времени и определенного смысла, как ночной кошмар, в который не можешь поверить, но и отбросить тоже не в силах. А почему именно ей и почему об этом, я и сам не знаю. Мне показалось, что она умеет слушать; понять, конечно, не поймет, но порой важнее, чтоб тебя выслушали, чем поняли.
Опыт научил меня: то, что не можешь объяснить себе, попробуй объяснить другому. Себя можно ввести в заблуждение частью картины, которая неожиданно выходит на первый план, трудно выразимым чувством, ускользающим от мучительного процесса осознания в одурманивающий туман, не требующий объяснения. Когда рассказываешь другому, нужны точные слова, их и подбираешь, чувствуешь, что они где-то в тебе, гонишься за ними, за их тенью и вдруг видишь их на лице собеседника, когда во взгляде его начинает сквозить понимание. Собеседник — повитуха при тяжелых родах слова. А может, и того важнее. Если он хочет понять тебя.
А она хотела, и сильнее, чем я мог ожидать. По мере того как я рассказывал, с ее лица сходила жизнерадостность, которая, возможно, и вызвала меня на непредвиденный разговор, и оно приняло вдруг зрелое и печальное выражение.
— Боже, как люди несчастны! — отозвалась она коротко.
А мне это как-то не приходило в голову, хотя тут показалось, что как раз об этом я и думал. Мысль не очень глубокая и отнюдь не новая; люди повторяют ее с тех пор, как начали думать. И не так удивила меня сама мысль, хоть и прозвучала она для меня неожиданно, сколько убежденность, с какой она была высказана. Девушка как будто отомкнула самый свой глубокий тайник, открывшись передо мной, вообще первый раз открывшись перед посторонним вот так, до конца. Я был счастлив, что обнаружил хоть что-то новое в другом человеке, и только для себя.
Зовут ее Тияна. Отца ее, Мичу Белотрепича, христианина, убили неизвестные, так и не найденные убийцы два года назад, когда он со скорняжным товаром отправился на ярмарку в Вишеград. Власти не особенно усердствовали в розыске убийц, из чего можно было заключить, что истина их не особенно волновала или что они знали ее и стремились к тому, чтоб поскорее предать забвению.
Все странно, все не так, как надо. Но я не выбирал обстоятельств, и обстоятельства не выбирали меня: мы столкнулись, как птица с бурей.
Когда я вернулся с войны, меня встретили дурные вести. Семье моей пришлось хуже, чем если бы она была в Хотине: отца, мать, сестру и тетку — всех скосила чума. Даже могилы их были никому не ведомы; в один день умирали сотни, и живые торопились зарыть мертвых где придется. Ветхий отцовский дом сгорел, подожгли его цыгане, схоронившиеся в нем зимой от холода, подожгли нечаянно, по небрежности — чужой же! Время от времени я ходил смотреть на закопченные стены и мертвые глаза мертвого строения, не в силах вообразить в нем его бывших хозяев, словно оно было пустым от века. Не представлял я и себя в нем в прежние времена. В памяти моей жил не я, а кто-то другой. Сад разорили. Двор зарос терновником, от всего веяло грустью и запустением. Меня уговаривали продать усадьбу, я не хотел, словно еще надеялся, что вернутся воспоминания, а вдруг и самому понадобится. Но это пришло в голову позднее, в то время мне все было безразлично. Как-то особенно безразлично, когда не чувствуешь ни глубокой тоски, ни тяжкого горя.
Меня охватило цепенящее равнодушие — не горюю, не радуюсь. Я повидал столько смертей, что собственное спасение воспринял как нежданный подарок, полученный неизвестно как, неизвестно от кого, почти как чудо. И если до моего сознания еще не дошла эта, можно сказать, неправдоподобная истина, то тело мое в полной мере постигло ее значение. Мне была подарена, по сути дела, вторая жизнь, все остальное было неважно, пока неважно. Это была надбавка, счастье, которым обделили тысячи других людей, а тысячи не могли его оценить, ибо не прошли путь, который прошел я. Мало кто в городе мог сказать: я счастлив, я живу; пожалуй, только я один. Я не говорил таких слов, хотя чувствовал это каждой жилкой, всем своим существом. Другим это было недоступно, потому что они не висели над пропастью.
Ничто иное меня не волновало, даже завтрашний день и, возможно, новые беды; меня никуда не звали, ничего не предлагали, и я ничего не просил. Никого ни в чем не упрекал. Людям я, по всей видимости, казался безумцем. У меня не было службы, не было дома, ничего не было, но меня это совершенно не трогало.
Часами я сидел на камне перед Беговой мечетью и смотрел или на прохожих, или в небо, или в пустоту. Слушал воробьев, их забавное чириканье, напоминающее то незлобивую ссору, то веселую болтовню. Они походили на обыкновенных людей — сварливых, добродушных, веселых, легкомысленных, миролюбивых, довольствующихся малым, стойких в несчастье, способных на мелкое мошенничество, лишенных спеси. Они были кроткие и безвредные, как дети. И детей я любил, их звонкие голоса, быстрое шлепанье босых ног, радостный смех, бесхитростную грубость речи. Только когда начиналась драка, я в волнении закрывал глаза и затыкал уши.
Я любил все, что не напоминает о войне, я любил мир.
Но потом и мир лишил меня мира.
К мечети приходил и Салих Голуб, бедный продавец шербета с Вратника. Он снимал с плеча тяжелый кувшин и садился на камень, с трудом переводя дыхание. Отдохнув, он вполголоса напевал себе под нос, прикрыв веки и прислонившись спиной к стене. Знал он всего несколько слов из одной-единственной песни — песни о девушках, что плачут по парням, уходящим на войну, и лишь их и пел, упорно возвращаясь к началу, как только доходил до границы того, что удержалось в его памяти. Бледный, худой, с желтыми веками, он напоминал умирающего. Тридцать лет он содержит свою слепую мать, из-за нее не женился, из-за нее с утра до вечера таскает тяжелый луженый кувшин с подсахаренной водой. Как только он засыпал, подбегали дети, наливали шербет и пили. А я им улыбался.
У Салиха Голуба был брат в Горажде, но братья не особенно любили друг друга. Брат его владел лесами и поместьями, арендовал монастырские угодья, давал деньги под проценты и нажил большое состояние, о размерах которого, правда, стало известно только после его смерти. Убили его гайдуки Бечира Тоски на Гласинаце, где он держал конюшни, а поскольку жена его умерла еще раньше, богатство досталось брату и матери. Так к Салиху Голубу в одну ночь привалило счастье, какое ему и во сне не снилось.
На другой день он пришел к мечети, ничуть не счастливее обычного, спокойно рассказал, что произошло, и предложил мне или взять у него деньги, чтоб начать какое-нибудь дело, или поселиться вместе с ним в Горажде и помочь ему управлять всеми владениями. Ему словно хотелось поделиться с кем-то своим несчастьем. Мой отказ Салиха не удивил. Он поглядел на камень, на котором столько лет сидел и напевал себе под нос, и ушел, понурив голову. В ту же ночь он умер то ли от радости, то ли от горя. Мать его вскоре вышла замуж за ходжу Шахинбашича, который походил на женщину больше, чем она сама. И ему и ей было по семьдесят. Все сладилось без обмана: у нее не было глаз, у него — денег. Жизнь обманула лишь Салиха Голуба.
Больше я не ходил к мечети.
Меня потянуло на речку, быструю, прозрачную, неглубокую. Может, из-за хотинских плавней или мутного Днестра, широкого, как море. А может, просто захотелось спокойно смотреть на воду, ни о чем не думая. Все уходило мирно, с тихим шелестом, все — мысли, воспоминания, жизнь.
Мне было хорошо, я был почти счастлив. Часами я глядел на сверкающую воду, подставлял руку под легкую волну, ласковую, словно живое существо. И это было все, чего я хотел и о чем мечтал.
Вырвал меня из этого сна Молла Ибрагим. Его тень упала на меня, когда я блаженствовал у речки.
— Смотришь? — спросил он.
В голосе его звучала жалость, звучала тревога.
Я улыбнулся, но ничего не ответил.
— И каждый день так?
— Каждый день.
— А что ты тут делаешь?
Я пожал плечами.
— Неужто не надоело глядеть на воду?
Я удивленно посмотрел на него: разве это может надоесть!
— Что ж, так и будешь сидеть?
— А что?
— На что ты живешь?
Я снова пожал плечами. Я не знал, на что я живу, да и разве это важно?
— С ума сойдешь один-то.
— Не сойду.
— Ударят морозы, пойдут болезни, а там и старость не за горами. Что тогда?
— Не знаю.
— Ты что, рассердился на кого-нибудь? Грустишь? Тяжелые сны видишь?
— Не вижу я тяжелых снов, ни на кого не сержусь и грустить не грущу.
— Ты помог мне в самую страшную минуту. И я хочу помочь тебе.
— Ты мне ничего не должен.
— Я открыл писарскую. Будешь работать у меня по силе возможности. Рука у тебя, конечно, заскорузла, но со временем помягчает.
— Ты мне, Молла Ибрагим, ничего не должен. Когда я увидел лодку, я ухватился за нее невольно. Верно, подумал, что так легче выплыву.
— Я не долг возвращаю. Мне нужен помощник. Ты будешь работать, я буду платить. Сколько смогу и сколько совесть велит. Не разбогатеешь. А я предпочитаю иметь дело со знакомым человеком.
— Привык я к реке и к этой вот тишине.
— Будешь приходить сюда после работы или когда дел нет.
— Ну не знаю. Как скажешь.
— Писарская — загляденье, чисто игрушка.
Писарская оказалась в центре базара, в Муджелитах, под часовой башней, крохотная и неказистая, жаркая и душная летом, холодная, как каземат, зимой, рядом с городскими нужниками, откуда невыносимо несло зловонием, так что я и Молла Ибрагим, как на молебне, по очереди кадили ладаном и жгли пахучие корни, чтоб умилостивить нечистые силы смрада. Однако куренье мало помогало, и нам не оставалось ничего другого, как привыкнуть.
Но и это меня не трогало. Я смеялся:
— Человек привыкает к любому смраду.
Молла Ибрагим отвечал, добродушно и мягко улыбаясь и не поминая имени божьего, поскольку мы были одни:
— Я всегда говорю: только бы не хуже!
— Как сказал один умник, когда его вели к виселице.
— И правильно! Ведь его могли убить сразу, и ему бы уже не достались те несколько мгновений жизни по дороге на виселицу, когда он еще мог надеяться.
— Пустая надежда.
— Какая ни есть. Все лучше, чем ничего. А вонища, по правде сказать, мне даже нравится.
— Нравится?
— Да. Почему городские нужники здесь? Потому что это центр базара. А это-то и хорошо, никто мимо не пройдет. Ведь, выбирая между бедностью на чистом воздухе и достатком с вонью, умный человек не станет долго размышлять. За двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь, от добра добра не ищут. Только бы не хуже!
— Аминь.
Молла Ибрагим так счастлив начатым предприятием, что просто удивительно, как он раньше за него не взялся. На войну он пошел добровольно, надоела скучная должность имама в мечети и учителя в школе, а еще больше — восемнадцать грошей в год жалованья. Соблазнился пятидесятигрошовым содержанием армейского писаря, дармовыми солдатскими харчами, а втайне понадеялся и на какой-то счастливый случай, на чью-нибудь поддержку, благодаря которой, вернувшись с войны, он выбьется из нищеты. А вернулся он без денег, раздетый, больной, без всяких видов хоть на какую-то службу, не говоря уж о господской. Дома он нашел на двух детей меньше, чем оставил,— чума унесла, и возблагодарил бога, что их оказалось не больше, как нередко случалось с бескорыстной помощью тех, кто на войну не пошел. Жена не попрекала его за дурацкое шатание по свету, хоть и имела на то право, а лишь вознесла господу молитву за то, что муж пришел живой, иначе с тремя оставшимися детьми мыкаться бы ей одной по гроб жизни. Только и сказала ему:
— Охота тебе в твои-то годы шататься по свету? Неужто здесь нельзя быть писарем?
Будто он по собственной прихоти пошел на войну! Разве бедняки выбирают? Делают, что могут, лишь бы свести концы с концами. Но постепенно он начал привыкать к этой мысли. А может, попробовать? Может, и ни к чему искать счастье на чужой стороне? Он пошел к городскому богатею Шехаге Соче, занял у него денег и открыл писарскую. Шехага Соча без дальних слов дал ему денег, причем без векселя и, что самое ценное, без процентов. Нашел он и помещение (переплетчик Ибрагим Паро погиб под Хотином), привел его в порядок, очистил от клея, мышиных объедков, купил кое-какую мебель, бумагу, письменные принадлежности и стал ждать клиентов, моля бога о помощи. И бог помог: клиенты повалили сверх всякого ожидания, и он убедился, что женина брань может сослужить хорошую службу, если отнестись к ней как к совету и если счастье тебе улыбнется. А ему оно явно улыбнулось, словно хотело сторицей вознаградить за все то время, когда упорно его обходило. Он же знал (об этом он сказал мне, когда мы в первый день под вечер шли домой), что не было бы ни писарской, ни клиентов, ни счастья, если бы не божья милость и я, Ахмед Шабо, подарившие ему жизнь. Бога он поблагодарил за милосердие, а меня начал искать сразу, как только малость огляделся. И сделал это не из благодарности, а по любви: он принял меня в свое сердце как сына и был рад, что на свете есть такой человек и что ему дано было меня встретить. Ведь куда легче встретить плохих людей, их-то гораздо больше.
И я это знал, поэтому меня смущала его доброта. То ли он тоже чувствовал себя счастливым оттого, что остался жив, то ли не мог забыть смерть, уже стоявшую у него за спиной?
Невольно, сам того не желая, я все больше входил в это удивительное дело, о существовании которого я едва ли раньше и слышал. Оно открыло мне изнанку жизни. Или ее суть. Все горести мира стекались в нашу провонявшую писарскую, все страдания и беды, вся алчность, все самодурство и безумие. Мы писали прошения о выплате задержанного жалованья старым солдатам, об устранении действительной или вымышленной несправедливости, составляли иски в суд на имущество, всевозможные жалобы — кого-то обидели, обманули, у кого-то отняли, кому-то не возвратили деньги, кто-то с кем-то поссорился, а причины ссоры уже канули в вечность… Порой казалось, что мир свихнулся и смердит, как городские нужники возле нашей писарской.
А Молла Ибрагим делал свое дело, хладнокровно разбирался в страстях, выслушивал рассказы об алчности, пробуждал надежду и в правых, и в виноватых — словом, удовлетворял потребность людей в справедливости, пусть воображаемой, ничему не удивляясь, никого не осуждая, все принимая как должное — люди ведь! Создавалось впечатление, что он стоит над этим горем, хотя он жил им.
— Что скажешь, плохое у нас ремесло? — спрашивал он меня весело, довольный и собой, и клиентами, и молодым помощником, которого удалось излечить от полной безучастности и опасного стремления к одиночеству.
Он в самом деле вырвал меня из странного оцепенения, и я не переставал удивляться неведомой мне жизни. А когда солдат снова погнали на войну, потому что русские взяли Бендеры, Браилу, Измаил, Килию и другие города до самого Дуная, неграмотные женщины толпами повалили в писарскую, чтоб писать мужьям и сыновьям письма, которые или не дойдут до них, затерявшись в военной сутолоке, или застанут их мертвыми. Наверное, и мои родители посылали мне такие письма, в которых наказывали остерегаться простуды и скорее возвращаться. И цирюльник Салих с Алифаковаца писал письма двум своим сыновьям — других-то детей у него нет, а может, и сейчас пишет, адресуя их на третью роту, от которой осталось одно название и в которой никто и знать не знает, что некогда под Хотином воевали два брата с Алифаковаца, а отец гневается на бессердечных сыновей, что не торопятся с ответом. Я не могу сказать ему правду. Зачем она ему?
Молла Ибрагим для меня загадка. Смотрю я на него и не могу понять, чего в нем больше — благородства или бесстрастной деловитости. Он любезно принимал женщин и стариков, привычно выслушивал их, не умиляясь и не горюя, но вместе с тем они чувствовали в нем человека близкого и надежного, что рождало в них трудно объяснимое доверие. Я обычно ждал, когда мне скажут, о чем надо написать, и дело шло через пень колоду, человек начинал говорить пустые, ненужные слова, мертвые и неупотребимые, или вдруг испускал вопль, от которого у меня перехватывало горло и рука от волнения спотыкалась на каждом слове, отчего люди думали, что я не очень-то умею писать.
А Молла Ибрагим хорошо знал и душу людей, и жизнь их, он читал их непроизнесенные мысли, словно вскрывал их сердца. Он не ждал их слов, не заставлял исповедоваться и мучительно заикаться, а писал сам, громко говоря: «Дорогой мой сын, дитятко мое кровное, написала я тебе месяц как будет… (Будет месяц-то?), а от тебя ни слуху ни духу. Знаю, нелегко тебе на этой разнесчастной войне и нет у тебя времени писать матери, но мне хотя бы весточку о тебе услышать. Не сердись, что пишу тебе часто, мать она есть мать, горемыка-печальница, раз дитятко за тридевять земель угнали. Днем еще куда ни шло, хлопочу по хозяйству, а ночью только о тебе мысли, о глазах твоих милых, заснуть не могу. Жду, не стукнет ли кольцо в калитке, думаю, глупая, ты это… (Погоди плакать-то, давай прежде кончим.) или кто весть о тебе принес. О нас не тревожься, мы живем хорошо… (Знаю, что плохо, но помочь-то он тебе не поможет, а так ему легче будет.) и одышка у меня почти совсем прошла. Мейра что ни день спрашивает о тебе… (Что, не спрашивает больше? Замуж выходит?) Девушки что ни день спрашивают о тебе…»
Я переставал писать и слушал эти прекрасные слова, напоминавшие старинные песни. Тоска, вековая тоска звучала в этих словах, в этих письмах, которые писались больше для тех, кто посылал их, чем для солдат, а посылали их на ветер, в никуда — ведь в первую же холодную ночь обозники разожгут ими костер.
Взволнованный, едва сдерживая слезы, слушал я эти слова тоски и ободрения, борясь с оживающими воспоминаниями, а Молла Ибрагим сохранял полную невозмутимость. От его внимания не ускользало, что рука моя застывала над недописанной строчкой, и он подстегивал меня: «Давай кончай скорей!» Написав письмо, исполненное любви и красоты, он деловито брал деньги за труд и клал их в выдвижной ящик стола, любезно приглашая клиента заходить еще.
В нем соединялось два совершенно разных человека, который из них был он?
По вечерам он записывал каждый заработанный грош и возносил хвалу милостивому богу. В эти минуты я ненавидел его. «Подло зарабатывать на чужом несчастье»,— думал я. И однажды сказал ему это.
— Несчастье выдумал не я,— спокойно ответил он.— А помогать людям помогаю. Дело я свое делаю на совесть? На совесть. А беру дешевле, чем другие, хотя, конечно, больше бед — и барышей больше.
Но мне жалованья не прибавил.
— Жалованье у тебя хорошее,— сказал он без тени шутки.— В твои годы я получал вдвое меньше. И был счастливее, чем сейчас. Знаешь, что в жизни самое прекрасное? Желания.
И впрямь, он не лишил меня ни одного желания, все остались при мне, неисполненные, даже и не пробудившиеся. Никаких забот я не знал. В свободное время шел на Дариву или к Козьему мосту, садился на берегу и слушал, как течет вода.
Молла Ибрагим наставлял меня:
— Почему ты рыбу не ловишь? Вроде бы и глупое занятие, и, конечно, глупое, а может стать настоящей страстью. И уберечь от других глупостей. Мир рушится, а ты сидишь себе, застыл и пялишься на воду. Величайшая в жизни мудрость найти себе эдакое глупое занятие. Будь у властей побольше ума, всем приказали бы: удочку в руки и марш на реку ловить рыбу! Не было бы ни беспорядков, ни бунтов. Говорю тебе: лови рыбу, Ахмед Шабо!
— Я не собираюсь бунтовать и в глупых занятиях не нуждаюсь. Как видишь, я человек мирный.
— Слишком даже. Это меня и пугает. Что будет, когда ты проснешься? Лови рыбу, Ахмед Шабо!
Я смеялся, принимая его слова за шутку. А потом вспомнил, с какой подозрительностью он относится ко всему, что не укладывается в общепринятые нормы и законы. Потому-то ему и не нравилась моя тяга к уединению. Уединение рождает мысль, мысль — недовольство, недовольство — бунт.
Я был далек от мысли о бунте, я просто лениво грезил.
Как-то раз он сказал, что в писарскую придут родичи имама из села Жупчи. Вчера вечером имама и еще двоих крестьян задушили в крепости за то, что жители села отказались платить военную подать. Родичи прибежали выручать их, но суд оказался быстрее родственной подмоги. Сегодня они узнали про казнь и хотят написать прошение, чтоб им выдали тела казненных. Я должен составить им такое прошение.
— За что их казнили?
— За что? Ты хочешь знать, за что?
Впервые с тех пор, как мы вместе, я видел его в таком возбуждении. Тихий голос дрожал и звучал глуше обычного, словно волнение сдавило ему горло.
— Что тебе сказать? Столько людей перебили на войне, а ты хочешь знать, за что казнили имама и двух мужиков из Жупчи! Лови рыбу, Ахмед Шабо!
Он вышел на улицу, я с тревогой проводил его взглядом: как бы в своем возбуждении он не натворил такого, что будет потом трудно исправить.
Сколько же разных людей в этом человеке?
Жупчане пришли толпой — жены имама и одного из крестьян (жена второго на сносях, как объяснили мне, словно оправдываясь), братья, сыновья, свояки. В узкой писарской они стояли, тесно прижавшись друг к другу, растерянные, но, к счастью для меня и к большому моему удивлению, ни жалоб, ни слез я не услышал. Узнали они, значит, что сделалось, рассказывал брат имама, и вот просят, чтоб им отдали тела — они их похоронят в Жупче, там у них все захоронены. И хорошо бы скорее, если возможно, завтра, ждать-то резона нет, то есть он хочет сказать, они уже мертвые и властям не нужны, да и негоже долго держать покойников непогребенными — дух пойдет. Они купили три гроба и в город приехали на лошадях, так что завтра с утра перевезли бы их в село, очень уж некогда, дома дел невпроворот, лето, а они и так уж много времени потеряли.
Я оцепенел, больше потрясенный их спокойной рассудительностью, чем самим несчастьем.
— Ты почему не пишешь, эфенди?
С трудом я заставил себя дописать прошение кадию.
Да, жизнь еще горше, чем я себе представлял.
Молла Ибрагим вернулся с какими-то свертками.
— Готово?
Он назвал цену, получил деньги, и жупчане вышли, толкаясь в дверях.
Я смотрел им вслед.
— Никто слезы не проронил, горького слова не сказал. Словно и не их касается.
— Меньше всего слов тратит тот, кого беда больше всего прищучила. К тому же и привыкли они к горю. Против них все — и небо, и земля, и люди. Помоги мне украсить писарскую.
— Зачем?
— Завтра день рождения султана. Держи-ка.
Я непонимающе смотрел на него: это еще что за шутка?
Нет, он не шутил. Самым серьезным образом занялся он этим несерьезным делом, работал увлеченно и горячо, чуть ли не с восторгом.
Из разноцветной бумаги ножницами вырезал полумесяц, звезды, ленты, все это мы наклеили на стекло и оконные рамы, сотворив в непосредственной близости от городских нужников небесный свод: множество ярких звезд и острых рогов полумесяцев расцветило наш писарский хлев, а в окне мы выставили портрет Абдул-Хамида и написали под ним: «Да продлит аллах твою жизнь на долгие годы», и рядом пристроили изображение отряда янычар, радостно отправляющихся на войну, под которым написали: «Аллах даровал нам непобедимую армию».
При этом я гнал от себя мысль, назойливо лезшую мне в голову, что и я был в этой непобедимой армии, когда она спасалась бегством через Днестр. А, плевать! Это ведь вранье, праздник.
На окно мы поставили свечи, когда стемнело, зажгли их и вышли на улицу полюбоваться творением рук своих.
Молла Ибрагим, восхищенный своей затеей, не мог сдержать радости:
— Красиво?
— Красиво.
— Никто не додумается выставить янычар.
— Никто.
— А звезды? Месяц и звезды как?
— Превосходно.
Было убого, было смешно, было омерзительно. Впору было плакать и скрежетать зубами, а я смеялся и над восторженностью приятеля, и над собственной гадливостью. Вконец выбили меня из колеи немногословные крестьяне из Жупчи. Сидят они сейчас где-то в большом чужом городе и ждут, когда им вернут тела родных, а я гляжу на этот ярмарочный балаган и смеюсь, смеюсь, смеюсь. Смеюсь до слез. Не буду смеяться — останутся только слезы.
— Замолчи! — шепнул Молла Ибрагим, испуганно озираясь по сторонам.— Чего ты смеешься? Что здесь смешного?
Не знаю, подумал я, не знаю, почему я смеюсь и над чем смеюсь.
Потому ли, что мы украсили писарскую и зажгли свечи под разноцветными звездами и геройским султаном, или потому, что убили имама и двух крестьян из Жупчи и их родичи сейчас молчат в темноте, ожидая утра, когда повезут домой мертвые тела? Или потому, что под Хотином сложили головы все мои товарищи? Или потому, что цирюльник Салих с Алифаковаца все еще ждет своих сыновей?
Не знаю, почему я смеюсь.
Я брел по улочкам своего города, без цели — никуда, а оказался перед закопченными стенами своего дома — нигде.
Неужто каждое поколение начинает все сызнова?
Это мертвое прошлое и пустое настоящее, эти черные развалины минувшего, на которых я не собираюсь ничего строить, все же для меня что-то значат. Только вот что? Я вижу знакомую по детским воспоминаниям лунную дорожку, сейчас она вводит в заблуждение, заливая пожарище серебром. Видел ли я ее сверху, из окна своей комнаты, которой теперь нет, или под хотинской крепостью, тоскуя по дому? Уже давно я путаюсь во времени и пространстве и часто не знаю, где я и когда произошло то или иное событие. Никаких границ, как в пустыне, как в небе; воспоминания плывут беспрепятственно, останавливаясь там, где им заблагорассудится. Они как облака, которым безразлично, где быть, безразлично, когда появиться и когда исчезнуть. Мне это не мешает, даже удобно: не надо ничего решать.
Услышав ее голос, я удивился. Вот уж не думал, что здесь есть кто-то живой. Потом я спрашивал себя: как она узнала меня? Верила ли, что лишь моя тень может прийти на это кладбище? Или видела, когда я сюда приходил раньше?
Я подошел к ограде, только чтобы поздороваться, как-никак мы были соседи, а ушел, когда часы на башне пробили полночь.
«Тияна,— тихо и удивленно шептал я, спускаясь по длинной каменной лестнице, ведущей к базару.— Тияна». И ничего больше. Одно лишь это необычное имя.
Вот дуралей! Что мне эта девушка? Что мне это имя, которое отзывается в душе полнозвучным колоколом? Я утешал себя тем, что, когда вернулся к своему бывшему дому, был ненамного умнее. Свечи перед портретом султана погашены, не видно разноцветных звезд на стеклах окон, я позабыл про крестьян из Жупчи, которые спят где-нибудь на базаре под телегами в ожидании утра, когда им выдадут тела родных, и пошел наверх, сам не зная зачем.
Давний, с детства исхоженный путь привел меня к пожарищу, не вызывавшему воспоминаний. Я стоял перед ним с мертвой душой, сердце гулко колотилось в груди, как в пустой пещере. Да и какие могли быть здесь воспоминания? Неудержимые, но смутные желания, витающие над милым, недобрым городом. Детская комната, населенная образами пламенного воображения, не стесненного никакими преградами. Далекий, как месяц, отец, всю жизнь легкомысленно спускавший то, что приобретал; мать, не думавшая ни о детях, ни о боге, а только о нем, о своем муже, и наверняка умершая от тоски по нему, а не от чумы; сестра, с которой я не умел разговаривать, потому что она была из какого-то другого мира; нудная тетка со своей слезливой любовью и вечными наветами на неблагодарного мужа, сбежавшего от нее неизвестно куда, чему я нисколько не удивлялся. Наверху, над разросшимся бурьяном, была комната отца, в нее мне позволялось входить лишь два раза в год, на байрам, чтобы поклониться отцу и поцеловать ему руку, белую, красивую, не знающую черного труда. Теперь и это казалось сном.
Я ни в чем их не виню, не корю за то, что они не оставили мне даже воспоминаний. Жили как могли, и, уж конечно, не хотели, чтоб я стоял на этом пепелище после их смерти с опустелой душой.
Я никогда никому об этом не рассказывал (прав Молла Ибрагим: труднее всего говорить о том, что тебя ближе всего касается) и вдруг рассказал, уже на второй вечер, девушке, бывшей своей соседке, о которой за минуту до встречи и думать не думал. В первый вечер я рассказывал ей о войне, вроде и не про себя, а вышло про себя. Обо мне она и сказала: «Боже, как несчастны люди!» Обо мне и обо всех людях. И о себе?
Только это и сказала. А так слушала и молчала.
Спускаясь по каменным ступенькам улицы (Тияна слегка улыбнулась, когда часы пробили полночь), я не удивлялся тому, что произошло, хотя понимал, что довольно-таки странно почти незнакомой девушке рассказывать то, что никогда никому не рассказывал, что лишь вот сейчас, здесь, сложилось в слова. Говорил я потому, что светила луна, что обгоревшие стены дома не будили во мне воспоминаний, что тонкие белые руки лежали на ветхой ограде, что на меня задумчиво и мягко смотрели черные детские глаза взрослой девушки, что слушала она меня так, как меня никогда никто в жизни не слушал. Всего этого я себе не объяснял — не было нужды. Я знал только одно: я остановился. Восстановились границы.
Не условливаясь, назавтра вечером мы снова оказались у ограды, разделяющей два сада. И на третий вечер, и на четвертый, и лето пошло на убыль, а мы все прятались во тьме, не желая, чтоб люди узнали, как мы стали нужны друг другу. Но люди знали.
Все чаще она со мной и тогда, когда я один. Я уношу с собой ее имя и мерцающую тень под деревом. В моей душе звучит ее грудной голос слаще журчания воды.
Бумажные звезды и портрет султана красуются на окнах писарской до другого торжественного случая и больше уже не смешат меня. Я не вижу их. Рассеянно пишу прошения в суд или письма солдатам и каждый раз перечитываю, боюсь, напишу «любимая». Не дело, если кадий прочтет это в жалобе на должника.
Осенью я предложил Тияне обвенчаться. Я искренне хотел этого, ничего иного и представить себе не мог, однако же честно признался ей, что партия я для нее неважная, что у меня ничего нет и вряд ли когда-нибудь будет и что, выйдя за меня, она не много приобретет. Может, у меня вообще нет права предлагать ей себя в мужья, одна любовь дает мне на это право. Я могу обещать ей лишь свою любовь — и ничего больше, достаточно ли ей этого?
Но она еще глупее меня.
— Будем любить друг друга,— сказала она серьезно,— это много, это все. Ничего другого мне не надо.
— Вначале мы наверняка будем счастливы,— шутил я,— а потом, когда я наскучу тебе, что-нибудь придумаем, будем действовать, как старый Джезар, что трижды разводился и снова женился на своей собственной жене, чтоб сохранить свежесть и новизну любви.
— Зря только мучил и себя и ее,— возмутилась Тияна.— Надо было найти такую жену, с которой никогда не хотелось бы разлучаться. Или жить одному. И платье ни к чему латать, а любовь и подавно. Лучше уйти.
— Ты бы ушла?
— Ушла.
— Потому что не любишь?
— Потому что люблю.
Эта женская логика мне не совсем понятна, но я знал, что Тияна говорит правду. И мне были приятны ее слова, хоть они и прозвучали чересчур серьезно и решительно. В ту минуту ничего другого мне и не надо было.
Вскоре мы поженились. Свидетелями у нас были Молла Ибрагим и старый цирюльник Омер Тандар, цирюльня которого примыкала к писарской. Тияна Белотрепич, дочь покойного Мичи и покойной Любинки, стала Тияной Шабо.
Молла Ибрагим, когда я сообщил ему о своем намерении, ничем не выдал своего удивления, хотя наверняка считал это глупой причудой и был уверен, что я не женюсь на Тияне (христианке, да еще и нищей вдобавок!). Сказать он не сказал ни слова, но мне показалось, что я вижу на его лице недоумение, или я ждал его, и потому оно мне виделось, во всяком случае, все его слова и поступки были безупречны. Он похвалил девушку и ее семью, похвалил мое решение жениться на ней, предложил быть свидетелем, попросил и балагура хаджи Омера пойти с нами к кадию, а потом повел к себе домой, где нас ждал настоящий свадебный пир. Тихая жена Моллы Ибрагима отнеслась к нам сердечно, почему-то заплакала, поцеловав Тияну, показала нам своих троих детей (двое умерло; хаджи Омер смеялся: смерть забирает, люди тут же заводят новых) и смотрела на нас, смотрела пристально, печально и радостно, как мать. Позже, вспоминая этот ее сочувственный взгляд, я понял: она хорошо знала все, что нас ждет впереди, и по-матерински жалела нас.
После обеда у Моллы Ибрагима мы пошли в мою убогую комнатенку. Оба были смущены.
— Хорошо было,— сказал я.
— Очень хорошо.
— Приняли так сердечно.
— Добрые люди.
— Ты довольна?
— Да.
— Я бы не сказал. Тебя что-то мучит.
— Не по себе немного.
— Отчего?
— Не знаю. Пройдет.
— Может, ты расстроилась, что родных не было. Моих нет, все на том свете, твои злятся, что поделаешь?
— Сядь рядом. Дай руку.
Она молчала, прижавшись ко мне, словно искала у меня защиты. Горевала, что родные от нее отвернулись. Привыкала ко мне. Теперь ни у нее, ни у меня никого нет, хватит ли нам друг друга? О чем были ее девичьи мечты, каким рисовался ей суженый, в каком кошмарном сне виделась ей эта убогая каморка, которая и мне вдруг опостылела донельзя?
Заговорить с ней или дать ей свыкнуться со всем тем, что станет теперь ее жизнью?
Неожиданно раздался стук в дверь.
Кто бы это мог быть? Мы никого не ждали.
Я отворил дверь: передо мной стоял незнакомый человек, весь какой-то просветленный, с увлажненными глазами и щемяще-счастливой улыбкой, словно он сбежал с собственных похорон. Умиленность его не выдавала большого ума, но и я был не лучше: очумело глядел на его лицо, озаренное счастьем, которое мне было так же неведомо, как и он сам.
Он сказал, что ищет меня и хотел бы только повидаться со мной. Зовут его Ферхад, он близкий родственник моей матери. Неудивительно, что я его не знаю. Двадцать лет назад, во время бунта братьев Моричей и Сари-Мурата, он бежал в Валево, а сейчас вот вернулся.
Я совершенно не помнил об этом своем родиче, а ведь дома у нас я слышал о нем, но забыл все: и почему он бежал, и на чьей стороне был — братьев Моричей или городских лабазников. Тем не менее мне было приятно, что отыскалась хоть одна родная душа, он точно из могилы встал и пришел как раз в ту минуту, когда мы горевали, что у нас нет близких.
Я предложил ему сесть, он поздоровался со снохой — хороша-то как,— подарок, говорит, не купил, поздно узнал о свадьбе и поспешил поскорее увидеть нас, а подарок принесет завтра. Он говорил, говорил, потом вдруг замолчал, озаренный радостью, взволнованный невиданным счастьем, совершенно мне непонятным, а я про себя не переставал удивляться происходящему. Ведь только двадцать лет миновало, а все забыто: и братья Моричи, и Сари-Мурат, и их бесчинства, и убитые люди. Даже народу память изменила — люди пели грустную песню о том, как повесили двоих братьев, будто это были герои, а не беспощадные насильники. И возможно, как раз эта песня, в которой народ славил тех, кто героями не был, это забвение, как будто с тех пор прошли столетия, и вернули моего родича в Сараево. Да еще тоска по родному городу. О нем он говорил со слезами на глазах. Он не мог спать, не мог есть, ему казалось, что он умрет без него, часами он сидел один-одинешенек и мысленно бродил по родному городу, от дома к дому, трепеща, как бы видение не растаяло, словно призрак. Сотни, тысячи раз проходил он знакомыми улочками, думая о том, что нет для человека ничего дороже и важнее родины. А теперь он бродил, бродил без устали по всамделишному городу, обходил знакомые места — ведь они еще красивее, чем он их представлял себе там, в далеком Валеве, и завтра снова пойдет, и чувство у него такое, что никогда ему теперь не утолить этого голода любви.
Мне было непонятно это безрассудство. Было бы куда и зачем, я бы пошел на край света. Даже и теперь. Только взял бы с собой любимую жену, которую получил нежданно-негаданно.
Ферхад не утолил голода своей любви. Не принес подарка. Помешали.
На другой день сердар Авдага опознал его, сияющего и поглупевшего от счастья, что вновь обрел родину, похорошевшую от двадцатилетней тоски по ней, и доложил кадию. Ферхада отвели в крепость и удушили. За то, чего никто не помнил.
Тогда я впервые увидел Тияну в необычном волнении и страхе. Она долго молчала, уставясь с отсутствующим видом в одну точку.
— Если переживать беды всех, что с нами станет? — утешал я ее грубыми словами и ласковым прикосновением.— Ведь мы его и не знали. И думать о нем не думали, ни о нем, ни о ком другом.
Скоро мы позабыли про неразумного Ферхада, погибшего из-за своей тоски по родному городу. Люби он его поменьше, жил бы еще. Хотя кто знает. При его безрассудстве он наверняка предпочел бы умереть в родном городе, чем жить в чужом.
Так мы потеряли своего единственного родича. Вышел из тьмы, незнакомый, пожил чуть, только чтоб повидать город и нас, и снова канул во тьму.
Позже мы уже и не могли вспомнить, был ли он на самом деле, или мы его выдумали — так все это походило на ночной кошмар.
Через несколько дней после гибели Ферхада его помянул Шехага Сочо. В сопровождении Османа Вука, своего приказчика богатырского сложения, он зашел в нашу писарскую, чтоб сделать дарственные записи в пользу школ и библиотек. Он знал, что Ферхад мне родственник, и начал расспрашивать о нем. Я мог рассказать лишь то, что мне говорил сам Ферхад.
— Дурак,— хмуро ворчал Шехага,— дурак! Вот и повидал город, вот и повидал родину! Целый день ходил по улицам, говоришь? Дышал нашим смрадом, глядел на свое и наше несчастье. Родился здесь, тоже мне дело! Есть чем гордиться! Плакать надо, горевать, а не умиляться. Господи, твоя воля, и по чему он тосковал двадцать лет! По этой нищей земле, по злобности, которая неизбывно живет в наших душах и которая сильнее материнской любви, по неодолимой потребности творить зло где только можно, по нашей угрюмой нелюдимости?
— Земля как земля, люди как люди, везде одно и то же,— осторожно вставил Молла Ибрагим, испуганно глядя на хмурого Шехагу и улыбающегося Османа Вука.
— И земля не как другие, и люди не такие, как всюду. Земля нищая. Приметили, как зовутся наши села? Скажи им, Осман!
— Злосело, Грязи, Черный Омут, Гарь, Голый Шип, Голодное, Волчье, Колючее, Трусливое, Вонючее, Змеиное, Горькое…
— Видали! Кругом горечь, нищета, голод, несчастья. А люди? И говорить противно. А почему так? Не знаю. Может, мы от природы злы, аллах нас так отметил. А может, потому, что беды нас преследуют неотступно, и мы боимся громко засмеяться, боимся прогневить злые силы, что постоянно кружат вокруг нас. Что ж тогда удивительного в том, что мы виляем, таимся, лжем, думаем только о сегодняшнем дне и только о себе, счастье свое в чужом несчастье видим. Нет у нас гордости, нет мужества. Бьют нас, а мы и за то благодарим.
Моллу Ибрагима прошиб пот, боится он могущественного Шехагу, но еще больше боится тех, кому не понравились бы его слова, и он пытается хоть себя выгородить:
— Не надо на все смотреть так мрачно, Шехага.
— И я так говорю, Молла Ибрагим, лгу и себе и другим. Но иной раз — не часто, а когда от вранья тошнота к глотке подступает,— я говорю правду. Да, Молла Ибрагим, всюду мрак, в тяжелые времена мы живем, и живем плохо, позорно. Одно утешение, что тем, кто после нас жить будет, достанутся еще худшие времена и наши дни им вспомнятся как благословенные.
Это были самые мрачные слова, которые мне приходилось когда-либо слышать, и они действовали на душу, как надгробные песнопения. Особенно потому, что говорил он без ожесточения, спокойно и убежденно, смело, хотя в речах его и звучало бессилие. Конечно, в том, что он говорил, не все было правда, но печаль его была святая правда.
К ужасу Моллы Ибрагима, я не мог не спросить его:
— Шехага, неужто все мы злы?
— Все. Один больше, другой меньше. Но все.
— В крестьянах из Жупчи, ты слышал о них, нет злобы. И солдаты под Хотином не были злыми. Несчастны мы, Шехага, и несчастны не по своей вине.
Но в нем, видно, угас огонь и иссякло желание говорить. Хмуро поглядев на меня, он вышел. Я проводил его на улицу и сказал, что хотел бы продолжить этот разговор. Его слова жгли мне душу, как горячие угли.
Нет, ответил он вяло, никакого разговора мы продолжать не будем. Если это меня интересует из пустого любопытства, то и говорить не стоит. А если меня что-то мучит, то зачем мне чужое мнение? Ему и на свое-то наплевать, а тем более на чужое, он часто говорит не то, что думает, или сегодня думает, а назавтра забывает. На что мне это?
— Может, донести хочешь? — любезно ощерился страшный Осман Вук.
Выругал меня и Молла Ибрагим: зачем я влез в ненужный разговор? Шехаге Сочо легко, у него денег куры не клюют, самых высоких чиновников держит в кулаке векселями и подкупом, потому люди и делают вид, что не знают, о чем говорит Шехага. А я кто такой? Нищий писарь, голь перекатная. «Стоит кому-нибудь посильнее чихнуть, и нас сдует, как пыль ветром. Люди повыше нас с тобой в беду попадают, а кто помельче, так лопаются как мыльные пузыри. Не наше дело спрашивать Шехагу, отчего он так думает. У него свои заботы, а наша забота — не потонуть в этом омуте, удержаться на поверхности. Потому берись за ум!»
Совет этот мне был давно знаком, слышал я его и в писарской, и на улице, и на базаре: берись за ум! Это было наиважнейшим законом, самой верной защитой от бесчисленных опасностей. От всего, что можешь сделать, сказать, подумать, и потому: берись за ум!
Бойся всего, не смей быть самим собой!
Я не мог согласиться с такой безнадежностью, наверное же существует и какой-нибудь иной выход, кроме страха. Тем не менее я хорошо запомнил этот урок, этот выстраданный опыт поколений, который отравлял жизнь.
Ладно, послушаюсь: берись за ум, Ахмед Шабо! Хотя бы для того, чтоб тебе не отравили новую жизнь.
Однажды после обеда я пошел на базар купить Тияне подарок. Молла Ибрагим без всякой надобности пустился меня предостерегать, чтоб я не приучал жену к дорогим подаркам. Обычай-то хороший, если только поступать разумно, доставляет радость и поддерживает любовь. Но если потерять чувство меры, в жене разовьется алчность, а для меня это станет тяжкой обузой. Ничего дорогого! Цветок, например, или что-нибудь полезное, тапочки, коли старые изорвутся, платок, если не в чем выйти на люди, и доброе слово в придачу — это самое ценное.
— А я-то собирался купить золотое ожерелье!
— Ни за что! Это безрассудство, а не внимание.
Я рассмеялся:
— Я бы с радостью пошел на это безрассудство, живи я не на двадцать грошей в год. Откуда у меня деньги на ожерелье?
— Почем знать. Твоей жене ведь выплатили ее долю наследства.
— Она получила такой пустяк, что стыдно сказать.
— А чего же ты согласился?
— Плевать.
— Да, тяжко придется твоей жене и детям, которые у тебя родятся.
— Каждый приходит в мир со своим счастьем.
— Все ветрогоны так говорят.
Не знаю, ветрогон я или просто радовался нежданному-негаданному счастью после собачьей жизни на войне, но я не обиделся на Моллу Ибрагима — ведь чудак говорил от чистого сердца, желая мне добра,— и весело зашагал в ювелирный ряд купить на радостях что-нибудь недорогое — серебряное колечко, дешевый поясок или цепочку, а уж к этому прибавлю цветок и ласковое слово.
С радостью думал я о возвращении домой.
Остановился я перед лавкой Махмуда Неретляка: за грязным стеклом висели бусы и мелкие безделушки.
Я не знал, что он снова открыл мастерскую. Когда я еще бегал в школу, он делал в этой лавке фальшивые медяки и сбывал их за настоящие. Его избили палками и выслали из Сараева. Десять лет он провел в изгнании, где-то на востоке, нынешней весной вернулся и вот снова обосновался в той же лавке.
В окно его не было видно. Но из задней комнатенки доносились голоса: низкий, подкашливающий — Махмуда и тонкие — ребячьи. Чему он их учит? Что-то знакомое. Господи боже, так ведь это же арабский, исковерканный, изуродованный, засоренный турецкими, персидскими и греческими словами и сдобренный нашей смачной руганью. Что он делает? Я с ужасом слушал эту невероятную мешанину, этот безымянный язык, который сам по себе мог многое рассказать о путях-дорогах, пройденных этим изгнанником, и о его бесчисленных занятиях, но детям такой язык был ни к чему. Только полный сумбур породит в невинных детских головенках.
И пока я раздумывал, окликнуть ли Махмуда, или идти дальше, он кончил мучить и себя, и меня, и детей, выпустив их из темницы своего невежества и их неведения. Дети вышли обалдевшие, чуть не спотыкаясь под бременем вздора, взбаламутившего их умы.
— Наверняка они или себя считают круглыми идиотами, или науку — недоступной,— пошутил я, глядя им вслед.
— И то и другое верно,— ответил рассудительно Махмуд.
Я рассмеялся:
— Слышал я, как ты их учишь.
— И что тебя так насмешило?
— Так ведь ты не знаешь арабского!
— Конечно, не знаю. Откуда мне его знать?
— А зачем головы им морочишь?
Он вытянул перед собой руки, пальцы его дрожали.
— Ремесленничать больше не могу, ничего другого не умею. Продаю чужие побрякушки и учу детей. Я мало знаю, они мало платят, так что никто не в обиде. Разве они что-нибудь теряют? Ровно ничего. Научатся в медресе, если понадобится. А я живу на это, на хлеб зарабатываю.
— А как поймут, что ты ничего не знаешь? Шила в мешке не утаишь.
Он пожал плечами: еще какое-нибудь дельце подвернется. Вроде фальшивых медяков.
Я глядел в его морщинистое лицо бродяги, в хитрые и в то же время невинные глаза мошенника с богатым воображением и не мог удержаться от улыбки. Мальчишками мы затаив дыхание слушали рассказы о его фальшивых деньгах, о том, как его били палками, об изгнании его в далекие, неведомые страны, а теперь передо мной стоял старик с дрожащими руками, теми самыми, которые ковали серебряную проволоку и делали фальшивые деньги. Жизнь изломала его, здоровье было подорвано, а жить все равно надо.
— Я помогу тебе,— сказал я без долгих размышлений.— Я немного знаю арабский.
— Найди себе других детей. Зачем у меня отнимать?
— Я тебе даром помогу.
Он удивился, не понимая, то ли защищать свои права, то ли жалеть меня:
— Слушай, парень, если ты ничего плохого не замышляешь, значит, тебя бог обидел.
— Ладно, обидел так обидел, но таить я ничего не таю. И мне польза будет. Вспомню, что знал когда-то.
— А если я тебе наврал про болезнь, если я их учу, чтоб было на что выпить?
— Все равно. Вреда никому не будет.
Он еще сопротивлялся:
— А зачем ты подслушивал?
— Случайно. Хотел купить что-нибудь для жены.
— Из этих безделушек? Видишь, а я тебя уже и не спрашиваю, отвык. Заходи, посмотри.
Дрожащими руками он вытаскивал из ящичков и показывал мне дешевенькие украшения.
— Хочешь это?.. А за учение, коли не шутишь, я тебе буду платить, немного, конечно, только чтоб не совсем даром. Эти не будут ходить, а такое случается, я найду других, теперь-то это легко, можно и из медресе настоящих школяров позвать, вот только комнатенка мала… Возьми-ка поясок и эту цепочку, не понравится жене — поищем что-нибудь еще… Завтра, что ли, и начнешь, впрочем, начинай, когда хочешь, мне все равно. Ну а если ты шутки шутил — не придешь, и конец… За вещички лучше сейчас заплати, а то вдруг передумаешь и не придешь.
Было смешно слушать его сбивчивую речь, в которой звучали настороженность, неверие, удивление, что кто-то предлагает ему помощь, надежды, открывающиеся перед ним, сомнения, как бы глупый человек не одумался и не взял свои слова обратно. Он мог считать меня и глупцом и добряком, мог считать, что я его дурачу или преследую какие-то свои тайные цели, но он предпочел положиться на господа бога, ведь сам-то он ровно ничего не терял, даже если я и передумаю. Останется при своем, и только.
На другой день я учил детей арабскому языку, утешая их, что тьма в их головах постепенно рассеется и ее вытеснит свет. Смотрели они на меня с недоверием, а Махмуд сидел тут же, кивал головой, как настоящий мудериз, одобрительно отмечая мои знания и недовольно морщась, когда дети проявляли незнание, хотя сам знал не больше. Он уже ничему не удивлялся и не поминал о плате: счел, видно, что мое безрассудство — это, мол, мое личное дело, и потому не собирался предлагать мне то, чего я не просил. Он взял на себя заботу находить учеников, обогревать комнату мангалом, когда было холодно, собирать деньги за уроки и везде, где только можно, восхвалять мою небывалую ученость, мне же в своем предприятии предоставил второстепенную роль — учить детей.
Пить, конечно, пил, это он не лгал, но почти незаметно. На него лишь находило блаженное настроение, и он был так весел и приятен, что я предпочитал видеть его под мухой. Даже руки у него дрожали меньше, из чего я заключил, что дело здесь не в болезни, а в пьянстве. После уроков он вел меня в Идризову кофейню и за труды угощал меня кофе, а себя ракией.
— Вот мой ученый,— гордо представлял он меня знакомым.
Это неожиданное для себя занятие он придумал не только ради заработка. Мне кажется, гораздо больше им руководила жажда необычного.
С восторгом и завистью рассказывал он, например, о женщине из какого-то городка, которая родилась без рук и вязала и выполняла прочие домашние надобности ногами. Родственники показывали ее на ярмарках и зарабатывали хорошие деньги. Или о торговце Хасане, который привез из Египта двух необыкновенных баранов и нажил на них целое состояние, так как все хотели их видеть.
Все заурядное, обычное казалось ему скучным, недостойным внимания — мелким, неинтересным, нудным, зря отнимающим у человека время. А на что ему было нужно время, я так и не мог понять.
Уж не был ли и я в его глазах вроде той женщины, что прядет шерсть ногами, или вроде того страуса из заморских стран?
Однажды в веселую минуту я сказал ему об этом.
Он оскорбился:
— Как ты можешь такое говорить? Кто кого просил: я тебя или ты меня? Ты сказал: и мне будет польза, дескать, вспомню, что знал когда-то. И я пошел тебе навстречу, помог, дал тебе лавку, дал учеников. Что ты нашел тут странного, необычного? Конечно, ты сейчас скажешь: «Я знаю арабский, а ты не знаешь». Подумаешь, невидаль! Все равно ослами останутся и с твоим знанием, и с моим незнанием. А что касается страуса и безрукой женщины, я тебя хорошо понял. Стало быть, использую тебя, да? А разве я не хотел тебе платить? Ты же сам отказался. Я и сейчас готов платить. Хочешь, все отдам. Вот только несправедливости я не терплю. И давай начистоту: можешь ли ты без меня обойтись, я еще не знаю, но я без тебя — наверняка.
А назавтра, в урочное время, он медленно прохаживался перед писарской Моллы Ибрагима и встретил меня заискивающими словами:
— Боялся, как бы ты не опоздал. Жалко — дети будут ждать.
Жене я сказал, что помогаю одному бедолаге, который все делает невпопад, да и с детьми приятно иметь дело, особенно с тех пор, как я узнал, что она беременна, и мы стали ждать милое неведомое существо, которое будет расти между нами, как между двумя дубами, под нашей защитой и опекой и не пойдет ни под какой Хотин и не будет учить арабский у Махмуда Неретляка. Я научу его складывать стихи и еще научу ненавидеть войну.
Тияна слушала меня растроганная, со слезами на глазах, которые становились все глубже и красивее. Женщина всегда предпочитает глупое, но нежное слово — умному, да грубому.
Молле Ибрагиму я сказал правду: решил, мол, вспомнить то, что когда-то учил, может, снова понадобится.
— А почему денег не берешь?
— Да он так мало получает, что смешно было бы их делить.
— Двойную глупость делаешь,— взялся он поучать меня.— Завел дружбу с человеком, которого никто не уважает. Кто после этого станет тебя уважать? И денег не берешь, хотя работаешь на совесть. Как же люди станут ценить твои знания? Будут считать, что ты ничего не знаешь. А что хочешь вспомнить забытое — это хорошо. Пока чего-нибудь не добьешься. Потом снова забудешь. Другой и без знаний всего добьется. А ты нет, тебе нужно знать. Хитрости в тебе нет.
— Разве хитрость может заменить знание?
— Искушенный человек спросил бы иначе: разве знание может заменить хитрость?
— Хитрить недостойно человека.
— Не всегда. Иной раз хитрость необходима. Как пальто зимой. Кое-кто зовет ее мудростью.
— Что бы ты прежде всего посоветовал человеку, которому желаешь добра?
— Не выделяться своими мыслями. Такого человека уберут раньше, чем он что-либо успеет сделать.
— Картинки в нашем окне тоже чтоб не выделяться?
— Второй мой совет человеку, которому я желаю добра, я дал бы такой: не всегда говори то, что думаешь.
— В душе тебе не очень нравится то, что ты сделал. Да? Хитро и, конечно, необходимо, но все же, наверное, немного и стыдно?
— Нет, ничуть. Есть вещи, которые выше нас и которые нельзя мерить обычными мерками. Султан — почти неземное понятие, он — средоточие всех наших стремлений. Он — высшее начало, он держит нас всех вместе как сила земного притяжения. Не будь его, мы разлетелись бы в разные стороны, словно нами из рогатки пальнули.
— А это было бы забавно!
Он поглядел на меня с испугом и удивлением, так как полагал, что я исцелился от безрассудства, которое в качестве единственного трофея принес с войны. И правда, я избавился от непонятного безволия и тихой тоски и намеревался идти по проторенному пути, по которому идет большинство людей. Но возможность исчезновения силы земного притяжения показалась мне вдруг чрезвычайно занятной — внезапно все поднимаются в воздух и летят кто куда, рвутся привычные связи, насильник в своем нескончаемом полете забывает про свою жертву, потерпевший мчится над тем или под тем, кому хочет отомстить. Не стало бы ни правых, ни виноватых — все парили бы в небе. Летели бы мечети, улицы, кладбища, деревья, дома, я занял бы какой-нибудь, взял с собой только жену, крепко обнял бы ее, чтобы вселенский вихрь ее не унес, и мы были бы счастливы от одного лишь сознания, что нет больше злой силы, которая может заставить нас снова ползать по убогой земле. Прихватил бы я и деревце, яблоньку или черешню, чтоб оно цвело, непрестанно кружась возле нас, и давало плоды нашему ребенку, который родится в этом кружении. И война тогда была бы невозможна, разве что мимоходом заденешь кого рукой или ногой, но еще лучше — не задевать, а вежливо справиться о здоровье. И детей учить пришлось бы по-другому, и, во всяком случае, не так нудно. Втолкуешь на скорую руку летящему ученику правило, спросишь же, как он его запомнил, только через год или два, когда снова с ним встретишься, а может, на его счастье, и вовсе не встретишься. А своего ребенка я выучил бы всему хорошему, что сам знал, и не почему-нибудь, а просто так, для собственного удовольствия и ему на радость.
Улыбнулся я этой несуразице, как излечившийся пьяница запаху ракии, с грустью и с усмешкой. Сразу после войны она меня не удивила бы. Сейчас могу обойтись и без нее.
Я смахивал пыль с портрета султана Абдул-Хамида, приклеивал к стеклу отпавшие звезды, выпрямлял загнувшиеся рога полумесяца, и мне не было смешно. Виновата в этом была жена, что ждала меня так, словно я нес ей в подарок счастье, и, конечно же, ребенок. Я следил за его ростом, положив ладонь на живот Тияны и приставив ухо к таинственному пульсу, которым новая жизнь пробивалась из небытия. Отныне я был не один. Нас было двое, и был еще третий, неродившийся, он был сильнее нас обоих и все чаще направлял мои мысли к сгоревшему родительскому дому. В них двоих таилась причина того спокойствия, с которым по соседству с городскими нужниками я приводил в порядок небесный свод, ибо он все время портился и отклеивался. Теперь я не смеялся. Хотя, конечно, хорошо помнил свой смех и думал о крестьянах из Жупчи, которые приезжали за телами своих родичей. Правда, вспоминал я их не так уж часто и постепенно все реже и реже; время упрямо обгладывает мысли человека, и от них незаметно остается один остов, бледное воспоминание, лишенное подлинного содержания. Невольно я свыкся со своей жизнью, и Молла Ибрагим все больше радовался заурядности и серости моих мыслей. Когда-то он говорил мне: «Лови рыбу!» С тем же успехом он мог сказать: «Женись! Рожай детей!» Это тоже гасит недовольство, накладывая новые обязательства… Самые нерушимые из всех: те, что приносит любовь.
Молла Ибрагим хорошо знал людей, и ему показалось, что настал час, которого он ждал. Он искренне хотел помочь мне, считая, что я достоин лучшего, чем прозябать в этом хлеву.
— Готовься, вечером пойдем к хаджи Духотине,— гордо сказал он.
Я понимал, что это значит. Такое приглашение равносильно награде. Более того, оно предоставляло возможность встретиться с влиятельными людьми.
Хаджи Духотина некогда толок соль, а потом разбогател и раз в месяц приглашал к себе в дом героев войны. Сам он никогда на войне не был, ни ружья, ни сабли в руках не держал, но ратников почему-то любил, с удовольствием собирал их в своем просторном доме и щедро угощал. Круг приглашаемых был очень узок, гостей звали со строгим отбором.
Я не стал отказываться — вылечился к тому времени от равнодушия, которым меня наделила война. Превратился в нормального человека, как все. Подумал даже, что мне везет. Или это Молла Ибрагим такой всемогущий?
Но пиршество прошло без нас. Минуло много месяцев, а приглашения так и не последовало. Видно, не легко новому гостю проникнуть в этот дом.
— Терпение! — утешал меня Молла Ибрагим.— Надо подождать.
А я отвечал, что меня совершенно не трогают ни ратники, ни старый Духотина, мне и без них хорошо. Однако все больше распалял в себе обиду, прячась за нее, как за щит. Во мне росло презрение к этим людям, что неприступной стеной отгородились от тех, кто по справедливости должен бы занять место на этих сборищах. Старый Махмед-ага на баня-лукской войне первый бросился в атаку и прыгнул во вражеский окоп; этого известного храбреца и известного пьяницу, который умел уважать людей, а не занимаемое ими положение, не приглашали. Старого Дугоню с Беговаца, исколотого австрийскими штыками и едва зашитого, изрешеченного пулями, словно мишень на стрельбище, способного теперь своими искалеченными пальцами мастерить лишь скалки да чубуки, не приглашали. Отважного знаменосца Мухарема, последнего из ста знаменосцев баня-лукской войны, который теперь немо стоял с протянутой рукой перед Каменным ханом, не звали. Словом, из старых ратников не звали никого, ни единого человека, ведь новые герои ни с кем не желали делиться своей славой, впрочем, и новых не звали, если у них не было богатства и положения. Зато звали лощеных писарей, которые ни за какие коврижки не пошли бы на войну, расфранченных хлыщей, гуляк, шутов, подхалимов. Сколько бедствий приносит поражение, но победа еще больше! А, ладно, пусть их упиваются своей мертвой славой, они лишь марают ее. Жил до сих пор без них, проживу и дальше, да еще получше, чем с ними.
Зима была уже на исходе, когда однажды в четверг Молла Ибрагим вошел в писарскую запыхавшийся, радостно взволнованный:
— Пригласил.
— Кто пригласил?
— Хаджи Духотина! Завтра вечером.
— Иди, я не пойду.
Он застыл посреди комнаты — расхристанный, разгоряченный, ошалевший.
— Не пойдешь? Как это не пойдешь?
— Так. Не хочется.
— Постой, сделай милость. Ты, верно, не понял. Нас пригласил хаджи Духотина. В гости позвал!
— Я все слышал и понял, но идти не хочу. Что мне там делать?
— Как это, что тебе там делать, побойся бога!
Пропало все его красноречие, настойчивость, все разумные доводы. Он опустился на стул и в изумлении воззрился на меня:
— Значит, не пойдешь. А ведь нас пригласили.
— Никто и не заметит моего присутствия.
— А люди чего только не делают, чтобы попасть туда! Это ты знаешь?
— Не знаю и знать не хочу. Я бы ничего не стал делать.
— Большую ошибку делаешь, большую.
— Тебе это может повредить?
— Нет, боже сохрани. Я пекусь о твоем благе. Что ж, ты всю жизнь так и будешь мыкаться?
— А мне, честно говоря, все равно.
— Не знаю, что и сказать тебе. Вряд ли еще такой случай представится. И рассердим их.
Вид у него был грустный и испуганный. Грустный оттого, что я не принял его помощь, испуганный оттого, что я не принял их приглашения. Мне стало стыдно: сколько слов он потратил, сколько доводов придумал, сколько заискивающих улыбок выдавил, чтоб передо мной открылась неприступная крепость. И сколько потерял времени, бегая из-за меня от одного к другому. А я грубо и неблагодарно отталкиваю его заботливую руку, отказываюсь от его добросердечной помощи.
И я сказал мягче, уже как бы оправдываясь:
— Скучища там будет. Я никого не знаю, да и говорить-то не сумею с такими людьми.
— А ты молчи да слушай. Это, может быть, самое лучшее. Значит, идешь?
Он оживился, опять засветился радостью. У меня не хватило духу снова его разочаровывать.
Но он тут же поглядел на меня испытующе:
— Обиделся, что раньше не позвали?
— Ничего я не обиделся. Жалко, что тебе пришлось ради меня унижаться. Не стоит того.
— Я не унижался. А ты обиделся, я тебя знаю. Из-за глупого самолюбия упустил бы такой случай!
У меня же в самом деле пропало желание идти в этот проклятый дом. Я все еще чувствовал себя солдатом из-под Хотина, несмотря на жену, несмотря на ожидаемого ребенка, несмотря на появившуюся из-за них потребность найти какой-то выход из нищеты и жалкого прозябания. Во мне еще жили непроглядные хотинские туманы, порой охватывала лютая тоска по погибшим. И вот сейчас мне предстояло лукавить, склонять голову неизвестно перед кем, и все ради того, чтоб получить место, которое обеспечило бы моей семье сносную жизнь. А после куда от стыда деваться? В душе так и останется заноза. Я человек бедный, но не побирушка. Я принял первое приглашение, не считая его ни за особую честь, ни за привилегию. А когда меня отвергли, я поставил на этом точку. Меня унизили и оскорбили (Молла Ибрагим не ошибся), и я ответил презрением, сохранив чувство собственного достоинства.
Между тем в преддверии завтрашнего празднества я начал уламывать собственную совесть. Унижаться я ни перед кем не собираюсь, однако, если подвернется случай, глупо было бы им не воспользоваться. Я понятия не имел, каким образом это могло бы произойти, и предоставлял судьбе позаботиться о моей удаче. Если случай не подвернется, я останусь в прежнем своем положении, что тоже неплохо. Я даже надеялся, что меня никто не заметит и я снова вернусь в привычную колею. И как, о чем я буду говорить с этими людьми? После Хотина я умел только глядеть на воду, слушать воробьев и писать прошения беднякам и неудачникам. Слов, а особенно умных и обходительных, у меня ни для кого не было. Кроме Тияны, с которой я вел по ночам тихие, нескончаемые разговоры. Утром я не смог бы их повторить — они были плодом ночи, нашей с ней ночи, и настолько вытекали из нашей близости, что даже утренний свет набрасывал на них сладостную пелену забвения и они исчезали в глубинах памяти до следующей ночи, когда снова выбивались на поверхность наподобие мощного подземного потока.
А что я скажу им?
Вечером я сидел с Тияной в нашей каморке, одной-единственной, не считая прихожей и прочих помещений, куда мне не войти, если я чуть растолстею, что, правда, вряд ли мне угрожает. У этого нашего жилища несколько достоинств и множество недостатков. Она дешевая, мы в ней одни, внизу, под нами, пекарня, и поэтому зимой у нас всегда тепло, по утрам нас будит запах теплого хлеба. Правда, летом тяжело: и солнце печет, и раскаленная печь поддает жару, и тараканы бегают, как будто нас и нет. Хорошим сторонам нашего жилища мы радовались, зной и духоту терпели, открывая окна и двери и устраивая сквозняки. Тараканов выводили травами, которые Тияна покупала на Башчаршии. Я бы на эту пакость и внимания не обратил, если бы они не наводили ужас на Тияну, особенно ночью, когда они бегали по полу и постели. Иной раз я просыпался и видел: жена сидит в постели, обхватив руками колени.
— Что с тобой?
— Ничего.
— Болит что-нибудь?
— Нет. Спи.
— Чудная ты сегодня!
— Счастливая я сегодня!
Я удовлетворялся этим объяснением, так как мне хотелось спать, но на другое утро спрашивал себя: разве счастье тоже не дает спать?
Мне в этом нашем пекле было лучше, чем под Хотином, ей хуже, чем в родном доме. Только она не признавалась — щадила меня. Мы не вели умных разговоров, я этого не люблю, по мне, главное — понимать друг друга, а нам это удавалось без всякого труда. За исключением тех случаев, когда мы вдруг ссорились из-за какого-нибудь пустяка, из-за какой-нибудь глупости, какой-нибудь ерунды, о которой потом не могли и вспомнить.
Я сказал Тияне, что завтра вечером иду в гости к хаджи Духотине, не скрыл от нее и того, что вначале отказался, а потом согласился, чтоб не обидеть Моллу Ибрагима.
— А почему не пойти? Встретишься с людьми, поговоришь. Что в этом плохого? Вернешься поздно?
Лгать она не умела. В жизни не видал человека, который был бы настолько не способен скрывать свои мысли. Выдавал голос, выражение лица, даже если она молчала.
Слишком легко она согласилась. Еще и уговаривает. Почему?
— Ты недовольна, что я иду? — спросил я.
Она улыбнулась:
— Недовольна. Я всегда недовольна, когда ты уходишь от меня.
— И когда я на службу ухожу — тоже?
— Конечно.
Тут и я засмеялся. Вот глупая!
— Кто так живет?
— Я бы хотела так жить.
— Хорошо, хочешь, я не пойду?
— Нет. Непременно иди. А то потом будешь думать, что упустил что-то.
— А зачем тогда сердишься?
— Я не сержусь.— И добавила, словно оправдываясь: — Не по себе мне что-то, боязно. Верно, из-за беременности.
Эта маленькая уловка, которой она смягчала свое недовольство, устраняя мое, направила мои мысли к третьему существу, незримо живущему с нами, которое уже несколько месяцев держит нас в напряжении, вмешивается в нашу жизнь, заставляет примерять к нему все наши желания и поступки.
Ради него и ради нее я должен выбраться из этой каморки. Ради него и ради нее я отправлюсь в эти чертовы гости. И буду умным и буду хитрым.
Я положил руку на живот Тияны и молча, пальцами, стал слушать.
На улице стихали голоса, внизу под нами в печь бросали поленья, тараканы мирно сидели в своих норах, поджидая, когда мы потушим свечу. А я держал ладонь на напряженной округлости живота, на защищенном тельце маленького человека, который уже жил в самом надежном и удобном из всех убежищ. Мне хотелось сказать что-нибудь хорошее этой женщине, хрупкое тело которой изуродовал этот неведомый головастик, хотелось хорошо думать об этом милом головастике, который станет тем, кем не сумел стать я. Хотел и не мог.
Нас трое, в целом мире нас только трое: мои пальцы, ее тело и его ровный пульс, связанные безостановочным током крови. Не важно, что происходит в мире, не важно, что будет завтра, важно это блаженное бездумное мгновенье. Выгонит ли меня из дому этот третий, как выгнал сын больного Мустафу Пуховаца? Или мы будем гордиться друг другом? Или, как большинство, терпеть друг друга? Сейчас это не имеет значения.
Еще будут тысячи счастливых минут, но эта больше не повторится. Тысячи людей будут любить, как мы, однако наша любовь не повторится. Никогда: она единственная и неповторимая.
Впервые я узнал, что такое счастье, ощутил его, увидел, вдохнул.
Мы трое — целый мир и целая вселенная. Никого, кроме нас, нет.
И есть счастье. Смогу ли я его удержать?
Нежность горячей волной захлестнула берега моей души, я хотел сказать «любимая», но Тияна спала, улыбаясь во сне.
— Спи и ты,— сказал я третьему и погасил свечу. Тараканы наверняка с нетерпением ждали, когда же я пущу их в комнату. Может, они опаздывали к какому-нибудь своему обряду.
Весенняя ночь, светит луна. А я не могу заснуть от счастья, причины которого я не пытался найти. И не удивлялся этому.
Да разве могло быть по-другому?
Никто не может обрушить на голову человека столько бед, сколько он обрушивает на себя сам.
Зачем мне понадобилось идти на этот званый вечер, на котором я буду не я или буду таким, каким я не хотел бы, чтоб меня видели,— глупым, нескладным, скучным, никаким. Совсем не обязательно это знать всем, хватит того, что это знают дома.
Я понятия не имел, когда принято приходить. Прийти поздно, одним из последних, неудобно. Придешь рано, скажут — спешишь опередить других. Куда ни кинь, все клин.
— Не опоздаем? — спросил я Моллу Ибрагима, который шел рядом со мной; не знаю, к счастью или к несчастью, потому что, будь я один, я повернул бы обратно.— Не опоздаем? А слишком рано не придем?
— Подождем, когда народ начнет выходить из мечети, тогда и тронемся с божьей помощью.
— Зря я пошел.
— Ты, главное, держись меня!
На освещенном фонарем углу улицы, где живет хаджи Духотина, стоял с протянутой рукой старый знаменосец Мухарем.
Сгорая от стыда, я дал ему мелочь. Стыдно было давать милостыню, стыдно было идти в дом хаджи Духотины. Его место там, а не мое. Да притом самое почетное!
— Ужасно, что такой человек просит милостыню,— мрачно сказал я.
— Он назло просит, мстит за то, что его забыли. Потому и угол этот выбрал — у всех на виду.
— Все равно стыдно.
— Не ты же виноват.
Да, я не виноват, но все равно стыдно. «Прости, старый упрямец,— думал я про себя.— Тебя гложет обида, меня — нужда. Ты хочешь, чтоб тебе было еще хуже, я хочу, чтоб мне было лучше. Ты не можешь поступить, как я, я не могу — как ты. Но, кажется, одно другого не лучше».
Мы прятались в темной улочке, как дети, выжидали время как дураки. Мне стало смешно и противно. Вот так званые гости!
Я на чем свет стоит костил и ветеранов войны, и себя, болвана, буду теперь кривляться как обезьяна среди этих мумий, деланно улыбаться, а в душе дрожать от страха, а мог бы сидеть сейчас дома, с женой, и быть кем хочу и каким хочу. Лучший способ испортить себе жизнь — заняться ее устройством, не имея представления ни о том, как за это взяться и для чего, ни о том, станет ли она от этого лучше или хуже, особенно когда лишишься покоя.
— Выходят,— шепнул Молла Ибрагим, словно объявляя начало битвы.— Пошли! А что до жены, то это просто. Жена подождет. Они — нет. А без них далеко не уйдешь.
Когда мы проходили в дом старого хаджи Духотины мимо слуг со свечами и фонарями, Молла Ибрагим шепнул мне:
— Не бросай меня!
Я глянул на него с удивлением: я-то надеялся на его поддержку, а он от меня ждет помощи!
— Боишься?
— Есть немного.
— А тогда зачем идем? Давай повернем назад!
— Теперь уже поздно.
— Ну раз поздно, пошли их всех к дьяволу. Не робей, считай, что мы на вражеской земле!
— Какая вражеская земля, побойся бога! — завопил он.
Я весело улыбнулся, почувствовав, что освободился от страха и неловкости, вылечился его страхом. А его насмерть перепугали мои дерзкие слова, которыми я бросал вызов и себе и им, сам как следует не понимая, от чего, собственно, я защищаюсь; смешавшись, Молла Ибрагим громко топал по лестнице, едва сгибая одеревеневшие колени. Пораженный и огорченный моим жалким бунтом, он смотрел на меня так, словно я собираюсь поджечь дом. Что и говорить, в таком страхе не стоит жить, я бы не стал, если бы на меня вдруг такой страх навалился. Потому что одно дело — испытывать страх, когда на то есть причины — горе или война, это с каждым может случиться, а другое дело — бояться всего и вся. Богатырь Мехмед Пецитава говаривал в свое время в хотинских болотах: «Хуже как боишься: лиха не минешь, только надрожишься, а ведь когда-то и жить надо!»
Когда жить-то, Молла Ибрагим, если бояться всего и вся? Когда жить-то, господа с вражеской земли?
Смешно было заноситься, я и сам знал, что смешно, ведь совсем недавно и мне было жутковато. Все это была игра воображения: и страх, и опасность. Но воспринимались они как совершенно реальные, и я заранее занял оборонительную позицию.
Первые же минуты, которые я провел в этом богатом доме, убедили меня, что моя воинственность выглядит комично и кольчуга вовсе не нужна. Хозяин, хаджи Духотина, приземистый, с большим, точно чем-то начиненным животом, встретил нас сияющий и с таким подобострастием и радушием, что я глазам своим не верил. Что же наговорил ему обо мне Молла Ибрагим? Или этот удивительный человек настолько благороден и гостеприимен, что даже самым незнатным гостям оказывает такое внимание? Как я неправильно и несправедливо судил о мире и людях! — думал я умиленно и смущенно, уже готовый сменить свою воинственность на нежную признательность, словно горбатая девушка, которой вдруг сказали ласковое слово.
Но, увы, напрасно тешила себя надеждой юная горбунья!
Удивительный человек прошел мимо нас, будто мы тени. Его сияющее лицо радушного хозяина, широко раскинутые для объятия руки и угодливая приветливость были предназначены не нам, а кадию, который шел за нами.
Моллу Ибрагима и меня встретили сыновья хозяина с той холодной учтивостью, к которой не придерешься, но которой и не порадуешься, затем нас разъединили — его повели в следующую комнату, меня оставили в первой, сразу у дверей. Кадия хозяин увлек в глубину дома, в невидимую и недоступную взорам парадную гостиную, предназначенную для самых почетных гостей. Самые почетные гости приходили позже всех и следовали к своему обособленному приюту, провожаемые почтительными взорами и раболепным молчанием, как покойники.
А где же ратники?
Их было всего несколько. Главные гости — торговцы, чиновники, цеховые старшины: в этом доме имело смысл бывать. Вероятно, многие пришли так же, как мой Молла Ибрагим.
Я не сдержал улыбки, вспомнив про его ратные подвиги.
Рядом со мной сидел пожилой человек, неряшливо одетый, опухший, уже, как мне показалось, на взводе. Он и сейчас пил — поставил перед собой кувшин и, когда полагал, что на него никто не смотрит, украдкой тянул из него. А полагал он так частенько.
— Ты зачем пришел? — мрачно спросил он меня.
— Зачем? Низачем!
— Так-таки низачем? Все у тебя ладно. Ничего не хочешь. Ничего не просишь.
— Ничего.
— Богат, что ли? Или жалованье большое?
— Богат, и жалованье большое.
— Счастливчик! Деньги что галки: всегда в стаю сбиваются. Счастливчик!
— Служу писарем у стряпчего. Получаю двадцать пять грошей в год, конечно, счастливчик!
— А, вот оно что! Видит бог, в бедности маешься. Глотни ракии!
— Не пью.
— Со мной не хочешь? Может, брезгуешь?
Я выпил, чтобы не сердить его.
— Выходит, значит, пьешь. Давай еще по одной! До дна, до дна пей!
Вторая чарка прошла легче первой.
— А говоришь, не пьешь! Вижу я, как ты не пьешь! Шутник ты, как я погляжу. А чего это ты давеча улыбался? Люблю, когда люди улыбаются.
Похвала его была мне приятна, я почувствовал себя совсем хорошо.
— Да вот смотрю, где ратники? Вспомнилось, как я одного человека переправлял через бурную реку и он обмарался со страху. Может, и с этими так же было и вся их война и все военные передряги — в полных штанах?
Неожиданно он громко прыснул, словно выстрел раздался, поперхнулся, обрызгал меня ракией, которую как раз опрокинул в рот, но, откашлявшись и придя в себя, продолжал хохотать во всю мощь своих легких, ударяя ладонью по колену, раскачиваясь всем телом и подвизгивая, так что я испугался и за него, и за себя.
— Пей! — протянул я ему кувшин, желая его успокоить.
— Ну, брат, и сказанул: обмарался, вот тебе и вся война!
Смех его прерывал только кашель.
Люди начали на нас оборачиваться.
— Слушай, расскажи им. Прошу тебя, всем расскажи! Лопнут от смеха.
— Еще чего! Такое не рассказывают. И может, я все выдумал.
— Если выдумал, здорово выдумал.
— А ты сам-то зачем пришел?
Но он не слышал меня.
— Значит, в том вся их война и все ратные подвиги!
— Погоди, видно, о себе ты говорить не любишь. Я спрашиваю, зачем ты пришел?
Мне хотелось перевести разговор на него, чтоб он унял свой непристойный смех. Забрасывая его вопросами, я одновременно совал ему кувшин.
Наконец подействовало. Смех еще сотрясал все его нутро, но постепенно становился тише и слабее. Мы навалились на ракию, я потерял всякую осторожность — лишь бы забыть то, что сказал.
— Мое дело обычное, ничего особенного.
— Все равно, рассказывай.
— Был на войне, тяжело ранили, попал в плен к австриякам. Меня вылечили и забыли. Рубил лес в Тироле. Три раза пытался бежать, и каждый раз меня сажали на все более длительный срок в тюрьму. Отпустили только через девять лет. Ступай, говорят, на все четыре стороны и не поминай лихом. Ладно, говорю, не буду, чай, не на свадьбе был — в плену.
Вернулся домой, к жене, а дома, с женой,— другой, хозяйничает на его земле. Пятерых детей народили, а с ним у нее ни одного не было. Понял он все и не стал на нее сердиться: что поделаешь, ждала, ждала да и вышла за другого. Пусть только вернут, что ему принадлежит, то есть дом и усадьбу, а жену он, так и быть, подарит. Вроде просто и ясно. Но не тут-то было, канитель началась страшная, и все впустую. Слишком долго о нем не было ни слуху ни духу, а поскольку нашлись люди, которые видели, как он упал на поле боя тяжело раненный, кадий выдал бумагу о его смерти, жена наследовала его имущество и принесла в качестве приданого новому мужу. Что будешь делать? Он хочет вернуть свое, он его не продал и в карты не проиграл, оставил все в наилучшем виде, а что он жив-здоров, каждый может видеть. Какие еще здесь нужны доказательства? Но муж его жены, тот, который его заменил и свое мужское дело наилучшим образом исполнил, говорит так: что жив человек, не поспоришь, что имущество его, не поспоришь. Однако же, не будь бумаги о его смерти, не напиши ее кадий, он не взял бы в жены его, то есть свою, жену, потому что у нее ничего не было бы, а сам он гол как сокол. А если бы сдуру и взял, то уж никак не напек бы столько детей.
Да и его ли вина, что человек остался в живых, а кадий объявил его мертвым? Он согласен пойти на мировую, если уж иначе нельзя, вернуть жену и троечку детей, а ему чтоб отдали половину состояния. Или пусть живет с ними — места всем хватит. Но солдат не хочет ни жены, ни детей, он требует свое добро, пусть хоть половину, потому что ведь и он не виноват, что кадий объявил его мертвым. И что до него, так он рад, что получилось так, а не наоборот — кадий объявил бы его живым, а он оказался бы мертвым. Вот теперь он и мозолит глаза тем, от кого зависит распутать эту канитель.
Теперь настала моя очередь смеяться. Я начал хмелеть.
— И тебе сказали, что это простое дело!
— А то как же! Усадьба моя, дети его. Что здесь непонятного?
Из соседней комнаты неторопливым шагом вышел Джемал Зафрания. Он был в очках, которые не очень-то ему помогали, но глаза ему заменял слух, отлично ему служивший. Уже подойдя ближе, он проверял себя, близоруко щурясь. Привел его сюда наш громкий смех, непривычный в этих стенах.
— У вас здесь весело,— улыбнулся он нам ласково.
Он всегда улыбается, всегда мягко стелет.
— А как зайдет речь о всамделишной жизни, непременно выходит смешно,— сказал мой новый знакомый, удивив меня этим своим замечанием, более умным, чем можно было от него ожидать.
И обернулся ко мне:
— Ты знаком с Джемал-эфенди? Он писарь у кадия. Стоящий человек.
— Мы вместе в медресе ходили. Только Джемал-эфенди младше меня. Я ему уши драл за логику. Мы с ним хорошо знакомы.
— Сейчас, думается, я в логике посильнее тебя.
— Наверняка. Я получаю двадцать пять грошей в год. Одна твоя улыбка стоит столько.
Он весело улыбнулся, как улыбаются удачной шутке.
— Почему не заходишь ко мне?
— Не хочу отнимать у тебя драгоценное время.
— Садись к нам, Джемал-эфенди, выпей с нами,— навалился на него бывший пленник.— Я и не знал, что вы приятели.
— Спасибо, я не пью.
— Он не пьет, не курит, у него нет никаких пороков, кроме тех, которые он скрывает.
Я не люблю Джемала, меня отталкивала его фальшивая улыбка, коварная учтивость, наушничество даже в те времена, когда я был сильнее его. А сейчас тем более. Люди, которые служат у кадия, не вызывают у меня симпатий. Будь у него железный хребет, он и двух месяцев не выдержал бы. А он уже два года стряпчий и долго им не останется, дальше пойдет. Его и ломать-то не требуется, до него еще не коснулись, а он уже растекается, как вода, что принимает форму сосуда, в который ее наливают. Он ничем не погнушается, если увидит в этом для себя корысть, а цель у него одна-единственная — преуспеть в жизни, избавиться от воспоминаний о нищенском детстве и об отце — тюремном стражнике, всеми презираемом пьянице и наушнике по призванию. Однако сын даже этот семейный позор обратил себе в пользу, прикидываясь невинной жертвой, пока не стал на собственные ноги, и взывая к помощи сильных мира сего в борьбе с неблагосклонной судьбой. Все уже забыли о его прошлом, а он не забыл. Все держал в памяти. Он не мог простить отцу его бедности и убожества, его пресмыкательства, его неумения воспользоваться чинимым им злом. Будь у него сила, его никто не презирал бы, во всяком случае открыто. Ненавидели бы, но кланялись. Горе и несчастье, которые он приносил людям, он должен был превратить в деньги, подняться по ним как по ступенькам, кто знает, как высоко. Многие так делают. Но отец был слабак, за гроши продавал свои способности. Он таким не будет. Он все делает, чтоб не повторить отцовской ошибки. Внешне спокойный, уравновешенный, полный коварства, он знал, что люди боятся его, и наслаждался их страхом.
Я не думаю о нем, нет мне до него никакого дела, так же как и до прочих мерзостей жизни. Но в этот вечер я уязвимее обычного: и опьянел, и взволнован, да и кольчуга, которую я надел на себя для самозащиты, горячила кровь. Он бесил меня. Вспомнились разговоры, что он уже год ублажает богатого хазнадара Фейзо, во-первых, чтобы иметь могущественного покровителя, а во-вторых, и главным образом, чтоб жениться на его дочери, за которой дают богатое приданое. Об этом говорили кто со смешком, кто с завистью. Трудно сказать, хотел ли он сначала расположить к себе папашу, а потом потребовать в награду дочку с приданым, или же, что более вероятно, и дальше собирался, как ласковое теля, сосать двух маток.
Одно могу сказать: мне на него и смотреть противно, с души воротит от его улыбки, потому я злил его, думал, уйдет поскорее. Он же и виду не показывал, что его задевают мои слова, хотя все на лету схватывал и прекрасно понимал, на что я намекаю, говоря о скрываемых им пороках.
Любопытно, что он станет делать? Мною овладела хмельная блажь — захотелось сорвать с него личину напускного спокойствия, вогнать в краску, разозлить, вывести из себя, заставить обрушить на меня поток унизительных слов. А может быть, он предпочтет принять вызов, начать спор, чтоб показать свое превосходство? Пожалуйста, я готов! Я не испытываю трепета ни перед его умом, ни перед его положением: мои доводы крепче, потому что они свободны, мое слово смелее, потому что мне ничего не надо. Моя бедность меня вполне устраивает.
Он упорно держится в рамках снисходительной учтивости.
— Что же за пороки я скрываю? — спросил он, улыбаясь.
— Те, о которых мы не знаем. Ведь людей без пороков не бывает!
— Выходит, бывает. У меня нет пороков. Ни одного.
Взгляд спокойный, речь спокойная, врет без зазрения совести.
— Это для меня новость!
— Что ж тут удивительного? Все в руках божьих, бог сотворил меня таким.
— Безгрешным?
— Без грешных пороков.
— И ты серьезно?
— Совершенно серьезно. Ты что же, не веришь в божью волю?
— Валить на бога и добро и зло — значит прятаться за его спину. Мудро, ничего не скажешь. На войне у одного обозника пропал как-то казенный табак. Стали его допрашивать, а он знай твердит, что табак пропал по воле божьей. Но люди-то видели, как он этот табак продавал — он выпивать любил. Выходит, по божьей воле он и пьяницей был.
— А как же? Конечно! — говорит он по-прежнему невозмутимо и весело, не принимая вызова. Меня охватывает ярость.
— Чепуха! Чем больше святых заслонов, за которые люди прячутся, тем больше простора для зла и бесчинств. Человек любит выдумывать причины, чтобы снять с себя вину и ответственность. Отсюда и рождается общая безответственность. Так человечество далеко не уйдет.
— Ты хочешь сказать, каждый сам для себя решает, что такое добро и что такое зло?
— Каждый! И никакое зло не может превратиться в добро лишь потому, что так считает большинство.
— А защищаться — значит тоже творить зло? Например, защищать веру.
— Защита и нападение часто одно и то же.
Зафрания и сейчас не перестает улыбаться. Из чего он сделан? Что это? Сила или бесчувственность?
— Неточно, но любопытно,— сказал он без всякого раздражения. Взял меня под руку и отвел в сторонку. Нас легко было принять за близких приятелей.
— Хорошо, что тебя люди не слышали.
— Ты думаешь, я боюсь? Я своих мыслей ни от кого не скрываю.
— Бояться тебе не из-за чего. Просто нехорошо. Вредно. Кто-нибудь возьмет и поймет превратно.
— А мне плевать, как меня поймут.
— Вот это напрасно. Здесь собрались лучшие люди.
— Лучшие? Ты, когда шел сюда, видел знаменосца Мухарема? Лучшие, может, с голоду пухнут. Или гниют в тюрьмах.
По его ликованию, которое он прятал под напускным смущением, и по наступившей вдруг мертвой тишине я понял, что именно эти слова он жаждал от меня услышать. Для того он и привел меня в соседнюю комнату, чего я даже не заметил, для того и подначивал, рассчитывая, что по пьяной удали я наговорю глупостей.
Слова мои оскорбили, разозлили, разъярили гостей. Молла Ибрагим вертел тощей шеей, будто подавился живым угрем.
Но остановиться я уже был не в состоянии. Мошенник ошибался, полагая, что я малодушно уйду в кусты. Ничего ужасного я не сказал. И они это знали.
Я продолжал говорить, теперь я считал это своим долгом. Бояться я не боялся, но объяснить свои слова я должен. Кому-то ведь надо сказать. Нельзя же всем и всегда молчать!
— Я не хочу никого обижать (сказал я мягко), но меня потрясла судьба старого знаменосца. (Тут мне вдруг показалось, что я вроде бы трусливо оправдываюсь, и уязвленное самолюбие подкинуло мне более резкие слова.) Разве знаменосец хуже нас? (Снова уступка! Ведь хотел я сказать: вас! Вот беда!) А сколько таких, как он? Не думаем мы ни о живых, ни о мертвых. (Вот это точно, точно! Правду кинуть им в лицо!) Народ голодает, мучается, утопает в потоках крови, нищенствует на своей земле и бессмысленно умирает на чужой. Мои товарищи погибли под Хотином как собаки, сами не зная, во имя чего, и тысячи других горемык тоже. А вернись они — может, тоже стояли бы с протянутой рукой, как знаменосец Мухарем. Грех думать только о своем благе.
Молла Ибрагим проглотил своего угря и теперь, совершенно синий, мучался икотой.
А я лишь с последним словом понял, что наговорил бездну глупостей, без всякого повода и нужды.
Джемалу Зафрании и не мечталось, что его коварная месть удастся с такой полнотой. Мне некуда было деваться, каяться было поздно и бесполезно. Да и пошли они ко всем чертям, пусть я выставил себя круглым идиотом, зато они услышали то, чего давно никто им не говорил.
Хорошо же закончилась моя попытка повернуть свою жизнь к лучшему!
Гости помоложе и помельче бросились на меня с кулаками, оскорбленные до глубины души и за себя, и за отцов города. Джемал Зафрания урезонил их и вывел меня из дома.
— Зачем тебе это понадобилось? — с укором спросил он меня.
— Не мне понадобилось, а тебе. А сейчас проваливай, пока я тебе костей не переломал.
Этот довод показался ему убедительным, и он без всяких околичностей ретировался.
На улице было темно, луна еще не вышла. Недолго пробыл я в гостях.
Значит, свершилось.
Чьи слова говорил я этим хмурым людям? Видимо, свои собственные, хотя я никогда не произносил их в такой резкой форме даже про себя. Конечно, и слова эти, и мысли жили во мне, откуда бы я их извлек, если не из себя самого? Пить мне нельзя, думал я, быстро хмелею и перестаю владеть собой. Но дело не только в пьяном угаре. Я говорил назло Зафрании, хотел ему досадить, а потом уже отступать было некуда. Он же сделал из меня шута горохового, дергал за ниточку как марионетку, и по его милости я разыграл роль дурачка-простофили. А ведь я считал себя умнее этого полуслепого недоростка! Да, опасное дело — считать себя умнее другого.
И вдруг меня осенило! Из тумана почти забытых воспоминаний выплыло серьезное лицо студента Рамиза, зазвучали слова, которые он говорил в мрачных хотинских лесах. Они врезались мне в память, и я бессознательно повторил их почти в тех же выражениях в самую неподходящую минуту.
Ну и ладно, где наша не пропадала!
Я был в той стадии опьянения, когда ноги еще не выходят из повиновения, но мысли разбегаются и их трудно собрать воедино. Я решил пройтись вдоль Миляцки — выветрить винные пары. А то Тияна начнет пенять как ребенку: «Господи, да разве тебе можно пить!» И кроме того, надо придумать, как ей рассказать о своих подвигах. Я от нее ничего не скрываю, не в силах скрыть — не скажу сразу, потом мучаюсь. Она чувствует любую перемену во мне, даже пустяковую. Самую невинную ложь чует. Поэтому придется все ей выложить, как бы мне это ни было неприятно. «Ну, герой!» — отзовется она на мой рассказ. Только что сказать? Что Зафрания сделал из меня шута горохового? Что я нарочно бросил им в лицо то, что давно меня мучило? Что был пьян и сам не знал, что говорил? Где здесь правда? Во всем понемножку?
Говорил я вещи справедливые и верные, я и впрямь так думаю, хотя говорить этого не следовало бы. Сам я никакого удовольствия не получил — осталось только чувство стыда, переворота в головах людей мои слова не произведут, все будут думать так, как думали до сих пор.
Глупо, ненужно, бесполезно. И виноват один Зафрания!
Вот чертов педераст, продал ни за понюшку табаку! «Бойся их как огня!» — поучал Смаил Сово, а может, и другой кто, я теперь все приписываю погибшим товарищам. И еще тот человек говаривал: «Откровенное скотство еще не скотство, а вот тот, кто скрывает свое скотство, он и есть самый что ни на есть последний скот!»
Да уж, я в этом убедился как нельзя лучше!
Впрочем, плевать. Кто знает, может, это и к лучшему. Буду себе служить у прижимистого, трусоватого и доброго Моллы Ибрагима, писать прошения и жалобы, письма солдатам, а в солдатах никогда недостатка не будет, как и в войнах. Это даже лучше, чем если бы я получил другое место. Сейчас от меня никто не зависит, я всего-навсего посредник и могу себе позволить жалеть и утешать людей в их реальных и мнимых бедах. Я всегда на их стороне. Для меня было бы сущей мукой судить людей даже в малости. Как рассудить бывшего австрийского пленного с его преемником? Все кругом так перепутано, что трудно признать одного полностью правым, а другого — полностью виноватым. (Очевидна лишь несправедливость, унижающая и убивающая людей, но ее никто не трогает.) Вот и прекрасно, подумал я весело, сегодня я вынес себе приговор: никогда никого не судить. И слава богу! А сказал я правду. Конечно, правду эту я увидел снизу, да и как же я еще могу смотреть? Тем, кто наверху, она видится по-другому. Так, черт побери, и получается, что у каждого своя правда, но, в конце концов, может, это и хорошо (непонятно только, почему ее зовут правдой?), ведь, будь правда одна-единственная, можно было бы помереть со скуки, а самое лучшее, когда чужая правда — неправда, тогда жить интереснее.
Ударившись в нехитрое мудрствование и найдя в нем некоторое оправдание для своего безрассудного выпада и какую-никакую позицию, а позиция дает ощущение правоты и смелость, я вздохнул свободнее и заторопился узкими улочками к своему дому. Улыбнусь с порога Тияне и скажу ей…
Я не успел придумать, что скажу. Голова моя затрещала под чьим-то кулаком; падая, я услышал топот множества ног, словно били по барабану. Я потерял сознание.
Не знаю, сколько я лежал, сколько продолжался этот сон без сновидений, подаренный мне чьим-то кулаком. Очнувшись, я смутно увидел над собой луну, и тут же мои веки снова опустились, тяжелые и омертвевшие.
По улице кто-то шел в мою сторону — я понял это по звуку шагов,— но неожиданно остановился и торопливо зашагал прочь. «Что со мной?» — спрашивал я себя, с трудом шевеля отбитыми мозгами. Болела голова, болел позвоночник, болели руки и ноги, рот полыхал огнем. И снова беспамятство избавило меня от мук.
Окончательно очнулся я от чьего-то голоса и прикосновения чьих-то
рук.
— Слава богу, живой,— шелестел шепот.— Встать можешь?
— Что со мной?
С этим вопросом я впал в беспамятство, с ним и очнулся. Неподалеку журчала вода. Хотя бы каплю!
— Откуда я знаю, что с тобой? Я здесь случайно, иду, вижу — лежит человек, ну, думаю, пьяный. Подхожу ближе, смотрю — ты. И свалился-то ты, приятель, не спьяну. Здорово тебя исколошматили.
Я узнал его: Махмуд Неретляк. Он что-то счищал с меня.
— И обмарали тебя, и облили с головы до пят. Почище нужника. Фу, вонь какая, убей их бог. Вот хворостиной хочу убрать, да никак не счищается, все руки перемазал. Дрался ты с кем, что ли?
— Домой бы.
— А куда ж еще, понятно домой. Пускай жена хорошенько отмоет, синяки да шишки потом увидишь. Ну-ка, встать можешь?
Я отплевывался, изрыгая кровь и нечистоты.
— Погоди, ополоснусь немного.
— Ополоснись. Но одежду придется жене отмывать в щелоке. Другое что-нибудь наденешь.
Другой одежды у меня нет. Тияна и эту, единственную, чинила и наглаживала, чтоб я мог пойти в гости, и вот увидит меня в таком виде. Перепугается насмерть.
Махмуд подтащил меня к чесме, я подставил голову под струю, глотнул холодной воды, сполоснул рот, мертвыми руками провел по одежде, пытаясь счистить дерьмо. Только бы Тияна не увидела!
— Не трогай, только размажешь.
Я снова сунул голову под струю — нестерпимо болел затылок. Махмуд меня поддерживал.
— Еще удачно все вышло. Собрался я домой, а меня не пускают, посиди да посиди, куда торопиться, выпей еще. Так вот за разговорами и засиделся, потому и на тебя наткнулся.
— Здесь кто-то проходил, да как увидел меня — смылся.
— Кому, Ахмед, охота ввязываться? Убежать легче, чем помочь. Не такая уж это великая радость — таскаться по судам, давать показания, терять время! По-человечески понять можно. Пошли, обопрись на меня. Видишь, чем не служба: подберешь кого на улице и веди домой.
Он не спрашивал, что со мной произошло, кто меня избил и за что, ничему не удивлялся. Я сказал, что на меня напали внезапно, в темноте. Это тоже не показалось ему странным.
— Всякое бывает,— спокойно сказал он.— Может, разбойники, их сейчас развелось больше, чем честных людей. А может, ошибка. Подстерегали другого, а кинулись на тебя, обознались. Тебе еще повезло — когда бьют, не страшно, страшно ожидание. Смотришь, ждешь — и наперед больно. Больно и потом, как тебе сейчас, но все же не так.
Да, его били смертным боем за фальшивые медяки. Меня — за правдивые слова.
— Жене моей ничего не говори,— попросил я.
— А что говорить, сама увидит.
Тияна не ложилась, ждала меня, наверняка не спала бы всю ночь; увидев меня, перепугалась, застыла в дверях от ужаса. Я, с трудом улыбнувшись, сказал, что ночью по городу нынче нельзя ходить, кто-то вот ударил меня и дал тягу, но, к счастью, ничего опасного нет.
— Видит бог, сначала обмарали всем, чем могли, а потом уж дали тягу. Давай разденем его. Ты стирай одежду, а я поставлю холодные примочки.
Меня раздели, обмыли, как ребенка или как покойника. Махмуд приложил тряпицу к разбитому затылку.
— Крепко,— сказал он.— Жаль, нет ракии, боль оттянула бы. Да и нам пришлась бы кстати.
Когда Тияна со своим уже заметным животом, неловко согнувшись, стала подбирать с пола замаранную одежду, Махмуд улыбнулся:
— Оставь, сношенька, я постираю. Ты только согрей воду.
— Зачем? Мне нетрудно.
— Знаю, что нетрудно. Но лучше, душа моя, положи-ка ты свою рученьку на этот вот желвак, видишь, уже с яблоко вымахал, ему полегче будет. А я мигом, я человек ко всему привычный. И ты привыкнешь, но спешить ни к чему. Да и тяжелая ты. Сядь-ка к нему. Начнет его лихоманка трясти с перепугу да кулаков, не тревожься, на молодых быстро все зарастает.
Меня и впрямь трясла лихорадка, перед глазами все плыло, то и дело я терял сознание, но и тогда, словно сквозь сон, чувствовал на себе руку Тияны, как лекарство, как избавление, и, собрав все силы, неловкими движениями цеплялся за нее, пытаясь поднести к своим разбитым губам и поцеловать это единственное надежное пристанище во тьме горячечного бреда. Мне хотелось, чтоб эта рука удержала меня на поверхности, защитила от мучительного тумана, затягивающего меня в события этой ночи. Они то и дело возвращались, чудовищно искаженные. Меня душили карлики с огромными головами и великаны с головами в игольное ушко. С трудом выныривал я из удушливых глубин и видел склоненное надо мной лицо Тияны.
— Жарко,— говорю.— Ну и топят сегодня в пекарне.
— Тебе лучше?
— Не уходи.
Но я сам уходил от нее во мрак, где меня поджидали чудовища. И снова, как только открывал глаза, видел ее у своего изголовья. Это была тихая гавань, куда я возвращался сломленный бурей, но счастливый, что сумел вернуться.
Мне было жалко, что она не спит, и в то же время я боялся, что она заснет. Кто тогда подхватит меня, когда я выплыву из своих кошмаров?
— Ты устанешь. Ложись, мне лучше.
Она легла, но я непрестанно чувствовал ее руку — на груди, на лбу: она стерегла мои муки.
— Ты мне спать не даешь,— сказал я вроде с упреком, хотя никогда в жизни ничего лучше и милее не желал.
— Тебе правда лучше?
— Да. Спи.
Я закрыл глаза и попытался унять дрожь, чтоб убаюкать ее своим покоем. Вскоре она задышала глубже и ровнее, сморенная усталостью.
Я оперся на руку, склонился над ней и долго смотрел на длинные тени ресниц на ее округлых нежных щеках. Ее милое лицо изгнало чудовищ из сна и грозные взгляды из яви. У меня есть Тияна, что они мне?
Рука не держала, я лег.
Тияна испуганно вздрогнула:
— Что ты?
— Смотрю на тебя.
Огромные глаза застыли от ужаса, губы приоткрылись, казалось, она сейчас закричит.
Как она хороша!
Я поцеловал ее в щеку, и она сразу успокоилась, выражение страха на лице сменилось сонной улыбкой.
Тараканы вовсю хозяйничают в комнате, грызут стены, пол, мебель; скоро примутся за нас. Луна уходит, погружая лицо Тияны в тень,— вот жалость, как бы я хотел всегда видеть ее в серебряном свете луны, не терять ни на мгновенье! Я прислушиваюсь к шагам первых предрассветных прохожих и думаю о ней и о себе. Конечно, она заслуживает лучшей участи, но что я без нее? Я вырвал Тияну из ее мира, мои ее не любят, ее — не признают, я для нее все, что у нее есть, все, о чем она мечтала: любовь, нежность, уверенность, защита. Вот что помогает мне жить: ее девичьи мечты! Я еще не перестал ей сниться, не перестал быть желанным! Но что будет, когда жизненные бури разорвут эту пряжу нежнее паутины и человек из мира мечты и снов станет таким, каким стал этой ночью я, жалким и униженным? Ведь это удел всех грез! Она тогда застынет от ужаса. И ничего не останется, даже иллюзий.
Не знаю почему, мне вдруг вспомнились хотинские плавни и старший сын цирюльника Салиха с Алифаковаца — никакой связи, по крайней мере внешней, я не видел. А вот вспомнилось. И внезапно я понял, почему он себя зарезал. Младший брат смотрел на него как на божество, все свои поступки соизмерял с ним, был храбрым рядом с ним, потому что верил в его силу, восхищался его серьезностью и чистотой. И в одну ночь его брат, его идеал стал жалким и раздавленным — таким, как все.
И этот запятнанный человек чувствовал себя униженным перед самим собой, корил и себя, и людей, толкнувших его на гнусное дело, но, конечно, тяжелее всего ему было осуждение брата. Что он уронил себя в собственных глазах, это он пережил бы и переболел, рано или поздно это все равно случилось бы, но он убил брата, разом отняв у него все — и прошлое, и надежду на будущее.
Младший брат плакал в карауле — его отослали, чтоб он не видел всей гнусности, но он видел и потому молчал целую ночь, оставшись вдруг один во всем мире, без опоры, без своей наивной веры в брата.
Люди таковы, какими мы их себе представляем. Мы мечтаем о жизни, о мире. Но как сберечь свои и чужие мечты? Люди видят нас, мы видим людей, и все выходит наружу, как на маскараде, с той разницей, что жизнь не любит шуток. Однажды очнемся и в страхе посмотрим друг на друга: где наши мечты?
И Тияна спросит: «Где мои мечты?»
Я не обещал ей достать звезду с неба, хотя и такое бывает, кое-кто даже верит в это, иногда долго, но до конца — никогда! Я покорно каждый праздник зажигал свечи под изображением султана, засиженного мухами, писал письма и прошения всегда одинакового содержания и даже Тияне не жаловался на свое скучное занятие, до последнего гроша приносил домой мизерное жалованье, которое никак не становилось больше, и не мог обещать ни себе, ни ей, что скоро жизнь пойдет по-другому. И все же я был счастлив: судьба обделила нас деньгами, зато щедро наградила любовью, я не боюсь ни жизни, ни людей, боюсь только, чтоб сердце твое не пресытилось мной. Я был одинок, теперь у меня есть свой мир, словно я завоевал для себя собственную планету, и я никому не позволю проникнуть в наше царство, нарушить наш покой.
И вот сегодня властелина царства над пекарней, полного тараканов, крыс, кашля и громыхания, владельца собственной планеты в три квадратных метра, сегодня ночью этого царственного властелина обмазали дерьмом и облили мочой. Под Хотином такого со мной не сделали бы, просто убили бы — там велась честная игра. А наши сделали, на такое способны только свои. Да еще сделали так, чтоб остался след на всю жизнь. Даром меня отмывали сегодня, даром я буду отмываться завтра и послезавтра и год за годом — унижения мне не смыть никогда.
Я повернул голову и зарылся лицом в горячую подушку: что со мной сделали?
И за что?
Только за то, что я был глуп, что был пьян, что разозлил их? Или за то, что я сказал им то, о чем сам и не думал? За то, что сказал то, что думал? Если так мстят воробьям, как же тогда поступают с ястребами? Кто они? Разнузданные безумцы? Слабоумные маньяки? Звери?
Я, червяк, мелкий и ничтожный, что я мог сделать им, слонам? Какой ущерб я мог им нанести?
Я — кулак, ударяющий в стену.
Я — удар, от которого больно тому, кто бьет.
Я — песок под их ногами, птица, немеющая от тени ястреба над лесом, червяк, которого клюет курица, чуть только он вылезет из своих подземных ходов.
Я — маленький человек, забывший о том, что он маленький. Их оскорбило то, что я осмелился думать.
Зачем им понадобилось мне мстить? Чтобы нагнать на меня страх? Чтобы другим было неповадно? Чтобы поизмываться над слабым? Чтобы запретить думать? Чтобы запретить говорить?
Ни на один вопрос я не находил ответа. Меня привела в ужас бессмысленная жестокость расправы. Где мы? В каком мире живем?
Или, может, это сон: разве наяву возможен такой бред?
Увы, сон воплощает наши желания, а жизнь пробуждает от сна.
Знали ли вы об этом, десятеро моих погибших товарищей по днестровским плавням, когда к вам пришло пробуждение и — тоска? «Все пройдет»,— говорил тихий Ибрагим Паро. Но разве это утешение? Пройдет и радость, пройдет и любовь, пройдет и жизнь. Разве только и надежды на то, что все пройдет? И все же пройдет — и этот стыд, и этот ужас, и эта пытка, из-за которой я готов умереть, не сходя с места.
Я прижался к Тияне, надеясь, что любимая избавит меня от страха перед наступающим днем. Не просыпаясь, она почувствовала меня и подвинулась, чтобы мне было удобнее. Я вдыхал запах ее волос и безмолвно шептал, глотая горькие слезы ярости: «Милая, пройдет и это. Забудь все, что ты видела. Не пробуждайся от своих мечтаний ни завтра, ни до конца своих дней. Нам будет снова хорошо, забудь то, что ты знаешь. Забуду и я, если смогу».
Но, может быть, я постараюсь не забыть. Я не хочу отказываться от себя только потому, что в мире существуют дикие звери. Они унизили меня, унизили чужими руками, у них для всего есть подручные, извечные слуги без души и совести, такие же, как и они сами; разница лишь в том, что у хозяев есть право приказывать, есть власть над людьми, хотя мне, наверное, никогда не понять, какая и откуда. Все над ними насмехаются, все их презирают, но все — боятся. Я тоже презираю их и тоже боюсь.
Они унизили меня, оплевали, вымазали в дерьме, но я не сдамся. Они принадлежат к чужой, вражеской земле, и я сам виноват, что пути наши пересеклись. У нас нет общего языка, нет общих мыслей, нет общей жизни.
Я, безрассудный воробей, отправился в гости к ястребу! И конечно, едва унес ноги.
Больше такого не случится. Дважды эту ошибку я не повторю. И если сегодняшняя пытка заронит в мою душу семена ненависти, виноваты будут они.
Я чувствую на своем лице ласковое, трепетное прикосновение погожего весеннего дня. Но глаз не открываю, хочу продлить ночь. Пока они думают, что я сплю, меня нет, для них по крайней мере.
Я слышу, как шепчутся Тияна и Махмуд. Он принес травы, что силы возвращают, и мазь от ушибов. Травы, говорит, отличные, без обмана, он одно время сам промышлял лечебными травами, в Турции жил этим, у них там травы не похожи на наши, но нужда заставит, мигом разберешься, что к чему. Он верит в травы, убедился и на себе, и на других в их целебности, да и неудивительно, ведь в них солнце, вода и разные там соли, и все это перемешивается и течет по стебелькам и выходит что твоя ракия, крепче или слабее, чистая как слеза. За мазь он не ручается, ее делал травник Фехим, для кого — он ему не сказал, чего зря болтать, а не ручается потому, что Фехим сам мучается язвами на ногах и вылечиться не может, где уж ему других лечить. Только мне об этом говорить не следует, пусть лучше я буду верить, вдруг да будет толк. Если не полегчает, самое верное средство — медвежий жир, правда, его сейчас не найдешь, неплохо и заячье сало, его он берется раздобыть.
Когда он ушел, Тияна кинулась искать что-то, открывала дверь, заглядывала под сундук.
— Что ты ищешь?
— Туфли твои. Стояли возле дверей.
— Может, ты их куда убрала?
— Нет.
И куда их можно убрать в этакой теснотище?
В комнату никто не входил. Кроме Махмуда Неретляка. Значит…
— А Махмуд не взял?..
— Как взял?
— Так где же они, если он не взял?
Она стояла у двери смущенная и растерянная. Так было всегда, когда на ее глазах совершалось что-то дурное.
— Неважно,— говорю я, чтоб ее успокоить.— Надену зимние, пока новых не куплю.
— Туфли-то ладно.
— Не думай больше об этом.
— Как ты?
— Рука болит. И спина.
Тияна переполошилась, и мне стало стыдно за свою ложь.
— Не беспокойся. Ничего страшного.
Она приготовила отвар, намазала меня зельем, я позволил ей возиться со мной, как с малым ребенком, мне доставляло удовольствие быть беспомощным, ей — оказывать помощь, у обоих было занятие, и мы могли не говорить о ночном происшествии. Я все время ждал, что она спросит о нем, и решил не отвечать, а то и напустить на себя страдальческий вид: что ж она, не может потерпеть, пока я чуть-чуть в себя приду? К счастью, она ни о чем не спросила, но я все-таки чувствовал себя ущемленным, словно упустил случай избавиться от внутреннего напряжения.
Я послал Тияну к Молле Ибрагиму — попросить денег и сказать ему о том, что со мной случилось: мол, ночью кто-то напал, и потому я несколько дней просижу дома. И пусть на обратном пути купит чего-нибудь, чтоб было чем его угостить — ведь он наверняка придет меня проведать.
Тияна ушла, и мне сразу стало легче. Значит, я из-за нее в таком волнении. Я не умею врать и прикидываться жертвой каких-то своих убеждений. Ведь что такое мои убеждения — пыль, летящая в пустыне, неизвестно откуда занесенные ветром семена, скрытые туманом неясные ростки. И в то же время мне стыдно признаться, что меня могут бить на улицах, как последнего босяка, презренного куроцапа. Бить просто так. Не опасаясь, что придется отвечать, не опасаясь, что спросят: «Что вы сделали с человеком?» Я даже пожаловаться не могу. На кого? На темноту, на ведьм? И к чему? Люди сказали бы то же, что и Махмуд: пьян был. Никого не заботит, что я могу подать в суд, это вызовет лишь улыбку на лицах. Думать я могу все, что угодно, сделать ничего не могу. В нынешнем мире у нас только две возможности — приспособиться или погибнуть. Бороться нельзя, если и захочешь — остановят на первом шагу, на первом слове, это чистое самоубийство, без пользы и смысла, полное отречение от себя. Нельзя даже высказать все, что накипело на душе, а потом уж расплачиваться за содеянное. Исколошматят так, что и слова не вымолвишь, а после тебя останется позор или забвение.
О жалкое время, не допускающее ни мысли, ни подвига!
Так, беспомощный, высокими словами я пытался смыть с себя позор.
Я встал, прошелся по залитому солнцем полу, с трудом переставляя заплетающиеся ноги и рассеянно подсчитывая синие печати на теле.
Мученик, дурак. Не желаю быть ни тем, ни другим. Для них же я просто вошь.
А может быть, я и правда вошь. Разве мне не о чем думать, нечего переживать? Так нет же, я переживаю свой позор, свое унижение. Я не вижу вины, не вижу виноватых. Не думаю о мести, нет во мне исцеляющей ненависти, жжет нутро тоска, словно изжога, и все.
Тияна застала меня в постели, она принесли деньги, купила мандаринов — угостить Моллу Ибрагима, когда он придет. Молла Ибрагим передал мне привет и пожелал всех благ.
— Не рассердился, что я день-два побуду дома?
— Сказал, главное — пусть скорее выздоравливает!
— Я же говорил тебе, что он хороший человек.
— И ты с ним был хорош.
— Я другое дело. На войне, в беде человек творит и добро и зло вперемешку, чередуя одно с другим. От неуверенности. В мирное время люди становятся хуже, думают только о себе. С Моллой Ибрагимом этого не случилось.
Она внимательно посмотрела на меня своими большими, умными, пугливыми и проницательными глазами, отвернулась и занялась своими делами.
Почему она так посмотрела? Удивилась, что говорю ерунду? Или говорю избитые истины? Или удивилась, почему я не говорю о том, что произошло? Или почему я вообще говорю после того, что произошло?
Я стал мнительным. Вчера меня не удивил бы самый удивленный ее взгляд.
Мне бы промолчать, улыбнуться, пошутить, но нервное напряжение одолело разум, и я спросил:
— Что это я сказал такое необыкновенное? Ты хотела ответить и прикусила язык.
— Почему прикусила? Знаешь же — я говорю тебе все, что думаю.
— Я сказал вздор? Или непристойность? Ты хотела меня спросить? Или отчитать?
— Не хотела я тебя ни спрашивать, ни отчитывать.
— Может, сердишься, что я тебе не все рассказал? Хорошо. Изволь, расскажу. Вчера в гостях я наговорил глупостей глупцам.
— Я все знаю, пожалуйста, перестань.
— Откуда? Даже Молла Ибрагим всего не знает. И почему я должен перестать?
— Потому что только себя терзаешь. После поговорим.
— С чего мне терзаться? Я говорю то, что надо сказать, и сказать сейчас, чтоб не молчать о том, что произошло. Я понятия не имел, в каком зверинце мы живем!
Вскоре я спохватился, что больше ярюсь и рассыпаю брань, чем рассказываю, причем распекаю всех, кроме себя. Я оправдывался перед Тияной, обвиняя других. Сказал, что кривой шулер и пьяный болван устроили вчера для этого сброда такое представление, которое болван будет помнить, покуда жив. Не потому, что наговорил вздору — это им безразлично,— а потому, что говорил то, что думает. Оттого он и дурак. Отомстили ему жестоко. Избили. Вымазали в дерьме. Облили мочой. И не сами — слуг послали.
— Моего отца убили.
— Твоего отца убили, меня унизили. Ну да ладно, спасибо за науку. Я запомню. Такие ценные уроки не забываются. Но и они меня попомнят. Пусть не думают, что Ахмед Шабо — клоп, которого они вправе придавить ногой. Один раз сделал глупость, и хватит. На всю жизнь хватит. Они дорого мне за это заплатят.
В ярости и ожесточении я защищал свою гордость и достоинство и в ее глазах, и в собственных. Это могло показаться смешным (что я могу им сделать?), но это не было ложью. Во мне говорило уязвленное самолюбие.
Тияне не было смешно. Мои туманные угрозы, ни для кого не представляющие опасности, не заслуживали того внимания, с которым она их слушала. Она вдруг повеселела, заулыбалась, словно мои слова вызвали в ней чувство гордости за меня. Мой бунт, пусть обреченный, пусть показной, был ей милее, чем моя приниженность и бессилие. Несмотря ни на что, я виделся ей все еще таким, каким был в ее мечтах. Только ей известным волшебством она составляла меня из разбитых черепков, кажется даже не замечая трещин.
Растроганная, она доверчиво прижалась своей нежной щекой к моей руке.
— Как хорошо, что ты мне все рассказал! Я видела, что ты мучаешься, и думала невесть что. А из-за этого не горюй. И не кори себя. Ты сказал то, что думал. Ты не украл, никому ничего плохого не сделал, себя не ронял, ты честно сказал то, что все честные люди думают. Избили тебя — поправишься. Ненавидеть станут — и мы им ответим ненавистью. Нам от них ничего не надо. Будем жить бедно, как и раньше, но голову держать высоко. Ты самый лучший, самый смелый, все они, сколько их ни есть, тебе в подметки не годятся. Они только во зле сильнее тебя. И все же, как я ни люблю тебя за твою смелость, боюсь я ее. Ты как тлеющий огонь, едва его и видно, а вспыхнет — не погасить. Обещай быть осторожнее ради меня.
— Не смелость это, а ожесточение.
— Все равно. Обещай.
Не знаю, откуда она нашла во мне достоинства, которые мне и не снились и которых я и не испытывал желания иметь. Но надо ли портить ее наивное представление обо мне? Почему бы мне и не быть в ее глазах таким, каким я ей кажусь. Пусть я буду ее гордостью, ее защитой, надо поддержать ее веру в себя — она ей необходима. Эдакий могучий дуб, укрывающий от бурь и непогоды слабый стебелек.
Похоже, мы в самом деле видим жизнь сквозь грезы.
Однако вот чудеса! Я и сам поверил в ее слова. Не знаю, каким я был прежде, но со вчерашнего вечера точно прошло много лет — таким зрелым я себя ощущал. Я приобрел драгоценный опыт и больше в капкан не попаду. Другие пусть поберегутся!
Я не стал объяснять Тияне, как слова ее исцелили меня, как подбодрила она меня своим безоговорочным доверием, я нежно обнял ее, как обнимал до вчерашнего вечера, не испытывая больше ни страха, ни неловкости, полностью отмытый, освобожденный, смело смотрящий вперед.
Шли дни, а я все еще не покидал комнаты и редко вставал с постели. Чувствовал себя плохо.
Уже два дня не приходит Махмуд. Не показывается Молла Ибрагим.
Услышав наконец кашель Махмуда во дворе, я велел Тияне положить что-нибудь на сундуке возле двери, что-нибудь ненужное.
— Мне все нужно.
— Поставь стакан.
— У нас их всего два.
— Будем пить из одного.
Она поставила щербатый, на всякий случай.
Махмуд вошел со своей обычной улыбкой на лице, но лучезарность его на сей раз явно деланная. Тощие руки дрожат, поминутно кашляет.
— Лежишь еще? — шутливо спрашивает он, не желая никого обременять собственными заботами.
— Чувствую себя неважно.
— Что болит?
— Да все.
— Раз все, значит, нестрашно. Вот принес заячье сало. Приложим к руке.
Он осмотрел мои руки, осмотрел ноги, голову, поясницу и встал надо мной, весело поблескивая глазами.
— Хочешь всласть отдохнуть? Ладно. Заячье сало я верну, тебе, слава богу, оно без надобности, так подживает. Кровь у тебя здоровая.
— Тошнота подкатывает от одной мысли, что надо встать.
— Потому что никуда не выходишь. Боишься, станут на тебя глазеть, как выйдешь на улицу. Ошибаешься, брат. Людям не до чужой печали, и своей с плеч не скачали. Я тоже сперва вроде тебя думал. А вернулся в город — люди смотрят на меня как на прошлогодний снег, один говорит, сдается, я уж много деньков тебя не видал, а другой и того не скажет. А не было меня десять лет! Даже обида взяла — что ж это такое, ведь, чай, не собака улицу перебежала! А потом посмеялся про себя: а ты разве помнил бы о другом? И к чему помнить? Куда лучше так — каждый своей дорожкой.
В устах иного это прозвучало бы серьезно и печально, а у него забавно и смешно. Из-за шутовского кривлянья и собственной нелепой жизни. Он как-то все умел обесценить и свести на нет — и свои слова, и свои дела, и себя самого. Все его речи вызывали улыбку, а будь на месте Махмуда другой человек, горький опыт породил бы в нем мудрость и достоинство.
Когда Махмуд ушел, щербатого стакана на сундуке не было. Тияна смеялась, хотя было ей не до смеха: такое в голове ее никак не укладывалось.
— Баста. Как раздастся его кашель, закрываем дверь и затихаем. Этот хомяк весь дом перетаскает,— весело заключил я.
Но мы никогда так не делали — ни разу, пускали его к себе, как прежде, кое-что из мелочей он унес, кое-что мы припрятали, и скоро странное сочетание настороженности и доверия в наших отношениях стало привычным, и как мы не сердились на его кражи, так и он не обижался, когда мы что-то припрятывали. Но однажды он еще раз удивил нас — принес Тияне в подарок позолоченную чарку и почти новые тапочки. Бог знает, где он их взял.
— Жена просила передать,— сказал он просто.— Хочет с тобой познакомиться.
Встать Махмуд меня больше не уговаривал. Он каждому предоставлял делать то, что тот хочет.
А я вставал лишь иногда, чтоб поразмяться, и снова ложился. Я и вправду ослаб.
Через десять дней Тияна сказала:
— Ну, не пора ли тебе выйти?
Молла Ибрагим так к нам и не пришел: видно, работы было много. Мандарины мы съели сами, уже тронутые гнильцой.
— Я еще болен! — возмутился я.
Однако она проявила вдруг неожиданную твердость, взявшись за меня с чисто женской решительностью, мягко, но неотступно.
— Не больной ты, просто самолюбие заело. Но в этой жарище ты в самом деле расхвораешься. Иди поговори с людьми, подыши воздухом.
Я зло оделся и вышел с оскорбленным видом, словно меня, больного, насильно выгнали из дому. Чушь какая! «Самолюбие заело!» Наверняка думает, что я боюсь показаться на люди.
К сожалению, она права. Потому и злюсь.
Густой от весенних соков воздух опьянил меня, голова кружится, точно с похмелья, как в ту проклятую ночь. И ноги волочу еле-еле — в зимних туфлях жарко, да и ходить отвык.
Больной я совсем, ну и ладно, вот упаду посреди улицы, принесут меня домой, положат на постель, я и глаз не открою, бледный, изможденный,— и ни слова упрека, ни единой жалобы!
Однако я не падаю, ноги держат меня все крепче, дышу все спокойнее. Погода прекрасная — я и не знал, что весна уже забрала такую силу. Никто на меня не смотрит, не удивляется, ни о чем не спрашивает.
Почему Тияна не выгнала меня раньше?
Стая голубей заняла всю ширину улицы, до людей им и дела нет, они не пугаются, не убегают из-под ног, я иду осторожно, стараясь не наступить на этих пернатых мошенников. «Пошли вон, бездельники,— выговариваю я им без злобы.— Скоро вы совсем прогоните нас с наших улиц!»
И дети на улице. Окружили старика Мехмед-агу Чалука — он, как всегда, в чураке на лисьем меху. Старик бросает мелкие монеты, дети смеются, визжат, толкаются, как воробьи на пшеничных зернах, и снова бегут за стариком, а он улыбается и сеет белой рукой ничего не стоящие монетки, превращая их в радость для себя и детей. Это единственный властелин, который дает, и единственные подданные, которые что-то получают. Но как его мотовство не делает его беднее, так и их корыстолюбие не делает их богаче. И эта пестрая, дурашливая, легкомысленная свита каждый день и себе и другим дарит несколько минут немудрящей радости, которая стала неотрывной принадлежностью города, его милым и светлым ребячеством.
Почему раньше меня раздражали эти дети и старик? Сейчас я гляжу на них с улыбкой.
Перед нашей писарской я остановился. В окне — изображение султана, новое, большое, в позолоченной раме. И надпись сделана солиднее, торжественными, каллиграфически безукоризненными буквами: «Любимец аллаха, наш властелин».
Я улыбаюсь и говорю:
— Доброе утро, властелин. Отныне мы будем видеться каждый день.
Кажется, он тоже улыбается и не вызывает смеха, как раньше, и не выглядит таким суровым.
Только теперь я понимаю, как дорога мне писарская и как она нужна мне. Маленькая, узкая, низкая, тесная, убогая, но моя. Я повел носом: несет. Все по-прежнему, и так все и останется. Здесь — мой оплот.
Молла Ибрагим встретил меня приветливо, дружески, но с той грустной озабоченностью в лице, какая обычно бывает на похоронах близкого родственника, смерть которого тебя не слишком задела. Рад, говорит, что я поправился и что заглянул к нему, он обо мне справлялся, наверное, мне передавали.
Да, конечно, спасибо. А в том, что произошло у хаджи Духотины, я не виноват. Пьян был, да и разозлили меня, вот и наговорил лишнего. Жалею, что так случилось, неловко и перед ним, и перед собой, и перед другими порядочными людьми.
— Что поделаешь, бывает,— грустно отзывается Молла Ибрагим.
— А у нас здесь так торжественно, словно в праздник.— Я пробую паясничать, но что-то важное и серьезное прошло медленной поступью и оставило после себя гробовую тишину.
Он не принимает шутки. Да, говорит, чуток подновили, подремонтировали, достроили. По силе возможности.
Писарская разделена теперь дощатой перегородкой. Заглядываю за перегородку: два безусых юнца смотрят на меня с напускным смущением и страхом.
— Пришлось взять,— говорит Молла Ибрагим.— Работы много.
— Неужто так много?
— Много, слава богу.
Я смеюсь, повторяю его слова:
— Больше бед — барышей больше!
— Да, такие дела.
— А я? Где я буду сидеть?
Он замигал своими маленькими глазками, проглотил слюну, обхватил руками узкую грудь, словно она у него вдруг заболела.
— Ты? Видит бог, тебе негде сидеть.
— Как так? Не понимаю.
— Ну, видишь ли, тебя долго не было, и я взял вон тех двоих. Думал, ты нашел себе другое место.
— Какое место? Ты же знаешь, что я пролежал все это время в постели.
— Откуда мне знать? От тебя ни слуху ни духу, а тут клиенты повалили, как назло.
И вдруг мне все стало ясно, я понял, что произошло. Точь-в-точь как тот умник, с которого стянули штаны, положили на землю, взяли розги, и только тут он сообразил, что его будут сечь.
А ведь мог и раньше догадаться: проведать не пришел, не спрашивал обо мне, не звал меня. Все решилось давным-давно, может быть в тот самый злосчастный вечер. Без всякой надобности я сказал:
— Значит, выгоняешь?
— Я не хотел. Сам видишь, как получилось…
— Получилось так, как другим было угодно.
— От тебя ни слуху ни духу, клиенты повалили…
— Как назло. Ты уже говорил. Все ясно.
— Я дам тебе одно, нет, два жалованья, чтобы перебиться, пока не найдешь новое место.
— Спасибо, мне милостыни не надо.
— Я по дружбе.
— О дружбе лучше помалкивай!
Он протянул мне деньги — заранее их приготовил:
— Пожалуйста, возьми. Ты заслужил.
Голос тихий, приглушенный, сиплый, морщинистое лицо кривится от усилий сохранить спокойствие, взгляд бегает, тонкие губы опустились — вот-вот заплачет.
Я взял деньги и мог уходить. А я стою. Смотрю на него и стою. Он боится моего взгляда, боится моих злых слов. Но у меня их нет. Я знаю, что он боится и других слов, которые для него важнее моих. Господи, думаю я, что творится сейчас в душе этого человека, что творилось там все последние дни? Приказали ему выгнать меня, он не посмел ослушаться. Другой бы посмел, он — нет. Страх его перед сильными людьми — не важно, в чем их сила,— почти не поддается осмыслению. Как боязнь грома, землетрясения, судьбы, боязнь, которую нельзя ни объяснить, ни прогнать. Когда до него дошло то роковое слово, чужая воля и приказ, переданные, понятно, через третьих лиц, менее значительных, но с которыми тоже не поспоришь, он наверняка не раздумывая решил подчиниться и пожертвовать мной. Гром грянул, теперь уже не до воспоминаний о былом. А потом настала ночь и бессонница, или это случилось на другой день или через два дня, когда вдруг из сумятицы мыслей выбился я. Бог знает как, бог знает где. Привиделся ли я ему в тесной писарской согнувшимся над прошениями и жалобами. Или сидящим над рекой — сломленным, отупевшим, бесчувственным. Или в бушующих волнах Днестра, когда я очумело тащил скорлупу лодки и скорлупу человека, не думая о том, вытащу ли я себя самого.
Я был всяким — безрассудным, пустым, беспомощным, насмешливым, неловким, но недругом ему я не был. И вот теперь он знал, что должен пустить меня ко дну, и не смел протянуть мне руки, попытаться задержать. Знал, что со мной поступают несправедливо и несправедливость эту совершают его руками. Да, ему не позавидуешь. Конечно, слез из-за этого он не проливал, но долго ворочался на постели в напрасных муках, ибо все уже было предрешено и он ничего не мог изменить, чем и успокаивал свою совесть. Но к несчастью, он не в силах был забыть меня или вообразить чернее, чем я был на самом деле. И остались ему в оправдание и утешение лишь три вещи: судьба, которая сильнее нас, своевременное его предостережение, чтоб я опасался дьявола в себе, и надежда, что при расставании я скажу ему пару теплых слов. Он будет хранить их в сердце — как амулет, в памяти — как лекарство, в совести — как оправдание. Если, конечно, придет раскаяние — ведь человек не властен над своими поступками. А может быть, они стали бы причиной ожесточения против всех и вся. Дороже золота были бы ему мои бранные слова, он спрятался бы за них, как за крепостные стены.
Оставлю ему в оправдание судьбу, хотя у судьбы этой есть и имя и фамилия и его трусость имеет к ней прямое отношение. Оставлю ему в утешение и то, что он в самом деле предостерегал меня, а я его не послушался, тут он и впрямь оказался прав. Но удовольствия очистить свою совесть моей бранью я ему не доставлю — этого он не заслужил.
Кажется, я его сильно разочаровал. Я сказал:
— Молла Ибрагим, я не верю, что это ты придумал.
Он смотрел то на меня, то на перегородку, за которой навострили уши любопытные юнцы, растерянный, вконец несчастный, не решаясь произнести ни одного слова участия, но, призвав на помощь все свое мужество, удержался и от нравоучения. Хотя, отчитай он меня за глупость или посоветуй никогда ее больше не повторять, он сильно выиграл бы в глазах тех, мнением которых так дорожил. В душе я отдал должное его мужеству и самоотверженности.
— Спасибо тебе за все,— сказал я на прощанье. Мои слова прозвучали довольно язвительно.
Но он принял их всерьез, возблагодарил бога за то, что смог оказать мне посильную помощь и внезапно, видимо сообразив, насколько смешны и неуместны его слова, смущенно прошептал:
— Прости.
Это было лучшее из слов, которые была способна отыскать его трусливая совесть.
Так он благополучно скинул меня со своей совести и дружески проводил в прошлое.
А для меня это был первый шаг в будущее, неведомое и неожиданное.
Я думал, что проведу еще долгие годы в этой темной писарской возле городских нужников, и вот на́ тебе — меня изгнали из моего бедняцкого рая, где крепкий запах нужников напоминал, что мы в центре города, на хорошем месте и что здесь мне всегда обеспечены мои двадцать пять грошей годовых. Сейчас они представляются полновесным золотом.
Надо искать что-то другое, не знаю что, но искать надо. Мир широк, возможностей не перечесть, и у меня хватит сил отнестись к неудаче спокойно. Проживем как-нибудь. И разве уж так обязательно связывать свое будущее с вонючей писарской Моллы Ибрагима? Он пустил бы меня ко дну и в более тяжкую для меня минуту, чем сейчас, так что, пожалуй, к лучшему, что мы расходимся теперь, когда я еще не стою над пропастью.
Счастливо оставаться, добрый человек, страх сделал тебя неверным товарищем. Достанется от тебя твоим безусым помощникам: к ним ты будешь беспощаден, они ведь не вытаскивали тебя из бушующей реки! А может, вы заживете в мире и согласии, вас ничто не связывает, друг друга вы не интересуете, тебя не будут мучить воспоминания о самопожертвовании приятеля и не будет внушать страх его безрассудство. Ладно, тебе же приказали меня выгнать. И ты спокойно будешь меня ругать за все несуразности, которые я сделаю, а по-другому и быть не может, теперь ты в этом убедился. Это ты раньше надеялся, что твои мудрые советы отвратят меня от пагубного пути.
А в добрую минуту, когда выручка выпадет богатая и на мгновенье тебя оставит страх, ты, возможно, робко шепнешь сам себе, что во всем виноваты шайтан, война и моя оборванная молодость. И хорошо, что меня тогда не будет поблизости, тут бы я уж не преминул сказать тебе пару теплых слов в качестве запоздалого отмщения за причиненную обиду.
Видишь, я еще неплохо думаю о тебе и желаю, чтоб ты иногда просыпался посреди ночи и долго сидел, скрестив ноги, на постели, страдая от раскаяния и стыда.
Однако, да простит тебя аллах, ты не сам выбирал себе мелкую душу, тебе ее дали, не спрашивая, твой черед настал, когда других — получше — уже не осталось. Прощай, приятель, ты из тех людей, что делают зло не по своей воле. И сохрани бог и тебя, и меня от тех людей, в чьей воле и власти творить зло.
У чесмы мне захотелось подставить руки под струю холодной воды. Подойдя к мечети и увидев учеников медресе, которые шли в деревянных сандалиях на молитвенное омовение, веселые, преисполненные желаний, глупые от неискушенности, ног под собой не чуя от грез о прекрасной жизни, которая, как им кажется, ждет их впереди, я вдруг почувствовал, что завидую им. У хана Моричей я вышел из тени оград и густых деревьев и окунулся в весеннее солнце.
Солнце, весна, ясное небо, веселые мысли.
Веселые мысли озаряют сердце,
веселые без причины,
мысли ни о чем…
Шепчу бессмысленные строчки, слушаю нежное пение горлиц на высоком тополе, радостью наполняет душу ребячий смех, с грустью провожаю взглядом птицу, что, обезумев от страха, устремилась в небо. Я часть всего, что видят мои глаза, я знаю это и чувствую себя счастливым и невесомым, словно я сделан из воздуха.
Легкомысленно или лукаво мое сердце отбивалось от страданий.
Улыбаясь, я вошел в безистан и с видом богатого транжиры попросил показать мне головной платок.
— Для какой женщины — старой или молодой? — спросили меня.
— Для молодой и красивой, самой красивой в городе.
— Воркуете?
— Да, воркуем, хотя уже женаты.
Торговец, человек средних лет, сочувственно посмотрел на меня и сказал:
— Приди ко мне через годок-другой, я спрошу тебя о том же.
— Приду,— отвечаю я и весело смеюсь. Он тоже смеется, бог знает над чем: то ли над моей наивностью, то ли над своей искушенностью.
Платок я отнес Тияне, чтоб насладиться ее радостью.
— Разве ты не на службе? Почему так быстро вернулся?
— Прежде посмотри подарок, после объясню.
Какая жалость, что я не могу покупать Тияне подарки каждый день и самые разные, чтоб видеть ее сияющие детским восторгом глаза!
Вначале она не находила слов, затем они полились потоком, она сказала, что я прелесть, сказала, что я сумасшедший, а может быть, и прелесть потому, что сумасшедший, откуда у нас деньги на такие дорогие подарки, конечно, платок ей очень идет, она не смела мне и сказать, что хотела именно такой, как это я угадал ее желание, но я в самом деле поступил неразумно, ведь мне надо купить себе туфли, без туфель обойтись нельзя, а без платка можно, хотя она должна признать, что я доставил ей огромную радость…
И так она и металась — от радости к рассудительности и обратно.
Я хохотал.
— А теперь я скажу тебе, почему я вернулся так быстро. Потому что я соскучился по тебе, потому что это совсем не быстро, потому что не важно, быстро или нет, а если тебе показалось быстро и кажется это важным, значит, ты не рада, что я пришел.
Засмеялась и она:
— Ладно, я знаю, что ты у меня непутевый, ну-ка рассказывай, что произошло.
Я сказал, что сегодня ровно ничего не произошло, все произошло раньше, только мы об этом не знали, и потому стоит ли огорчаться сегодня, раз все произошло не сегодня.
Я изобразил Моллу Ибрагима: вытянул шею, опустил плечи, замигал глазами и робко высунул худые руки из длинных рукавов — словно две ласки выглядывали из своих нор, сторожко принюхивались и по первому знаку опасности ныряли обратно — и заговорил его тихим голосом:
— Ты так долго не приходил, я и подумал, что ты или лавку открыл, или нашел место получше.
И уже своим голосом ответил, что, мол, не решил еще, предлагают несколько мест, но нигде нет такой вони, как у него, а я так к ней привык, что придется каждый день к нему наведываться — набираться духу.
— Ну хорошо, значит…— говорит она, все еще смеясь, хотя не слишком весело.
— Хорошего мало, но значит…— смеюсь и я.
Ей уже не до шуток, она растерянно смотрит на меня и спрашивает серьезно:
— А на что мы будем жить?
— Если моих знаний не хватит, в синагогу воду буду таскать! Не бойся, как-нибудь проживем.
К сожалению, рассеянная улыбка, которой она прикрывала страх, говорит мне, что ее нимало не обманывает моя бодрость. А я не хочу с ней расставаться, проживем! Неужто и для этого нужна ловкость?
Я бережно ее поднимаю, как ребенка, и чувствую тепло ее округлившегося стана. Прижимаюсь к ней подбородком, щеками: молодая. Нюхаю ее, как цветок: запах чистый и нежный. Самая красивая в городе, сказал я. Это правда, и не только в этом городе. Нет в жизни ничего такого, чего бы я не одолел,— разве с ней жизнь может быть тяжела? И я шепчу ей бессвязные слова любви.
А она прильнула ко мне, как напуганный кутенок к соску матери,— прячет лицо от жизни, испуганная, маленькая, как кукла, тихая, как сон.
Думает об убитом отце?
Я держу ее на руках, ее и того третьего, что наливается ее кровью, как маленький упыренок, и медленно, медленно вдыхаю ее запах, стараясь загородить ее от людей, от страхов, от неприятных воспоминаний, чтоб возле нее, вокруг нее, до самого горизонта, был только я, как небо, как море, чтоб окружить ее переполняющей меня нежностью.
Не бойся, говорю я.
Люблю тебя, говорю я.
Никто нам ничего не сделает, говорю я.
И, держа на руках свою беременную жену в жаркой комнатенке над пекарней, чувствую себя властелином мира.
В таком состоянии подъема я провел несколько дней, не так, правда, весело, как первый день, когда, за неимением ничего лучшего, я смеялся над постигшей меня бедой, но все же во мне было довольно бодрости, чтобы смело искать какое-то решение, какой-то выход среди множества существующих в мире возможностей. А то, что они существуют, несомненно. Живут же как-то другие. Большего и мне не надо.
Я твердо знал:
«Живая кость мясом обрастет».
«Горе да беда — с кем не была!»
«Цыплят по осени считают».
«Всяко диво три дня в диковинку».
Много чего я знал и верил: все зависит от меня.
Вначале мне удавалось находить людей, которые могли бы помочь. Но все оборачивалось комедией.
Молла Исмаил, народный лидер, представитель нашего джемата, встретил меня любезно, и я подумал, что он принял меня за кого-то другого. Но скоро убедился, что он ни с кем меня не спутал, что он просто не знал, кто я, и не мог узнать, как я ни старался довести это до его сознания. А любезен он по привычке, такая уж у него служба, причем любезен со всеми, потому как не может знать всех, ему это без надобности, а любезность помнят даже тогда, когда дело не сладится. Удивило меня еще одно: он не спросил, ни что меня привело к нему, ни чего я хочу. Зато он сказал, что ему очень приятно меня видеть и что ему всегда будет приятно меня видеть, хотя я никак не мог взять в толк, почему уж ему так приятно меня видеть. Потом он, не давая мне раскрыть рот, пустился разглагольствовать о разных проблемах, о проблеме войны, которую нельзя вести без общего согласия. И причина наших поражений в Румынии и России не в слабости мусульманских войск, а в раздорах наших военачальников и отсутствии божьей помощи. Затем он перешел к проблемам неуважения веры, неуважения власти, неуважения сановных лиц. Не чтят люди ни пашей, ни аянов, ни улему, даже кадиев и тех ни во что не ставят. А такая распущенность — верная примета надвигающейся чумы. Правда, как говорит Коран, на чуму и войну указывают и багровые облака на севере. И снег, выпавший не ко времени, как, например, в прошлом году, когда снег выпал 24 августа. И вой собак, когда муэдзин призывает с минарета к молитве. И когда дети обижают евреев и христиан. И когда народ начинает сверх меры плодиться. И когда людьми овладевает чрезмерная алчность. Все это предсказывает чуму, войны, несчастья, что не так уж глупо — ведь беды непрестанно сыплются на головы людей, и если их нельзя отвратить, так хоть объяснить можно, это уже полдела. А вторая половина от нас не зависит.
Меня не интересовали ни войны, ни распри военачальников, ни причины чумы, и я уже начал терять терпение, сколько же будет продолжаться это словоизвержение — день, месяц, год, вечность? И превратившись в скелет, он будет двигать челюстями перед другим скелетом, моим? Несомненно, если его сейчас же не остановить.
Может, он не знает, что я здесь, может, он принимает меня за того — все равно кого,— кто слушал его вчера, год назад, всегда, одного и того же человека, только под разными именами, заурядного, безликого, как бусина в четках. Ему важно лишь говорить, кто его слушает — безразлично.
— Прости, что я прерываю тебя,— сказал я, набравшись храбрости, которая готова была вот-вот меня покинуть.— Я пришел к тебе с просьбой.
— Конечно,— отозвался он любезно.— И непослушание — предвестник чумы.
Знаю: и любовь, и ненависть, и жизнь — все предвещает чуму.
Меня уже тошнит слушать его.
— Я приду завтра, если позволишь. Мне нужна твоя помощь, совет, мнение.
— Да, есть вещи, недоступные человеческому разуму. Когда удушили братьев Моричей, в Сараеве произошло землетрясение, а когда скончался великий визирь Сирхан-паша, над городом пролетела огромная комета.
Поистине этот народный заступник живет в большей пустыне, чем бедуин. И вокруг него, и в нем самом — пустота.
— Молла Исмаил, верно, я говорю не совсем ясно. Пожалуйста, выслушай меня, беда со мной приключилась.
— Я бездну таких примет держу в памяти. Происходят они по воле аллаха, а мы их не понимаем.
Ах, матерь божья, так ведь он же глух на оба уха.
Но все несчастье в том, что он не знает этого. Или не хочет знать. Ему достаточно того, что он сам говорит. Что он может услышать от других? Горести, жалобы, попреки. На что они ему!
Я решил было поразвлечься — буду талдычить свое, а он — свое, вот бы и поговорили как люди, обо всем и ни о чем. Но побоялся, как бы он мне ночью не привиделся. Тогда будет не до шуток — сойдешь с ума от страха. Смешное и страшное бок о бок ходят.
Он замолчал, чуть только я отвернулся. Видно, речь его прерывается, когда он не видит на лице собеседника удивления.
Затем мне выпал случай, какой и в самом безумном сне не всякому дано видеть. Таинственно и важно Махмуд Неретляк сообщил, что меня примет боснийский тефтердар Бекир-ага Джюгум собственной персоной. Я подумал, что он дурака валяет или хочет похвастать своими несуществующими связями. Мне это казалось столь же невероятным, как если бы меня пригласил сам великий визирь.
Убеждая меня, Махмуд шепотом принялся рассказывать, что это никакое не чудо: его жена раньше была замужем за сапожником Тицей, Тица умер, и она вышла за него, Махмуда. Пока он был в изгнании, ей помогал деверь по первому мужу Салко, тоже сапожник и добрый человек. У этого сапожника Салко есть тетка, Алмаса Мечкар, а ее сын, по прозвищу Хусейн Малый, работает подмастерьем у цирюльника Ахмед-аги Чоро, а Ахмед-ага Чоро бреет тефтердара Бекир-агу Джюгума. Так мое имя из уст в уста дошло до тефтердара, и он согласился принять меня. Видишь, как все просто!
После того как я выслушал этот путаный рассказ, который я не взялся бы повторить, что-нибудь не переиначив, верно и сейчас записал неправильно, все это показалось мне еще более невероятным. Даже если допустить, что цирюльник и впрямь уговорил вельможу принять незнакомого человека, невозможно и вообразить, в каком виде достигла ушей тефтердара моя история, пройдя через столько уст.
Если каждый добавил самую малость, я мог превратиться в знаменитого ученого Бергиви [11]. А перед тефтердаром предстанет заурядный писарь Ахмед Шабо, который и двух слов связать не в силах, и оба мы попадем в глупое положение: я из-за того, что не оправдаю всех басен о себе, он же сразу увидит, что я не гожусь даже в слуги ученика Бергиви. К счастью, это наверняка выдумка Махмуда, и мне нет никакой нужды дрожать от страха перед этой немыслимой встречей.
Но когда Махмуд сказал, что тефтердар ждет меня послезавтра, после полуденной молитвы, и велел мне не опаздывать, так как Бекир-ага очень занят и не известно, сможет ли принять меня в другой раз, я снова вынужден был расписаться в своем полном незнании жизни.
К несчастью или к счастью, ибо я не уверен, вышло ли бы из этого что-нибудь путное, на следующий день скончался старый и больной визирь Мухсинович. А спустя всего лишь два-три часа после смерти визиря умер в расцвете сил и лет тефтердар Бекир-ага Джюгум. Не вынес смерти визиря. Можно ли сильнее проявить верноподданнические чувства? Кстати уж замечу, что, как ни трогательна такая преданность, она представляет определенную опасность, и данный случай показывает, какой ущерб она могла бы принести, если бы народ следовал примеру своих вождей.
Таким образом сорвался прием, который тефтердар назначил мне, не подозревая, что за день до этого умрет его повелитель, поэтому мне не в чем упрекнуть Бекир-агу, ибо долг превыше всего. Встретились мы на его похоронах, хорошо хоть не на моих.
Преемника его, пришедшего с новым визирем, Ахмед-ага Чоро не брил, и невообразимая цепочка, по которой мое имя могло до кого-то дойти, распалась.
Подал было мне надежду богатый торговец хаджи Фейзо, но здесь я сам отступился. Он и раньше при встрече всегда улыбался и приветливо здоровался, а тут как-то остановил на улице, сказал, что ему все про меня известно, и пригласил в свой лабаз — потолковать. Пройдя лабаз, набитый дорогими, только что доставленными с востока тканями, мы вошли в комнату, устланную коврами, с сечиями вдоль стен, с плотными занавесями на окнах. Хозяин не раздвинул занавесей, чтоб впустить дневной свет, а зажег свечи в медных и серебряных подсвечниках, и я сейчас же уловил приятный запах — свечи были пропитаны ароматическими маслами. Зажег он и зернышки ладана.
— Люблю, когда хорошо пахнет,— сказал он.— Лучшая защита от грубой вони. Запах — подлинная душа вещей. Даже у людей души обладают своим ароматом. У тебя какой?
— Понятия не имею!
— Дай руку.
Я протянул ему руку.
Он оглядел ее неторопливо и внимательно, поднес мою ладонь к самому носу и, ширя ноздри, вдыхал невидимые испарения моей кожи. Потом перевернул руку ладонью вниз и стал обнюхивать тыльную ее сторону, щекоча рыжей бородой.
— Чувствительный,— изрек он, не выпуская моей руки из своих,— скрытный, добрый, веселый. А иной раз и необузданный.
Я убрал свою плененную руку из его мягких ладоней.
Хозяин спросил, чего я желаю — питье, лукум, фрукты. Я взял шербет, чтоб прогнать сонливость и странное состояние истомы и бреда наяву. Это все от запахов, тишины, полумрака и его вкрадчивого шепота.
— Значит, ищешь место? Лучше бы на казенной службе. Способностей никаких не нужно, можно не надрываться и не бояться убытков, а добытка столько, сколько сумеешь взять. Однако это дело сложное. Разозлил ты их сильно.
— Знаю.
Память у них хорошая. Обид не прощают. И снисхождения не знают.
Говорит он о них без ненависти, но с усмешкой и презрением. И не потому, что они неотесанны и от них не тем пахнет, а потому что жить не умеют. Своим воображаемым величием и глупостью они способны только нагонять страх и скуку, от чего плохо и им и другим. Малоподвижные, ленивые, неуклюжие, они напоминают слонов и, подобно слонам, неожиданно придя в ярость, крушат все вокруг. Он их так всегда и представляет себе — неповоротливые, на толстых слоновьих ногах, хмурые, глупо тщеславные, никому ничего не прощающие, мстительные, глухие и слепые ко всем радостям жизни. Сравнивает он их со слонами потому, что, на его взгляд, это самые безобразные и нелепые животные. И умирают они так, будто мир рушится, а он стоит себе как ни в чем не бывало. Приходят другие толстокожие, и все. Миром же должны править люди, знающие толк в наслаждениях, умеющие радоваться всему на свете. Тогда всем было бы хорошо. Но такого не случится, потому что они не умеют наслаждаться жизнью. Один-единственный человек среди них исключение. Не толстокожий. Джемал Зафрания.
Я вскинулся:
— Этот всех переплюнет. И скоро!
— Ошибаешься. Он чудесный человек. Чудесный! Жаль, что ты с ним повздорил. Чем-то он похож на тебя, только ты красивее. Ты знаешь, что ты красив? Тебе, верно, об этом часто говорили.
— Со лба красив, да с затылка вшив.
— Нет, ты красив, настоящий мужчина. К сожалению, это теперь редкость. Нравится тебе здесь?
— Нравится.
— Приходи, когда только пожелаешь. Дам тебе ключ, если хочешь.
С низкого столика он взял флакончик с ароматическим маслом и вылил несколько капель себе на бороду и на ладони. Окропил и меня, и тяжелый восточный аромат напрочь, словно стеной, отгородил меня от остального мира. Я спросил:
— Джемал Зафрания тоже сюда приходит?
— Приходит. Часто. Мы с ним большие друзья.
— Это ты его устроил к кадию?
— Я люблю помогать людям. Особенно друзьям. И тебе помогу.
— А Зафрания, он тоже знает толк в наслаждениях?
— Знает, ох, знает!
И тут-то, только вот в эту минуту,— ну и болван же я, ну и дубина стоеросовая! — я наконец уразумел, во что я влип. И опять же не потому, что догадлив, а потому, что это стало совершенно очевидно. Он говорил все тише и глуше, придвинувшись почти вплотную ко мне, так что на своем лице я ощущал его дыхание, влажное и жаркое, а рука его искала мою, а найдя, гладила все нежнее.
Вижу, дело завязалось нешуточное, хоть и против моей воли; как поступить: ударить его по губам, чтоб в другой раз неповадно было заманивать меня в свое вонючее логово, или попытаться выбраться тихо-мирно — хватит уж с меня скандалов и врагов!
Я встал и попросил открыть дверь — мне надо идти к Молле Исмаилу.
Хаджи Фейзо усмехнулся:
— Он тебе не поможет.
— Вы не друзья?
— Боже сохрани!
— А этих… друзей много у тебя?
— Увидишь.
— И вы все друг другу помогаете?
— Приходи, сам увидишь. В беде друг друга не бросаем. Зайдешь после Моллы Исмаила?
— Времени не будет.
— Тогда завтра. Непременно. Я буду ждать.
В страхе я оглянулся, не видит ли кто, откуда я выхожу, а ведь вошел я открыто!
Я поднял глаза к небу, чтоб освободиться от мерцающего полумрака, и вздохнул полной грудью, раз, другой, третий, стараясь изгнать из себя маслянистый дух. Фу, мне казалось, что я вывалялся в грязи, я все еще чувствую его потные, дрожащие ладони на своей руке. Я расставил пальцы, чтоб они просохли и проветрились на чистом воздухе.
А ну его к дьяволу, мне какое до него дело!
Тияна сразу уловила запах розового масла, я благоухал, как раскрытый флакон. Поморщилась.
— Что это ты благоухаешь? — сказала она подозрительным тоном.
— Ох, Тияна, я чуть-чуть в беду не попал.
— Вижу.
Смеясь, я рассказываю ей про свою беду, а она смотрит на меня широко раскрытыми от удивления глазами. «Тебе это приснилось»,— говорит она. Тияна не в силах допустить, что такие вещи существуют на свете. Поэтому и мне до конца не верит. Знает, что не вру, а все равно мой рассказ смахивает на ложь или грубую шутку. На лице прямо написано подозрение, что надушил меня не бородатый Фейзо, а какая-нибудь неведомая Фейзия. «К несчастью,— говорю я ей смеясь,— это не так», но ей моя истинная правда кажется совершенно невероятной, хотя мою невероятную правду пережить легче, чем ее, воображаемую. Мне не нужна ни та, ни другая. Но несправедливо подозревать порядочных людей лишь потому, что есть дурные. Может прийти в голову, что лучше уж пусть тебя подозревают с основанием, чем без всякого основания. Однако Тияну не устраивает мой мудрый довод, она считает, что лучше возвращаться домой ненадушенным.
Вот те три случая, которые таили в себе какую-то возможность, а вернее, слабую надежду, обманчивую, как облако на небе, на устройство нашей судьбы. Потом и этого не стало.
Я ходил из одной канцелярии в другую, от одного человека к другому, но никуда не попадал, ни к кому меня не допускали. Мелкие чиновники выслушивали меня рассеянно, со скучающим видом, безучастно, равнодушно, даже без раздражения.
Часами я сидел в приемных, но те, кого я ожидал, так и не появлялись. Или они входили в окно, или влетали на манер птиц, или были невидимками, или существовал тайный подземный ход, которым они пользовались, спасаясь от нас, проводящих жизнь в приемных.
Слова мои стерлись, мой рассказ всем надоел, один вид мой наводил скуку. Я превратился в просителя, то есть в последнего человека на земле. Ниже его никого нет.
Постепенно, поначалу сопротивляясь этому ощущению, я обнаружил вокруг себя стену, невидимую и непробиваемую. Она окружала меня как крепость, из которой не было выхода, к которой невозможно было подступиться; я непрестанно бился головой о твердый камень — и уже был весь в крови, весь в синяках, весь в шишках, но продолжал свое единоборство. Мне все время мерещилось, что какой-то выход есть. Должна же быть щелка, неужели стена везде, куда ни ткнешься. Да и не мог я примириться с тем, что меня заживо замуровали, словно тень, которую никто не видит, а она видит всех. Зови, кричи — все впустую, никто ничего не слышит. Еще немного — и начнут проходить сквозь меня, словно я воздух, брести по мне, словно я вода.
Я почувствовал страх. Как же это со мной разделались? Ранить не ранили, убить не убили, и не мертвый я, а меня нет. «Побойтесь бога, люди, неужто не видите меня? — говорю я.— Неужто не слышите?» Но слепо скользят по моему лицу глаза, голос мой не задевает их слуха.
Нет меня!
А может быть, все это мне приснилось? Разум отказывается понять несуразность моего положения. Я жив, я хожу, я знаю, чего хочу, я не согласен, что меня нет. Вы могли меня избить, могли посадить, могли убить — разве мало людей убивали беспричинно? Почему же вы из меня сделали пугало, почему лишили возможности бороться?
Я хочу быть человеком, боритесь со мной по-человечески!
Тщетно.
Пустота вокруг меня становилась все шире, мой безрассудный бунт — все тише.
Лето пришло знойное и тяжкое.
Солнце, как бы растапливаясь, в ярости изрыгало пламя, огненные искры падали на землю.
Взбесилась и печь в пекарне под нами, и наша каморка превратилась в ад.
В полдень казалось, что вот-вот вспыхнет и небо, и земля и все кругом превратится в огненную пустыню без конца и края.
Ночью мы спали на узком деревянном балконе, нависшем над двором, походившем на постоялый. В зыбкой тьме двигались тени наших таинственных соседей, лошади били копытами в конюшнях.
Незнакомые люди приходили и уходили по своим неведомым делам, оставляя после себя чувство тревожного ожидания.
— Не бойся, спи,— успокаивал я проснувшуюся Тияну.
— Я не боюсь,— шептала она, но ее глаза следили за безликими ночными тенями.
Однажды утром мы увидели, как гусеницы сжирают сникшую от палящего солнца листву дикой яблони, единственного дерева в нашем дворе. За день они оплели паутиной покалеченные ветви, но соседская ребятня палками и камнями сбила эти украшения с мертвого дерева.
В окрестных садах гусеницы так расплодились, что заткали своей паутиной стволы абрикосов и слив и даже пожухлую траву на засохшей земле. Будто деревья снова зацвели или выпал снег. Через несколько дней паутина покрыла дворы, улицы, окна, домашнюю утварь. Неоглядная армия гусениц приступом брала город.
Люди бросали дома и, нагрузившись скарбом, бежали как от пожара или наводнения. Останавливались на первом чистом месте и, вздыхая, смотрели на испепеленные сады и отнятые гусеницами дома.
И какие только напасти не сваливаются на головы людей!
Гусеницы плодятся с молниеносной быстротой, точно жаждут как можно скорее захватить мир. Прямо на глазах появляются гроздья ничтожных червяков; с невероятной прожорливостью, не зная устали, они грызут, жуют, уничтожают; тонкой сетью оплели стволы деревьев, накрыли дома, затянули землю, вынудив людей уйти на голые камни и умирать там от голода и страха.
Одно горе с нами, людьми, до чего же все-таки мы беспомощны, малодушно думал я, таясь от Тияны, а через дня два я уже не понимал собственного страха: гусеницы погибли, почти все сразу, как по уговору. Остались только шкурки, на солнце превратившиеся в пыль, и глубокое изумление.
Люди вернулись в дома, с гадливостью сбрасывая пряди паутины.
Но тут вокруг Сараева занялись лесные пожары.
Махмуд Неретляк позвал меня за город поглядеть с горы на происходящее. К тому у него были еще две веские причины: поразмять ноги — последнее время его мучили судороги в икрах, да и новое дело он себе придумал — писать заговоры крестьянам Подграба, где не было ходжи.
— Напугались люди,— объяснял он свои соображения,— от всего хотят оборониться. А я знаю заговоры против страхов, против сглаза, против болезней. Им не во вред, а мне на пользу.
Шли мы медленно, часто и подолгу отдыхали — больные ноги Махмуда давали себя знать, хоть он и говорил, что ему легче, когда он ходит, да и спит после ходьбы лучше. Мне было все равно, молодостью и здоровьем я не обделен, ходить привык, недаром день-деньской обивал пороги в поисках несуществующего места — куда приятнее устать просто от прогулки, а не от хождения по мукам в городе; может, хоть ненадолго забуду про свои беды.
Останавливались мы возле родников, под тенистыми деревьями да и в любом другом месте, чуть только у Махмуда начинали сдавать ноги.
Но если ноги и изменяли ему, то язык — никогда. Говорил он не умолкая, продолжая начатое, стоило нам опуститься на землю и перевести дух, говорил обо всем на свете: о людях, с которыми ему довелось встретиться, о Тияне, обо мне, о своей жене, говорил, вознаграждая себя за многолетнее молчание на чужбине и здесь, пока он был один как перст и пока вот не нашел приятеля и слушателя.
Рассказы его небезынтересны — многое ему пришлось пережить, и слова у него весомые, что дается только опытом и страданиями, но все его истории состоят из каких-то не связанных между собой, перепутанных обрывков, каждый из которых имеет собственное течение и собственный исток. Из своей памяти он извлекает не цепь воспоминаний, а лишь отдельные их звенья, осколки безнадежно разрушенной мозаики, которую он и не пытается составить заново. Не доискивается он и до смысла происходящего, не старается докопаться до истины, свести концы с концами, ему достаточно голого факта — разве что-либо еще имеет значение?
Удивительно, что с наибольшей полнотой и связностью он рассказывал о жене. Он не раз возвращался к ней на нескольких привалах, не припутывая к рассказу о ней ничего прочего. Впервые он говорил мне о своей жене. Поначалу я смеялся — так все казалось необычно, но чем дальше, тем все большее удивление вызывало во мне это совершенно незаурядное проявление любви.
Она сейчас уродина, рассказывал он, а в молодости была еще страшнее, только что совсем другая. Раньше за огромными зубами не разглядишь лица, теперь лишь пара обломков торчит между подбородком и толстыми обвислыми щеками, и потому кажется, что она всегда смеется. Лошадиные зубы не дают ей выглядеть сердитой, даже когда она изрыгает проклятья. Она не любит их показывать, знает, что красотой они не отличаются, и по большей части молчит. Но так бывает до тех пор, пока это совпадает с его желанием. А когда он соскучится по ее невольному смеху, он должен ее разозлить, чтоб ее прорвало. И тогда она с лихвой вознаграждает себя за молчание, не заботясь о своей красоте, и он наслаждается ее сочной речью, над которой непрестанно смеются три верхних зуба — загляденье, и только. Речи ее особым умом не блещут, и это хорошо, за себя не стыдно. И все же, надо отдать ей должное, она умнее его, это случается сплошь и рядом, только он не боится в этом признаться, а другие боятся. Как бы там ни было, женщины лучше и умнее мужчин. Не при них будь сказано, мужчины глупы, суетны, самодовольны и, между нами говоря, немногого стоят. Удивительно, как еще нас женщины терпят! По себе знает: что бы он ни натворил, жена всегда встречает его так, словно он из мечети возвращается. Да, они большего стоят, чем мы. Вот, пожалуйста, я человек умный, но Тияна, не в обиду мне будь сказано, умнее и вообще на десять голов выше меня. Конечно, его жена не моя жена, потому что мне выпало счастье, которого я не заслуживаю, но и у него жена хорошая. Не такая уж чистюля — а в чем и где ей быть чистюлей? Не очень бережлива — а что ей беречь-то? Всегда ворчит — так он уходит из дому, и пусть себе ворчит! Ведь она ворчит и когда он уходит, и когда остается, поэтому он поступает как ему заблагорассудится. И что бы с ним ни приключилось, он знает, она дома и ждет его и что снова пойдет жизнь, какую им судил бог. Нет, он в самом деле не сменил бы свою жену ни на какую другую на свете.
Вывод довольно неожиданный, а может быть, и не такой уж неожиданный, если учесть, что вытекал он в равной мере из признания ее скромных достоинств и его собственных несовершенств.
Это простоватое, но благодушное приятие жизни со всеми ее радостями и бедами пришлось мне по душе.
Может быть, мудрость в том и состоит, чтобы не требовать многого ни от себя, ни от других?
Хорошо это или плохо — знать подлинную цену и себе и другим? Плохо, когда эта цена небольшая, но хорошо, когда выше ты и не заносишься.
— В мире живут несовершенные люди,— сказал я.
— Что ты говоришь?
— Стихи сочиняю.
— Как это стихи сочиняются? Можно послушать?
В мире живут несовершенные люди.
Все прочее — вранье.
Или смерть.
Совершенные люди — в могиле.
Но они ведь уже не люди.
— Это обо мне?
— Обо всех.
— Господи, интересно-то как! И я знаю, что люди — создания несовершенные, но, когда я про это говорю, вроде бы ничего и не сказал. А в стихах получается грустно. И красиво. «Совершенные люди — в могиле. Но они ведь уже не люди». В живых же — в ком чуточку больше зла, в ком чуточку больше добра, иной раз перевесит одно, иной раз — другое. Но зло перевешивает чаще.
— Смотри! — крикнул я, показывая на дым и пламя.— Все горит!
— Вижу.
Дым и тяжелый запах гари чувствовались и раньше, но только сейчас мы увидели горящие до самого горизонта леса. Издалека, с противоположной стороны долины, слышался треск и шум огня, сердитые языки пламени выбивались из огромной завесы дыма, затянувшего лес и небо.
— Грустно,— говорит Махмуд.
Почему грустно? Страшно, пожалуй, но не грустно.
Я гляжу как зачарованный на это неистовство огня без всякого смысла, на эту стихию без души, на это уничтожение без ненависти, меня потрясает легкость, с какой пламя пожирает все на своем пути, движимое лишь избытком сил. Чувства жалости во мне нет, видно, оттого, что гибнут не люди.
А может, и у людей так же? Разгул силы, губительной и беспощадной, убивающей походя, по законам войны, все едино какой — с оружием или без оружия.
Пожар столь же бессмыслен и губителен, как и ненависть.
И вот мысль моя опустилась на землю, как усталая птица.
— Грустно,— говорю и я, представляя себе мертвый черный лес, который останется после того, как ярость огня иссякнет.
Как остались мои товарищи в хотинских лесах, как остаются все невинные люди, погибающие в пламени, зажженном не ими.
Почувствовав внезапную усталость, я сажусь возле Махмуда, которого ноги уже давно заставили сесть.
Вдруг я заметил, что он смотрит не на пожар. Следуя за его взглядом, удивленным, испуганным, озадаченным, я увидел на опушке леса вооруженного всадника. Тот молча наблюдал за нами.
— Кто это? — спросил я Махмуда.
Он не ответил, продолжая неотрывно глядеть на всадника.
Я встал, решив подойти к незнакомцу.
Он неторопливо вытащил короткое ружье из-за пояса и оперся локтем на луку седла, не поворачивая дула ружья в нашу сторону.
Я остановился.
— Любуетесь? — спросил всадник, махнув рукой на пылающие леса.
Махмуд жалко и испуганно улыбнулся.
— Да вот люди рассказывали, приятель и говорит, пойдем поглядим.
— Есть на что.
Говорит незнакомец спокойно, почти тихо, вид у него рассеянный, словно до нас ему нет никакого дела, но смотрит по-прежнему в упор.
И я во все глаза разглядываю, не скрывая своего восхищения великолепием его оружия и красотой коня.
— Арабский? — спрашиваю.
На мой приязненный вопрос он не отвечает — его тяжелый взгляд неподвижен.
— И карабкались сюда только для того, чтобы увидеть это лихо? — по-прежнему спокойно спрашивает он.— Неужто не перевелись на свете такие дурни?!
— Знаешь что, приятель,— рассердился я,— не хватает еще на это спрашивать разрешения. А глумиться над людьми тебе легко, недаром ружье в руках.
— Я ни над кем не глумлюсь. Мне все равно, зачем вы сюда пришли.
— Мы в Подграб собрались. Писать заговоры крестьянам,— заискивающе объяснил Махмуд.
— Так вот, туда вы сегодня не пойдете. Возвращайтесь в город и передайте сердару Авдаге, чтоб он не посылал за мной соглядатаев.
— Какие соглядатаи, господи помилуй и спаси! — возопил Махмуд.
— Такие, как вы.
— А от кого передать? — спросил я.
— От Бечира Тоски.
— Ты Бечир Тоска?
— Я. Слыхал обо мне?
— Слыхал.
— Дурное иль хорошее?
— Хорошее, Бечир-ага,— подобострастно заулыбался Махмуд, показывая желтые зубы.
Да, несчастный Махмуд хватил-таки лишку, и поняли это мы все трое.
— Видишь,— сказал Тоска Махмуду, и на сей раз не рассердившись.— Твой приятель честнее, правда, и глупее. Он хоть промолчал. А ты, брат, врешь. Ну, ступайте и не оборачивайтесь.
Мы не стали ждать повторного приказа, которым он освобождал нас от своего присутствия. Махмуд напрочь позабыл про судороги в ногах, вскочил как мальчишка, и мы быстро зашагали обратно, стремясь поскорее уйти от Тоски и его оружия.
Махмуд начал пыхтеть и спотыкаться на неровной дороге. Тоска уже был далеко, а мы все еще чувствовали на себе его тяжелый взгляд.
Страх пронял меня внезапно, как только я отошел от него.
Тоска, свирепый гайдук, который никого на свете не боялся и ни к кому не знал пощады! А нас отпустил подобру-поздорову.
Махмуд ловил ртом воздух, пытаясь унять хрип в груди, а меня разобрал смех. Махмуд смотрел на меня с удивлением и больше знаками, чем словами, спрашивал, что со мной, чего я смеюсь.
— Ты только подумай,— сквозь смех проговорил я,— какие же мы с тобой бедолаги! Даже сам Тоска сжалился над нами. Не решился и голоса повысить, чтоб мы со страху в штаны не наложили. Смотрит человек на нас и только что не плачет от жалости. А ты туда же: слышали о тебе, как же, хорошее слышали!
Тут засмеялся и Махмуд:
— А что же мне было ему говорить? Дурное о тебе слышал? Я еще в своем уме.
— Да я понимаю. Но все равно смешно.
— Смешно, конечно. Хоть и не очень.
— А что мы скажем в городе? Засмеют ведь.
— Что скажем? Ничего. Засмеют — это пустяки, можно пережить. Не подумали бы чего другое. Кто поверит, что мы случайно встретили Тоску и он отпустил нас, не сказав худого слова?
— Мне самому это кажется невероятным.
— Вот и молчи. Никого мы не видели и никому ничего рассказывать не будем. Самое умное — молчать. Такое сейчас время.
Я согласился с ним, что это и впрямь самое умное.
Однако одно дело — знать, что самое умное, а другое дело — поступать по-умному.
Махмуд знал, что самое умное — молчать, и тут же все рассказал сердару Авдаге.
Авдага велел привести меня.
Я мог от удивления осенять себя крестным знамением, мог выискивать сколько угодно разумных доводов, мог злиться, но все это нисколько не помогало мне понять Махмуда. Видимо, он всегда делает прямо противоположное тому, что думает. Или не способен не говорить о том, что знает. Не способен промолчать даже тогда, когда молчание избавляет от неприятностей.
Махмуд ничего не в состоянии был объяснить.
— Сам не знаю, как получилось,— испуганно твердил он.
— И что он сказал, когда ты ему все выложил?
— Сказал, чтоб шел домой.
Зачем сердар Авдага зовет меня?
Об Авдаге я знал немного. Мало знали о нем и люди, которых я спрашивал. Или не хотели говорить. Пожимали плечами, отмахивались. Его окружала тайна, которую суеверно опасались поминать. Имя и тайна, его окружавшая,— это и был Авдага. Но главное — это его таинственное имя!
Неминуемо попадешь в беду, если водишь дружбу с таким горемыкой, как Махмуд, жаловался я Тияне, пытаясь свалить свою неведомую вину на другого. Но она не поддержала мое намерение. Я знал, что она думает: слонялся без дела, никто тебя не гнал туда, сам дождаться не мог, когда Махмуд позовет, а я сидела дома одна-одинешенька. Не сваливай с больной головы на здоровую, сам виноват!
Так длинный язык Махмуда навлек на меня кучу неприятностей — встречу с сердаром Авдагой, объяснение с собственной женой и еще бог знает какие беды, если злой рок возьмет меня в оборот. Легче всего мне было отыграться на ни в чем не повинной Тияне — я бы уж нашел повод, а потом замолчал бы обиженно, сгорая от сочувствия к себе: даже у самых близких не находишь понимания! Но, к счастью, Тияна предотвратила бурю и ссору, улыбнулась, и моя злость улетучилась. Ее улыбка умнее нас обоих.
— Ну,— сказала она,— чего ты нос повесил? Авдага услышал от Махмуда, теперь хочет услышать от тебя. Ему нужен гайдук, а не два бездельника, которые лезут в горы любоваться пожаром!
Шутливая поддержка Тияны согревала мне душу до самого дома Авдаги, а у Авдаги я опять почувствовал на сердце холод, и этим холодом веяло не столько от сердца, сколько от тайны, его окружавшей.
Все вроде бы обычно — полупустая комната, побеленные стены, пол, закапанный воском, свечи в дешевеньких подсвечниках, окна без занавесок, самая необходимая мебель грубой работы. Да и в Авдаге нет ничего необычного — тихий, вежливый, ни тебе грозных взглядов, которые я себе воображал, ни брани, даже что-то неуверенное есть в его облике: худой, лицо беспокойное, глаза бегают, смотрит в сторону или прямо перед собой. И все равно я не могу отделаться от чувства тревоги. Вокруг него почти ощутимо витает то главное, что составляет его суть, неведомое мне, непостижимое, но неизменное. Только оно и важно, все остальное второстепенно и имеет значение не больше, чем одежда, которую он носит.
О Бечире Тоске он расспрашивал недолго — все уже знал от Махмуда Неретляка. Сказал лишь, что нам повезло (дуракам всегда везет!), ведь Тоске легко было заподозрить в нас соглядатаев. И препираться с ним не следовало — могли жизнью заплатить.
— Я не препирался. Сказал, чтоб он не глумился над нами, и все.
— Теперь уже неважно. Возблагодари бога, что остался жив, и поставь свечу потолще.
От одной мысли, что позвал он меня наверняка по другой причине и что сейчас я услышу главное, мороз продрал меня до костей. Но тут случилось невероятное, как в наивных детских сказках или еще похлеще,— волк залился соловьем! Он заговорил о стихах, которые я сочинил в горах.
Боже мой, ну и язык у Махмуда!
Авдага сказал, что Махмуд всего стихотворения не запомнил, знал только начало, а остальное так перепутал, что и самому смешно стало. Как свалявшаяся кудель. «В мире живут несовершенные люди». А дальше?
Едва придя в себя от изумления, я ответил, что стихи плохие. Топорные, недоделанные. Стихи не должны звучать как обычная речь. Наверное, лучше было бы сказать: «Несовершенные люди — вот что такое мир». Стихи еще должны дозреть.
— Неважно,— говорит сердар.— Я хочу послушать.
Я прочел стихи, несмотря на душивший меня смех. Что ему стихи? Еще удивительнее то, что слушал он с благоговением, с искренней признательностью на озаренном лице.
— Будь добр, еще раз.
Он беззвучно шевелил губами, повторяя за мной слово за словом.
— Написать тебе?
— Я плохо разбираю чужую руку. Да и сам плохо пишу.
Скоро он выучил стихи наизусть и принялся их читать сам — медленно, неумело, раз, другой, третий,— с непонятным мне наслаждением. Я спросил его:
— Любишь стихи?
— Эти мне сразу понравились, как только я начало услышал.
И он снова стал перекатывать слова во рту, прислушиваясь к их звучанию, пробуя их на вкус, со сладострастием высасывая из них смысл, как мозг из кости. Эта неожиданная и необычная любовь к поэзии подняла его в моих глазах, особенно потому, разумеется, что его внимание привлекли мои стихи. Если у него они вызвали такое восхищение, значит, стихи и впрямь неплохие. А если он способен почувствовать их красоту, значит, в нем есть какие-то достоинства, которые он открывает не каждому.
Я забыл про окружавшую его тайну.
— И это все, чем ты занимаешься? Складываешь стихи, и только?
— Службу не могу найти.
— Сам этого добивался, чего ж теперь жаловаться? Хочешь болтать что в голову ни придет? Вот и страдай. Может, ты орден ожидал? Не дурень же ты в самом деле?
— Пьян был.
— Что у пьяного на языке, у трезвого на уме. Вот и открыл себя.
— Слова — воздух, кому от них может быть вред?
— Слова — яд, в них начало всякого зла.
— Что ж, будем молчать!
— Зачем молчать? Есть о чем говорить и не обличая. Помогать надо, а не палки в колеса вставлять. Государство, брат, нешуточное дело, тысячи забот и тревог, в своем-то хозяйстве порядка не наведешь, а тут столько народу! Вот и начинают брюзжать, одному это нехорошо, другому — то. Тоже мне, удивили! Кругом все плохо. Чудо чудное, если что хорошее сыщется: столько людей, и каждый в свою сторону тянет. Ты думаешь, тем, кто государством управляет, легко?
— Нелегко.
— Именно. А ты на них накидываешься! Это, конечно, легче. Вот, к примеру, придет к тебе кто-нибудь в дом и скажет: это ты плохо сделал. Как ты поступишь? Рассердишься и выгонишь из своего дома. И будешь прав.
— Это разные вещи. Мои дела никого не касаются.
— Конечно, разные, коли о тебе речь зашла. А что твои дела никого не касаются, неверно — касаются. Тут ты ошибаешься. Раз живешь с людьми, не следует заноситься.
— Что значит заноситься?
— Да вот власти обличаешь. Почему, спрашивается? Каждый тут же подумает: и женился на гяурке.
— Бога побойся, какой же это грех?
— Ее отец был против властей.
— Если и был против, так он за это жизнью заплатил. А я его и в глаза не видел. С женой двух слов о нем не сказал.
— Если не врешь, значит, жена таится от тебя. Отца забыть нелегко.
— Бог мой, умри я вчера, и не знал бы, в чем моя вина!
— Не было бы на тебе вины, если бы ты людей не обижал. Иной раз невредно и на себя взглянуть, в себе покопаться.
— Значит, быть мне виноватым до самой смерти. Не могу же я сделать так, будто покойного тестя вовсе не было. Или я должен любимую жену бросить?
— Кто тебе об этом говорит? Просто человек с изъяном должен думать, что делает. Особенно когда он не один. Зачем другим страдать от твоих глупостей?
— Ты звал меня, чтоб это сказать?
— Нет. Звал я тебя из-за стихов. А это так, между прочим, к слову пришлось, ни тебе, ни мне вреда не принесет. Пока с человеком не увидишься, не поговоришь с глазу на глаз, он кажется совсем другим. Я думал, ты опаснее.
«И я о тебе то же думал»,— чуть было не сорвалось у меня с языка, так тих и проникновенен был его голос.
И правда, что в нем страшного?
На улице меня поджидал Махмуд Неретляк — будто случайно тут оказался. Но я-то знал, что он ждал меня. Смотрит исподлобья — пытается понять по моему лицу, в каком я настроении, и угадать, что было у сердара Авдаги. Я молчал, словно бы озадаченный.
— Зачем он тебя звал? — спросил он с напускным равнодушием.
Я остановился и хмуро взглянул на него:
— Из-за тебя. Спрашивал, о чем ты говорил с этим разбойником.
— Каким разбойником?
— Еще прикидываешься, что не знаешь. Тем самым, из-за которого придется отвечать и тебе, и мне. Бечиром Тоской. А сам говорил, чтоб обо всем молчать. Теперь нас обвинят, что мы лазутчики Бечира Тоски.
Мне хотелось отплатить ему той же монетой, наградить его страхом, который я сам испытал перед дверью Авдаги.
Однако я тут же раскаялся в свой глупой шутке. У Махмуда перехватило дыхание, он побелел.
— Я рассказал ему только то, что было,— произнес он испуганно.
— А зачем было рассказывать?
— Так ведь это Авдага послал меня в село разузнать про Бечира Тоску. Какой же я лазутчик Бечира Тоски, Ахмед?
Вот те на! Я себе дурака валяю, шутки шучу, а тут грязи по колено! Так вот он пожар, вот они амулеты, из-за которых мы пустились в горы!
— Что же ты, Махмуд, мне голову морочил? И я как последний болван тащусь за тобой по твоим грязным делишкам!
— Я хотел тебе сказать, сколько раз собирался, уже и рот открывал, да не смел: неловко, брат, было. А отказаться не мог, он не спрашивает, пойдешь или нет, «ступай!» — и все тут. Ты, говорит, для такого дела самый подходящий, тебя никто не заподозрит.
— Верно, даже я не заподозрил.
— Так как же теперь могут меня объявить лазутчиком Тоски?
— Боишься сердара Авдаги?
— Еще бы не бояться!
— Бил он тебя в прежние времена?
— Авдага никого не бьет.
— А что ж он делает?
— Убивает.
Теперь пришла моя очередь хватать ртом воздух, как рыба, вытащенная из воды.
Махмуд стал умываться у чесмы, охлаждая руки, долго пил воду из ладоней, переводил дух. Да и мне, видит бог, пришлось сунуть голову под струю воды, чтобы прийти в себя.
Так вот в чем заключается тайна Авдаги, то неведомое, из-за чего люди, услышав его имя, молча отмахиваются. А я, тронутый его благородством и пониманием, читал ему свои глупые стихи про то, что все люди одинаковы, все несовершенны и что нет никакой разницы между ним и другими.
Какую же службу сослужили мои стихи? Дали возможность палачу укрыться за ними. Для спасения своей души, замаранной чужой кровью, он даже пошел на то, что взял себе в свидетели и поручители придурковатого поэта Ахмеда Шабо!
А может, за этим кроется и что-то другое, может, мои стихи лишний раз утвердили его во мнении, что люди совершенны лишь в могиле. А пока они живы, они преступники.
О, злосчастные стихи!
Стыд и раскаяние умерили мою злость на Махмуда. Он пошел на гнусное дело по принуждению, я — по доброй воле.
И вот с этого самого сердара Авдаги начала разматываться ниточка размышлений о том, чего люди обычно не додумывают до конца, но чего все, достигнув поры зрелости, не могут выбросить из головы: что такое наша жизнь? В какие передряги мы попадаем? Когда по своей воле, когда по нужде? Что зависит от нас, на что мы способны сами по себе? Я не мастак мудрствовать, предпочитаю жить, а не размышлять о жизни, но, как я ни крутил, все выходило, что большая часть событий происходит независимо от нас, от нашей воли. Случай распоряжается моей жизнью и моей судьбой, чаще всего я бываю поставлен перед свершившимся фактом, попадаю в одно из возможных течений, а в новое меня занесет другой случай. Я не верю, что путь человека предопределен, ибо не верю, что в мире существует какой-то твердый порядок. Не мы устанавливаем ход событий, мы застаем его таким, какой он есть. Мы вовлечены в головокружительную игру, таящую в себе неисчислимые перемены, в данное время и в данных, только нам выпавших обстоятельствах, которых нельзя избежать. Они твои, как река, в которую ты падаешь, и тебе остается или плыть, или утонуть.
Не очень удовлетворило меня это философствование, но другого ответа я не нашел. Так что же, собственно, принадлежит нам во всей этой сумятице? Что-то ведь должно быть моим?
Сердар Авдага мне не был нужен, я не искал с ним встречи, более того, я не знал его. Но вот он прошел мимо меня и стал неотделим от моей жизни. Никто не просил на то моего согласия, и я не мог избежать этого. Случилось, как и все прочее.
Но как смириться с такой несправедливостью?
Мне не по вкусу была колея, в которую я попал, и я изо всех сил пытался выйти на другую дорогу. Каждое утро я уходил из дому с надеждой, что звезды наконец займут благоприятное для меня расположение и я встречу человека, который мне поможет. Нельзя же допустить, что судьба послала мне лишь сердара Авдагу, который мне без всякой надобности.
Но тщетны были мои надежды — загадочный приговор оставался в силе, я по-прежнему был пустым местом, безгласным и безликим. Меня замечали только те люди, которые нуждались в помощи не меньше меня, если не больше. И сердар Авдага меня заметил, хотя в данном случае я предпочел бы быть невидимым и неслышимым.
В полдень я возвращался, как всякий работающий человек, домой, на столе меня ждал какой-никакой обед. Жена встречала, как всегда, с приветливой улыбкой, словно ей и тужить было не о чем. Здорового молодого мужчину кормили больной Махмуд Неретляк и беременная жена!
Махмуд натаскивал в греческом языке купцов, открывших торговлю с Салониками. Я полагал, что это тоже чистый обман, но люди были довольны, видно, им немного и нужно было — на многое Махмуд был не способен. Давая нам деньги или продукты, он, щадя нашу гордость, аккуратно записывал, сколько мы ему должны.
Тияна работала в доме богатого Мухарем-аги Таслиджака, брата сердара Авдаги. (Позже я узнал, что место ей нашел Авдага по просьбе моего бывшего хозяина Моллы Ибрагима. Не знаю, кому больше удивляться.) Тияна помогала жене Мухарем-аги Рабии-ханум одеваться и прихорашиваться, то есть мазаться и краситься — на это уходили часы. Возраст требовал, а богатство позволяло. Тияна уверяла, что это скорее забава, чем служба, и она совершенно не устает. Даже приятно — деньги платят ни за что, и не приходится все утро сидеть дома одной. Да и недалеко — сад Мухарем-аги примыкает к нашему двору, пройти через калитку, и все.
Месяца два Тияна исполняла свою странную службу, а потом вдруг, запинаясь от смущения, рассказала невероятную историю: Рабия-ханум завела любовника! Самое невероятное во всем этом то, что Рабия-ханум забыла, когда была молода — сорок лет как замужем за Мухарем-агой, а в любовниках у нее молодой парень, который вместе со своим отцом Ибрагимом Пакро жил в нашем дворе, в доме с конюшней. Сыну Пакро двадцать пять, Рабии-ханум под шестьдесят. Любовник вполне годился ей во внуки.
Я рассмеялся: женщинам любовь сбрасывает годы.
— С ума сойти можно! — с гадливостью отозвалась Тияна.
— Сбросила ей годы ты и любовь.
— На лицо кладет столько белил и румян, что кожи не видать.
— И хорошо!
— И волосы красит в черный цвет.
— Тебе-то что за дело?
— Только о нем и говорит, совсем стыд забыла. Голову вконец потеряла. Да и он, сопляк, хорош, как он-то может!
— Она стара и для Пакро-отца.
Кто такие эти Пакро, отец и сын, на что они живут, не знала ни одна душа. Правда, то же самое можно сказать о большинстве обитателей нашего двора, в том числе и обо мне. Говорили, что Пакро из Белграда, что там они кого-то ограбили или убили, но, вероятнее всего, это лишь домыслы, так как они ни с кем дружбы не водили и в откровенности не пускались. Достоверно известно было одно: что вернулись они с хотинской войны и служили в незнакомой мне части.
Тияна решила не ходить больше к Рабии-ханум, не в силах была смотреть на этот срам и позор, и я не возражал, во-первых, потому, что всегда соглашаюсь с ее решениями, а во-вторых, потому, что лучше не искушать дьявола и не позволять молодому человеку приятной наружности (неожиданно я убедился, что молодой Пакро писаный красавец!) постоянно видеть молодую красивую женщину возле сгорбленной старухи, истинного гроба повапленного. Если он слеп, он мог прозреть, а если прохиндей, так почему бы ему не возжелать прелестей и той и другой.
Ладно, если он положил глаз на ожерелья ханум, она, конечно, ему ни в чем не откажет, но я разорвал бы его на части за одну ресницу моей жены. Но ему нужны не ресницы.
Когда я поделился своими соображениями с Тияной, она рассердилась не на шутку. И как только такая чушь может прийти мне в голову, неужели я думаю, что стоит мужчине поманить женщину пальцем, и она сразу побежит к нему? До чего же мужчины самонадеянны и испорчены, женщины гораздо порядочнее, и прочее в том же духе, пока я не признал ее правоту, порадовавшись в душе, что мне не о чем тревожиться. Верю тебе, как самому себе, даже больше, чем себе, но сиди дома, так будет лучше! Ведь кто бы подумал, что старуха влюбится в юношу, а вот влюбилась же! В жизни за ней такого не водилось, и все произошло тогда, когда этого меньше всего можно было ожидать.
С живыми людьми чего не бывает!
Через несколько дней сердар Авдага, встретившись со мной на улице, спросил, почему моя жена перестала ходить к Рабии-ханум. И правду ли болтают люди о молодом Пакро и его снохе?
— Нехорошо говорить то, чего сам не знаешь,— сказал я.— А что можно знать и кто может знать? Все это так невероятно, что, если даже и увидишь что-нибудь непотребное, решишь — примерещилось, и только.
— Многое кажется невероятным, а вот случается.
— Не знаю, право.
— Боюсь, беды бы не вышло. Сказали бы вы, что они люди опасные, оскорбляют, грозят, мы бы их посадили или выслали.
— Кто такое скажет?
— Вы с Махмудом.
— Они ни разу на меня не взглянули, ни единого плохого слова я от них не слышал, зачем же возводить на невинных людей напраслину?
— Чтоб беду отвести. Им все равно, где жить.
— А почему ты с братом не поговоришь?
— Поговорю.
— Неужто муж всегда последним узнает?
Но Авдага не поговорил с братом. То ли было неловко, то ли жалко брата стало, то ли понадеялся, что все утрясется само собой, то ли просто опоздал.
Нелепая блажь его снохи обернулась сонмищем бед — наш убогий двор оцепенел от ужаса, люди затаились в своих темных каморках, испуганно вглядываясь в черные окна, за которыми, им чудилось, метались таинственные тени.
Однажды в канун пятницы (позднее, рассказывая об этом, мы всегда добавляли: было это в канун пятницы — верно оттого, что эту ночь положено посвящать молитве да смиренным раздумьям) Рабия-ханум посвятила ночь заботам о муже.
Она впустила в дом своего любовника и его отца, Ибрагима Пакро, провела их в комнату, где безмятежно спал старый Мухарем-ага; отец и сын, дружно работая кинжалами, зарезали его, милосердно порадев о том, чтоб старик умер во сне, ни на мгновенье не приходя в себя, не увидев в свой последний час ни жены, ни злодеев и не испытав ни страха, ни горя, а возможно, и боли. Осталось неизвестным, сделали ли они так ради него, чтоб избавить его от смертных мук, или ради себя, чтоб он не поднял крик и не осложнил дело, или ради ханум, чтоб Мухарем-ага не рассердился на нее, что отправила его на тот свет. Сорок лет прожили в мире и согласии, к чему омрачать конец! Его завернули в покрывало, чтоб не оставлять кровавых следов, затем в попону — получился тюк, взвалили на коня и отвезли в Горицу, имение аги, где и бросили в колодец. Сделав все как следует, коня поставили в стойло, а сами пошли в свою конуру над конюшней и завалились спать, изрядно уморившись — Мухарем-ага был тяжеленек.
Рабия-ханум не сразу легла почивать. Женщина она была чистоплотная и аккуратная, прежде привела в порядок комнату мужа, положила на постель новые подушки, окровавленные наволочки сожгла в кухонной печи, выкупалась, прочла несколько молитв за упокой мужниной души и села у окна ждать рассвета. Душа у нее была чувствительная, и заснуть она не смогла. Ее одолевали разные мысли; месяц, самое большее два, прикидывала она, придется подождать, пока люди позабудут Мухарем-агу, а тогда, тогда… Кто знает, какие прекрасные мечты лелеяла эта отважная женщина, ради любви не пощадившая своего мужа.
Мое дело сторона, но тем не менее мне очень хотелось бы знать, о чем она думала, коротая эту знаменательную ночь. Думала ли она о долгих годах, прожитых с Мухарем-агой, вызывала ли в памяти все дурное, пережитое с ним, ненавидела ли она его раньше, раскаивалась ли, боялась ли, как бы не обнаружилось содеянное, думала ли, что это ее собственный муж и она вольна поступать с ним так, как ей заблагорассудится, или радовалась, что сбросила камень с шеи, вырвалась из тюрьмы, смела последнюю преграду на пути в новую жизнь? Или мечтала об этой новой жизни, обещавшей ей все то, что, казалось, уже давно ушло в прошлое. Снова забирали силу чары любви. И в ее воображении вставал любимый, писаный красавец, ради нее готовый на убийство. За такую любовь, за такое счастье чего не сделаешь, шептала, верно, обезумевшая женщина, судорожно цеплявшаяся за усыхающую жизнь.
На другой день служанке, которая приходила утром, а уходила вечером — ханум не терпела, чтоб чужие люди ночевали в доме,— она сказала, что Мухарем-ага уехал в поместье, в Брезик. То же повторила она и приказчикам, когда те пришли за ключами от лавки, и добавила, чтоб вечером принесли ей всю выручку, снова проявив решительность, деловитость и предусмотрительность.
Еще через день крестьянин из Горицы, по имени Мисирлия, в поисках воды — все родники в округе высохли — заглянул в колодец Мухарем-аги и вначале учуял, а потом и увидел труп Мухарем-аги и как ошалелый побежал в суд, где и рассказал, как нашел то, чего не искал, и что предпочел бы найти воду, а не мертвого Мухарем-агу — и ради Мухарем-аги, добрый был человек, и ради скотины — не знаешь, что с ней и делать, подыхает от жажды.
Весь наш двор сразу понял, кто убийцы, да и у властей не было сомнений. Пакро и Рабию-ханум арестовали, и они тут же признались.
Отец и сын заявили, что зла на Мухарем-агу они не держали, но другим путем нельзя было завладеть его деньгами, а что касается убийства, то тут, как на войне, бросаешься в бой — и либо погибаешь, либо остаешься жив, но на этот раз никому не повезло: ни Мухарем-аге, ни им — как с войны вернулись, ни в чем им удачи нет, вот и сейчас тоже.
Рабия-ханум сохраняла полное спокойствие. «Виноваты судьба и любовь»,— сказала она, не сводя глаз с молодого Пакро. Пожалуй, она, как это часто бывает, и впрямь не понимала своей вины.
Ее раздели донага и отхлестали мокрыми веревками, а потом, полумертвую, повесили. (Ночью я просыпался весь в поту от жутких снов, мне представлялось ее старческое тело и задубевшая увядшая кожа, покрытая кровавыми рубцами.)
Отца и сына удушили — тем и завершился их последний бой.
Странно, что убийцы не пытались скрыться, ведь могли воспользоваться суматохой, поднявшейся, когда сердар Авдага с двумя стражниками неожиданно обнаружили в их конуре неизвестного вооруженного человека. Человек бросился бежать вниз по лестнице, за ним кинулись, а они себе спокойно ждали, пока уляжется вся эта сумятица и их поведут в крепость. О незнакомце они заявили, что знают его по Белграду, что он пришел прошлой ночью и собирался пересидеть у них некоторое время, про убийство они ему ничего не сказали, не желая отдавать себя ему в руки.
Был полдень.
Был полдень.
Как обычно, я возвращался домой к незаработанному обеду, усталый от тщетных усилий разбить замуровавшую меня стену. Я уже привык искать и не находить, первое зависело от меня, второе — не знаю от кого, себя мне не в чем было упрекнуть, и я не мог злиться на то, что меня не берут. Когда-то в сердцах я грозил ненавистью, но не было ее в моей душе. И сейчас нет. И слава богу.
Будь у меня другой характер, относись я к жизни как к наказанию, я бы озлобился, опустился, спился, превратился в брюзгу, ополчившегося на весь мир.
Не могу. Наперекор всему живу, как живут прочие люди, не отмеченные моим клеймом, радуюсь и огорчаюсь, как все, радуюсь, сталкиваясь с добрыми людьми, хоть иной раз они и поступают дурно, огорчаюсь, встречаясь с людьми злыми, от которых редко увидишь добро, и чувствую себя счастливым, потому что у меня есть любимая жена, она скрашивает мою жизнь и носит моего ребенка. С ребенком нам, правда, станет труднее, но как-нибудь да перебьемся.
Вот одна из загадок нашего мира: столько людей живут неизвестно на что и неизвестно как, а никто еще с голоду не умер! Конечно, не дело встречать нового человека утешением, что с голоду он не умрет, но ведь не всем обязательно предназначена злая доля, всегда можно надеяться на лучшее.
Свои беды я так и не сумел переплавить в мировую скорбь или построить на них глубокомысленную философию. Я родился на свет, как и большинство людей, не для великих дел и совсем о том не жалею.
В меру своих сил я человек честный, зла никому не желаю, людей хотел бы больше любить, чем жалеть, и судьбу молю лишь о том, чтоб меня миновало то, что меня не касается.
Не умолил.
В тот день я возвращался к единственному месту в мире, которое всецело принадлежало мне, в руках у меня была гвоздика — я подобрал ее на улице, смятую и пыльную, ополоснул у чесмы, расправил лепестки, предвкушая, как обрадую Тияну маленьким подарком.
Войдя с палящего солнца в темную подворотню нашего двора, я увидел незнакомца, опрометью скатившегося с лестницы дома, где жили Пакро; вбежав в конюшню, он вывел коня и на скаку вскочил на него. Стражник ринулся было ему наперерез, но тут же отпрянул, и правильно сделал — конь сбил бы его с ног наверняка.
Конь несся в узкую подворотню, всадник, пригнувшись к седлу, вытаскивал из-за пояса пистолет.
Я вжался в стену, благодаря бога за то, что я худой и тонкий и, может быть, уцелею. Но сразу позабыл про конский топот и пистолет, так как со двора вдогонку беглецу затрещали ружья, и мне стало страшно, что в этом сведении счетов пострадавшей стороной буду лишь я, хотя все это меня никоим образом не касается. Пули свистели перед моим носом, пролетая, как невидимые шмели, но не задевая ни меня, ни всадника. И никогда я еще так не радовался чужой неумелости, разумеется не из-за всадника, а из-за себя.
Стражники помчались к воротам, пытаясь наверстать упущенное, но сердар Авдага окликнул их, и они вернулись. Наверное, побоялись, чтоб и Пакро не сбежали.
На моих глазах скрылся неведомый всадник, на моих глазах стражники пошли за убийцами, я понимал, что все кончилось, и все-таки стоял, пригвожденный страхом к щербатой стене.
Мне было стыдно за то, что я так растерялся — от страха кровь в жилах застыла, но об этом я подумал позже, в ту минуту мне было не до стыда. Что вы хотите? Кому охота погибать?
Оторвавшись от стены, защищавшей меня с той стороны, откуда опасности не было, я вошел во двор.
Отец и сын Пакро стояли на лестнице, а стражники поднимались к ним, чтобы свести их вниз, словно те сами не умели ходить.
Почему они не убежали?
Незнакомец убежал. Судьба обошлась с ним круто, она ввергла его в круговорот событий, не имевших к нему отношения и тем не менее грозивших ему погибелью (какая-то вина за ним, наверное, была), но он пренебрег судьбой и разорвал цепь случайностей, уже готовую затянуться у него на шее.
Надо будет на досуге додумать это до конца.
Авдага понуро стоял посреди двора.
— Вот не хотел соврать,— сказал он мне, когда я подошел ближе.— А скольких бед можно было бы избежать!
Неужто на меня хочет взвалить вину?
Говорит хриплым голосом, скорее печально, чем укоряюще.
Что за чушь! Вот уж не подозревал, что и ложью можно пресечь зло!
Ну а не случись беды? Было бы стыдно, что солгал, было бы неловко перед невинными людьми, которым ты за здорово живешь причинил зло.
Сердар Авдага в каждом видит преступника и часто оказывается прав. Я никогда и никого не подозреваю в преступлении и тоже прав. Все предотвратить невозможно. Если всех людей запрятать в тюрьмы, преступлений не было бы. Но и жизни тоже. Я не терплю злодеяний, но предпочитаю жизнь, пусть и не безгрешную, сплошному кладбищу.
Но что ему сказать, когда мне и самому все это ясно не до конца. Да и он, потрясенный смертью брата, новым кровавым подтверждением его дурного мнения о людях, не в состоянии воспринять иного резона, кроме резона ненависти.
И я сказал, искренне ему сочувствуя:
— Жаль, Авдага. Право, очень жаль.
Авдага молча двинулся за стражниками, которые вели убийц.
И тут ко мне подбежал взволнованный Махмуд Неретляк:
— Ты что, не слышишь, зову тебя, зову!
— Что такое?
— Теперь уж все хорошо. Тияна выкинула.
— Что ж тут хорошего, несчастный!
— Конечно, нехорошо, но могло быть хуже.
— А Тияна?
— С ней женщины.
Я помчался домой; когда я входил в подворотню, в руках у меня была гвоздика — думал доставить Тияне маленькую радость, сейчас ее не было, видно, давно выронил, глядя на чужие беды и не подозревая о своей.
Махмуд сбивчиво рассказывал, как пришел ко мне, как у Тияны начались схватки и он побежал звать соседок, и как его выставили из комнаты, и как он увидел меня во дворе и стал звать, а я разинув рот смотрел на то, до чего мне никакого дела нет, и ничего не слышал, а может, это и неважно — пожалуй, и меня, как его, бабы выгнали бы.
— А чего ж ты за мной не пошел?
— Боялся под пули попасть.
Я постучал, соседка приоткрыла дверь и сказала как отрезала:
— Подожди!
Мы ждали: я — глядя на дверь, за которой мучилась Тияна, Махмуд — во двор, в который не решался спуститься, опасаясь стрельбы.
Сейчас, когда все уже улеглось, его охватило волнение, он говорил, перескакивая с одного на другое, без всякой связи, или мне это казалось, потому что у меня самого в голове все перепуталось.
— Вот так-то, Ахмед. Один посеет куколь, а взойдет пшеница, другой бросит в землю чистые семена — и ничего не получит… этих-то повели, словно овечек, и не подумали бежать, господи… а ты не печалься, вы еще молодые, будет ли у вас всегда хлеб, не знаю, а дети будут… да и не хлебом единым жив человек, вот у Мухарем-аги Таслиджака вдоволь его было, да и всего прочего тоже с избытком, жена не дала ему доесть отпущенного богом, а мы, даст бог, свое доедим, пусть и скудное… Эх, господи, помоги и сытым, и голодным… Авдаге-то привалило счастье с несчастьем пополам — брата потерял, зато богатство получил, не знаю, радуется он или горюет — с братом он, почитай, и не говорил вовсе, да и богатство любую боль уймет.
Наконец всемогущие женщины впустили нас в комнату.
Тияна лежала на чистой, заново перестеленной постели, волосы влажные от воды и пота, бледная, глаза ввалились, исхудавшая, измученная, словно после тяжелой болезни.
И пол вымыт, неужто на нем была ее кровь?
«Вы молодые, будут еще дети»,— сказал Махмуд. Нет, не будет больше детей! Она мне дороже, чем эти неведомые опасные творения.
Пальцами я гладил ее прозрачную руку, не решаясь прикоснуться к ней губами. Она с трудом улыбнулась, желая подбодрить меня, и тут же опустила синие веки, точно эта слабая улыбка отняла у нее последние силы.
Она — единственное, что у меня есть, я хотел ей это сказать, но боялся ее потревожить, она потеряла много крови, и сон ей нужней моих дурацких слов, которые даже приблизительно не могут выразить того, что я чувствую. Я забыл войну, несправедливости, унижения, разучился ненавидеть — и это сделала любовь к ней. Все у меня отняли (страстно шептал я самому себе), а ты все возместила. Не встреть я тебя, я бы проклинал жизнь, ничего не имея, впрочем, как и сейчас, но я и не знал бы, что такое счастье. С тобой я не чувствую себя побежденным, не думаю о мести. Я думаю только о тебе, мечтаю только о том, чтоб на твои бледные губы вернулась улыбка и на твои щеки — румянец. Чего я искал в городе, зачем как зачарованный пялился на этих преследуемых безумцев, когда ты корчилась от боли? Конечно, тебе не стало бы легче, если бы я был рядом, но мне было бы тяжелее, и это правильно. Никогда больше не оставлю тебя одну, все, что нас ждет, мы встретим вместе.
Она ничего не слышала. Я шептал ее имя, шептал разные глупые слова — мне хотелось, чтоб сон поскорее вернул ей силы, но я только мешал, врываясь в ее зыбкое забытье.
Я стоял на коленях у постели Тияны, терзаясь от невозможности взять на себя хотя бы часть ее страданий, когда в комнату вошел Махмуд, неся в дрожащей руке стакан лимонада. Кто знает, где он его раздобыл, но я не мог не признать, что его разумная забота оказалась полезнее моей пустой разнеженности.
— Дай ей,— шепнул он, предоставляя мне право проявить внимание за его счет.
Я осторожно приподнял ей голову и поднес стакан к ее губам. Она выпила лимонад мелкими глотками, жадно, словно гасила огонь где-то внутри себя, и благодарно мне улыбнулась.
На Махмуда даже не взглянула.
И снова закрыла глаза.
— Ей сейчас надо еду получше,— сказал Махмуд, когда мы вышли на балкон.
Я кивнул, да, ей надо сейчас хорошо питаться, хоть я и не знаю, как я смогу это сделать.
— И дитя надо схоронить.
Лежало это несостоявшееся дитя, завернутое в окровавленное полотенце, в углу балкона.
Этот кусочек плоти, этого бывшего третьего члена нашей семьи, не пожелавшего родиться на свет живым и здоровым, мы похоронили на Алифаковаце. Похоронную процессию составляли Махмуд и я, ребенка я нес под мышкой — он был привязан к дощечке и завернут в кусок простыни, закопал я его в общий вечный дом, рядом с чьими-то старыми костями.
— Умер, даже не успев родиться,— сказал Махмуд, и это была вся надгробная речь над маленьким безымянным созданием, о котором я уже больше не печалился. Он был моей радостью, пока я ждал его и думал о нем, сейчас я не испытывал к нему никаких чувств.
Вспомнились мне сыновья цирюльника Салиха с Алифаковаца, и я подумал, что так оно, может, и лучше — ждать и не дождаться, чем потерять сына взрослым в неведомых хотинских топях, когда знаешь, кто он и что, когда уже полюбишь его. Тогда горе страшнее.
— Конечно,— подтвердил Махмуд.— Только Салих до сих пор ждет возвращения сыновей.
— Неужели он верит, что они живы?
— Верить можно во что угодно. Ты был у него? Сходил бы.
— Зачем? Что я ему скажу?
— Скажешь, что, когда ты уходил, они были живы и здоровы. Все прочее он сам додумает.
— Надо сходить.
— Доброе дело сделаешь.
Я попросил Махмуда вернуться к Тияне и сменить соседку, что осталась с ней. А я пойду к Молле Ибрагиму попросить денег взаймы.
— Проси больше. У меня тоже ничего нет. Торговцы еще не заплатили.
Я засмеялся. Хорошо, если хоть немного даст, на много надеяться нечего. Да и Махмуд — чудак: дает легко и берет легко, ему не жалко ни своего, ни чужого. Крал у меня и помогал мне, только крал-то по мелочам, смех, а не кража, помогал же всерьез: и Тияну, и меня кормил.
И вот ведь все это знаю, но почему-то не чувствую к нему благодарности, да и он не ждет ее от меня. Может, потому, что живет во мне, хоть и затаенная, мысль о его преступлении и ссылке и даже о том, что он в чем-то ниже меня. Он знал, что другие относятся к нему свысока, но о моем отношении, к счастью, не догадывался. Говоря по совести, я никогда об этом не думал, просто бессознательно принимал его таким, словно его прошлое было неотъемлемой его чертой, как бы родимым пятном, но, когда задумывался, становилось стыдно, что я обманываю его доверие. И снова все забывал.
Я никогда не обижал его, радовался встречам с ним, чувствуя, что этот ребячливый человек в чем-то очень незауряден, но все-таки в душе был несправедлив к нему.
Увидев меня, Молла Ибрагим не удивился, будто знал, что я приду, и считал это в порядке вещей.
— Ты будто знал, что я приду. Не удивился.
— Мы с тобой не ссорились. Почему бы тебе и не прийти?
— Но тебя это не очень радует.
— Ты сегодня не с той ноги встал.
— Когда и с той, мало что меняется.
Я и сам чувствовал, что веду себя непристойно, то ли еще не пережил поруганной дружбы, то ли меня раздражала его доброта: сколько все-таки пакостности в человеке, так и тянет покуражиться над слабым.
Он не рассердился, лишь перевел разговор на другое:
— Как Тияна?
— Плохо.
— Почему? Что случилось?
— Всякое. Отошли куда-нибудь своих помощников, шиплю как гусак.
— Неудобно их прогонять. И потом, нам с тобой нечего скрывать.
— Раз тебе нечего, мне и подавно!
Я представил свое положение насколько мог отчаяннее, да оно и было отчаянным — вот уже месяц, как со мной произошла эта странная история и стал я, благодарение богу, пугалом, белой вороной, хуже разбойника — не знаю только, кому я обязан этим счастьем. То ли властям нужен козел отпущения — все равно кто,— чтобы оправдать свое существование и свою жестокость. И важно не то, что человек совершил, а в чем его обвиняют. Сейчас выбор пал на меня. Ладно. Переживу. Так даже лучше — ни тебе хозяев, ни тебе друзей, ни обязательств, ни благодарности. Да и страх исчез, узнал, как птички божии живут, и могу сказать: чудесно! Мне бы руки ему целовать за то, что прогнал меня со службы, потому что ничего этого я никогда не узнал бы — оставался бы до конца дней своих чьим-нибудь рабом и полагал бы, что иначе и нельзя; как вернулся пришибленным с войны, так никогда бы и не очнулся. Несправедливость, спасибо ей, помогла понять, как прекрасна свободная жизнь, даже со всеми своими тяготами. А еще я увидел, и это дороже всего, какое сокровище у меня жена. Беда, как огонь, превращает в пепел все, кроме золота. Иногда, правда, мелькает мысль: а так уж ли мне повезло — будь у меня злая жена, что вполне могло случиться, было бы на ком душу отвести, на ком отыграться, когда прижмут неудачи. А на Тияне разве выместишь зло? Она, бедняжка, мучится, голодает, латает обноски да еще меня же утешает, словно она виновата. Носила под сердцем ребенка, не доносила, выкинула, кормил я ее плохими вестями и одной любовью, а это сил не прибавляет. Теперь надо накормить ее чем-то посытнее, и ради нее только я и пришел к нему просить денег. Люди, что раньше мне помогали, сами на мели сидят, уж и не знаю, почему и каким образом они не оставляли нас до сих пор. Благородство их выше всяких похвал — ничем я этого не заслужил, но и у него есть предел — люди-то они бедные. Сейчас я в тисках и вынужден просить взаймы у него, делать это мне нелегко, да сейчас не до гордости, речь идет о Тияне, сердце болит смотреть, как она без вины виноватая страдает. А к нему пришел потому, что как-никак друзья были.
— И теперь друзья,— взволнованно вставил он.
— Нет, теперь уже нет, Молла Ибрагим, это ты напрасно. Были друзья, и я думал — на вечные времена, ан вышло по-другому. Жаль, но вина не моя.
— И не моя.
— Значит, судьба. Ничего не попишешь.
Я был зол, подавлен, раздражен и сваливал на его плечи груз своих горестей, хоть и сознавал, что не он повинен в них. Страх в нем все пересиливает, и он, конечно, сам этого стыдится, но ничего с собой поделать не может. Он неплохой человек, и, живи он в других условиях, не таких жестоких и не таких бездушных, он был бы достоин всяческого уважения. Но где эти лучшие времена и наступят ли они когда-нибудь? Не знаю, что-то не верится, одно наверняка знаю — он тоже жертва, как и многие другие.
— Прости,— сказал я мягче.
Он поглядел на меня с благодарностью; с той же легкостью, с какой я взвалил на него обвинение, я снял его, и на его доброй заячьей душе полегчало.
Ему хотелось что-то сказать мне, что-то хорошее, светлое,— это желание я прочел на его потеплевшем лице, но тут же он отказался от своего намерения, побоялся связать себя словом, от которого пользы никому никакой, а ему могли бы быть неприятности.
Я пожалел, что он передумал. От этого его неосторожно вырвавшегося сердечного слова была бы польза и ему и мне; он сбросил бы с души часть темной накипи, меня бы утешило сознание, что, несмотря ни на что, он человек. И я, конечно, скрыл бы это ото всех, чтоб не навредить ему.
Он сделал то, что легче: выдвинул ящик стола, отсчитал деньги и добавил еще — сверх того, что определил раньше.
— Когда верну, не знаю.
— Неважно. Нужно будет, приходи.
— Боюсь, долго еще будет нужно.
— Плохо, что так говоришь. Значит, не станешь ничего делать, чтоб было иначе.
— Разве моя в этом вина, Молла Ибрагим?
— Не вина, так беда.
— В чем вина? В чем беда?
Он шептал так тихо, что мне пришлось подойти к нему вплотную. Он не хотел, чтоб его слышали помощники за перегородкой, но и оставаться со мной наедине тоже не хотел. Не разговор, а пытка.
— Не знаю. Не знаю, потому что не понимаю тебя. Я хорошо помню крестьян из Жупчи и этот твой смех, когда мы ставили портрет султана на окно. Меня и сейчас пот прошибает, как вспомню.
— Уж слишком одно к другому оказалось близко.
— В жизни все близко.
— Знаю, добро и зло. Злодейство и верноподданничество тоже?
— Разве изменишь все плохое?
— Я не думаю менять. Но то, что плохо, вижу.
— Так поэтому надо себя губить? Нет, не понимаю я тебя! Будь ты бунтовщиком, стиснул бы зубы и боролся. Ничего бы ты не добился, но хоть цель была бы, пусть и обманчивая. А ты хочешь правду-матку в глаза резать, а расплачиваться не желаешь, оскорбляешься, обида и злость тебя гложут. Стало быть, ты не бунтовщик. Бунтовщики сами бьют и не удивляются, когда их бьют. Или ты все принимаешь близко к сердцу, и поэтому тебе особенно обидны все эти пакости? Не сказал бы. Нет, не понимаю я тебя. Не знаю, чего ты хочешь, вижу только — губишь себя. Зачем?
— Я был пьян и говорил не думая. Неужто это такой большой грех?
— Погоди, не злись. Я не виню тебя. Просто разговариваем. Ты думаешь, мне было легко?
— Кто тебе велел уволить меня?
— Какое это имеет значение? Болтал, говоришь, не думая. Что ты думаешь, никому не интересно, важно, что ты делаешь. Мысли принадлежат только тебе, дела — всем.
— Какие дела? Я не украл, не ограбил, не убил. Пустые слова — это что, дело?
— Тише! Почему тебе непременно надо, чтоб все тебя слышали? А слово — дело, да еще какое! Если бы ты украл, ограбил, тебя, пожалуй, простили бы. А ты говорил о том, о чем умные люди молчат. Такого не прощают.
— Я сказал правду!
— Тем хуже. Слово — порох, раз — и вспыхнет. Недовольных всегда много, разных, но сами по себе они не загораются. Слово зажигает их.
— А зачем же мы тогда так бережем этот порох? Почему не даем вспыхнуть накопившемуся недовольству?
— Нет, ты не так наивен. Не спьяну ты болтал. Теперь я это вижу. Погибнешь ты, и я даже не узнаю за что.
— Разве честность такая тайна, Молла Ибрагим?
— Не честность тайна, а твои поступки. Я много о тебе думал. Попробую объяснить.
— И понял что-нибудь?
— Говорю, попробую объяснить. На войну ты ушел совсем зеленый, неопытный, честный, как большинство молодых людей. Пришел с войны таким же незрелым, каким и ушел. Только в полной растерянности, потому что не допускал в людях такой жестокости. Но еще больше выбила тебя из колеи жестокость мирной жизни. Ладно, думал ты, война — вещь страшная, но мирная-то жизнь почему такая? И решил ты, что люди этого не видят и твой долг раскрыть им глаза.
— А разве не так?
— Не попади ты на войну, жизнь бы тебя постепенно обкатала, обломала, обтесала и ты незаметно пошел бы по проторенной дорожке и не подозревая, что может быть иначе. Вот тебе мое объяснение: война лишила тебя школы жизни.
— На войне я многому научился. Слишком многому.
— Но не тому, что нужно в мирной жизни. Война суровая, но честная борьба — как у зверей. Мирная жизнь тоже суровая борьба, но бесчестная — как у людей. Разницу улавливаешь?
— Учусь полегоньку.
И тут Молла Ибрагим резко переменил разговор, удивительно, как он отважился и на то, что сказал.
— Жаль мне Тияну. И тебя жаль. Постараюсь тебе помочь.
— Как?
— Не знаю еще. Подумаю.
Так мы нашипелись вдоволь, как гусаки, сохранив при себе то, что другие хотели бы слышать, предоставив безусым писарям за перегородкой упрекать нас в себялюбии и несправедливости. Немногое смогут сказать они тем, кто их будет расспрашивать о нашем разговоре.
Все эти мудрствования не открыли мне ничего нового, кроме того, что Молла Ибрагим думал обо мне больше, чем я полагал. И на том спасибо. Объяснение его любопытно, но что мне оно? Я был на войне, и изменить этого уже нельзя, упустил время учения, не дал жизни обкатать себя, как река гальку, вот и живу теперь другим непонятный, сам себе неведомый.
Кто я, где, на каком шестке мое место, в каком клане? Какой я? Добрый или злой, легкий или тяжелый, что для меня значат люди и жизнь, к чему стремлюсь, чего жду от себя и от других?
Мне кажется, что я самый обыкновенный человек, почему же я не такой, как все?
Я ли отстраняюсь или меня отстраняют?
Людей я люблю, но что мне с ними делать, не знаю.
Как объяснить им, что из моей памяти не выходят мои мертвые товарищи по хотинским лесам? И что они такое — обвинение или рана?
Кто поймет и кого взволнуют мои маленькие радости, которые могут показаться смехотворными и которые я не поменял бы ни на какие другие на свете — ну, скажем, вслушиваться в глухие шаги ночи, зачарованно смотреть на игру лунного света в листве деревьев, сторожить ровное дыхание спящей жены…
Как и кому втолковать, что мне жалко обоих Пакро, жалко Махмуда Неретляка, цирюльника Салиха с Алифаковаца, старых солдат, что просят милостыню перед мечетью, и молодых новобранцев, которые уходят на войну, не зная, что их там ждет.
Что мне делать с этой своей дурацкой жалостью, от которой никому ни вреда, ни пользы и которая не нужна никому, кроме меня? Да, эта жалость ненужная, глупая, бесполезная, но у меня такое чувство, что без нее от мира осталась бы лишь половина или еще того меньше, да и оставшееся потеряло бы всякую цену, и что без нее я был бы уже не я, а кто-то другой, глухой и увечный, чужой и ненавистный сам себе.
Возле синагоги Сиявуз-паши, где жили, как в крепости, сараевские евреи, я встретил Асима Пецитаву. Он носил сюда воду от Беговой мечети. У ворот, через которые он с утра до вечера сновал со своей ношей, злой на весь мир, он опустил на землю два больших ведра, чтобы передохнуть. Выглядел он до смерти уставшим.
Два больших ведра с водой для других — в этом состояла вся его жизнь.
— Тяжело? — бессмысленно спросил я.
Асим недоуменно посмотрел на меня, то ли не поняв, то ли принимая меня за дурачка. Так или иначе, но ответил он, по своему обыкновению, руганью, сочной и щедрой.
— Правильно,— сказал я.— Особенно если тебе от этого легче.
Махмуд Неретляк ждал меня на балконе, он растирал икры — его все чаще донимали судороги. Он сделал мне знак, чтоб я не шумел: Тияна спит.
— Достал? — шепотом спросил он.
— Нет. Ничего не дал.
— Я так и знал. Бог свидетель, я так и знал. Мелкая душонка у Моллы Ибрагима. С просяное зернышко.
— Откуда ты знал, что он не даст?
— Я ведь тоже ходил к нему — от тебя, конечно.
— Когда ты ходил, чертяка?
— Ну вот, когда! Когда надо было, тогда и ходил!
— И не сказал мне. Он тоже промолчал.
— Если б я получил что, сказал бы. А ему нечем похвастаться.
— А если дал, что тогда скажешь?
— Дал?
— Дал.
— Ну, я так и знал. Бог свидетель, я так и знал. Как он может тебе не дать? И ты его выручал.
— Выходит, не такая уж мелкая у него душонка.
— Когда мелкая, когда широкая. Как у всех.
На сей раз душа у него была даже очень широкая! Пятьдесят грошей отвалил. Я отделил Махмуду половину, он взял деньги равнодушно, не сказав, много это или мало. Только окинул их на ладони взглядом.
— Будь этого дерьма чуть больше, можно было бы спать спокойно.
— Ну нет, спать спокойнее без них: не надо бояться, что ограбят.
— Пожалуй, ты прав, я уж и дверей не запираю. Ни к чему.
Он потряс деньгами, зажатыми в кулаке, и сунул их в карман.
Я спросил его:
— Ты никогда не терял надежды разбогатеть?
— Кто ж на это не надеется?
— А сейчас?
Он махнул рукой, загадочно улыбнулся и ушел.
Вот вам готовая притча о человеке, который всю жизнь провел в нищете, мечтая о богатстве и страдая больше от своей мечты, чем от нищеты. Сейчас наступило время, когда он должен отказаться от мечты. Если сможет отказаться. Потому что и раньше у него не было особых оснований верить в чудо. А сейчас, в старости, ему даже нужнее этот самообман.
Очень скоро он вернулся с ягнячьей печенкой, завернутой в чистую бумагу.
— Как проснется, пожаришь. Заранее не жарь, будет жесткая. Сумеешь?
— Что, и здесь нужно умение?
— Да нет.
Первую печенку я выкинул, вторая, которую я купил позже, пригорела, и мне пришлось съесть ее самому, третью съела Тияна, но, кажется, только для того, чтоб меня не расстраивать, а не потому, что ей понравилась моя стряпня.
Через несколько дней она поднялась и потихоньку занялась домашними делами.
О моих хозяйственных промашках осталось лишь забавное воспоминание, и Тияна вовсю потешалась над моей неумелостью.
— А ты что, хотела бы, чтоб твой муж в женских делах разбирался?
— Боже упаси!
— Чего ж тогда смеешься?
Но я сразу прикусил язык, сообразив, что она вправе спросить: а в чем ты разбираешься? Я с благодарностью отметил ее великодушие, ведь такой вопрос напрашивался сам собой, а ей и в голову не пришло его задать. Скажи она правду, мне было бы больно.
В самом деле, в чем я разбираюсь? Похоже, ни в чем. Я настолько нерасторопен, что даже службу не могу себе найти. А это равносильно тому, как если бы я ничего не знал и не умел. Но, черт возьми, это же не моя вина, и разве справедливо меня в этом упрекать?
Вот и такие пустяки способны вывести меня из равновесия.
Укор огорчил бы меня, но то, что никто ни в чем меня не винит, тоже плохо: мне было бы легче, если бы пришлось доказывать свою невиновность. Иначе все оседает во мне — и воображаемый упрек, и воображаемое оправдание, все внутри, точно камни, летящие в пропасть. В споре я нашел бы какие-то оправдания, а так тяжкие сомнения остаются в душе. То ли что-то со мной неладно, то ли с миром, или и я, и мир в порядке и просто мы не можем найти путей друг к другу? Как их находят, эти пути? Или люди врут и только изображают, что разлада нет, или им безразлично и они просто сохраняют видимость связи друг с другом? Возможна ли между человеком и миром иная связь, кроме предопределенной? У меня нет свободы выбора. По сути, я ничего не выбираю: ни факта своего рождения, ни семьи, ни имени, ни города, ни края, ни народа — все это мне дается. Еще удивительнее, что все это неизбежное и предопределенное я люблю. Ведь что-то должно быть моим в этом чужом мире, и я присваиваю себе улицу, город, край, небо, которое я вижу над собой с детства. Из страха пустоты, мира без себя. Я краду их, навязываю им себя; моей улице это безразлично, и небу надо мной безразлично, но я не хочу этого знать, я отдаю им свои чувства, я вдыхаю в них свою любовь, чтоб они мне ответили тем же.
Людям я не могу вдохнуть свою любовь, и они не могут мне ответить любовью. Они смотрят на меня холодно, подозрительно взвешивая ту опасность, которую я для них представляю; и без того замкнутые, они замыкаются еще больше при первом неожиданном слове, при первом непривычном движении или сразу нападают, обороняясь, потому что предпочитают убивать, чем дрожать от страха. В сущности, жестокость людей — от трусости. Нападение — оборона, продиктованная чувством самосохранения и, стало быть, от жестокости так же нет спасения, как нет спасения от извечной неуверенности людей в своей безопасности.
Но что происходит со мной? Я не способен нападать, но не способен и защищаться. Я — барабан, но какой-то немой барабан, по нему бьют, а он и сам молчит, и никого не сзывает.
8. Герой, который боится одиночества
Когда я уставал бессмысленно ждать, что произойдет чудо и стена вокруг меня рухнет, когда надоедало бесцельно бродить по городу и наскучивали разговоры с людьми, в делах которых я ничего не смыслил, или становилось муторно на душе от страха, что и я стану такой же развалиной, как большинство тех, с кем я встречался, я шел в старую библиотеку, насквозь пропахшую бумагой, пылью и чернилами, и часами сидел там с книгами и библиотекарем Сеидом Мехмедом.
Чаще всего мы были одни. Иногда забредал кто-нибудь из старших учеников медресе или редкий любитель чтения, и снова все стихало — древние фолианты на полках молчали, как и прежде, невозмутимые, мудрые, веками сохраняющие свою молодость.
Здесь я — тише воды, ниже травы. Здесь ощущался не только бег времени, но и его присутствие. Вот след чьей-то руки, которая давным-давно записывала эти неровные строчки, спорит со смертью, слова и смысл их продолжают жить, как неиссякаемый родник, как негасимый свет.
Все-таки дела людские не умирают.
К Сеиду Мехмеду я так привык, что мог часами молчать, сидя рядом с ним. А он всегда молчал. Вначале мне было не по себе сидеть вдвоем в пустом помещении библиотеки и не перемолвиться хоть словом и я пытался завести разговор о том о сем, нащупать, найти то, что его волнует. И пришел к выводу, что его ровно ничего не волнует — ни люди, ни бог, ни жизнь, ни смерть, однако знал он очень много и о многом.
Порой, обронив невзначай какую-нибудь мудрую сентенцию, которую можно было услышать только от него, он приводил меня в трепет своим знанием жизни, философии, литературы. Но, увы, речь его отличалась необыкновенной лаконичностью, точно молния блеснет в долгой ночи и погаснет. А большую часть времени Сеид Мехмед пребывал где-то очень далеко, в каком-то своем мире, не имеющем с нашим никакой связи, никаких мостов.
Пока я его не узнал, я хотел как-то расшевелить его, оживить. Потом отступился.
Он сидел неподвижно, уставясь в стену, в пол, в солнечный луч, и, ничего не замечая, плыл по бесшумному течению непостижимых грез; мои слова были бессильны вернуть его в этот мир.
Когда его отсутствующая, но благостно-счастливая улыбка начинала тускнеть, а лицо твердело и заострялось в беспокойстве и страхе, он с трудом поднимался и неверными шагами шел в соседнюю комнату. Был он там недолго — столько, сколько требуется для того, чтобы принять опиум, возвращался оживший и скоро снова уплывал в свои грезы.
Самый образованный человек в городе был самым несчастным. Огромное богатство лежало в нем бесценными, неиспользуемыми пластами, и это было хуже, чем если бы он ничего не знал. Но, возможно, он был и самым счастливым, потому что ему было ничего не нужно, ничто его не трогало и ему было совершенно безразлично, знает он что-нибудь или нет. Хотя, пожалуй, грезы его были бы более красочными, знай он меньше. Или обширные познания придавали им особую тонкость и возвышенность? Но задаюсь этими вопросами я так, между прочим; ответ, даже если бы я отыскал его, не имеет смысла. Вряд ли найдется на свете человек, который приобретал бы знания с целью обогатить свои видения, порожденные опиумом.
Все в нем тайна. Он замурован в себе, точно в могиле. На нем ничего не написано, от него ничего не услышишь.
Однажды, когда я еще не открыл истоков его благостной нирваны, случилось так, что я прочел ему свое стихотворение, почему-то уверенный, что он поймет его. Решился я вдруг, в ту минуту он показался мне на редкость мягким и расположенным к общению со мной.
Я исповедался ему стихотворением о своем смятении после войны:
В страданьях, в рыданьях
сердце вянет
и сохнет снова,
и тень не отстает
меня былого
в рыданьях, в страданьях.
Потерян в исканьях
я был,
есмь и ныне,
я не был,
нет меня ныне,
потерян в исканьях.
В скитаньях и грезах
терзают ночи,
а дни воскрешают,
но день убывает,
и жизнь все короче
в грезах, в мечтаньях.
В упованьях, в ожиданьях,
наяву мечтая,
живу во сне я,
себя обвиняя,
что не живу я,
что все мечтаю
в ожиданьях, в упованьях [12].
Он внимательно дослушал стихи до конца, у меня было такое чувство, что он удивлен, причем удивлен неприятно, и я понял, что стихи ему не понравились, да и мне они показались из рук вон плохими. А потом на его худом бледном лице появилась улыбка.
— Так! Поэт, значит! Заблудший и грешный.
— Почему «заблудший и грешный»? Ты так относишься к поэтам?
— Не я, Коран.
— Не помню.
— Сейчас напомню. Как аллах говорит о Мухаммеде? «Мы Посланника стихотворству не учили. Ему стихотворство не пристало». А помнишь суру о поэтах: «Поэты ходят следом, заблудшие и грешные», «Не видишь разве, как поэты бродят по долинам и говорят несуразности», «Цель их — насмехаться и развращать. Придет к ним наказание и уничтожит их и унизит». С каких пор ты бродишь по долинам и говоришь несуразности?
— Как с войны вернулся.
— Ну да, «тень не отстает меня былого», тень войны, конечно. Вот что, приятель, вижу, ты давно в руки Коран не брал. Иначе бы понял, что грех творишь.
Я засмеялся:
— Согласен, грешен. Ну ладно, раз ты меня уже осудил, можешь ты мне объяснить, почему это грех? Кому мешает слово поэта?
— Это не я тебя осудил. Коран говорит: «В защите веры наступайте рядами! Аллах любит тех, кто борется в тесном строю, прочном как стена». А тебя аллах не любит, ты наступаешь сам по себе, разбиваешь строй, подрываешь прочность стены. И не только не защищаешь веру — ты против веры.
— И это еще!
— «Вера — это закон, который вносит порядок в жизнь». Поэзия вне этого закона, она не признает его, требует свободы для слова и для мысли и отвергает совершенство мира, созданного промыслом божиим. Жить мечтами, надеждами, ожиданием — значит не принимать то, что есть. Это бунт.
— Сохрани бог от такого обвинителя! Что же тогда не бунт?
— Чтение молитв.
— А ты читаешь молитвы? Ты защитник веры в строю, прочном как стена?
Он улыбнулся печально или чуть насмешливо и ничего не ответил.
Наступило время молчания, и он ушел в свои грезы. Взгляд его погас, обратившись внутрь, в себя, к чему-то более важному и приятному, чем туманные стихи какого-то Ахмеда Шабо.
Он явно издевался. Только над кем? Надо мной, над собой? Или над всеми? Говорил он как будто в здравом рассудке, но и находясь в своем искусственном забытьи, и выходя из него, он был одинаково далек от нашего мира, от людей, и его нисколько не касалось, как мы там устраиваемся между собой. Он отрекся от всего, кроме круговращения своих призрачных видений, которым никакой людской порядок не в силах помешать.
Я смотрел на него в полном смятении, почти с ужасом, как на мертвого.
Меня-то как раз волновало то, что его совершенно не волновало.
Вдруг я услышал за собой какое-то движение.
Оглянулся: в дверях стоял молодой человек с худым лицом и горящими глазами. Я сразу узнал его: студент Рамиз!
Я долго избегал встречи с ним и вот не избежал.
Уже месяц, как он по вечерам читает проповеди в мечети Али-паши беднякам с Черного Верха, Беркуши, Белав и Кошева и говорит им то, что умный человек вслух никогда не скажет. Один раз я тоже пошел в эту мечеть, потому что услышал, как люди шепотом пересказывают его слова, едва отыскал место у дверей и выскочил, не дождавшись конца. Испугался!
Я помню, что он говорил темной ночью в хотинских лесах; на свою беду, я повторил его слова и понял: он может говорить что угодно, только не это и не так.
Никогда и ни от кого я не слышал столь резких слов, не встречал такого презрения к властям предержащим, такого безрассудного вольномыслия, как в тот вечер, слушая пламенного аль-азхарского студента, который или не знал, что такое страх, или не знал, что такое власть. Он говорил — меня и сейчас пробирает озноб,— что в мире существуют три великие страсти: алкоголь, игра и власть. От двух первых люди еще как-то могут излечиться, от третьей — никогда. Власть — самый страшный порок. Из-за нее убивают, из-за нее погибают, из-за нее теряют человеческий облик. Она неодолима, как заколдованный камень, ибо прикосновение к ней увеличивает мощь. Она — дух из Лампы Аладдина, который служит любому болвану, держащему лампу в руках. Сами по себе люди власти ничего собой не представляют, вместе — они вершат судьбами мира. Честной и мудрой власти не бывает, ибо жажда могущества неутолима. Человека, находящегося у власти, вдохновляют трусы, не знающие устали льстецы, поддерживают пройдохи, поэтому его мнение о себе всегда выше действительной его цены. Людей он считает глупцами, ибо те таят от него свои подлинные мысли, а себе присваивает право все знать, и люди не возражают. У кормила власти не бывает умных, потому что даже умный быстро теряет разум, и не бывает терпимых, потому что больше всего власти не любят перемен. Они немедленно вводят вечные законы, вечные установления, вечный порядок и, ведя свою власть от бога, укрепляют свое могущество. Они были бы несломимы, если бы время от времени не вставали поперек горла другим сильным мира сего. Скидывают их всегда одним и тем же манером, действуя от лица угнетенного народа — а угнетают-то все одинаково! — и предъявляя обвинение в измене, хотя никто из них и в мыслях не держит такого. И никого еще это не образумило, все рвутся к власти, как ночные мотыльки на пламя свечи. Уж кажется, все боснийские валии в тюрьмах, изгнаны или перебиты вместе со своими свитами, но приходят новые, и приводят за собой новую свиту, и повторяют глупости своих предшественников, потому что иначе не могут. Так и идет по кругу, безостановочно. Без хлеба народ может остаться, без власти — нет. Она как болезнь, как нарост на теле народа. Один отвалится — вырастает другой, да еще похуже прежнего. Без нас вы не проживете, говорят нам, разбойников разведется тьма, враги нападут, страны не станет. А на ком страна держится, кто кормит ее, кто защищает? Народ. Они же нас грабят, карают, сажают в тюрьмы, убивают. Да еще заставляют делать это руками наших же сыновей! Они без нас не могут, мы без них можем. Их мало, нас много. Стоит нам пальцем двинуть, всем, сколько нас есть, и эта нечисть сгинет. И мы сделаем это, братья мои угнетенные, как только вырастут настоящие люди, которые не допустят, чтоб на их спинах сидели кровососы.
Тут я и выскочил из мечети, в смятении наступая на ноги разинувшим рты горожанам в драных портах, которые затаив дыхание слушали эти пламенные речи бунта.
Откуда в нем такая смелость?
Домой я шел, шатаясь как пьяный, едва веря своим ушам. Как решился он говорить такое и как люди решились его слушать?
В изумлении и растерянности я рассказал все Тияне. «Вот смельчак!» — сказала она восхищенно, однако попросила больше не ходить в мечеть. Может, испугалась, что мне станет омерзительным собственное молчание?
И вот человек, о котором я много думал наяву и который не раз виделся мне во сне, стоял передо мной с книгой в руках и внимательно на меня смотрел.
— Мы знакомы? Встречались где-нибудь?
— Слушал тебя один раз в мечети.
— А раньше?
— Как будто нет.
Испугавшись сам не знаю чего, я отрекся от первой случайной хотинской встречи.
— Стихи пишешь? — спросил он, переменив тему разговора.— Для кого? И зачем?
— Для себя. Так просто.
— Как соловей?
— А надо по-другому?
— Ты ведь человек.
Обычные отговорки в разговоре с ним не годились, все его помыслы устремлены к бунту, и все должно служить ему. Я прекрасно помнил его проповедь и охотнее всего завел бы разговор о ней. Его самозабвение и отчаянная смелость произвели на меня более сильное впечатление, чем сами слова. Мне хотелось спросить его: можно ли добиться свободы насилием? Разве против зла надо сражаться тоже оружием зла? И кто искоренит это другое зло? И как его забыть?
Но на это он ответит мне лишь неприязнью и презрением.
Лучше держаться поэзии. Однако что же ему сказать?
И тут я один, и тут ощущаю свою вину, и тут нарушаю тесный строй, прочный как стена.
Идя навстречу ему и одновременно отмежевываясь от него, я начал говорить о том, что люди чувствуют себя связанными по рукам и ногам, даже не будучи бунтовщиками. Позволено лишь думать. Но у человека не меньшая потребность высказаться, и, пожалуй, более сильная, чем потребность думать. Выговариваясь, ты освобождаешься от внутреннего напряжения. Слова поглощают избыток крови, облегчают страдания, дают видимость свободы. Властям бы надо развивать и поощрять разговоры, а не подавлять их, устраивать праздники речей и еще лучше — сквернословия, подобно тому как собирают людей на хоровое пение, молитвы, омовения. У некоторых племен Африки так и поступают, в этом смысле они гораздо разумнее нас, да и не только в этом. За ругань надо бы давать награды и ордена. И за поэзию, потому что это то же самое. И заставлять людей как можно больше принимать в этом участие и слушать. Потом им было бы легче тащить свое неизбежное ярмо.
— Так ли уж оно неизбежно?
Мне хотелось развить эту забавную картину, посмеяться над собственной выдумкой, представив, что могло бы выйти из этого дивного праздника сквернословия, ора, брани, сопровождаемых игрой на гуслях, домрах, барабанах,— люди ходят, сидят, взывают к небу, от проклятий сотрясается земля, однако Рамиз прервал сладостный поток моей непомерной фантазии, к которой я прибег оттого, что не мог согласиться с ним, а что-то надо было говорить.
— Так ли уж оно неизбежно?
— Боюсь, что да.
— Нет, ошибаешься. Люди сбросят навязанное им ярмо, а не станут облегчать его самообманом. И чем тяжелее ярмо и меньше слов утешения, тем ближе этот день.
— Кто это сделает?
— Народ.
— Народ — это пустой звук, колосс на глиняных ногах. У него нет ничего общего, его ничто не объединяет, кроме непосредственной выгоды и страха. Полная разобщенность — кто в лес, кто по дрова. В случае опасности одно село не поможет другому. Каждый надеется: авось его минует.
Он качал головой, не соглашаясь со мной.
— Народ — колосс на глиняных ногах только тогда, когда у него нет общей цели, когда он не видит постоянной и долговечной для себя выгоды. Если он осознает ее, уверует в нее, он сможет все. Но прежде надо прогнать нынешних правителей.
— Допустим, это возможно. Но ведь чтобы добиться победы, кто-то должен возглавить народ, освободить его от страха, приучить к мысли о необходимости жертв.
— А разве это невозможно?
— Значит, предводители, у которых были бы заслуги, пользовались бы особым почетом. И что получилось бы? Вожди начали бы пользоваться своими заслугами, забирали бы все большую силу, и почет обернулся бы могуществом. И стало быть, вместо старой власти мы получили бы новую, может и похуже старой. Такова история власти с незапамятных времен. Так все и идет: от чистого одушевления к насилию, от благородства к тирании — всегда и во всем.
Он засмеялся, как мне показалось, с некоторой укоризной.
С моими малодушными пророчествами он не согласен, он верит в способность народа устроить свою жизнь так, как народ считает для себя лучшим, и разорвать заколдованный круг, по законам которого герои превращаются в тиранов. Без героев не обойтись. Они тот камень, который увлекает за собой лавину. Только нельзя позволять им пятнать свою славу. Древние римляне отправляли своих героев в изгнание и тем обеспечивали им бессмертие. Если это слишком жестоко, можно было бы возвращать наших героев к тем занятиям, с которых они начинали.
Отверг он и мою мысль о том, что слово должно быть утешением и разрядкой, считая ее полной капитуляцией. Слово призвано будоражить людей, звать их на борьбу со злом, пока оно есть в мире. Иначе оно ложь, опиум, и люди, как несчастный Сеид Мехмед, будут баюкать себя розовыми снами, и пропади, мол, все пропадом.
Откуда в нем такая уверенность, о которую разбиваются все возражения? Сколько людей надеялись и ничего не дождались! Но приходят новые и снова верят. Надежда в человеке сильнее опыта поколений, ее не может поколебать неудача других.
Или он готов ко всему, что его ожидает, даже и к смерти? Но разве можно быть готовым к смерти? Или в своем одушевлении он рассматривает ее как непременную часть своего дела, или вовсе не думает о ней? Он способен и на это, он может делать с собой все.
Думает ли он о чем-нибудь другом? Есть ли у него семья, о которой он временами тоскует, друзья, с которыми он говорит про обыденные вещи, девушка, которой он нашептывает слова любви? Или это постоянно пылающий костер, который горит и прогорает, забывая о другом тепле, более доступном?
Я спросил его об этом, чтоб кончить разговор о предмете, в котором я при всем своем к нему уважении не разбираюсь.
Он взял меня под руку и повел в соседнюю пустую комнату. В мечети он не боялся громко говорить о том, о чем другие и думать не решаются, о себе же он мог говорить лишь шепотом, с глазу на глаз, опасаясь, что заснувший Сеид Мехмед вдруг проснется и услышит.
Товарищи у него есть, сказал он тихо, и не один, он с радостью с ними встречается и с горечью расстается, никого и никогда не забывает, с ними он сильнее. И мы с ним могли бы быть друзьями, но ему хотелось бы видеть меня немного иным, я должен стать человеком, я и сейчас человек, только мне не хватает мужества проявить это. Он может полюбить меня и такого, доброго и беспомощного, только вот уважать не сможет. А это полудружба.
Есть у него и любимая девушка, тяжко ему быть с ней в разлуке, любовь их превратилась в вечное ожидание. Но иначе он был бы не он. Брось он все и вернись в свой город учительствовать, сажать розы в палисаднике или картошку в огороде, он не способен был бы и любить по-настоящему и, пожалуй, еще ее винил бы за то, что отрекся от своей мечты. Он все ей сказал и предоставил самой выбирать. Она решила ждать. Тяжкий удел, но прекрасный.
По вечерам, вернувшись из мечети в свою убогую каморку, он закрывает глаза, вызывает ее образ и рассказывает ей, о чем он говорил людям и как жадно они его слушали. (И хотя меня тронуло его юношеское простодушие, в голову мне пришла гадкая мысль, что, быть может, эта далекая девушка, устав ждать, с каким-нибудь более близким и простым парнем шепчется в этот же вечер о более простых и близких ей вещах, чем безнадежная борьба за счастье бедняков.)
Есть у него и родные — мать, вдова, замужняя сестра и брат-кузнец, брат живет с матерью. Отец погиб на дубицкой войне, а он в Аль-Азхаре давал уроки глупым сынкам богачей и жил на это. Хлебнул он тогда горя немало, натерпелся унижений, насмотрелся на измывательства богатеев и муки бедняков, увидел, как плохо устроен мир.
Конечно, понимал он это и раньше — не так уж много ума для этого нужно, но свое предназначение осознал внезапно, словно молния его озарила. До конца открыл ему глаза один дервиш Хамзевийского ордена. Ни правители не нужны, говорил он, ни властелины, ни государство — все это насилие. Нужны люди, которые обо всем договорились бы между собой, простые люди, которые занимались бы каждый своим делом, не стремясь властвовать над другими и не позволяя другим властвовать над собой, и нужна божья милость им в помощь. Дервиша убили, но его слова живут в нем. Все, кроме слов о божьей милости: в ней люди не нуждаются, они и сами со всем справятся.
Жизнью своей он доволен, потому что иначе жить не может. Бывает нелегко, однако к трудностям он привык, брань его не задевает, тюрьма — обычное лишение, побои неприятны, но он молод, выдержит. Тяжелее, когда он вспоминает о матери, брате, любимой, о тепле домашнего очага, о будничных разговорах, которых не ведет годами. Он гонит от себя эти мысли как недопустимую слабость.
Ему хотелось бы и здесь обзавестись другом. Не сторонником и последователем — они у него есть, а настоящим другом, с которым и говоришь иначе, и молчишь иначе, чем с прочими людьми, как бы дороги они тебе ни были. Но дружба не создается, она приходит сама, как и любовь. Он будет рад, если мы станем друзьями.
Я протянул ему руку, меня взволновал его страх одиночества, потребность сблизиться с другим человеком. Своим мыслям он не изменит, но и с ними иной раз бывает пусто и холодно. Не так уж много даст ему моя дружба, однако она могла бы послужить ему внутренней опорой.
Мы вышли на улицу.
Я пригласил его к себе. Мы с женой люди простые, сказал я, и в меру наших сил постараемся, чтоб ему было приятно. Я умолчал, что решил позвать его как-нибудь пообедать, это ему необходимо, похоже, он не часто ест.
Постепенно за разговором я совсем забыл про настороженность, с которой его встретил.
Удивительный юноша! Из него выйдет прекрасный человек, если он не добьется своего, ужасный — если добьется. Он будет гордиться чистотой своих помыслов и тогда, когда они давно уже будут запятнаны. Сейчас он против насилия — во имя свободы он прибегнет к нему. Сейчас он за свободу — во имя власти он задушит ее. Он будет яростно бороться за свои убеждения, считая их верхом благородства, не чувствуя, что они уже стали бесчеловечными. Он станет злейшим врагом для себя самого, каким он был прежде, но тем не менее как дорогую реликвию будет хранить потускневший образ своего былого одушевления. А если его постигнет неудача, как и многих других до него, если теперешние его приверженцы станут ему поперек дороги, страдание возвысит его в глазах людей еще больше, чем победа. В памяти сохранятся волнующие воспоминания о великой жертве и невоплотившейся мечте. И как ни странно, это лучшее, что может сделать человек: пойти на приступ и не одолеть.
Ведь тогда остается мечта и вера, что желанный рай когда-нибудь наступит, а с такой мечтой легче жить. Если люди разочаровываются в пророках, их мечты тускнеют. Пророки должны умирать раньше осуществления своих пророчеств. Хватит того, что они еще раз воспламенили старую надежду. Зачем же гасить ее разочарованием? Видно, надо пройти векам, чтоб в душах людей накопилось побольше этой незапятнанной красоты, и тогда, очистившись, они осуществят свою извечную мечту.
Отрезвил меня хлынувший дождь, он выбил из моей головы путаные мысли, которыми я оборонялся от чужого одушевления.
Я побежал домой, решив не пережидать дождя. Но тут же пожалел, так как вдруг увидел под стрехой сердара Авдагу. Я собрался было вернуться, ни к чему мне встречаться с ним, и плевать мне, если он подумает, что я его избегаю.
Я остановился, потом пошел дальше, глядя на него, как кролик на удава.
Он встретил меня ласково:
— Зачастил ты в библиотеку.
— Мерхаба, Авдага!
— Каждый день тебя там вижу.
— Времени свободного много. Да и у тебя, видно, тоже.
— Я не знал, что ты дружишь с Рамизом.
— Сегодня первый раз встретились,— солгал я.
— Первый раз? О чем говорили?
Я рассказал ему о семье Рамиза, о его девушке, о его желании иметь настоящих друзей — словом, о том, что в глазах Авдаги несусветная чушь.
— И больше ни о чем?
— А о чем мы еще должны разговаривать?
— О чем он в мечети говорит, не поминал?
— Я не знаю, о чем он говорит в мечети. А что?
— Да так.
Струйки дождя стекают по его носу. По моему, конечно, тоже. На душе полегчало, страх прошел, уж слишком вид у него потешный.
— Авдага, какая нелегкая заставляет тебя мокнуть под дождем? От брата тебе перешло большое наследство, я думал, ты бросишь службу. Неужто тебе нравится твое занятие?
— Нравится.
— А не тяжело?
— Я сильный.
— И не противно?
— Противно? Почему противно?
— Ну ладно, скажем, странно. Не все ли тебе равно, что люди делают?
— Не все равно. Мошенников много.
— Что ж, мошенников больше, чем порядочных людей?
Он смотрел на меня, не понимая, как можно об этом спрашивать. Удивление его было так велико, что я без слов читал его мысли. Конечно, мошенников больше, и, кабы не он, они завладели бы всем миром. Он обязан знать, что люди делают, что говорят, о чем думают, с кем встречаются, а по нему, всего лучше, если бы они не говорили, не думали, не встречались, если бы все это было запрещено. Чего людям не сидится на одном месте, зачем они шастают из города в город, торчат в кофейнях, зачем разговаривают, шепчутся, зачем выходят из дому? Будь его власть, он бы все это упразднил, но, поскольку такой власти у него нет, ему остается всегда быть начеку, держать под подозрением все живое. Нет в мире человека, более отягощенного заботами и обязанностями; Авдагу мучат угрызения совести из-за того, что он не в состоянии все предвидеть и все предотвратить. Он разом бы покончил со всем злом, если бы мог всех людей упрятать за решетку. К сожалению, его не понимают.
Но какой смысл объяснять это мне? И поэтому он сказал:
— Снова увидишь Рамиза, запомни, что он будет говорить.
— Я его не увижу.
— Говорю, если увидишь. Он наверняка разыщет тебя. Вы два сапога пара, только в тебе страх сидит.
— Раз ты знаешь, что он говорит и кого он станет искать, зачем тебе нужен я? Джемал Зафрания приказал?
— Кто приказал, не твоего ума дело.
— Скажи, пожалуйста, Авдага, а если бы тебе приказали меня арестовать, ты арестовал бы меня, зная, что я ни в чем не виновен?
— Невиновных не бывает.
— И приказали бы убить, ты бы тоже не ослушался… Почему, Авдага?
— А почему я должен ослушаться?
— Аллахеманет, Авдага!
— Я спрашивал тебя о Рамизе. Почему ты не ответил?
— И я тебя спрашиваю, почему? Ты меня спрашиваешь, почему? Так и разговариваем, друг другу на удивленье. Аллахеманет, Авдага. Да поможет аллах и мне, и тебе!
— Богом клянусь, тебе помощь больше понадобится,— сказал он задумчиво.
Промокли мы до костей, пока вели этот смешной разговор.
Я не умираю от желания поступить на службу, но как иначе жить?
Я мечтал о службе больше, чем когда-либо раньше. Тияна вышивала женские кофты, и на это мы кое-как существовали, мне было стыдно, что работает только она.
Махмуда торговцы бросили: видимо, греки в изумлении спрашивали, на каком языке они говорят, когда те с гордостью заговорили по-гречески в Салониках. Махмуд объяснил им, что он учил их другому диалекту, антиохийскому; с грехом пополам выкрутился, но остался без заработка.
Тияна уверяла меня, что работа ее не утомляет, а даже, напротив, успокаивает и за нее хорошо платят, так что можно не беспокоиться хотя бы о завтрашнем дне. Все было бы в порядке, если бы я не ходил безработным. До чего дожил! Сижу на шее слабой женщины, ее принуждаю искупать мою вину.
— Ни в чем ты не виноват,— утешала меня Тияна.— А работаю я не на дядю, а на нас с тобой.
Или бранила, когда я совсем падал духом:
— О господи, велика беда — жена кормит! Перестань, сделай милость, слушать смешно! Разве я занимаюсь чем-нибудь плохим?
Она не позволяла мне относить готовую работу заказчицам, сердилась, если я убирал комнату, следила, чтоб я был чисто и опрятно одет, щадя мое мужское достоинство и собственное самолюбие купеческой дочери, будто при нашей нищете это было самое важное.
От сестры Тияна получила немного денег — свою долю отцовского наследства, она оказалась гораздо меньше, чем ей причиталось, но мы вообще ничего не ожидали и были довольны и этой малостью; к большому своему удивлению, с ничтожной горсткой серебра мы вдруг почувствовали себя увереннее.
Словно она навсегда ограждала нас от бед и лишений.
Махмуд Неретляк тут же пронюхал про наши деньги и, взволнованный, шептался с Тияной, придумывая самые невероятные способы и пути, с помощью которых деньги можно удвоить, утроить, удесятерить. В его воображении возникали несметные богатства, Тияна недоверчиво качала головой, но не мешала ему строить воздушные замки. Я потешался над их игрой, в которой Махмуд бог знает в какой раз отдавался во власть своей неистребимой мечты, а она слушала его бредни как прекрасную сказку, в душе уверенная, что не сделает ни одного неверного шага, ибо не любила риска.
Махмуд даже придумал, на что употребить обретенное богатство. Торговец Шабанович продает дом — четыре комнаты, прихожая, балкон, лоза перед домом, вокруг дома сад, в саду — розарий и родник, чистый как слеза.
— Придется подождать, такой дом нам не осилить, да и меньший тоже,— трезво сказала Тияна, но глаза ее загорелись.
Однако неожиданно нам и в самом деле выпал случай если не разбогатеть, то по крайней мере удвоить имеющийся капитал.
Благодаря своим связям, как всегда запутанным и неисповедимым, Махмуд прознал от родича своего ближайшего соседа, что молодой торговец Хусага, брат медника Абида, едет в Стамбул за товаром, он и подумал, не дать ли Хусаге денег, чтобы он купил товару и для нас. Человек он честный, знающий, за два года приобрел хорошую лавку и еще лучшую репутацию, в прошлом году пригнал целый караван с товаром и уже все распродал. Лучше всего купить дорогие ткани, сколько удастся, на них самый большой спрос, и товар можно сразу продать торговцам. Оплатив все расходы, мы останемся с прибылью. В конце он добавил, что Хусага согласен оказать нам такую услугу, ему это, мол, не составит ни труда, ни хлопот.
Стало быть, с Хусагой он уже вел переговоры и обо всем договорился, а нас убеждал больше для вида. Все это выглядело странно и чересчур похоже на Махмуда, так что сейчас и я недоверчиво качал головой, а Тияна решительно отказалась, говоря, что это пустые сказки — никому еще с неба деньги не сваливались.
Все же мы согласились встретиться с молодым торговцем, поблагодарить его за любезность и объяснить, что, к сожалению, деньги истрачены, да и было-то их немного.
Ничего объяснять нам не пришлось. Хусага рассеял все наши сомнения и страхи. Он был молод, но держался так солидно, как будто за его плечами долгие годы жизни и опыта, и больше походил на ученого мудериза, чем на лабазника. Он охотно нам поможет, сказал он, для него это пустяк — купить только да присмотреть за погрузкой, он сделал бы это и из пустой любезности, но нам ему тем более приятно оказать эту услугу, что его отец и отец Тияны были приятелями. Да и для меня ему хочется сделать доброе дело, он слышал, как я ни за что ни про что оказался в виноватых. Деньги ему не нужны, своих хватит, расплатимся, когда он привезет товар. Продать его будет несложно, он поможет, самому ему откупить у нас товар неловко, это было бы противно всем торговым обычаям и походило бы на милостыню. А так все чисто.
Разумеется, деньги мы ему дали, он написал расписку и скрепил ее своей печаткой. Мы пожелали ему счастливого пути и расстались как родные.
— Жаль, денег у нас мало,— вздохнул Махмуд.— И ты мог бы поехать в Стамбул.
Тияна пресекла этот разговор:
— В Стамбул! На два месяца! А я что бы делала эти два месяца?
— Другие же остаются,— сказал я, защищая свое право на неосуществимую поездку в Стамбул.
— Другие остаются, а я не останусь.
— Нельзя так, сношенька, а вдруг когда-нибудь придется поехать. Подумай только — Стамбул, лавки, караваны, огромные постоялые дворы, тьма самых разных людей! Нельзя так, грех это!
— А оставлять меня одну не грех?
Не видя волнения Махмуда, в которое его привела мечта об этом недостижимом счастье, она бросала на меня сердитые взгляды, словно я уже сегодня собирался в дальнюю дорогу.
Я тоже надулся, точно она и впрямь не пускала меня в Стамбул, себялюбиво лишая меня самостоятельности. Почему я не могу поехать, как все прочие?
Махмуд ушел, даже не заметив, какие искры сверкали между нами. Наверняка пойдет пить, распаленный мечтами о богатом Стамбуле.
А наше раздражение тотчас улеглось, стало таким же смешным, как и вызвавший его повод.
Бунтовал я всегда недолго, так недолго, что не имело смысла и начинать. Тем более что, как бы я ни был рассержен, я знал: ничто мне не заменит ее, такую, какая она есть,— нетерпимую в любви, непримиримую ко всему, что может отнять у нее даже частицу меня — ее безраздельной собственности. Очень быстро мнимое желание свободы и призрачное возмущение улетучивалось, и я возвращался в неприступную твердыню ее любви, как робкий беглец, не отваживающийся отойти далеко от ворот.
Жизнь не балует нас, мы сами создаем свой мир, свой космос, которым возмещаем друг другу все, чего нам недостает.
Когда мне грозила опасность, я думал только о ней, черпая мужество в ее существовании. В тяжелые минуты я твердил ее имя, как молитву, и мне становилось легче. Когда ко мне приходила радость, я бежал к Тияне, исполненный благодарности, словно это она мне подарила ее.
Она добрый человек, красивая женщина, но то, чем она стала для меня, создал я сам. Даже будь у нее серьезные пороки, я не видел бы их. Мне нужно само совершенство, ни на что другое я не соглашусь.
Я наградил ее всем, чего не нашел в жизни и без чего не могу жить. Я даже себя умаляю, чтоб возвысить ее, а тем самым и себя. Я щедро одаряю ее, чтоб иметь возможность брать. Меня во всем обделили, так пусть хоть она будет человеком. Я и буду вознагражден. Она возмещает мне потерянное, да еще с лихвой. Мои желания были смутными и разбросанными, сейчас они сосредоточились на одном имени, на одном образе, более прекрасном и более реальном, чем любая мечта. Ей я приписываю все, чего недостает мне, и, все же умаляя себя, не остаюсь в накладе. Беспомощный в глазах людей, ничтожный в глазах мира, я полон силы и значения в глазах своего творения, более достойного, чем они. В беспокойном, неустойчивом мире я чувствую уверенность только в любви, которая возникает сама по себе, в силу потребности в ней. Любовь — жертвенность и насилие, она дает и требует, просит и бранит. Эта женщина — весь мой мир! — дана мне для того, чтоб я восхищался ею и чувствовал над нею свою власть. Я сотворил себе кумира, как дикарь, который ставит его в пещере над огнем для защиты от грома, врагов, зверей, людей, неба, одиночества, у него он просит доступные вещи и требует невозможного, чтоб восторгаться и горевать, благословлять и бранить, и всегда помнить, что без него страх был бы непереносим, надежды пусты, радость мимолетна.
Только благодаря Тияне я стал лучше относиться к людям.
Хусага вернулся из Стамбула раньше, чем мы ожидали, исхудавший и потемневший. Он зазвал меня в пустой лабаз и, сокрушенный, убитый, признался, что в Стамбуле спустил все деньги, и свои, и чужие. И еще в долг влез. Не проторговался, его не обобрали и не ограбили, он все пропил. Никогда за ним такого не водилось, и вот на тебе.
Что с ним произошло, он и сам понять не может. Как-то вечером на него накатило вдруг что-то вроде болезни, вроде безумия, он начал пить, заказывал песни, швырял деньгами направо и налево, дрался с приятелями, которые умоляли его не губить себя, и через несколько дней и ночей остался без гроша, так что пришлось занять на обратный путь. Ему стыдно смотреть людям в глаза, особенно нам и брату Абиду, но наложить на себя руки нет сил. Если мы хотим, он займет и вернет нам деньги. Если мы в состоянии потерпеть, отдаст через год с процентами.
Потерпим, сказал я, подождем. Такое со всяким может случиться, не хватает еще и нам на него навалиться — и без нас горя достаточно. Вернет когда вернет.
Да и что я мог сказать другое? Требовать деньги, еще глубже топить человека? Такая уж наша судьба — деньги от нас уплывают, и я великодушно отложил срок возвращения долга на продолжительное, а вернее, на неопределенное время, улыбаясь при этом так, словно мы ходим по золоту. Он был благодарен мне за это безрассудство, и, что удивительнее всего, я и сам был доволен, будто заключил выгодную сделку. Получи я деньги, я стыдился бы своей победы. А то, что мы остались в дураках, забудется. И мы с легкостью себя простим.
И Тияна, и я плохо приспособлены к жизни, но относимся к этому легкомысленно и принимаем как должное.
Тияна ни словом не попрекнула ни торговца, ни меня. И даже не уверяла, что сердцем чуяла беду, как делала обычно. Улыбнулась и весело сказала:
— Хорошие из нас торговцы, нечего сказать!
И Махмуд вел себя не так, как я ожидал. Я полагал, он станет отрицать свою вину: я, мол, просто вслух размышлял, а решали вы сами, я и слова не сказал, когда вы отдавали деньги Хусаге, что было верно.
Я обманулся, он не оправдывался. На суд и расправу, правда, он пришел только на следующий день, когда мы поостыли, и всю вину взял на себя.
— Если вы думаете, что я спал эту ночь, ошибаетесь,— начал он покаянным тоном.— Глаз не сомкнул. Втянул в беду лучших своих друзей! Последнее потеряли, что берегли про черный день. Да и себя ограбил — как-никак я тоже чувствовал себя увереннее с этой вашей малостью. Я мог бы, конечно, сказать: кто мог ожидать такого от Хусаги? Но не скажу. От боснийца всего можно ожидать! Годами живет как разумный человек, а потом все сделает, чтобы доказать, что он дурак. Вам-то простительно этого не знать, у меня опыт поболе вашего. Моя вина. Я возмещу вам убыток.
— О чем ты говоришь? Откуда у тебя деньги?
— Продам лавку и отдам вам деньги.
— Останешься без лавки.
— Что ж, родился-то я без лавки.
— Но зачем тебе это делать? Ты же ни в чем не виноват.
— Виноват. Вы в делах не разбираетесь.
Довольно долго мы препирались, щеголяя своим великодушием, пока Тияна не оборвала эту никчемную распрю, сказав, что все это глупости и пустая трата времени. Только чтоб впредь мы к ней с подобными ребяческими затеями не приходили и выбросили из головы мечты о легкой наживе и богатстве. Ей богатство не нужно, она привыкла к малому, Да и нам двоим оно тоже ни к чему, потому что мы так же умеем торговать, как она ходить по канату.
Так Тияна задала нам обоим перцу — и Махмуду, уязвив его самолюбие торговца, но одновременно освободив от ответственности, и мне, без вины виноватому. В сердцах я подумал: Махмуд ведь ни минуты не сомневался, что Тияна скажет именно так, потому и предлагал возместить утраченные деньги. Благородство стоило ему недорого и не грозило уроном. Вот было бы забавно, если бы мы согласились взять деньги, хотя бы в шутку! Как бы он извивался, чтоб взять свои слова обратно!
Но все кончилось хорошо, и все были довольны собой. Старый одышливый мошенник играл на верной струне — Тияниной доброте. Ушел он якобы огорченный, что мы отвергли его жертву.
А спустя два дня начал одолевать меня новым проектом.
Тияна понесла готовую работу заказчицам, а я пошел в библиотеку читать стихи Мевли о Сараеве. Писал он будто обо мне и о нынешних людях, будто и не миновало с тех пор целое столетие. Разве время не двигается, спрашивал я себя, не зная, радоваться ли этому, горевать ли. Разве люди не меняются?
Спросил я об этом Сеида Мехмеда в тот короткий промежуток между его двумя забвениями, когда одно кончается, а другое еще не началось. Только тогда он в здравом уме и твердой памяти и только тогда не улыбается светло и печально.
— Люди меняются,— сказал он.— Но к худшему.
— Не может быть,— горячо возразил я.— Если они не стали лучше, то по крайней мере поумнели. Поняли, что надо как-то между собой договариваться, не то все полетим в тартарары.
— В тартарары все равно полетим,— равнодушно заключил Сеид Мехмед.
Мне хотелось спросить у него, почему он такого плохого мнения о людях, что с ним произошло, что ему сделали люди, почему он скрывается ото всех, от чего бежит? Но он никого не пускает к себе в душу. Прокаркает, как зловещая птица, и улетит.
Сеид Мехмед пошел в соседнюю комнату, предоставив мне самому отвечать на свои вопросы.
Я не могу ему верить, сердцем я отвергаю его черную безнадежность, она противна жизни, противна людям. Всем людям. Живи на свете хоть один добрый человек, я поверил бы в него сильнее, чем во всех прочих, вместе взятых. Но он не один. Добрых людей больше, чем злых. Гораздо больше! Злые только слышнее и ощутимее. Добрые молчат.
А нельзя ли сделать наоборот?
С Рамизом бы поговорить об этом. Он наверняка сказал бы, что люди станут лучше, без этой уверенности его жизнь лишилась бы смысла. Пусть слова прозвучали бы и не очень убедительно, я все равно поверил бы ему. И ради него, и ради себя.
Махмуд ждал меня на улице, промокший до нитки. Дождь шел целый день.
— Что ты здесь делаешь?
— Ничего, стою. Был в кофейной, там душно, сидят на головах друг у друга — дождь, деваться некуда.
— Пойдем ко мне?
— А чем здесь плохо?
Мы зашли в подворотню и стали смотреть на дождь, на капли, подпрыгивающие на булыжной мостовой. Скоро ноги у меня промокли, и мне уже было безразлично, идти или оставаться.
Какими люди будут завтра, лучше они станут или хуже?
— Ну и погодка,— говорит Махмуд, утирая лицо платком.— Не люблю я дождь, не люблю ветер, не люблю холод. Ходишь несчастный, кашляешь, поясница болит, душа болит. Но и летний зной тоже не люблю, ну его к бесу. Есть ли на земле край, где всегда весна?
— Не знаю. Может, и есть.
— Я такого не встречал. А нашел бы, стал бы там жить. Здесь горе одно. Или солнце печет, или мороз щиплет. Беда. Особенно перед дождем. Свихнуться впору. Вот вчера вечером лег, па́рит, вижу, погода меняется, дышать нечем, спать не могу, и на улицу идти уже поздно. Жена стонет, вздыхает, ворочается. «Да угомонись, будь ты неладна,— говорю ей.— Только глаза закроешь, ты тут же и разбудишь!» — «Нехорошо мне, вот и верчусь,— отвечает,— видишь, погода какая, впору задохнуться». Что будешь делать, сон не идет, глаза как плошки, в голове колготня, я и дал мыслям волю, раз все равно унять их не могу. И думаю, сколько же людей в городе сейчас лежат и буравят темноту, как я, сколько спит, сколько, прошу прощения, делом занимается, сколько с душой расстается, сколько на свет рождается. Да, сколько на свет рождается! И взбрело мне в голову сосчитать, сколько жителей у нас было в прошлом году, сколько будет через год. Мысли мешаются, путаются, как кудель, никак не распутать, встал я, зажег свечу и давай считать на бумаге. И вот что у меня получилось: в нашем городе примерно шесть тысяч домов, в каждом доме примерно трое детей. За три года дети прибавляют в весе три окки каждый. Восемнадцать тысяч детей умножить на три окки, получим пятьдесят четыре тысячи окки человечьего мяса.
Меня потрясла эта гора мяса, выросшая за один год.
— Побойся бога, детей считаешь на окки, как ягнят,— засмеялся я.
— Не ягнята это, а дети, в том-то и дело! И каждый год подрастают, каждый год новые появляются. Урожай на полях может обмануть, а людской род — никогда. Сейчас их восемнадцать тысяч, понимаешь?
— Что касается детей, понимаю, тебя — нет.
Он стряхнул капли дождя с бороды и с мокрых рукавов, недовольно качая головой и дивясь моей непонятливости.
— Вот что мне пришло на ум: детей в городе больше, чем взрослых. А родители обычно детям потакают. Теперь смотри: если бы у кого-то были деньги и он купил бы что-то для детей и распродал бы свой товар, то получил бы хорошие барыши.
— Если бы да кабы! Оставь свои фантазии, пожалуйста!
— Никакие это не фантазии. Скоро в Вишеграде ярмарка, и там можно было бы купить несколько партий детских свистулек. Пара за штуку. Если взять три тысячи, ну ладно, две тысячи, это две тысячи монет чистого барыша. Кто пожалеет две пары для своего ребенка?
— Есть вещи более нужные, чем свистульки.
— Более нужного не осилят, купят свистульки.
Неужели он до конца дней своих не выбросит из головы торговлю, барыши, сделки? Свистульки мог придумать только он. И умно, и глупо, и грустно, и весело — все разом.
— Ну, ты такое придумаешь, чего никто в целом свете не придумает! Надо же, свистульки!
— Не свистульки, а чистые деньги. Распродашь лабазникам — и деньги в карман клади.
— А где ты деньги возьмешь?
— Деньги? В них-то и загвоздка.
Он пригорюнился и долго утирал мокрый от дождя, посиневший нос.
Я засмеялся:
— Это как у цыган: жаль, нет муки, а было бы масло, вот мамалыги бы наварили!
— Да не совсем так. Можно найти и муку, и масло.
— Как это?
— У тебя есть.
— У меня? Бери все, что есть!
— Если дашь, тогда все в порядке. Можно ехать в Вишеград.
— Да нет у меня ничего, человече! Откуда?
— А отцовский дом?
Вот что он придумал! Не успокоится, пока не лишит меня последнего. Это у него вроде болезни. Я молчал, и он меня заторопил:
— Что скажешь? Ведь все равно стоит он у тебя без всякой пользы.
Я ничего не говорю и не думаю ничего. И впрямь стоит без всякой пользы. А неплохо придумано. Смешно, но неплохо.
— Жалко дом?
Не жалко, ничуть не жалко. Ничто меня не связывает с ним, кроме смутных воспоминаний, которые я и не стараюсь оживить. Я давно уже не ходил на пепелище, к чему воскрешать напрасные воспоминания и растравлять душу видом пустыря? Пора разорвать ненужную связь и тем предотвратить возможную боль. Детства давно уже нет. К чему беречь это обиталище духов, где не покоятся даже кости мертвых? И боли уже нет, одна пустота. Почему бы ее не завалить?
— О чем ты думаешь?
— Думаю, вдруг ты тоже пропьешь деньги, как Хусага. От боснийца всего можно ожидать.
— Босниец под старость ума набирается, когда он уже не нужен. Прошло время глупостей. Значит, согласен? У меня и покупатель есть.
— От Тияны скроем, а то она рассердится. Если же деньги пропадут, только мы с тобой и знаем.
— Не пропадут,— сказал он решительно, словно поклялся.
— У тебя одна торговля на уме. Как это ты еще не заложил дом и лавку?
— Да знаешь,— ответил он с грустью,— они ведь женины.
Я всего от него ожидал — он мог соврать, обмануть, украсть; я был уверен, что он притворялся, предлагая нам вернуть потерянные деньги, но я никогда не поверил бы, что он может так посмеяться над нами.
— Здо́рово,— вспылил я,— значит, ты лицемерил, предлагая продать лавку и вернуть нам деньги? Просто знал, что имеешь дело с дураками и мы не согласимся на это. Спасибо, Махмуд, за такую дружбу!
— Да нет, господь с тобою! — замахал он тощими руками, словно защищаясь от ударов.— Не врал я! Я уговорил жену продать лавку, и она согласилась, бог свидетель! И продал бы, если бы Тияна так не ругалась. Да и самому бы перепала толика, не пришлось бы у тебя сейчас просить на свистульки. Врал, скажешь тоже!
Черт его знает, в жизни не угадаешь, когда он врет, когда говорит правду! В Махмуде все так переплетено и запутано бесконечными замыслами, желаниями, расчетами, враньем и кто знает чем еще, что он наверняка и сам в себе с трудом разбирается. Он правдив и лжив, честен и бесчестен, трезв и безрассуден, и все это без четко обозначенных границ и переходов, и в этом цельность его натуры. А, бог с ним! Нельзя же выбирать друзей по своему желанию, а в них — лишь то, что тебе по душе. Принимай или отвергай людей, с которыми тебя сталкивает жизнь, со всем хорошим и плохим в них — безраздельно. И пожалуй, я бы горько пожалел, имей я дело с одними святыми, если бы таковые существовали,— с ними, наверное, скучно невыносимо.
А когда я увидел, какой печалью заволокло его водянистые старческие глаза, оттого что от него уплывал случай, о котором он столько мечтал, а может быть, оттого, что он искренне верил в свою ложь, я поборол досаду и самолюбие и возвратил ему его шаткую надежду. Получай ее обратно, безрассудный человек! Если я и не приобрету ничего, так ничего и не потеряю. И не мне судить, что потеряешь и приобретешь ты.
Мое согласие, вернувшее ему надежду в целости и сохранности, мигом вернуло ему и уверенность, грусти и сомнений как не бывало. А ведь минуты не прошло, как он был сам не свой от горя. Этот фанатик безрассудства недолго предавался сомнениям, твердо веря, что удача придет, когда-нибудь да придет, и готов был следовать даже за ее тенью, словно был убежден, что удача ждет его на каком-то перекрестке, за каким-то жизненным поворотом.
Я понял, что он не обманывает меня. Он идет своей дорогой, следуя своим желаниям, не оглядываясь на меня.
По улице, под каштанами, не замечая дождя, прогуливался сердар Авдага. Он ходил туда-сюда, потом останавливался, всегда на одном и том же месте, на одном и том же расстоянии от нас, всматриваясь в даль и терпеливо кого-то поджидая.
— Ждет. Тебя или меня? — спросил Махмуд.
— Наверное, тебя.
— Почему меня?
— А почему меня?
Так, проявляя великодушие, мы уступали друг другу сердара Авдагу, раз не в наших силах было умолить дьявола убрать его с нашей дороги и с наших глаз куда-нибудь подальше.
— Пойдем поглядим,— предложил Махмуд.
Неизвестность для него хуже всего.
Поравнявшись с сердаром, мы вежливо поздоровались, надеясь, что этим все кончится.
— Ты куда, Ахмед?
Меня!
— Ты, Махмуд, можешь идти своей дорогой.
Это был приказ.
Махмуд посмотрел на меня, растерянно улыбнулся, то ли сожалея, что оставляет меня с Авдагой, то ли радуясь, что его миновало это «счастье», и, учтиво раскланявшись, поплелся вниз по улице — тощий, сгорбленный, мокрый, но, несомненно, обрадованный.
— Нашел место?
— Нет.
— Нет? Почему?
Я молчал, все еще думая о бесцеремонности, с которой он прогнал Махмуда. Ему не стыдно своей суровости, возможно, он даже не знает о ней. Он не счел нужным как-то смягчить грубость хотя бы улыбкой, не говоря уж о слове. Люди и не ждут от него этого, не обижаются, не возмущаются. Я думаю об униженной улыбке Махмуда, о его подобострастном прощании, вызванном страхом. До оскорбления ли тут? И я испугался! Я должен был сказать: «Махмуд — мой приятель, мы идем по делу, зачем ты его прогнал?»
И не сказал.
Мой долг был оградить его от унижения. И себя. Я не сделал этого. Я проглотил оскорбление, кажется, даже улыбнулся. Теперь меня мучил стыд. Я гнушался собственной трусости и в то же время думал: хорошо, что я ему ничего не сказал, не разозлил его. В то же самое время! В полный голос во мне говорили два человека, совершенно разных, абсолютно противоположных: один радовался, что не навлек на себя опасности, другой был глубоко несчастен от сознания своего ничтожества. И оба были одинаково искренни, обоих можно было понять. А ведь минутой раньше, стоя в подворотне, я поражался двойственности Махмуда Неретляка. Все мы хороши — стыд и срам!
Сердар не подозревал о моих переживаниях.
— На что живешь, если не работаешь?
— Жена работает.
— Плохо, силу возьмет. Муж должен работать.
— Места никак не найду.
— Надо же, места никак не найдет! Хочешь в библиотекари? Мех-меда Сеида уберем. Он уже ни к черту не годится.
— Я не хочу ни у кого хлеб отнимать.
— Другие отнимут.
— Не по моей вине.
— Ну и дурак. Есть еще места. Хочешь писарем к судье?
— Ты всерьез или шутишь?
— Всерьез.
— Если всерьез, значит, что-то хочешь получить.
— Пустяк.
— Какой?
— Рамиз, студент этот, мелет в мечети чистую чепуху. Надеюсь, ты с ним не согласен.
— Если, как ты говоришь, он мелет чепуху, да еще чистую, то, конечно, согласья между нами нет.
— Кадий хочет записать его речи.
— И я это должен сделать?
— Писарей кадия он знает, при них станет говорить другое.
— Видишь ли, Авдага, у меня вот уже три дня голова трещит. В памяти ничего не держится.
— Не нужно запоминать. Запишешь.
— И потом, Джемал Зафрания на меня зол, ему не понравится, что ты мне работу даешь.
— Джемал-эфенди сам приказал предложить это тебе.
Эге, надо же, какого дурня ко мне подсылают! Я догадывался об этом, теперь знаю наверняка.
— А почему он сам не сказал мне?
— Не знаю.
— Ну вот что, передай ему, что я не могу.
— Сможешь, если захочешь.
— В таком случае не хочу.
— Не хочешь?
— Нет.
— Нет, говоришь?
— Говорю, нет! Никогда такими делами не занимался и впредь не буду!
Изворачивался, изворачивался — и, пожалуйста, бухнул напрямик!
Как ни странно, страх во мне пропал.
И в его взгляде я не прочел угрозы. Он выглядел удивленным, почти потрясенным. Видимо, впервые он услышал отказ. Люди не такие, он наверняка знает, что они другие. В чем же дело?
Смутил я его, не желая того и не думая о том. Он смотрел на меня, как на дитя неразумное, как на дурачка, как на призрак. И улыбался недоверчиво, словно бы это была шутка, забавное недоразумение, которое сейчас же и разъяснится: или он ослышался, или я скажу, что пошутил, извинюсь, он меня выругает, и опять все встанет на свое место. Однако все было по-прежнему, недоразумение оставалось, и он не знал, как его устранить.
На языке вертелись лишь старые, стертые от частого употребления слова, и прозвучали они неубедительно:
— Пожалеешь, Ахмед Шабо!
— Больше бы жалел, если б согласился.
Ничего другого он придумать не мог. Пялился на меня молча, в полной растерянности, а когда пришел в себя, ему оставалось либо убить меня, не сходя с места, либо уйти.
Ушел я, предоставив ему стоять столбом под дождем, и ни разу не обернулся, чтобы посмотреть, не хватил ли его удар. Дал бы бог! Как было бы хорошо, если бы он превратился в камень и навечно остался бы под каштаном недвижимым памятником нерассуждающей преданности! Это было бы чудесно, это было бы спасение, потому что холод сковал мне сердце, стоило мне отойти от него.
Разговаривая с ним, я не чувствовал страха, а оказавшись один, еле держался на ногах.
Прекрасно, вел ты себя геройски, сейчас будешь расплачиваться.
Однако я не раскаивался, не мог раскаиваться, а страх — что ж, пусть делает свое дело.
Бесчестным я быть не могу, но и смелости мне не хватает. Значит, буду дрожать от страха — с чистой совестью! Я не предполагал, что и такое бывает.
Махмуд ждал меня в конце улицы.
— Гнусная погодка, к счастью.
Он и не догадывался, насколько гнусная, но почему — к счастью?
— Недолго разговаривали.
— Мне показалось — долго.
— Что ему надо?
— Предлагал работу.
— Это хорошо.
— Чтобы я записал все, что Рамиз говорит в мечети.
— Это плохо.
— Джемал Зафрания послал.
— И что ты сказал?
— Сказал: не хочу.
— Зря. Надо было сказать: не могу, времени нет, болен, насморк, жена дома одна, рука опухла, а ты сразу — не хочу.
— Что сказал, то сказал. Назад не воротишь.
— Воротить можно, но не нужно. Сказал и сказал.
Вывод у него, как всегда, неожиданный. Объяснил он его так:
— Конечно, ты сказал глупо, зато честно. Сейчас он на тебя взъярится, но пусть хоть узнает, что не все люди трусы. Я никогда не осмеливался перечить, а хотел бы, не могу тебе передать, как хотел бы. Противно всю жизнь труса праздновать! Конечно, проживешь дольше, да не знаю, стоит ли? Для меня стоит — все одно иначе не могу, потому и не пытаюсь. Взбешусь, выругаюсь, выпалю «нет», выпалю «да», но все про себя, вслух-то не смею, все про себя, чтоб только не лопнуть с досады и муки. Однако, пока слова наружу не вышли, это не в счет. У тебя вышли. Навредит тебе это, конечно, но, брат, честь тебе и слава! Будь ты умнее и подумай, ты никогда не сказал бы так и спал бы себе спокойно, а теперь будешь ждать, когда топор на твою голову опустится, и я вместе с тобой. Ко мне и без того цеплялись, а сейчас будут думать, что мы с тобой заодно. Да ладно, пускай, я не жалею. Ведь ты мне друг!
Беда большая, утешение слабое. А расхрабрился-то! Говорю ему в шутку:
— Тебе с муфтием дружбу водить, не со мной!
— Твоя правда, пропади он пропадом. О пользе не говорю. Пользы было бы больше. Зато для души ты как раз по мне. Ничего в тебе нет особенного, но человек ты хороший, вспомнишь — и тепло на сердце делается. Одно горе от тебя и страх, да что поделаешь!
Я вспомнил, как он говорил о своей жене. И обо мне он мог бы так же примерно сказать: балда, нескладеха, в трех соснах заблудится, голь перекатная, сейчас дурной, а был еще дурнее, любое дело провалит, угодит в любую западню, только расставь, и себе, и другим в тягость, нет, право, лучшего друга не сыскать!
Но сейчас ему было не до дружеских излияний, от которых я охотно бы отказался в пользу какого-нибудь своего недруга. Встревожила его угроза сердара Авдаги, а еще больше мой ответ, однако о своем предприятии он не позабыл. И тут же взялся подстегивать меня с продажей моего пепелища. «Пока с тобой ничего не стряслось»,— сказал он серьезно.
Мы принялись за дело, быстро договорились о продаже, оформили, что надо, в суде, торопились, будто я бежать собрался. Неожиданно меня охватила беспричинная грусть: пустырь мне был не нужен, просто я окончательно рвал нить, связывающую меня с тем, что давно уже перестало существовать, но что когда-то, возможно, и существовало. Зачем мне пепелище? Хранить тени? Под нашим небом все связи недолговечны и мало что переходит от поколения к поколению. Но в какую-то минуту мне захотелось сохранить эти тени, показалось, что потом я пожалею, если не послушаюсь своего сердца. А если послушаюсь, тоже пожалею — к чему горевать о прошлом, которого больше нет.
Махмуд ждал, когда я получу деньги, не подозревая, к счастью, о моих раздумьях, потому что его хватил бы удар, знай он о моих колебаниях.
Когда все было кончено, Махмуд расправил плечи, поднял голову, помолодел, глаза его горели вдохновением, от радости он ничего вокруг себя не видел, а я ушел в себя, подавленный и расстроенный.
Покупатель глядел на нас с удивлением, и стряпчий в суде глядел на нас с удивлением, как на дурней, какими мы и были.
Один дурень задешево продал место возможных воспоминаний о своих предках, чтобы отдать деньги другому дурню на самую пустячную вещь в мире, на никчемные детские свистульки.
Махмуд отправился в путь на следующий день, рано утром,— боюсь, что он не спал ночь от нетерпения, планов, грез. Вернулся он в пятницу с полутора тысячами свистулек, похудевший, почерневший от недосыпа, но счастливый. Дорога, голод — он экономил на всем — измучили его вконец, но надежда поддерживала и окрыляла, и вот одышливый победитель, из последних сил волоча больную ногу, гордо вступил в город, качаясь, что расшатанный плетень, но как никогда уверенный в себе.
Распродав товар по лавкам, не так, однако, выгодно, как рассчитывал, он представил мне точный отчет и насилу принял деньги в возмещение путевых расходов, упоенный своим первым в жизни барышом.
А по всему городу, в торговых рядах, во дворах и домах полторы тысячи Махмудовых свистулек верещали на все лады, подняв такой гвалт, что голуби в страхе искали укрытия, а люди зажимали уши.
Махмуд ходил счастливый оттого, что одарил город оглушительной музыкой, а детвору — простодушной радостью, а мне было смешно и немного стыдно, и я скрывал, что тоже причастен к этому содому.
Смешно и грустно.
Во что обратилось родное пепелище? В пронзительный писк детских свистулек!
Зря я на это пошел. Пепелище мне было нужно, оно связывало меня с детством и с жизнью, из которой выросла моя жизнь. Я обязан был сохранить тени, чтоб мысли было за кем идти, на что опереться, о чем грустить, чтоб можно было думать об утраченном прошлом. Моем и их.
Теперь я один и все начинаю сызнова.
Я просидел в кофейне дольше обычного и гораздо дольше, чем собирался. Не хватало духу оставить Махмуда Неретляка, праздновавшего свою победу и угощавшего всех подряд. Стемнело, с Беговой мечети раздался призыв к вечерней молитве, а Махмуд все пил и угощал; уже несколько дней он ликовал и радовался, не в силах свыкнуться со своей злополучной победой. Не закрывая рта рассказывал, хвастал, добродушно смеялся, не замечая все более откровенных насмешек, и щедро сорил заработанными на свистульках деньгами.
Я злился на него, не в силах понять, как можно издевку принимать за шутку. Выпивохи восторгались его умом: и как только он сообразил насчет детей и свистулек — ведь ни одному торговцу это и в голову не приходило,— спрашивали, что он еще задумал, чтоб не соваться туда же, потому как разве с ним сладишь, советовали ему продать лавку — ему, мол, пора завести более крупное дело — и удивлялись, как он до сих пор скрывал свои таланты.
Потный, разогретый вином, окрыленный удачей, Махмуд дружески поверял людям свою судьбу, говорил, как долго его преследовали неудачи, а ведь пришла беда — отворяй ворота, тут тебя не спасут ни ум, ни таланты, попался в тиски — так пищи не пищи. А вот встретился добрый человек, увидел, чего он стоит, и все чары как рукой сняло. И теперь он встал на собственные ноги, не очень пока твердо, но встал и полагает, что чары исчезли потому, что в него поверили. Никто не знает, разве только он один, какая это подмога, когда в тебя верят. Сердце сильнее бьется, плечи распрямляются. Он надумал еще несколько дел, надеется, удадутся и они. В торговых делах он никому поперек дороги не встанет, пусть не опасаются. Любому поможет и советом, и деньгами по силе возможности, потому что хочет со всеми жить в мире, любви и согласии.
В задымленной кофейне люди громко хохотали, били его по худым плечам, так что его качало как тростинку, и язвительно благодарили за доброту и великодушие.
Мне стало тошно.
— Пойдем,— звал я его.— Хватит уж.
— Нет, не хватит. Я сегодня не могу от людей уйти.
И, хитро подмигивая, он шептал мне на ухо, что теперь ему нужны люди — для дел. Они ему подсобят, он — им, так и пойдут денежки. Да и не только в деньгах суть, есть и другие вещи. Какие? Да есть кое-что. Каждый что-то в душе хоронит. Ну да ладно, мы как-никак друзья, так уж и быть, он скажет, не станет от меня таиться: ему нужно заработать деньги, чтобы заткнуть рот этому псу. Какому псу? Зятю своему, дьяволу бы его в зятья. Когда дочь выходила замуж, Махмуд обещал дать за ней жемчужный браслет и нитку дукатов, было это еще тогда, когда он думал, что всю жизнь проведет в городе и разбогатеет. Зять требовал, он и обещал. «Раз беру уродину, так хоть не голую»,— так прямо и сказал. А она не была уродина, бог свидетель, вылитая мать! Жемчуг он купил, а дукаты не собрал из-за того, понимаешь, и зять всю кровь из него выпил. Ругает их почем зря, проклинает тот час, когда с нищими связался, жену колотит. Каково отцу глядеть на несчастье своего дитяти? Иногда так бы и прихлопнул его, да ведь только себя и своих угробишь. Не будь у них детей, вернул бы дочь домой, пусть бы вздохнула, пожила как человек, но у них их трое — и сами не знают, как народили между ссорами да колотушками, и дочь не хочет — стыдно ей бежать из мужнина дома. Достать бы эти проклятые дукаты, чтоб злодей угомонился и дочка в мире пожила! Ни болезни к себе не допустит, ни немочи, ни самой смерти, пока не вернет этот долг!
У меня аж дух захватило. Неужто причина его безрассудства так серьезна? Тогда какое же это безрассудство? Это горе, глубокое горе! Я был несправедлив к нему. Ни помочь ему, ни облегчить его горя я не мог, но я был несправедлив. А потом я усомнился в правдивости его душещипательного рассказа. Как мог Махмуд так долго скрывать от нас свое горе? Не разжалобить наши сердца сочувствием? И почему он никогда не говорил, что у него есть дочь? Откуда она вдруг взялась?
Кто знает, зачем ему понадобилась эта выдумка? А если это не выдумка, значит, когда-то это было правдой, обернувшейся после самообманом.
Дочь и зятя он выдумал или свое горе? Бесполезно докапываться до истины!
Как бесполезно пытаться увести его из кофейни, прервать его торжество. Это великий час Махмуда, он ждал его всю жизнь.
Задумал ли он его в годы бед и лишений, тогда ли подбирал слова, которые произнесет, и удовольствия, которые позволит себе, добившись успеха? Успеха он не добился, это понимают все, понимает и он, но настоящего успеха слишком долго ждать, и потому этот свой первый робкий шаг он изобразил как начало пути к желанной цели. До цели далеко, это он понимает, да и цель куда значительнее! Он совершил лишь первый шаг, удачный, свободный, многообещающий. Чары исчезли, злой рок милостиво оставил его в покое, чертям надоело вставлять ему палки в колеса, и теперь дело за его умением, его верой в себя, а счастье уже близко, рукой подать. И не деньги ему нужны, бог свидетель! А что, он и сам затруднился бы объяснить. Может быть, право сидеть вот так с людьми ночь напролет в кофейне, а не за дверями, как обычно, говорить, как и прочие, о себе, выслушивать насмешливые замечания и воспринимать их как дружескую шутку или похвалу, чувствовать уважение людей или выдумывать его. Он все принимает, исполненный умиления и благодарности, все, даже издевку, пусть только будет не так, как прежде, когда для людей он все равно что чурбан, глухая стена или бродячая собака.
И если сегодня его могущество призрачно, завтра оно будет реально, и ему не о чем горевать. Вот он сидит плечом к плечу с людьми за мирной беседой, и в этом ничего призрачного нет. А если завтра все это и канет в бездну, будет что вспомнить!
Однако мысли Махмуда не заходили так далеко.
И пожалуй, он прав. Ему важно не то, что есть, а то, что ему представляется. И слава богу! Сегодня это совсем другой Махмуд Неретляк — такой, каким он мечтал и желал видеть себя много лет: и хрипота в груди исчезла, и судорог в ногах как не бывало, и затаенная тоска ушла из сердца.
Жаль, что заблуждению наступит конец.
Он не рассердился, когда я сказал, что иду домой, не уговаривал остаться, великодушно махнул рукой, как бы отпуская меня. Сегодня он не один. До сих пор я поневоле заменял ему товарищей, разговоры за чаркой вина, тепло дружеского застолья. Теперь он может обойтись без меня.
Бог с ним, завтра снова прискачет.
Я торопливо шел домой — тьма непроглядная, холодная, улицы темные, пустые, люди попрятались по домам, прогнала их темнота, как птиц.
Тияна ждет меня в пустой комнате, одна, нехорошо, что я оставляю ее одну, дам ей слово, что больше не буду ее бросать одну, даже из уважения к другим. Ведь что мне другие, что мне Махмуд Неретляк со своим безумием — для всех у нас находится понимание и сочувствие, кроме самых близких, их верность кажется нам такой же неотъемлемой нашей принадлежностью, как собственная кожа.
Хорошо бы, она встретила меня ласково, потому что иначе я не признаю своей вины и мы будем дуться друг на друга, пока не ляжем спать. Пропадет светлая радость раскаяния и пьянящее сознание своей доброты. И ее прощения. Будет просто прекрасно, если она догадается не корить меня за опоздание. А если она станет обличать меня, я пущусь в спор и не захочу признавать свою вину, именно потому что виноват. Только это я должен сам сказать, а не она. И мы поссоримся, она будет плакать и перечислять мои бесконечные грехи, я — злиться и призывать всех богов в свидетели, что я самый несчастный человек на свете и никто меня не понимает. Потом мы помиримся, как всегда неожиданно, и счастливо притихнем, как после грозы.
Будет хорошо, как бы Тияна меня ни встретила.
В подворотне меня перехватил Молла Ибрагим, стряпчий, мой бывший друг и работодатель. Прогуливался, наверное, перед сном — мол, для здоровья полезно,— в этой темнотище пришлось ему вовсю таращить глаза, чтоб узнать и не пропустить мою тень.
— Иди сюда,— шепнул он мне и скрылся в глубине подворотни.
— Ты, похоже, долго ждешь. Обычно я прихожу раньше,— сказал я только для того, чтобы что-то сказать и скрыть свое изумление, что он здесь да еще в эдакую пору! Я почувствовал страх. Что произошло? Какая новая опасность нависла надо мной? Но тут же успокоился, сообразив, что, если б мне грозила малейшая опасность, Молла Ибрагим даже близко не подошел бы к моему дому. За ним, как за лисой по заледенелой реке, можно идти смело.
— За тобой никто не шел? — настороженно спросил он, пропустив мимо ушей мои сбивчивые объяснения.
— Кто за мной должен идти?
— Я разговаривал сегодня…
Мимо прошел мой сосед Жучо, уличный подметальщик, пьяный в стельку.
Молла Ибрагим прижался к стене и замолчал, укрывшись за моей спиной.
Я засмеялся:
— Чего ты испугался? Он пьян, и себя-то в зеркале не узнает, где ему тебя узнать!
— Сегодня я разговаривал о тебе с Шехагой Сочо. Он сам о тебе спросил,— честно добавил он.
— С чего вдруг Шехага стал про меня спрашивать?
— Он мог бы тебе помочь. Велел прийти.
— Как он мне может помочь?
— Место, может, найдет. Он все может.
— Что он потребует от меня за услугу?
— Ничего. Он спросил о тебе, я рассказал все, что знал, и вот он велел, чтоб ты к нему зашел. Пойди непременно.
— Схожу, пожалуй.
— Не пожалуй, а обязательно.
— Ладно, схожу.
— Деньги есть?
— Есть. Спасибо.
— Ну вот, больше ничего. Никому не говори, что я приходил.
Он выглянул из ворот, нет ли кого поблизости, и нырнул в темноту.
Я проводил взглядом его тень, растаявшую во тьме, и еле удержал себя от желания побежать за ним и спросить, зачем, полумертвый от страха, он приходил сюда под покровом мрака? До чего же смешон этот его страх всего и вся, но для него он ничуть не легче от того, что кажется нам смешным. Молла Ибрагим должен был призвать всю свою отвагу, чтоб прийти к моему дому и разговаривать, пусть на ходу и скороговоркой, со мной, человеком отвергнутым и отринутым.
Почему он печется обо мне? Не может забыть Днестр, когда я спас ему жизнь, не думая о своей? Я же объяснял ему, что сделал это не по доброте, не из сострадания, не по зрелому размышлению. Я поступил не рассуждая, почти в беспамятстве, не сознавая, что делаю. С той же вероятностью я мог бы бросить его посередине реки без всякой жалости. Поэтому он не должен считать себя обязанным мне, я давно ему это сказал. Но в памяти остается не причина поступка, а сам поступок. Он помнит, что я спас его, помнит ту страшную минуту, когда он обмарался от страха перед смертью, чье ледяное дыхание он уже ощутил. А в это время какой-то дурень упрямо толкал лодку по беснующимся волнам, спасая неведомого ему человека (мне-то кажется, что я просто держался за лодку, чтоб не утонуть). Конечно, тогда он от души молился за спасение жизни этого другого человека — хотя бы до берега — и за победу над смертью, победу свою и его. И никогда никому не желал столько счастья, как ему, потому что все теперь зависело от него. Он запомнил все: и безумную реку, и безумный страх свой в предсмертную минуту, и безумного молодого солдата — и потом, придя в себя, не мог забыть, что лишь ему да чуду обязан жизнью. Первую жизнь дал ему отец в Сараеве, вторую — я, на Днестре. Первой он не желал, за вторую отдал бы и душу. Как не запомнить родителя, по-особому дорогого? Правда, он мог и забыть, многие забывают, но, на его беду, у него доброе сердце и он хочет за добро платить добром. А его заставили за добро заплатить неблагодарностью. Пожалуй, ему тяжелее, чем мне. Наверняка тяжелее. Память мучит его, вот и сегодня он пришел, невзирая на страх. Не решился передать через другого. Сам пришел. Для него это все равно что пойти на штурм редута.
Когда-то мне хотелось, чтоб среди ночи его разбудили стыд и раскаяние, а выходит, душа у него шире, чем я думал, и он даже борется со страхом, бушующим в его крови.
Да простит его бог, говорил я себе, когда он отступился от меня и не посмел спасти меня наперекор людям. Да простит его бог, говорю я и сейчас, только мягче и теплее, чем раньше. Не в силах оставить свой мучительный страх дома, он нес его всю дорогу ко мне, как огонь на рубахе, как змею на шее, как лихорадку на теле, и наверняка страх терзал его все больше, по мере того как он приближался к запретному месту. И он пришел, обожженный огнем, весь в змеиных укусах, израненный собственными уколами совести, чтобы принести мне, как солдат солдату, весть о помощи.
Да простит тебя бог, честный человек, которому не позволяют быть честным: ты выполнил свой долг, умирая от страха. Я начинаю питать уважение к такого рода отваге. Пожалуй, она стоит больше безоглядной храбрости.
Расскажу Тияне забавную притчу о человеке, которого сделал героем страх, и о честности, порожденной стыдом. Теперь, когда он возвращается домой, совершив глупый, но честный поступок (как сказал бы Махмуд), страх в нем еще сильнее, но сейчас он доволен собой, а это что-нибудь да значит. А возможно, и нет, возможно, он уже раскаивается в своей опрометчивости, но этого я не узнаю, я буду помнить лишь о его подвиге.
Войдя в комнату, я остановился как вкопанный. Тияна была не одна. На сундуке спокойно сидел Авдага.
Мне было бы легче увидеть волка.
Знал ли Молла Ибрагим, что у меня сидит Авдага? В таком случае отвага его еще больше.
Я кинул на Тияну вопрошающий взгляд: что ему надо? Она ответила принужденной улыбкой: откуда мне знать?
Я поздоровался с Авдагой, ожидая, что он объяснит, чем я обязан чести видеть его у себя дома. Однако он не торопился с объяснениями, словно врываться в чужой дом незваным, непрошеным — дело обыденное и естественное.
Но, похоже, и для него это не совсем в порядке вещей: вид смущенный, молчит, многозначительно покашливает, держится скованно и понуро. Надеялся, мол, кх… кх… застать меня дома, уже давно стемнело… кх… кх… Словом, пришлось сказать не столько для него, сколько для Тияны, что Махмуд бражничает в честь своего первого торгового барыша и мне было неудобно его бросить.
— Мразь,— отрезал Авдага.
— Не хуже других,— ответил я.
Тияна, недовольная заключением Авдаги и моим ответом, сказала, что Махмуд хороший человек, только несчастный. Для Тияны это первейшее оправдание.
Для Авдаги это наихудшая хула. Ход его мысли таков: босяк, если б стоил чего-нибудь, добился хотя бы малого. А потом, мошенник не может быть хорошим человеком. А несчастный потому, что поймали. Все люди преступники, а уж те, кого суд признал преступником, никогда порядочными людьми не станут. Ничего этого он не сказал, лишь переводил свой липкий взгляд с меня на Тияну, словно не понимал, о чем мы говорим. Хуже того: словно не знал, куда нас отнести — вроде и не злодеи, и на порядочных не похожи. Что же мы такое?
— Странные вы люди,— сказал он раздумчиво, подавленно ежась на сундуке.
Я понимал, он решает сейчас, к какому разряду людей нас отнести, и считал, что лучше не портить его представления о нас и не делать ничего, что могло бы его рассердить. Выгоднее остаться странными и непонятными, чем подозрительными.
Власти его презирают, однако позволяют держать людей в страхе, и он выполняет это со всей добросовестностью, на которую способен, слушаясь своей неумолимой совести не меньше, чем своих хозяев. Он предпочитал наказать сотню невинных, чем упустить одного виноватого, но вину каждого определял согласно своим мерилам. Поэтому я счел за благо дать его неповоротливым мыслям отстояться, ничем их не тревожа, не подбрасывая им пищи.
Тияна думала иначе. Она не способна была пропустить мимо ушей несправедливые слова, хотя после этого и умирала от страха; урока из подобных горьких опытов она не извлекала.
— Почему странные? — спросила она резко, и я понял, что теперь ее не остановить.— Потому что никому зла не делаем, никому не докучаем, обиды на нас никто не держит, да? Или потому, что спокойно переносим людскую несправедливость? А как мы должны поступать, чтоб не быть странными? Ругаться, проклинать, жаловаться, ненавидеть людей, о мести думать?
— Куда хватила!
— Или потому мы странные, что к нам приходит всеми презираемый Махмуд Неретляк? «Мразь», сказал ты о нем. А вот когда с нами несчастье случилось, говорю «несчастье» — другого слова и не подберешь, все от нас отвернулись, никто не помог, только он. Бог знает, что было бы с нами без него. Последней коркой хлеба с нами делился, разве такое забудешь? И пожалуйста, он мразь, а мы странные люди! Да есть ли у тебя сердце, Авдага? Что ты хочешь от нас?
Вначале меня испугали ее резкие слова, но, когда я увидел, как Авдага растерялся, я уже с удовольствием наблюдал за их поединком, наслаждаясь ее прямотой и его смущением. Похоже, он совершенно теряется, как только обнаруживает, что его не боятся. Я уже второй раз это вижу. Может, его сбивает с толку то, что он в нас еще не разобрался, не отнес ни к какому из своих разрядов; перед тем, кого он считает преступниками, он, наверное, не теряется. Или чувствует себя неуверенно с женщинами. Ему, старому холостяку, который за всю свою жизнь с женщинами, этим загадочным для него племенем, обмолвился разве что несколькими словами, приходится убеждаться теперь, что такое женская говорливость, да еще из таких прекрасных уст.
Он перевел ошарашенный взгляд на меня, моля о помощи, но помощи не было; я с радостью смотрел, как он поджаривается на медленном огне, и желал ему еще больших мук.
А она, гневная и оскорбленная, взвинченная собственной речью, казалось, только ждала от него слова, чтоб продолжить свою отповедь и излить в ней всю горечь последних месяцев.
— Я думал…
Трудно поверить, что он о чем-то думал, так она все в нем перебаламутила. Видимо, он уже раскаивался, что заявился сюда (не знаю еще зачем), а может, и на это был не способен, потрясенный тем, что она не боится его, как другие, не выбирает слов, как другие, не помнит о его кровавом ремесле, как другие. Ведь без страха, который он несет над собой, как знамя, и который клубится над ним облаком, без этого меча, отсекающего у людей мужество, он безоружен и беспомощен. Да смилостивится над ним бог, но сейчас даже те несколько мыслей, которые прочно засели у него в голове, стоят в ней колом, точно кость в горле.
Пожалуй, самое время вмешаться, и я решил прийти ему на помощь, испугавшись, что он начнет спасаться от унижения грубостью.
— Ты, жена, не совсем права,— произнес я миролюбиво, надеясь, что она поймет меня.— Авдага не думал ничего плохого.
— Я не знаю, что он думал, я знаю, что он сказал. Не хочет нам помочь — не надо, но зачем оскорблять?
— Да не оскорбляет он, что ты на него набросилась?
Тут и Авдага наконец открыл рот:
— Я о другом думал, не о том, о чем ты говоришь. Я думал: не очень-то вы богаты.
— Смело можешь сказать, что мы нищие. Это грех?
— Не грех, но вот я предлагал ему службу. А он отказался.
— Не хочу, Авдага, губить человека.
— Он и без того себя погубил.
— Что ты тогда хочешь от меня?
— Ничего. Просто понять не могу: при такой бедности — и отказаться от места!
Вот что его гложет! Но как ему объяснить? Не могу быть бесчестным, я не зверь, человек ничего плохого мне не сделал… Что бы он сказал, если бы речь шла о нем? Думаю, он и спрашивает из-за себя. Он убивает людей и уверен, что делает правое дело. Я и на войне-то не знаю, убил ли кого-нибудь, а когда после боя видел мертвых, содрогался от одной мысли, что в кого-то из них могла попасть моя пуля.
Скажи я ему об этом, он решил бы, что я вру или что я законченный слюнтяй. Как он может мне верить, если знает столько людей, которые не считаются ни с чем и ни с кем?!
Никоим образом он не в состоянии был уразуметь, почему я отказался от его предложения. Получил бы место, требуется от меня немного, никто и не подозревал бы, что я сделал что-то дурное. Один я и знал бы, а раз так, какое это имеет значение?
Сошлись я на совесть, он тоже не понял бы. У него совесть казенная, и он представления не имеет о том, что она может быть собственной.
— Видишь ли, Авдага, труднее всего объяснить простые вещи,— попытался я отыскать щелку в его броне.— Ну вот, скажем, ты убил человека, взял бы ты себе его бурку, или коня, или дом?
— Нет, боже сохрани!
— Так почему же ты полагаешь, что я могу это сделать?
Он помолчал и потом затряс своей квадратной головой:
— Это другое дело.
— Ты считаешь, выгнать со службы Мехмеда Сеида не грех?
— Мехмед Сеид уже ни к черту не годится.
— По-твоему, и Рамиза погубить не грех?
— Это не моего ума дело, другие будут решать.
— Но грехом ты это не считаешь. А почему? Потому что кто-то сказал, что он опасен для государства.
— Он против государства.
— Горе государству, если оно боится одного-единственного человека,— хмуро отозвалась Тияна.— Да и не для государства он опасен, а для кого-то, кто считает себя государством.
Слова ее ошеломили не только Авдагу, но и меня тоже.
Глазами я подавал ей знаки угомониться, замолчать, она уже и так перешла все границы дозволенного, однако она не видела моих подмигиваний и знать не хотела ни о каких границах.
— Был ли опасен для государства мой отец? — продолжала она гневно, обнаруживая причину своего ожесточения.— Нет, ни для кого он не был опасен. А его убили. Кому-то приказали, и тот не ослушался. И только за то, может быть, что спьяну сказал что-нибудь, или кому-то показалось, что сказал. Чужая жизнь, Авдага, ломаного гроша не стоит. Много есть таких людей, что никого не пожалеют. Так зачем же еще из честных людей злодеев делать? Пусть себе жили бы — всем на удивление!
— Как диковинные звери,— добавил я со смехом, ибо что я еще мог сказать?
— Спасибо, что навестил нас. Но если ты хотел подбить Ахмеда на грязное дело, считай напрасно приходил. А теперь спать пора. Час поздний.
Так и выгнала его безо всяких церемоний.
Не знаю, как бы поступил Авдага, если бы это сказал я, но тут он даже не поморщился. Только с руками и ногами не мог совладать.
Мне казалось, он давно хотел подняться, но не мог придумать, как сделать так, чтоб не уйти побежденным и явно раздосадованным. Выбрал он самый незамысловатый путь: поглядел на меня, кивнул головой на Тияну и неумело улыбнулся, словно говоря: какова, а! И, сочтя, что благополучно вышел из затруднительного положения, ударил себя по ляжкам, встал и сказал, прощаясь (можно было подумать, что он издевается, но нет, говорил он совершенно серьезно):
— Спасибо за приятный разговор! Не обессудьте, коли что не так.
Ничего себе приятный разговор! Словно палками молотили друг друга!
Но похоже, обиды на нас он не затаил. Кто знает, что́ застряло в его упрямой башке, а что́ в одно ухо влетело, в другое вылетело.
А потом мне вдруг подумалось: ведь он, пожалуй, почувствовал еще и уважение к нам за то, что мы не соглашаемся на подлость и открыто говорим ему то, что думаем. Вполне возможно. Авдага жесток, но не испорчен, он не знает милосердия, но и хитрость ему чужда. Этот переродившийся, искалеченный крестьянин пашет и копает иначе, чем его отец, однако могло же в нем сохраниться что-то человеческое! Какой-то осадок на дне души, смутное воспоминание. Правда, все это я говорю без особых оснований, почем мне знать, чем жива душа палача?
Я пошел проводить его. Мне не хотелось ни смягчать, ни усугублять сказанное.
— Опасная у тебя жена,— заговорил он, когда мы молча спустились с лестницы — чтоб не услышала, подумал я.— Теперь я понимаю, почему ты не согласился. Из-за нее.
— Как из-за нее? Я сразу отказался, у нее не спрашивал.
— Ты бы на глаза ей не смел показаться, если бы согласился. А я все удивляюсь, почему да почему. Теперь вижу почему. Слава богу, что я не женился. Да, я не сказал тебе, зачем приходил.
Вовремя вспомнил, нечего сказать.
— Джемал-эфенди велел передать тебе, чтоб завтра в полдень ты пришел в Бегову мечеть. И сказал, что ты ошибаешься, он на тебя зла не держит.
— Зачем мне приходить в мечеть?
— Собирают улему. Будут говорить о студенте этом — Рамизе.
— Что говорить?
— Вот этого не скажу, не знаю. А Рамиза посадили в крепость, слыхал?
— Когда?
— Сегодня под вечер. Взяли его люди, которым он говорил в мечети. И передали властям. Вот так. Приходи обязательно.
Он пошел, но тут же вернулся.
— Когда я пришел, твоя жена была не одна.
— А кто был?
— Осман Вук. Он ушел, как меня увидел.
— Верно, зачем-то я ему понадобился.
— Может быть. Мое дело сказать.
Никому не веря, мог ли он верить женщинам? Потому и предостерегал меня, но в этом отношении я, слава богу, спокоен.
Авдага скрылся во тьме, оставив меня в подворотне убитого известием о Рамизе.
Рамиз говорил, как часто он думает о доме и семье, сейчас тоска его еще сильнее. Ненавидя всех Авдаг этого мира, а еще больше их хозяев, призывая угнетенных на борьбу с ними, он мечтал о теплом, дружеском слове. И о любимой девушке. Теперь в крепостном каземате он, наверное, закрыв глаза, рассказывает ей, как жестокие люди тащили его в крепость — не те, конечно, что ждали его, как всегда по вечерам, в мечети,— и как он думает о них и думает о ней — ведь мысли ему оставили. Сейчас он один, ужасающе один, и, наверное, вспоминает о желанном друге, быть может, и обо мне, быть может, мысли его кружат над моей головой, а я их не вижу, только догадываюсь о них.
Наверное, в эту минуту на сердце у него тяжело и горько, черная пустыня простерлась вокруг него до самого горизонта, он думал обо всех, а о нем не думает никто. Он не спит в тревоге и волнении, люди же давно спят глубоким сном.
А может быть, я ошибаюсь. Может быть, его прекрасное сердце радуется, что он сделал все, что мог; может быть, он верит, что люди не спят, тревожась о нем, что семена его слов проросли в их душах; может быть, он убежден, что какой-нибудь другой Рамиз займет его место и продолжит его борьбу за счастье людей. Не все же люди думают только о себе и своих страхах!
Он виделся мне маленьким ярким огоньком во мраке этой ночи, во мраке этого мира, и не было для меня сейчас на земле более близкого человека, чем этот малознакомый юноша.
Да что толку, я не в силах помочь ни ему, ни себе. И что бы я ни делал, яркий огонек превратится в пепел, а моя сегодняшняя тоска станет всего лишь печальным воспоминанием о нем.
Меня душат слезы — какой злой рок правит миром?
Но пусть все останется во мне. Тияна и без того взволнована приходом Авдаги.
— Сказал что-нибудь? — спросила она, думая об Авдаге.
Я тоже буду думать о нем, чтоб не думать о Рамизе.
— Сказал, что ты опасная женщина.
— Наверное, я была слишком резка. Не надо было так говорить.
— Почему? Ты говорила правду.
— Нет, нет, я была слишком резка. Глупо получилось.
Напрасно я ее уверял, что она права и здорово прижала Авдагу к стенке. Лишь потом я осознал свою ошибку: упрекни я ее в том, что она хватила лишку, она стала бы защищаться. А так она начала казниться. Она распекала себя на все корки, и в то же время ей хотелось, чтоб я ее защищал, тогда в сердце у нее останется память о том, что в трудную минуту я был с ней.
Потом она открыла мне то, что я уже знал: отец был причиной того, что она вышла из себя,— к стыду своему, она уже забывает о нем, не знает даже, где его могила; было время, ей казалось, она умрет от горя и боли, а сейчас редко когда и вспомнит о нем, а вспомнила, и полоснуло болью, да еще этот Авдага. Говорят, он отца убил.
— Успокойся. Не думай об этом. А могилу мы отыщем. Я расспрошу крестьян.
— К чему? Отец всегда говорил: «Мертвому все равно где лежать».
— Ладно, потом поговорим. А сейчас спать.
— Не могу. Зачем я все это говорила?! Еще бо́льшую беду навлеку на твою голову.
Она лежала на моей груди и плакала, мучимая дурными предчувствиями.
Утирая слезы, вместе с которыми выливалась ее боль, я утешал ее легковесными доводами, что вовсе не предчувствия приносят беды — горе приходит без предупреждения. И радости тоже. Несчастья посылались, когда на нас не было ни малейшей вины, так почему бы им не обойти нас, когда мы в чем-то виноваты? Да и потом, бед на свете куда больше, чем провинностей, и меньше всего бед у тех, на ком больше всего вины, так что стоит пожалеть, что мы не так уж сильно виноваты. Однако миром правит не разум и не реально посеянные причины, с которых можно было бы снимать урожай последствий, а порой самая глупая случайность, мы же израсходовали причитающиеся нам дурные случайности, и на нашу долю остались только счастливые.
И пока я плел защитную сеть нашего права на счастье, пытаясь словами вытеснить мысли, Тияна заснула, прижавшись щекой к моей груди, сном освобожденная от страха.
Не спали только я и юноша в крепостном каземате.
И проснулся я с мыслью о нем, незнакомом, а словно только его я и знал среди людей. Страдания возвысили его над нами, точно он искупал все наши злые дела и помыслы. Нет, ничего он не искупит, все останется, как есть, его жертва бессмысленна. Что может сделать один человек, да и сто человек что могут сделать? Один петух на миллионы спящих. Зачем его посадили? Свободно могли бы позволить ему кричать, никто не проснулся бы.
Знал ли он, что его ждет? Жаждал страдания?
Надеялся, что его страдания всколыхнут людей?
Не хочу о нем думать, бесполезно.
Я пошел в пекарню за хлебом. Пекари весело переговариваются, шутят, смеются.
— Вижу, смеетесь. Что-нибудь приятное узнали?
— Нет, потому и смеемся.
— Что нового?
— Все подорожало, это новость?
— Вы по ночам не спите, а ночью всякое случается.
— Пьяницы шатаются, воры шныряют, сторожа носом клюют, любовники прячутся. Что еще может случиться?
— Значит, ничего не знаете?
— Все, что ночью случается, днем на свет выходит. Узнаем.
Не хочу думать о Рамизе.
Когда я поднялся к себе, Тияна уже не спала.
— Ты что так рано?
— И совсем, ленивица моя, не рано. Пекари вторую печь вынули.
— Ты не заболел?
— Аллах с тобой, разве я похож на больного? Уж нельзя и встать, когда захочется?
— И спал беспокойно, всю ночь вертелся, я слышала.
Я присел к ней на постель. Черные волосы разметались по подушке, глаза после сна еще подернуты влагой, губы припухли, как у ребенка.
— Какая ты со сна красивая!
— Только со сна? И никогда больше?
— Только со сна. И никогда больше. Я же дразню тебя, не понимаешь разве?
— Не поддамся.
— Тогда назло скажу правду. Ты всегда красивая, и я всегда это вижу, только говорить не хочу. А сейчас не могу удержаться, каждой жилкой чувствую.
Не хочу думать о Рамизе.
— А что еще чувствуешь?
— Хочется нюхать тебя, как цветок. Хочется заполнить тобой глаза, чтоб ничего больше не видеть.
Не хочу думать о Рамизе.
— Ну а теперь говори, что случилось?
— Что уж, нельзя и сказать, как я люблю тебя?
— Хоронишься ты от чего-то. Думаешь о чем-то.
— Я думаю о том, какой я счастливый.
— Почему именно сегодня?
— Я часто об этом думаю.
— Счастливый, несмотря ни на что! Несмотря на что?
Всегда она загоняет меня в угол, ничего от нее не скроешь. Лучше и не пытаться.
Я признался, что Рамиза посадили в крепость и что Авдага мне сказал об этом еще вчера.
— Зачем ты скрыл от меня?
— Не хотел тревожить.
— Я сразу поняла, что ты что-то скрываешь.
— Как?
— Ты какой-то особенно ласковый, когда тебе тяжело. Точь-в-точь ребенок, когда ему страшно и он ищет защиты.
— И знаю его плохо, а все равно жалко. Ведь никто и пальцем не пошевельнет в его защиту.
— Кто что может сделать?
— Никто ничего не может. А он там надеется: поднимутся люди, станут требовать, чтоб его освободили.
— Не думаю, он все понимает.
— А что, если мне пойти к Зафрании и попросить за него?
— Почему тебе? Он немедленно спросит: «А ты кто ему?»
— И друзьями мы не были, а такое чувство, что были. Никого у него нет.
— Ему не поможешь, а себе навредишь.
Она говорит это нехотя, тоже совесть мучит, но говорит, чтоб удержать меня от опрометчивого поступка. И продолжает:
— Ничего не попишешь, сам виноват. Против них речи держал.
— Не выпустят его.
— Не думай больше о нем.
— Не буду. Какой толк думать?
Бесцельно, бессмысленно, бесполезно. Так запугали, что мы даже милосердия не решаемся просить! Никто за него и слова не скажет.
А я что могу?
Ни фамилии, ни дела, ни положения, ни богатства, ни семьи — ровно ничего за мной не стоит. Чем мне заклинать? Состраданием? Кому какое дело до моего сострадания?
И во имя чего? Во имя несуществующего долга совести, во имя спасения человека, которому я ничем не обязан и вине которого нет прощения.
Не хочу думать о невозможном.
Не хочу думать о Рамизе.
Сели завтракать; что я ел, не знаю. Тияна смотрела на меня, как на больного, пряча свою тревогу за натужной улыбкой. Я сказал, что пойду пройдусь.
— Лучше бы тебе дома посидеть.
— В полдень в мечети какое-то собрание. Зафрания велел мне прийти.
— Зачем?
— Не знаю.
— А что за собрание?
— О Рамизе вроде. Не знаю.
— Только, пожалуйста, молчи, ничего не говори! Обещай мне!
— Да не буду, что я могу сказать! Будь моя воля, я и не пошел бы.
— Ох, боже мой, этого еще не хватало! Как кончится, сразу возвращайся. Да, вчера вечером тебя спрашивал Осман Вук. Зачем, не сказал.
О нем я вовсе позабыл.
Влажные крыши, влажные заборы, влажные улицы, прохладный воздух, синее небо, молодое солнце.
Не знаю как, но я вдруг забыл обо всем, шагаю себе будто по росе, по свежей воде, по зеленому лесу, в жилах струится искристая кровь, меня охватывает тихая беспричинная радость, все во мне светло и ясно, как в горном ключе.
Не хочу думать о Рамизе.
Который сейчас час?
Не хочу думать. До полудня.
До полудня.
Я пытался забыться, думать о чем-нибудь постороннем. Или тело мое взбунтовалось против кошмара, который ему навязывал разум? Тело умнее разума, оно хорошо себя знает, знает, что ему надо, чего не надо, даже то знает, чего мы не знаем. Тело как трава, как косуля. Не знаю, к счастью это или к несчастью, что нельзя слушаться только голоса тела?
А в полдень ни от чего уже не уйдешь. И, подумав об этом, я снова почувствовал вялость в ногах и сумятицу в мыслях.
И опять я мучаюсь и не вижу никакого выхода.
Не такие уж умные мысли бродят в моей голове, и мучения не такие уж тяжкие, но очарование утра пропало.
Не хочу думать о Рамизе, а думаю. Не могу иначе.
Я убежал от него в блаженную райскую обитель, но лишь на мгновение стал травой, косулей, здоровым телом. Больше не хочу. Предпочитаю быть безумцем, пекущимся о том, что его не касается, чего он не в силах изменить и что от него так же далеко, как звезда в небе.
Сделать я ничего не в состоянии, только думаю.
Это я могу себе позволить. С мукой думаю о хорошем человеке, который в крепостном каземате ожидает смерти. Потом постепенно забуду. Как и многое другое. Мало-помалу я превращусь в груду истлевших горестей, жалости, стыда, мертвых заклинаний, оскорбленного самолюбия и весь этот смрад с годами стану называть опытом. Я уже чувствую, как от нее разит, еще чувствую, потом я уже не буду замечать смрада.
Я ушел из дому, чтобы с кем-нибудь встретиться, поговорить, расспросить, что-нибудь услышать. Однако ни с кем не встретился, ни с кем не разговаривал, ничего не услышал. С кем встречаться, о чем и зачем разговаривать? Никто ничего не знает, никого это не касается, и слова ни от кого не услышишь. А если и услышишь, так знакомое: не лезь не в свое дело!
В одном из дворов играли свадьбу. Ворота настежь распахнуты, двор полон молодежи, звенит невидимый сааз, кружится коло, слышатся смех, песня, веселые крики.
Ни один человек здесь не знает ни о Рамизе, ни о собрании в мечети, ни о прочих горестях, так и проживут в неведении.
Я бросил на гуляющих мимолетный взгляд, но люди эти долго не выходили у меня из головы. Чтоб вас черт побрал, говорил я. Счастливые, говорил я.
Почему я не такой, как они? Почему я не пекусь о своих делах? Почему меня касается то, что не должно касаться?
Может, я исцелюсь, может, созрею. Когда-нибудь. Не знаю когда.
Не хочу думать о Рамизе.
Сейчас я думаю не о Рамизе, а о том, что будут говорить о нем. Скоро полдень.
Я вошел в мечеть, не вглядываясь в толпу во дворе, и сел недалеко от входа.
Когда мечеть начала заполняться, я мог из своего укромного закутка незаметно наблюдать за всеми; меня же никто, к счастью, не видел, каждый смотрел на входивших последними — мудеризов, имамов, ваизов, важных чиновников и главного судью — тот шел в сопровождении Джемала Зафрании. Джемал, никого не видя, всем улыбался, а кадий прошествовал хмуро, уставясь в воображаемую точку прямо перед собой.
Молла Ибрагим тоже вошел среди последних, направился было в мою сторону, но, заметив меня, остановился и начал искать место получше, прикинувшись, что не видел меня.
Он прав, ведь в самом деле, какое я имею отношение к столь высокому собранию? Люди подумают, что я проник сюда самозванцем или меня позвали по ошибке.
Эти люди — мозг и сила города, и, если бы каким-то чудом крыша мечети обрушилась, город остался бы без головы и потерял бы все свое значение. При всем горе, которое я испытал бы от такой потери, я был бы счастлив, если б мне удалось спастись, хотя бы и в единственном числе,— было бы и впрямь несправедливо разделить судьбу этих именитых людей.
Но мысль эта была продиктована не столько злорадством, сколько растерянностью. С утра я ничего не ел, желудок сводила судорога, в животе урчало, ладони горели. Если придется выскакивать, помчусь прямо по головам людей. Решат, что я убегаю с собрания.
В голову полезли самые безумные мысли. Вдруг сейчас встанет Авдага и скажет, что предлагал мне свидетельствовать против Рамиза, а я отказался. Вспомнит вечер у хаджи Духотины, не забудет о жене-христианке, а уж если возьмется пересказывать, что Тияна наговорила ему вчера, все разом обернутся, чтоб пронзить взглядами это чудовище по имени Ахмед Шабо.
Сам знаю, что это глупости. Авдага со мной мог легко расправиться в одиночку, или Джемал Зафрания, или любой стражник, для этого не стали бы тревожить важных господ. Но возбужденный мозг вел себя, как испуганное животное, которое в страхе шарахается из стороны в сторону, всюду видя врагов.
Зачем меня позвали?
Поднялся Джемал Зафрания и начал говорить. Близоруко щурясь — мне казалось, он смотрит только на меня,— и улыбаясь вежливо, но холодно — вежливо от своего имени, холодно от имени судьи,— он сказал, что по распоряжению почтенного и уважаемого господина судьи, справедливость, мудрость и честность которого известны далеко за пределами нашего города (в этом месте он поклонился судье, тот слушал с каменным лицом, нимало не смущаясь этой постыдной лести), по распоряжению, которое он почитает за честь для себя, он пригласил самых уважаемых людей города на собрание и благодарит их за то, что они пришли. Повод для собрания мелкий и незначительный, но дело очень важное, и он с позволения и по распоряжению почтенного судьи изложит его по возможности коротко, чтобы те, кто умнее его, могли сказать свое мнение. В нашем городе проживал некий проходимец Рамиз, полное ничтожество, утверждавший, что он студент Аль-Азхара, что, безусловно, ложь, а если и правда, то это позор для него, а не для Аль-Азхара. Никто не возражает против его пребывания в городе — наше гостеприимство и дружелюбие всем известны. Никто не возражает против того, чтобы он выступал перед людьми — свобода слова дана каждому, но этот безбожник и невежда осмелился говорить людям такие страшные вещи, которые честный человек и повторить не решится. (И тут же повторил, то ли забыв про свои слова, то ли не считая себя честным человеком, что было, конечно, издержкой ораторского вдохновения, а не искренним его мнением.) Негодяй хулил наши законы, веру, государство, даже самого пресветлого султана! Но как бы это ни было ужасно само по себе, нас созвали по другой причине. Речь идет о более тяжелом и важном деле. Преступник целый месяц изо дня в день отравлял ядом своих речей правоверных мусульман. И никто, ни один человек не оборвал его, не воспрепятствовал этому богохульству, не сообщил властям. (Вот оно! Не те люди его выдали, которым он говорил, а другие, ихние!) Спрашивается, где истинно верующие? Где были и куда смотрели власти? Мы были слепы и глухи и должны это признать; мы все проспали, позволив злейшему врагу говорить народу, что в голову взбредет. А власти, чей долг знать, чем занимаются подозрительные люди, пальцем не пошевельнули. Можем ли мы позволить преступнику оплевывать наши святыни? Можем ли мы допустить, чтоб человеконенавистники отравляли народ ядом своих речей?
— Больше не будут! — хмуро изрек кадий, прервав изящную вязь речи Зафрании, который, видно, еще не иссяк — на языке у него вертелось много еще цветистых выражений и оборотов, к его и нашему сожалению оставшихся неиспользованными, однако грубую бесцеремонность кадия он воспринял как похвалу, как лучшее завершение своей речи. Тот словно бы поставил точку и свою подпись под его словами. Поэтому Джемал весь светился, как невеста под венцом.
— Вы скажете все, что считаете нужным, но подобного злодеяния я в городе не потерплю, и попустительства такого тоже. Надеюсь, вы скажете, что вы об этом думаете, невзирая на то, что думаю я. А теперь — говорите!
После того как кадий столь трогательно предоставил слово присутствующим, наступила короткая пауза — видно, люди переводили дух, а придя в себя, заторопились высказаться. Оттяжка могла быть истолкована как нерешительность или даже несогласие, а это уж сохрани, господи, и помилуй!
Первым поднялся мой несостоявшийся благодетель, глухой народный первач Молла Исмаил. Уж не знаю, как он уразумел, что речь идет о враге империи, но он не ошибся. Проявлено неуважение к власти, сказал он, неуважение к закону, неуважение к вере. А это все предрекает чуму. Да и мы сами живем в раздорах, а раздор среди мусульман предрекает чуму. Месяц напролет в городе выли собаки, и это тоже предрекает чуму.
Его не прерывали, никто даже не улыбнулся во время его длинной речи о предвестниках чумы, связь с Рамизом здесь, видимо, была. Человек, приносящий чуму, опасен. Доказывать тут нечего, но сказать надобно.
Мудериз Рахман пустился толковать о корнях и причинах возникновения хамзевийского учения, отрицающего всякую власть и проповедующего полный хаос, когда каждый должен думать о себе. Из множества фактов, дат, имен, мутных выражений я сделал вывод, бог знает так ли это, что учение это появилось, не знаю когда и где, как следствие обнищания и недовольства крестьян тяжелыми условиями жизни. Сейчас это учение, по его мнению, совершенно бессмысленно, впрочем, как и тогда, когда оно возникло, и даже еще бессмысленнее, потому что всем известно, что ныне крестьяне живут хорошо и чтят власть султана. Он полагает, что с этими научными фактами надо познакомить тех, кто их не знает, а заблуждающихся, как бы мало таковых ни было, надо уберечь от сетей обманщиков.
Мудериз Нуман начал свою речь с утверждения, что любое учение, в основе которого не лежит вера, несостоятельно. Вера непогрешима, ибо она есть закон божий, а отступление от божьего закона — грех и богохульство. Он решительно выступает за свободу мысли, без этого невозможен прогресс и счастье, но свобода мысли должна быть в рамках Корана, ибо мышление вне Корана ведет не вперед, а назад. Тяжко ошибается и является заклятым врагом тот, кто свободой считает свободу от божьих заповедей. Это не свобода, а наихудшее рабство. А быть рабом тьмы и сатаны — значит допускать смертный грех, против которого надо идти священной войной.
Илияз-эфенди сказал, что испытывает чувство горечи и стыда — как можно давать столько свободы людям, которые ее не заслуживают. Или мы разума лишились, что рубим сук, на котором сидим, себе погибель готовим? Наш долг — все знать, за всем следить, противоборствовать там, где нужно. И он в своем джемате этот долг выполняет — все знает, за всем следит, борется. Молодые люди пошли по дурной стезе: распевают песенки возле мечети во время намаза, бранятся, непочтительны к именитым людям, смеются над святынями. Он отчитывает их, срамит, старается наставить на путь истинный, но один человек мало что может сделать. Чем занимается муселим, чем занимаются стражники? Как будто это их не касается. Он не отступится, будет бороться до последнего дыхания и просит кадия помочь ему, раз этого не желают делать должностные лица.
Наиб Химзи-эфенди видит смысл этого собрания в том, чтобы усилить борьбу с врагами. Он, как судья, не в состоянии сделать много, если другие забывают о своих прямых обязанностях. Надо было, чтоб нарыв прорвался, как в случае с Рамизом, только тогда все зашевелились. А надо ли было допускать до этого? Разве не лучше вытащить занозу, не доводя до нарыва? Разве не лучше спать спокойно, не дожидаясь, когда беда превратится в бедствие? С Рамизом не трудно справиться. Но он не один. Надобно прямо сказать, сотни молодых Рамизов вставляют нам палки в колеса, мешают нам выполнять наш святой долг по укреплению веры и империи. И это в то время, когда неприятель стоит у наших границ, внимательно следит за тем, что у нас делается, и только и ждет случая напасть на нас. Эти люди — прямые пособники наших врагов, а пособники наших врагов такие же враги, и с ними надо расправляться без всякой пощады. Без всякой пощады, как и с тем, кто требует для них пощады.
Тут же все пошли состязаться в непреклонных и суровых нападках на неведомых преступников, число которых увеличивалось на глазах. Никому не хотелось отстать, а не отстать значило проявлять все большую жестокость и ярость. Стонали, кричали, рычали, перечисляли злодеяния, требовали самых суровых кар и расправ — пусть нас будет меньше, да лучше, чем много, да со всячинкой, пускай враг будет по ту сторону окопов, а не в наших рядах.
Собрание пылало огнем ненависти и гнева.
Рамиза позабыли, он был осужден заранее.
И тут встал белобородый хафиз Абдуллах Делалия, закадычный приятель Шехаги, к которому я испытывал неизменное уважение за то, что он не скупился на добрую улыбку и ласковые слова, с кем бы ни говорил.
Неужто и он присоединит свой голос к оголтелому вою? Неужто не может промолчать? Боится, что упрекнут в вольнодумии, если он ничего не скажет? Неужто и молчание наводит на подозрение? Или он хочет словами, которые ему ничего не стоят, купить себе покой? Ведь другого ему уже не нужно.
Меня чуть не вытошнило от омерзения.
Начал он, как все, и присутствующие сонно кивали. Но вот он заиграл в свою дуду, и учтивую дремоту как рукой сняло. А у меня ноги отнялись от страха. Он с ума сошел!
— Ненавижу,— сказал Делалия,— хаос и насилие, поэтому и не согласен с Рамизом. А что юноша столько времени говорил всякую ересь, виноваты мы все. Да, все. Наиб прав. Только он не сказал, в чем наша вина. А вина наша в том, что нам все безразлично, ничто нас не волнует, кроме нас самих, слишком много мы думаем о своем благополучии и о благах этого мира. Вот удивляемся, что нам никто ничего не сказал, что люди покрывали его. А я, скажу вам, не удивляюсь. Почему, собственно, нам должны говорить? Что связывает нас с народом? Да ничего. Граница пролегла между нами и народом, и через границу мы засылаем только стражников. И государство у нас не одно — у нас свое, у народа свое. И между этими двумя государствами отношения далеко не дружественные. И не по вине народа. Виноваты мы, наша надменность, бесцеремонность, тысячи глупых предрассудков, без которых мы не мыслим своей жизни. Только себе мы присвоили право мыслить, указывать путь, по которому следует идти, определять меру вины и наказания. А Коран говорит: «Все сообща решайте, сговариваясь!» Мы изменили Корану. Изменили и здравому рассудку, потому что плохо выполняем то, что провозгласили своим правом. Плохо мыслим, оторвались от всего и вся, путь указываем по непроходимому терновнику, а не по широкому тракту, несправедливо караем и еще несправедливее обвиняем. Вот почему бунтовщик мог баламутить людей так долго, а мы об этом даже на знали. Народ его укрывал, неужели это не ясно? И вот теперь мы требуем строгости, непреклонной суровости, страхом хотим навести порядок. Разве это кому-нибудь когда-нибудь удавалось? Задумывались ли вы о том, чем запомнимся мы народу? Страхом, который всюду сеем? Жестокостью, с которой обороняемся? Тяжкой жизнью, которую мы не пытаемся облегчить? Пустословием, на которое так щедры? Вот вы тут сыпали угрозами, сулили расправы и кары. И никто не подумал о наших грехах, никто не заикнулся о причинах наших бед, никого не удивило, что такого не случилось раньше и в значительно больших размерах. А почему? Не могу я допустить, чтоб все вы думали так, как говорили, это было бы слишком страшно. Не верю, что вы поступаете так из корысти, это было бы слишком недостойно вашего звания. Значит, боитесь обидеть кого-то, кто стоит выше вас? Если это так, мне жаль вас. Но заклинаю вас богом, не выпускайте свой страх за пределы этого собрания, не мстите за свое унижение! Накажите преступника, как того требует закон и справедливость, накажите по всей строгости, но не ищите виноватых там, где их нет. Так вы только породите новых преступников. И не тратьте столько высоких слов и важных резонов для сведения своих мелких счетов. На нас лежит гораздо большая ответственность и перед народом, и перед историей, чем мы это себе представляем. И кадия, и вас всех прошу не обижаться на мою прямоту. Я слишком уважаю и вас и себя, чтобы молчать, думая иначе, или говорить не то, что думаю.
Делалия сел, наступила тишина.
О честный дуралей, подумал я взволнованно, не решаясь поднять глаза и взглянуть вокруг.
Во время его речи некоторые в ярости вскакивали, выкрикивали слова несогласия и гнева, но кадий урезонивал их решительным жестом и невозмутимо дослушал Абдуллаха Делалию до конца. Конечно, все это ему не безразлично и неприятно, однако на его хмуром лице ничего нельзя прочесть.
Почему он позволил ему говорить? Неужто он и в самом деле так терпим? Или хотел показать, что каждый может говорить, что думает? Или ему надо было, чтоб несчастный выложил все, что у него на душе?
Может, и меня позвали в надежде, что я тоже наговорю чего-нибудь недозволенного?
Вспомнился мне вечер у хаджи Духотины. Ведь хафиз Абдуллах говорил то же, что и я! И похлеще меня! Страх леденил кровь в жилах, когда я слышал его в этой всколыхнувшейся яростным негодованием толпе. Не сделай кадий повелительного жеста, хафиза постигла бы еще худшая участь, чем меня,— костей бы не собрали!
Не вставая, кадий закончил обсуждение, отметив, что, несмотря на отдельные ошибочные мнения, собрание проявило высокую сознательность и оправдало его ожидания. Различия во взглядах не было, и это единство будет способствовать нашим усилиям по сохранению и упрочению всего, что для нас свято. Если люди, в чьи обязанности входит эта задача, не выполняют ее, этим займутся те, для кого общее благо дороже личного и кто готов защищать истину от любых врагов. Сказав, что о собрании он доложит вали и прочим властям, он поблагодарил нас и отпустил по домам.
Выходя, Молла Ибрагим мигнул мне, неприметно кивнул головой и отвернулся. Разве после стольких угроз обращаться ко мне не стало еще более опасно, чем прежде? Или он решил, что в такую минуту я особенно нуждаюсь в поддержке?
А я как раз колебался, пойти ли за ним и расспросить, что он думает об этом сборище, или оставить в покое — все равно ведь побоится сказать, что он думает, а может, со страха и вовсе ничего не думает. Но, к великому моему удивлению, он кивнул мне, и я решил подойти.
Я не стал толкаться с большими людьми в узких дверях и терпеливо ждал, пока все выйдут.
Перед мечетью Джемал Зафрания прощался с кадием, низко ему кланяясь. Ко мне повернулся сияющий. Видно, доволен исходом собрания, хотя трудно предположить, что могло быть что-то другое.
— Что скажешь?
— Есть умные люди.
— Есть, что правда, то правда. А знаешь, я боялся, ты тоже встанешь.
— Почему?
— Наверняка тебе жалко Рамиза. Ты же добрая душа.
— Каждого было бы жаль. Хотя я и не согласен с Рамизом.
— Приятно слышать.
— Что с ним сделают?
— За такие преступления карают смертью.
— А нельзя просить помилования? Ему ведь двадцать четыре года!
— Никто ему сейчас не поможет — ни муселим, ни кадий, ни сам визирь. Спасти его может только один-единственный человек.
— Кто?
— Ты.
— Я? Что ты говоришь?
— Для того я тебя и позвал.
Я решил, что он смеется и надо мной, и над Рамизом.
Видно, он понял это по моему остолбенелому виду и поспешил объясниться. Мы с этим студентом приятели. Ладно, не приятели, однако ни к кому он не относился с таким доверием, как ко мне. Не надо пугаться — он знает, что мы разговаривали о самых житейских вещах, потому он и вспомнил обо мне. (Все доложил сердар Авдага, это понятно, удивительно другое: неужели он это принял за чистую монету?) Свои убеждения Рамиз излагал другим, мне он открывал свою душу. Значит, я ему ближе, чем другие, и мог бы сказать ему то, чего другие не скажут. Он знает, что я не согласен со взглядами Рамиза. В сущности, у меня и нет взглядов — одно сожаление, что люди не ангелы и на земле не рай. Но то и хорошо, что мы не единомышленники, иначе Рамиз и со мной был бы суров и непреклонен. Замечал ли я, что порой легче находить общий язык с человеком, с которым ты расходишься во взглядах, конечно если он не прямой твой враг? Разве он, Джемал, и я не лучшее тому доказательство? Вот что надо сделать, если я хочу спасти Рамиза. Речи Рамиза оставили сильное впечатление в городе, говорит он хорошо или умело, что в данном случае одно и то же, наобещал с три короба, благо исполнять ничего не придется, говорил без обиняков — он не из тех, кто оглядывается, и люди слушали его, как мессию, отбою не было от приглашений. Да это и неудивительно — в людях легче пробудить злобу и ненависть, чем добрые чувства и любовь. Зло обладает притягательной силой, оно ближе природе людей. До добра и любви надо дорасти, надо помучиться. Зло мы носим в себе как изначальную страсть, и она может стать пагубной, если представится единственным благом. Народу запомнились его слова, и теперь их станут повторять, твердить как молитву, охраняясь ими от всякой беды и напасти. Слава Рамиза возрастет, потому что народ считает его жертвой, а не преступником. А мы не можем допустить, чтоб он остался мучеником и семена его слов проросли, хотя время все равно, конечно, образумит обманутых. Надо лишить его ореола мученика, уничтожить семена его слов, чтоб не пророс ни один сорняк. Как? Очень просто. Он сам должен отречься от своих слов. А мой долг уговорить его это сделать, никому другому это не под силу.
Зафрания приблизился ко мне вплотную, почти касаясь меня губами, шептал мне в нос, обдавая кислым и пряным восточным ароматом. В голове у меня все кружилось, мысли разлетались, как вспугнутые воробьи, я с трудом удерживал их.
Что сказать? Как выкрутиться? Он всегда требует ответа немедленно, не давая времени подумать. Я знаю, что я должен сказать, но как при этом не навредить себе?
Будто собираясь с духом, я медлил с ответом:
— Вряд ли он согласится.
Зафрания — не я, у него на все есть ответ.
— Страх смерти — нешуточное дело, Ахмед! Пусть пойдет в мечеть и скажет людям: «Ошибался я, неправильно вам говорил, обидели меня, я и решил отомстить, а сейчас поразмыслил обо всем и, как честный человек, должен признать, что толкал вас на дурной путь». Скажет что-нибудь в этом роде, мы его освободим. Только здесь не оставим, из города вышлем.
— В ссылку?
— Живым.
— А не согласиться?
— Останется здесь. Мертвым.
— Убьют?
— Вина тяжкая. Ты сам-то как считаешь?
— Тяжкая.
— Значит, согласен?
— А подумать можно?
— Чего тут думать? Ты ничего плохого не делаешь. От смерти его избавишь!
— Дело-то неплохое, необычное только.
— И для него так лучше. Я не люблю жестокости. Правда! Это пещерный способ разрешения споров между людьми. И убийств не люблю. И ты не любишь. Да, наверное, и он.
— Не знаю, решусь ли.
— Видно, доброта твоя только на словах. Откровенно говоря, я думал и тебе помочь.
— Мне?
— Ты ведь сам говоришь, что вы были близки. Кто поверит, что вы вели разговоры только о семейных делах да девушке?
— А ты веришь?
— Верю, пока мне это выгодно.
— Завтра я дам тебе ответ.
— Надеюсь, ты поступишь разумно.
О боже неправедный, что еще ты обрушишь на мою голову! Она не самая мудрая, но и не самая глупая. Столько людей и лучше, и хуже меня живут себе, позевывая от скуки. А мне минуты поскучать не даешь! Все подкидываешь задачки одна другой мудренее, как младшему сыну в сказке. А как бы мне хотелось поскучать, пожить легко и приятно, спокойно спать до полудня и просыпаться без мучительных мыслей и страха за завтрашний день.
Я пытался усыпить бдительность сердара Авдаги трогательной историей о родном доме Рамиза, о его любимой девушке, а дал им в руки то, что им было нужно.
Нашел кого умилять!
Что делать? Если я откажусь от предложения Зафрании, он сотрет меня в порошок, сам сказал, что припутает меня к делу Рамиза. Они знают, что разговаривали мы не только о доме и семье, и сделают все, чтобы выбить из меня правду. А стоит мне признаться, и я сразу стану соучастником и преступником, потому что укрывал его, не донес властям. Доказательство — мое признание. Не признаюсь — все равно буду виноват, доказательство — их убежденность.
Но как я покажусь на глаза Рамизу, как у меня язык повернется сказать ему, чтоб он отрекся от того, что говорил людям? Не важно, что он откажется, а откажется он несомненно, и не так уж меня пугает, что я снова буду отдан на милость Зафрании. Это еще полбеды.
Я не могу, даже мысленно не могу — подойдя к этому моменту нашей встречи, я останавливаюсь в полном тупике,— не могу вынести его недоумевающего взгляда, когда я скажу ему…
Что я ему скажу?
«Я не хотел, меня заставили, вынудили».
Но если мы будем не одни, если тут же будет стражник, я не решусь, не отважусь сказать эти слова.
«Так будет для тебя лучше».
Но он ведь не стремится к тому, чтоб ему было лучше. А его взгляд будет страшнее любых слов — в нем будет и стыд, и обида. Стыд за меня. Обида — за себя.
«И ты туда же, стихоплет, что насвистываешь песенки себе на забаву, ровно соловей? — скажет его презрительный взгляд.— Я считал тебя человеком. Считал, что у тебя душа есть. А ты предлагаешь мне жизнь и позор. Я мог бы дороже продать свою жизнь. Они щедрее, они предлагают мне смерть и честное имя. Хотят, чтоб народ поминал меня добром. А ты хочешь, чтоб люди плевали, услышав мое имя. И в кого бы я превратился, послушав твоего совета? Ты бы сам ужаснулся! Я мог бы стать кем угодно, только добра от меня ждать не пришлось бы. Я мог бы стать босяком, мошенником, убийцей, палачом. Если я убил себя, почему мне не убивать других? Если позволил переломить хребет себе, почему должен щадить других? Что мне помешает? Когда у человека нет ни чести, ни совести, ему все позволено. Нет, я приму их кару, она достойнее твоего спасения. А выбрал такой исход я давно, когда еще только вступал на этот путь».
Могу ли я требовать, чтоб он отрекся от своих мыслей? После этого и от меня добра ждать не пришлось бы.
Мне казалось, люди разъединены, да так оно и есть, и тем не менее между ними образуются неразрывные связи. Наши дороги скрещиваются, как нити в клубке. Представлял ли я себе, какие муки ожидают меня из-за этого незнакомого человека?
Не предам его, значит, убью себя; убью его, значит, предам себя!
Ни на то, ни на другое я согласиться не могу, а третьего не дано.
В тяжелые минуты я спасаюсь в одиночестве. В минуты отчаяния ищу добрых людей. Я зашел к Молле Ибрагиму. Он собирался идти обедать, помощников за перегородкой не было. Но я все равно говорил шепотом — и по привычке, и особенно после собрания в мечети.
— О ком это кадий говорил, что он не выполнил своего долга?
Я боялся, что Молла не ответит, но не спросить не мог. Он ответил. Верно, вид у меня был чересчур пришибленный.
— О муселиме. Они друг друга не выносят. Вот он на него всю вину и валит.
— Другим тоже грозил.
— Как же, устои пошатнулись — виноват муселим! Но заодно и другим платить придется. Одним ударом двух зайцев убьет.
— И почему он только угрозы изрыгает? Мало в людях страха, что ли?
— Больше страха — больше порядка.
Будь во всех столько страху, сколько в Молле Ибрагиме, порядок был бы отменный. Бог мой, да и во мне его не меньше.
— Посоветуй мне, Молла Ибрагим, требуют, чтоб я поговорил с Рамизом. Убедил его отречься от своих слов. Тогда, мол, отпустят.
— Поговори, конечно.
— Он не согласится. Откажется.
— Скажешь, что отказался.
— Как я погляжу ему в глаза?
— Так и поглядишь. Скажешь: мое дело предложить, твое дело решать. Все равно его убьют.
— Ты думаешь?
— Пугало из него сделали. Кто же его отпустит?
— Молла Ибрагим, до чего хочется вернуться на свою реку!
— И там найдут.
Всюду найдут. Нет мне спасения.
Дома я застал Махмуда, он уже спустил все деньги и снова ходит тихий и сокрушенный.
Я все рассказал Тияне и ему, рассказал сразу, едва переступив порог, лопнуть боялся.
Ответили они совершенно неожиданно.
— Можно ли так оскорбить человека? — возмутился Махмуд.
А Тияна:
— Останется жив, это главное.
Но, подумав, они постепенно поменялись ролями. Махмуд чесал щетинистый подбородок:
— Конечно, смерть не спасение.
Тияна взволнованно рассуждала вслух:
— Он знал, на что идет, и это не пугало его. Как же ты можешь его уговаривать, чтоб он отрекся от себя?
Так мы пришли к тому, с чего начали, то есть ни к чему.
— Ох, боже мой,— вздыхала Тияна.
— Вот горе-то,— сокрушался Махмуд.
Но его беспокойный ум не в силах удовлетвориться одними стонами, он тут же ищет выход.
— А может, тебе заболеть? Поешь сырой картошки, жар поднимется, как в горячке. А я приведу Авдагу — пусть посмотрит.
В том состоянии, в котором я находился, это не показалось невероятным, я и без сырой картошки заболею — от горя, страха и безвыходности.
Только все это чепуха, ничего я этим не выиграю. И с чего вдруг горячка начнется у меня именно сегодня? Да если и поверят, подождут, пока я выздоровлю. Не есть же целый год сырую картошку!
Махмуд высказал мнение, что меня оставят с Рамизом наедине и тогда я скажу ему: «Так-то и так, брат, спасай, в большую беду я попал».
Он забыл, что Рамиз — в еще большей.
Так мы долго мусолили три скудных мыслишки, но ни к какому решению не пришли. Помочь они мне ничем не помогли, однако я и тому был рад, что я не один.
На следующий день я тоже не нашел выхода, да и перестал его искать. Голова отупела от бесплодных размышлений, мозг работал вхолостую.
Я ждал, что за мной вот-вот придут и куда-нибудь поведут. Может быть, дорогой я наконец сделаю выбор между унижением и гибелью.
Когда раздался стук в дверь, я не сомневался, что это сердар Авдага пришел за мной по распоряжению Джемала Зафрании. Он назначен мне судьбой в ангелы-хранители, разлучит нас только смерть. Чья, не знаю, но предпочел бы, чтоб не моя. Что поделаешь, раз по-другому нельзя.
Однако вошел не ожидаемый черный ангел, а нежданный-негаданный Осман Вук, приказчик Шехаги.
Он внес в нашу каморку свою красивую, русую, ветрами опаленную голову, свой смех, свой веселый, бесшабашный нрав. Хотя я помню его и другим.
— Вы что? Молитесь за упокой чьей-нибудь души? — спросил он со смехом.
— Да так как-то.
— Тогда в чем дело? Почему нос повесили?
— Ждали мы тут одного человека.
— Горюешь, что не пришел?
— Упаси бог. Унес бы его дьявол подальше!
— Кто он? Что ему надо?
— Долго рассказывать. Ты по делу? Я слышал, ты и вчера заходил.
— Заходил. Шехага тебе кланяется и просит прийти к нему. Поговорить надо.
Я удивился: обращался он явно к Тияне.
— Так кого зовет Шехага?
— Тебя, кого же другого? Так и велел сказать: «Кланяется и просит». А мне приказал никуда не заходить, ни в какие кофейни, и непременно тебя отыскать. Я и побежал, испугался, дурак, что опять не застану тебя дома.
— Я целыми днями дома,— ответил я настороженно.— А почему ты себя дураком называешь?
— Потому что ума бог не дал. У человека ведь всегда ума нехватка. Разве так уж было бы страшно не застать тебя дома?
Восхищенный взгляд, который он не сводил с Тияны, красноречиво говорил, почему он предпочел бы не застать меня дома.
Как он смотрел на нее вчера? Что же он говорил ей с глазу на глаз, если при мне такое говорит?
— Да и мимо прошел бы, тоже было бы не страшно,— сердито бросил я.
— Почему, приятель? Что я тебе сделал?
— Ты прекрасно знаешь, что ты сделал,— спокойно заметила Тияна.— Не люблю такие шутки.
— Да что с вами, люди добрые, на какую мозоль я вам наступил? Ничего дурного и в мыслях не держал, клянусь жизнью детей.
— Нет у тебя детей — вот и клянешься ими!
— Как знать, сношенька. Только ничего дурного я не думал. Человек я со всячинкой, но неплохой. Разве что разозлюсь. А на вас что мне злиться? И вы на меня зла не таите. Договорились? Ну, пойдем к Шехаге?
— Неохота сейчас.
— Почему? Если ты на меня озлился ни за что ни про что, за хорошие слова, так ведь Шехага в том не виноват. Давай, улыбнись и протяни мне руку. Сегодня я уже по горло сыт неприятностями.
— Сам на них нарываешься.
— Да нет же, брат! Играл я вчера в кости. Подходит ко мне один торговец, я с ним накануне рассчитался, и говорит: «Приехал сегодня тут садовник из Брчко, сливами торгует, у него умерла богатая тетка и оставила ему большое наследство, дурень и помчался на радостях в Сараево кутить. Если не побрезгуешь объегорить дурака, поищи его». «Не побрезгую»,— ответил я. Не я, так другой охотник найдется. И пошел за Мухаремом Пево. Он игрок классный, я рядом с ним ребенок. Так и так, говорю. Возьми с собой деньжат, поначалу мы немного проиграем, чтоб садовник вошел во вкус, а потом — помогай ему бог. Ты, пожалуй, ему и на обратную дорогу в Брчко не оставишь. «Ничего, пешком дойдет»,— смеется Пево. «Выигрыш пополам».— «Ладно, пусть будет по-твоему». Встретились в Каменном хане. Тут и садовник, бедолага. «Часто играешь?» — спрашиваю я его. «Не слишком часто, но всегда удачливо. Если будет везти, как в последние дни, берегитесь. А и проиграю малость, не беда!» Господь с тобой, не малость ты проиграешь, думаю я про себя, а все, что у тебя есть. А он словно читает мои мысли. «У меня,— говорит,— сто дукатов, больше с собой не взял. А сколько у вас?» Мы обалдели. Сто дукатов, ведь это целое богатство! Вижу, Пево совсем терпение потерял, глаз не сводит с кучи монет, еле языком шевелит. Начинай, говорит, чего ждать! Погодите, говорит садовник, сначала словом перекинемся, как у людей водится. Посмотрим, сколько у вас денег. Мы с трудом наскребли пятьдесят дукатов. Пево сбегал и занял еще у хозяина трактира. Сели играть, бросили кости Мухарема. Вижу, садовник простофиля простофилей, добрый человек, да умом бог обидел. Сразу стал проигрывать, но ничего — смеется, вина и закусок нам поставил. «Для хороших людей ничего не жалко»,— говорит. Я так даже расстроился. Выигрывать я люблю, но и играть люблю, а здесь, похоже, скоро и конец будет. Но вдруг все перевернулось, садовник перестал проигрывать, а мы начали. «Что такое? — веселился садовник.— Никак счастье на мою сторону перекинулось!» И в самом деле. Как бы мы ни бросали, у него всякий раз лучше. «Вот чудеса-то!» — кричит он, а сам все забирает и забирает банк. Напрасно мы дули на кости, обносили их вокруг головы, подолгу трясли в зажатом кулаке. А садовник знай кивает головой и нас подбадривает: «Все надо испытать!» — и берет банк. Меня обчистил за полчаса. Пево — за час. В конце оставил нам мелочишку, чтоб было на что выпить, и спрашивает, когда еще встретимся. А мы с Пево смотрим друг на друга, не можем в себя прийти от изумления. Что такое, что сделал с нами глупый садовник? Пево кусает губы, вращает глазами, не то ему обидно, что проиграл, а то, что все про это узнают. А меня смех разбирает. «Что с тобой? Чего смеешься?» — удивляется Пево. Да как же не смеяться? Неужто не видишь, что нас обмишурили? Какая тетка, какое наследство? Это же мастер своего дела, почище нас с тобой! «Да, иной раз побалуешься»,— добродушно улыбается садовник. Ну, ладно, говорю ему. Ты здорово нас надул, но дай и нам хоть чем-нибудь поживиться. Как это ты бросаешь кости так, что всегда получаешь то, что хочешь? «Откровенно говоря, я сразу заметил, что в костях свинец, он-то и тянет на большие очки. Пока не наловчился бросать, проигрывал. А потом вы стали проигрывать. Как видите, все без обмана». Так и отделал нас садовник, да еще признался, что это торговец навел его на нас. Как охотника на дичь. Мы попросили его хоть не рассказывать про все про это и сами не стали о своем позоре трезвонить. Неохота дураками себя выставлять! Потому и говорю: сыт я сегодня бедами по горло.
— Так тебе и надо,— сказала Тияна.— Не стыдно отнимать у человека деньги?
— Я, сношенька, кажется, сказал, что он их у меня отнял, а не я у него.
— Вчера ты, сегодня у тебя. И поделом.
— Поделом, коли ты так считаешь, но мне от этого не легче. Ну как, Ахмед, пойдем, что ли?
— Завтра приду. Наверное.
— Не завтра, сейчас надо идти. Шехага ждет!
— Пойди уж, раз ждет,— сдалась Тияна.— Только скорей возвращайся!
Осман и это повернул по-своему:
— Спасибо, сношенька. Он скоро вернется, чай не дурак надолго оставлять тебя одну!
Напрасно взывать к его совести, он не может без своих шуточек.
На улице он доверительно кивнул мне головой и сказал, что, прежде чем идти к Шехаге, он должен кое-что рассказать.
Он повел меня во двор мечети, мы сели под оградой, чтоб укрыться от ветра, срывающего листья со слив. И тут я услышал удивительную историю.
Шехага не звал меня. Правда, он говорил обо мне с Моллой Ибрагимом и сказал, чтоб я как-нибудь зашел к нему, но сегодня он меня не звал. День определил сам Осман, точного времени никто не назначал, прийти можно было бы когда угодно, но ему необходимо сегодня. Поэтому он и пришел за мной, чтоб я помог ему и помог Шехаге. А может статься, и себе, потому что никто не умеет делать добрые дела так, как Шехага. Если же ага забудет, он, Осман, порадеет обо мне. Он знает, что мне нужно, да это и не трудно сообразить, когда у человека нет работы. Куда это годится? При такой красавице жене бедность непозволительна. Он на убийство пошел бы, но у его жены было бы все, чего душа пожелает.
О матерь божья, вот еще напасть на мою голову!
— Опять за свое?
— Что ты! Я это говорю так, между прочим. А ты сразу злиться. Послушай лучше, что я тебе скажу о Шехаге. Беда с ним: два дня как перестал молоко пить. Значит, начнет пить ракию. А стоит ему взяться за ракию, все идет прахом. Ведь он не как другие люди. Пил бы себе дома, так нет, уйдет куда-нибудь, как сквозь землю провалится, заберется в глухое село или город и давай швырять деньгами, пьет, спит и снова пьет, и так восемь дней кряду: ничего не ест, только блюет и пьет, потом три дня и три ночи спит без просыпу как мертвый и возвращается домой словно побитый, узнать нельзя. И так три раза в году. В другое время капли в рот не возьмет. И никто удержать его не может — ни жена, ни друзья, никто. Так однажды и отдаст богу душу; чудо, как он до сих пор живой ходит!
— А почему он пьет?
— Скажешь тоже, почему! Пить можно и безо всякой причины, но У Шехаги есть причина, да еще какая! Никому не говори только. Мучается он, терзает себя, а как силам придет конец, он и пускается пить, чтоб забыться. Три раза в год, всегда в определенное время, ровно новолуние, разве что реже. Не в свой срок, как вот сейчас, пьет редко.
Ходит вокруг да около, будто не хочет говорить причину.
Я снова спросил:
— Почему он пьет?
— Из-за сына. Единственный он у него.
— Я не знал, что у него есть сын.
— Был.
Когда сыну Шехаги исполнилось восемнадцать лет, он стал просить отца отпустить его на войну: мол, все друзья-товарищи идут. Правда, они старше его, но он и водился только со старшими. Дело, конечно, не в одних товарищах, а во всем том, что связано с друзьями, молодостью, барабанами, знаменами, речами, святым долгом. Парень совсем голову потерял. Глаза горели как у безумного. Шехага и так и эдак пробовал его образумить — война не праздничный фейерверк, а грязь, пыль, голод, жестокость, кровь, смерть. Все впустую, и слушать не хочет. Вытерплю, твердит, даже смерть приму, если богу будет угодно. Раз другие могут, смогу и я. У отца сердце разрывается, единственный сын, ради него жил, ради него наживал барыши и не таил свою любовь, не мог таить, юноша как сыр в масле катался, баловали его, оберегали от всего тяжелого и грязного. К тому же кто-то забил ему, зеленому, голову всякими высокими словами, вот он и потерял то, что дается один раз. В молодости жизнью мало дорожат, а чем ближе старость и чем меньше остается резонов жить, тем крепче цепляются за жизнь. И погибну, если нужно, говорил безрассудный юноша. Шехаге кровь в голову ударила, в ярость пришел. «Не выйдет по-твоему, глупое создание! Раз я не в силах тебя образумить, поступишь, как я велю. Сегодня ты „ура“ кричишь, а завтра, как начнут тебя есть вши, заплачешь. Молодому дурню плевать на жизнь, а мне на моего сына не плевать, хоть он и дурень». И запер его в доме. А парень выкрался из своей комнаты, выпрыгнул в окно и догнал уходящие части. Утром нашли пустую комнату. Шехага совсем рассудок потерял, бросился с кулаками на слуг: почему не углядели, почему не слышали, как он перепрыгивал через ограду. Мы помчались вдогонку. И от вали потребовал, чтоб вернули сына, раз тот пошел без отцовского согласия. И вернули бы — вали должен Шехаге тысячу дукатов, да и без того почитает его. Но парня и след простыл, словно в чужую армию переметнулся. Проверили все армейские списки, его имени не нашли. Потом уж мы узнали, что он был в Бессарабии на Бабадаге, а имя переменил, чтоб отец его не отыскал и не возвратил. Но тут случилось то, что Шехага и предвидел: парню быстро надоела война, ужаснула жестокость, смертоубийство, он и подговори десяток солдат-земляков дезертировать из войска. Скитались, прятались, шли ночью, избегая встреч с армией, обходя города,— словом, побег превратился в затяжную пытку. Под Смедеревом трое, сломленные усталостью и страхом, отдались в руки властей. Тут же поймали остальных и посадили в тюрьму. Все до единого показали на сына Шехаги, он, мол, подбил их на дезертирство, и заявили, что раскаиваются в своем поступке. Юноша взял вину на себя, попросив не наказывать соучастников. И прибавил, что он ни в чем не раскаивается, потому что война — самое грязное дело на свете и самое страшное злодеяние. Его осудили на смерть. Тогда он открыл свое настоящее имя и попросил сообщить отцу, что он погиб в бою, словно для отца одна смерть легче другой. Дезертиров наказали плетьми и снова послали на войну, а сына Шехаги расстреляли и отцу сообщили, что сын казнен как дезертир и предатель. Шехага чуть не умер. И будто разумом тронулся. «Дурак ты последний,— ругал он мертвого сына,— за что ты погиб, за что потерял свою глупую голову? Дерись ты ради своего удовольствия и убей тебя кто-то, бог с тобой и с ним. Сложи ты свою голову ради золотого яблока из сказки, ради девушки из песни, ради друга, я горевал бы, но понял бы тебя. А это на что похоже, несчастный? Ради дерьма, ради разбойников, ради алчных посягателей на чужую землю! Да кто замутил твое чистое сердце? И почему ты не убежал один, если к тебе вернулся рассудок? Как доверился ты этим людям? Лучше бы ты поверил змее, шакалу, ястребу, а не своему земляку. Ведь он предаст, даже если ты озолотишь его, убьет, даже если ты с ним последним куском поделишься. Ну ладно, убил себя, себялюбивое чадо, но за что ты меня убил?» Напрасно молили его успокоиться, он никого не желал слушать. Потом мы поехали в Смедерево искать могилу, но, сколько ни расспрашивали, ничего узнать не удалось. «Все одно,— сказал Шехага,— может, и к лучшему, что не вернется он в эту проклятую землю. Дал бы бог и мне ее никогда не видеть!» Дома он начал пить по восемь дней кряду, до полного бесчувствия. А придет в себя, молчит, никого не принимает, людей ненавидит, откроет рот — костит всех подряд, ни с кем и ни с чем не считаясь. Всем поперек горла стал, особенно властям, те его ненавидят, а сделать ничего с ним не могут. Слишком большую силу забрал он и здесь, и в Стамбуле. Слишком много денег люди у него в долг взяли, а он не торопит с отдачей, держит их в руках. Страшно за него, когда он в запое, всякое может случиться, проще простого, никто ничего и не узнает. И вот он снова собрался пить, хоть еще и не время. И ведь впору с ума сойти, пока не дознаешься, где он скрывается. А почему сейчас, раньше времени? Вчера с лучшим его приятелем, одним-единственным в городе, беда стряслась, с хафизом Абдуллахом Делалией: подстерегли его головорезы, когда он возвращался после яции из мечети, и забили насмерть. Нашли его прохожие, он еще дышал, а пока донесли до дому, он и дух испустил. Шехага утром был у кадия, был и у вали, они сожалеют, удивляются, но ничего не знают, хотя и обещают найти преступников, предать их суду и примерно наказать. Как же, найдут их — скорее я стану великим визирем! От их пустопорожних обещаний Шехаге не легче. Убили его друга — ведь дня не проходило, чтоб они не встречались, теперь он совсем один остался. Кричал на вали, грозил кадию, теперь молчит, молока не пьет и готовится бежать, чтоб забыть все.
Ошеломила меня эта удивительная история, а еще больше — страшная новость. Что это? Начали проводить в жизнь обещанные строгости или продолжают старую жестокость?
Вчера, слушая старика, я невольно вспомнил хаджи Духотину, и, как видно, не так уж невольно. Те же люди, которые меня карали за неугодные властям речи, расправились с хафизом Абдуллахом, только с ним они хватили лишку или его старость не смогла выдержать того, что выдержала моя молодость.
— Он вчера говорил в мечети,— тихо сказал я.— Не соглашался на введение строгих мер.
— Ну вот, больше не будет говорить. Теперь со всем согласен будет.
И он объяснил мне, для чего пришел ко мне. Он слышал, как Шехага разговаривал с Моллой Ибрагимом обо мне. И понял, что я ровесник Шехагиного сына, что мы с ним в одно и то же время были на войне и что я такой же дурень, как он. Он хочет подсунуть меня Шехаге, чтоб тот вспомнил сына, чтоб в нем ожило старое горе и он не думал о недавней гибели друга. И не думал о ракии. А я очень для такого дела подходящий. Наивный, беззащитный, голый, как улитка, ничтожная колючка кровь пустит, безработный, жертва чужих происков — он знает, что со мной произошло, а Шехага не знает и, может легко статься, заинтересуется мною и возьмет меня под свою опеку. Это было бы хорошо и для меня, и для Шехаги — я воспользовался бы его слабостью, а Шехага воспрянул бы от сознания своего великодушия.
Смешно подумать, что и я способен исцелять чужие раны, но пусть будет так. Осман Вук не дурак, он знает, что делает. Может, ничего и не получится, однако попробовать стоит.
Я вышел из дому, рассчитывая на помощь Шехаги, а повернулось так, что Осман рассчитывает на мою помощь Шехаге.
— Помяни войну,— наставлял меня Осман.— И сколько тебе было тогда лет. О хафизе Абдуллахе не поминай.
Я постучал в дверь Шехаги, он отозвался и впустил меня, но моему приходу нисколько не обрадовался, мне даже показалось, ему неприятно, что я пришел в час, когда ему хотелось остаться наедине со своей тоской. Он сидел на сечии, протянувшейся вдоль всей стены, глядя перед собой тусклыми, пустыми глазами, даже и не пытаясь обратить на меня свою мысль.
Я сказал, что пришел по его распоряжению — так передал мне Молла Ибрагим, я работал у него писарем, а зовут меня Ахмед Шабо.
— Знаю,— прервал он меня.
Все-таки он чуточку оживился и усадил меня рядом с собой.
— Прости, ты пришел в плохую минуту.
— Я могу прийти в другой раз, если скажешь.
— Хочешь убежать от моей мрачной физиономии? Ты всегда так легко идешь на попятный?
— Не люблю быть лишним.
— Не любишь быть лишним, не любишь, когда на тебя косо смотрят, не любишь, когда тебе говорят обидные слова. Как же ты жить собираешься?
— Бедно.
— Это не трудно.
— Но и не легко. Тоже отваги требует.
Он посмотрел на меня удивленно.
— Смотришь на вас как на детей, а у вас вон что в голове!
— Эти дети прошли войну.
Он поглядел в окно, за которым качался на ветру стройный тополь. Снова повернулся ко мне. По лицу его прошла тень. Стиснул зубы. Отгонял воспоминания?
— Расскажи что-нибудь. Что хочешь.
— Зачем, Шехага?
— Так просто.
— О войне?
— Все равно. Нет, не все равно. О войне не надо!
— Рассказать, как я службу искал?
— Давай.
Должен ли я, подобно няньке, своим рассказом освободить этого пятидесятилетнего мужа от страха? Или он таким образом освобождается от меня, желая остаться наедине со своими мыслями?
Я смотрел на его руки с длинными пальцами, сильными суставами, набухшими жилами и все же слабые и неуверенные. Руки открыли мне его волнение. Они были в непрерывном движении, то на коленях, то на груди, то теребили ковер, все время беспокойно сжимаясь и корчась. Или он сплетал их в узел и изо всех сил стискивал, словно кого-то душил или стремился причинить боль себе. Мне хотелось коснуться его покрасневших, напряженных суставов, успокоить его, утешить. Вдруг дружеское участие снимет напряжение, поможет ему расслабиться, заплакать, дать волю взнузданному сердцу.
Я удержался, испугавшись еще больше его оскорбить.
Слишком он суров, боль его исполнена ярости. Он ненавидит свою боль, не признает, отталкивает — она унижает его. Он изгоняет ее, но она не уходит.
Сколько страшных ночей, сколько неистовых битв помнят стены этой комнаты, когда он сражался со своей болью, как с дьяволом, и сколько рассветов он встретил побежденным, но непримирившимся? Вероятно, бывали минуты торжества: я победил! А боль приходила снова, выныривала, как выпь, из черной реки памяти.
Может быть, в это самое время, три раза в год, он умерщвляет себя, притупляет свои чувства, чтобы остаться в живых?
Время смягчило боль одной утраты, и вот новая смерть: она удвоила горе, воскресив воспоминания о первом. Сейчас на него навалились оба; он потерял все, чем дорожил в жизни, и его снедает нестерпимая боль и не меньшая ярость от невозможности побороть несчастье.
Что он делал, когда узнал о смерти друга? Стонал, рычал, проклинал, кричал или бился головой о стену?
За одну смерть он заплатил тоской и ненавистью. Чем заплатит он за другую?
А не стало бы ему легче, если бы он не отгонял от себя боль в гневе и ярости, если бы не кидал угрозы небу, не смотрел бы на людей с ненавистью и не искал отдохновения в страданиях других? Прими он утрату как неизбежность, отдайся горю — ведь он не бог и не бесчувственная колода! — склонись перед ним, может быть, покойный сын помог бы ему возвысить свое горе добрыми делами. В память о сыне. Сколько людей нуждаются в помощи!
А его душу наполняют ярость и непримиримость. И постоянная мысль об отмщении.
«О войне не надо»,— сказал он. Это слишком для него тяжело.
Хорошо, не буду. Пощажу его.
Я рассказал то, что его никак не затрагивает и не может оскорбить. О Молле Ибрагиме, которого бог наградил прекрасным недостатком, просто драгоценным для его рода занятий: он не слышит, что ему говорят люди, и у него никогда не бывает разногласий со своей совестью. Ему неведомы страдания людей, их нужды, желания, поэтому он невиннейший и счастливейший человек в мире. Мнений своих он не меняет — он говорит всегда одно и то же. Не себялюбец — говорит только о людских несчастьях. Споров и ярости он не вызывает, потому что его слова невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть. Своего дела не знает и никакого иного тоже, но слава богу, что он сидит на этом месте, любой другой был бы хуже.
Рассказал я и о тефтердаре Бекир-аге Джюгуме. К нему у меня особое отношение, потому что он согласился принять меня вопреки своему высокому положению. Конечно, не исключено, что ему неправильно передали мое имя, или он не знал меня, или принял за кого-то другого, потому что это, наверное, был бы первый случай в истории рода людского, чтоб тефтердар принял такого голодранца, как я, и снизошел выслушать про его горести; но мне это безразлично, важно, что он согласился выслушать меня. И на том спасибо. Наверное, и помог бы, оснований утверждать обратное у меня нет, к тому же я предпочитаю верить в то, что приятнее, а не в то, что более вероятно. Мне лишь не повезло, что я напал на такого верного и преданного человека, как он, ведь не всегда чиновники умирают вслед за своими господами! А пожалуй, не худо было вы ввести обычай, пример которого показал Бекир-ага Джюгум, чтоб все умирали со своими господами, как индийские жены со своими мужьями, чтоб преданная, честная служба не завершалась предательским переходом на службу к другому. Конечно, это могло бы иметь и дурные последствия — никто не захотел бы занимать высоких постов, что нанесло бы серьезный урон народу, однако любое стоящее начинание требует жертв.
О торговце хаджи Фейзо я сказал совсем чуть-чуть. Человек, мол, он добрый и готов был предложить мне свою помощь, как и всем молодым людям, не отличающимся брезгливостью и излишней щепетильностью и охотно принимающим внимание и близость хаджи Фейзо, что не так уж мало и пустячно в этом холодном и бездушном мире. Фейзо — человек мягкий и широкий, требует немного, а вознаграждает щедро, просто я не оценил его широты и любвеобилия, что опять же не его вина, а моя.
Наконец мне надоело паясничать, топорными шутками пытаясь поднять настроение Шехаги. Я заметил, что он почти и не слушает. Говорить он заставил меня для того, чтобы остаться наедине с собой.
Я замолчал.
Он не удивился, не спросил, почему я замолчал, медленно отвернулся к высокому тополю во дворе, и по лицу его снова прошла болезненная гримаса.
А почему бы мне не свести его с горем — прямо, в открытую? Я выполнил его желание, пытаясь своей болтовней отвлечь его от черных мыслей, помог подавить боль, оттолкнуть ее от себя. И шел по неверному пути, как и он.
Заговорю-ка я о мертвых, пусть привыкает быть с ними.
— Хафиз Абдуллах сидел на этом месте?
Он поглядел на меня с изумлением, словно я угадал его мысли. Но не ответил. Встал с сечии и заходил по комнате, стиснув руки за спиной.
Я не отступал.
— Верно, он любил смотреть на этот тополь?
— Откуда ты знаешь?
— По тебе вижу. Все время о нем думаешь.
Он стал у окна ко мне спиной. «Откуда ты знаешь?» — спросил он. Готов ли он продолжить разговор о своем мертвом друге, вспоминая его живого или оплакивая мертвого?
Но Шехагу трудно пронять, и он легко не сдается. Он снова отринул от себя боль.
Не оборачиваясь, свернул разговор на меня. Для того он меня звал, для того я и пришел. Так он загородил свой мир, не желая пускать меня в него.
— Чем живешь?
— Сам не знаю. Любовью, наверное.
Этот разговор ему вести легче, он вне его.
— Хорошая жизнь, только она недолго длится.
— Лучше жить недолго, да хорошо, чем долго, да мерзко. Ворон триста лет живет.
— Ворон и не знает, что он живет.
— Мы знаем, такая уж у нас судьба.
— Несчастье это наше.
— И счастье, и несчастье.
Я вижу, куда идет его мысль. Он дошел до черты, перейдет ли он ее? Скажет ли о причине своего отчаяния? Нет, не решился. Снова спрятался за меня.
— Зачем ты начудил у хаджи Духотины?
— Правду тебе сказать, не знаю. Только что вернулся с войны, злой, потерянный. Не знаю.
— Молла Ибрагим из-за этого тебя выгнал?
— Молла Ибрагим не виноват. Его заставили.
— Молла Ибрагим — трус.
— И тут не его вина. Это все равно что родиться глухим или с кривым носом.
— Ты в самом деле так думаешь или хитришь?
— К сожалению, хитрить не научился. Не умею.
— Сколько тебе лет?
— В мае стукнет двадцать пять.
— В мае?!
— Да. А что?
— Ничего. Так просто спрашиваю, чтоб не молчать.
Его сын тоже родился в мае, как и я! Вот что его поразило, но и об этом он не хочет говорить.
Снова он зашагал по просторной комнате, не поднимая глаз с ковра на полу.
В соседней комнате пробили часы, время шло, а мы молчали, словно забыли друг о друге. Нет, не забыли.
Он мысленно сравнивал меня со своим покойным сыном: мы родились в один и тот же год, в один и тот же месяц, были на одной войне — это нас роднит, он мертвый, я живой — это нас разъединяет. Как поступить со мной, помочь ли мне, чтоб я постоянно напоминал ему сына, или прогнать, чтоб я не растравлял ему душу?
И я не забыл о нем. Меня мучила тишина в комнате, где было двое живых людей, раздражали его размеренные шаги от стены к стене, я злился: выходит, он звал меня для того, чтобы я смотрел на его мрачное, отчужденное лицо? Только зря время потерял, ни на минуту не сумел привлечь его внимание!
Встать и уйти, сожалея, что напрасно приходил к этому надменному человеку?
Нет, не могу, если сейчас уйду, никогда больше порога его дома не переступлю. А вдруг ему и правда нужна моя помощь? Он тонет, можно ли не протянуть ему руку?
Я решил грубо и резко прервать его упорное молчание.
— Ты знаешь, за что убили хафиза Абдуллаха?
— Нет.
— Я знаю. Был вчера в мечети.
Он остановился как вкопанный.
— Все обрушились на студента Рамиза, он защищал его.
Это была неправда, но я нарочно так сказал.
Он стремительно сел, сбросив кольчугу и выйдя из укрытия, расстояние между нами сразу сократилось, и он включился в разговор.
— Что произошло? Рассказывай. Все.
Я рассказал коротко о других, подробно о хафизе, утаив, что он защищал справедливость, а не юношу. Я не лгал, я просто не договаривал, стремясь взять себе в союзники покойного старца. Вчера мне было обидно, что он требовал наказать Рамиза. Знаю, люди далеки от совершенства, и все же всякий раз меня это заново печалит, и вот теперь я решил исправить его ошибку или заблуждение. А возможно, это не ошибка и не заблуждение. Абдуллах требовал справедливости, а не насилия и перед каждым поставил зеркало, чтобы люди увидели в своем глазу бревно, сумев в чужом сучок разглядеть. Он поступил храбро и честно, никого не пощадил, за что и пострадал. Нет, я не обманулся, взяв его в союзники.
— Значит, его убили! — взволнованно воскликнул Шехага.— Неужто и его?!
Неужто и его?! И сына, и друга. Тех, кого он любил больше всего в жизни, именно их убили. Ничего другого он не видел, ничто другое его не волновало.
Мне хотелось напомнить ему, что не только они погибли. Есть беды и кроме его бед. Мир полон несчастья и горя. Знаю, нас трогают лишь наши, но разве чужие беды не наши?
— Многих убили, и многих еще убьют,— сказал я, думая о Рамизе.
Но он словно не слышал меня. Прижав стиснутые кулаки к груди, точно надавливая на больное место, бледный, с искаженным лицом, он весь устремился к одной-единственной мысли.
— О злодеи! — сипел он сквозь зубы.— Я отплачу вам! Я найду убийцу. Весь мир переверну, а найду!
— Отомстить отомстишь, а хафиза Абдуллаха все равно не вернешь.
— Я умер бы от стыда, если бы забыл друга.
— Сделай что-нибудь более полезное. Молодого Рамиза убьют.
— Они всех честных людей поубивают. Самой лютой смерти им мало.
— Ты не спас сына. Спаси Рамиза.
Такого поворота он не ожидал. Да и я сам тоже.
Он остановился, с изумлением глядя на меня. Без всякого милосердия я ударил по его кровоточащей ране.
Он стиснул кулаки, подобрался, вот-вот кинется на меня. Как я осмелился сказать ему такое?
Но он не кинулся на меня. Что-то остановило его. Может быть, мысль, никогда раньше не приходившая ему в голову: в память о покойном сыне помочь кому-то живому. Мысль эта привела его в смятение; пожалуй, поначалу она показалась ему даже кощунственной, несовместимой с его яростью и ненавистью. Но просто отбросить ее он не мог.
То ли подумал о том, как было бы хорошо, если бы кто-то попытался спасти его сына. То ли в тумане растерянности вдруг увидел путь, следуя по которому он мог придать своим горьким воспоминаниям больше смысла.
Я рискнул разрешить его колебания.
— Погибнет невинный.
Он еще сопротивлялся.
— А мой сын был виноват?
— Потому и говорю. Тебе легче понять. У Рамиза отца нет, погиб на войне, одна мать. Разве она сумеет ему помочь?
— А как я помогу?
— Не знаю. Попроси вали освободить его.
— Не посмеет. Они боятся друг друга.
— Ну, тогда нет ему спасения!
— Мать, говоришь, у него. Что ж он о ней не подумал? Дети думают только о себе, о родителях не помнят.
— Побойся бога, Шехага, неужто даже мертвому сыну простить не можешь, что думал не так, как ты?
Этого он уже не стерпел, я поразил его в самое сердце — почему, понять не могу. Он закричал, глаза его налились кровью:
— Сукин сын! Что тебе от меня надо?
И тут же опустил голову, ломая пальцы. Потом тихо сказал, не глядя на меня:
— Ты не должен был этого говорить.
— Ради тебя говорю. Помирись с ним. Прими мертвого с печалью, а не с яростью. Молодые часто делают глупости, им хочется невозможного. Как твоему сыну, как Рамизу.
— Вы с ним друзья?
— Нет. Мы едва знакомы.
— Почему ты за него заступаешься?
— Потому что за него некому заступиться, потому что он один, потому что он честный человек.
— Тебе тоже нужна помощь, я думал, ты будешь говорить о себе.
— Мне грозит нищета, ему — смерть. Его участь горше.
— Боже мой, еще один безумец! У нас все, кто хоть чего-нибудь стоит, безумцы. И мой сын, и ты, и этот Рамиз.
— Потому безумец, что думает не о себе, а о других? И за это он должен умереть?
— Властям он нужен?
— Очень. Взбесили их его речи.
Вдруг на лице его появилось злорадное выражение:
— А что, если мы его выкрадем? Ведь сдохнут от ярости!
Вот те на! Только я подумал, что изгнал из него дьявола мести, а он опять за свое. От своего горя он признает одно лекарство — причинить горе другому.
— Да, не очень им это будет по душе,— согласился я, увидев неожиданную возможность спасти Рамиза. Шехагины резоны меня не касаются.
Удивительно, как внезапно он меняется: с лица уже сошло зловеще-мрачное выражение, он собран и решителен, тонкая усмешка в уголках рта выдает ликование, руки лежат спокойно одна подле другой, спина выпрямилась. Это новый Шехага, человек, замышляющий месть.
В такие минуты он наверняка забывает про свою боль. Но сейчас в его злорадных замыслах заключено не только мщение. Они помогут спасти человека.
Теперь Шехагу не остановить. Затронь я случайно в нем добрую струну, она прозвучала бы слабо и еле слышно.
Насколько зло живее и активней! Да поможет нам бог! Он хлопнул в ладоши, руки делали свое дело с готовностью, не мучаясь, не корчась.
Вошла молоденькая девушка.
— Кликни ко мне Османа!
Тут же вошел Осман, словно стоял под дверью, и, возможно, с этой самой молоденькой девушкой. У обоих глаза горели, как лампады.
Шехага потирал ожившие руки.
— Садись! Надо вызволить одного человека из крепости.
— Есть несколько способов,— не задумываясь ответил Осман.— Я за самый дорогой.
— Договорились,— отозвался Шехага.
И это все!
Осман Вук весело посмотрел на меня и спросил Шехагу:
— Молока принести?
— Потом.
Пора идти, дать им с глазу на глаз все обсудить. Я пробыл здесь дольше, чем рассчитывал, и гораздо дольше, чем предполагала Тияна.
Она спросит, для чего Шехага звал меня. А он и не звал.
Спросит, о чем мы говорили. Не обо мне.
Спросит, поможет ли? Ни он, ни я об этом даже не вспомнили.
Спросит, чему же я тогда радуюсь? И я не сумею объяснить ей, чему я радуюсь.
Ночь в канун байрама была бурная.
Последний день поста Осман Вук сидел в трактире Зайко, трезвый, спокойный, почти торжественный. На сей раз трактир открыт и для прочих гостей (обычно по требованию Османа его закрывали), однако все знали: сегодня здесь гуляет Осман, празднует конец поста, окончание долгого рамазана, завтрашний байрам, да и просто, видно, пришла охота покутить, а причин Османовых кутежей никто не доискивался, слишком часто пришлось бы над ними голову ломать. Веселиться он умел, как никто другой, все поднимал вверх дном, разгоняя скучную застоялую тишину города. Отцы взрослых сыновей и мужья молодых жен теряли покой — сыновья выходили из повиновения, а молодые жены мучились бессонницей и, жалуясь на головную боль, далеко за полночь сидели у окон и вздыхали, за что многие получали всамделишную головную боль от нежного рукоприкладства мужей, считавших своим долгом на всякий случай выбить дурь из бабьих голов, всегда склонных к опасным мыслям.
Сеймены в эту пору старались не выпускать Османа из виду, ходили за ним как пришитые, с трепетом ожидая, что он еще выкинет. Но держались на расстоянии, остерегаясь его безудержного гнева.
К вечеру, уже в сумерках, в трактире приготовили стол с закусками и охлажденным вином. Хозяин трактира Зайко, важный, подтянутый, и двое слуг в праздничных одеяниях тихо и расторопно делали последние приготовления для этого бесшабашного богослужения, а старый цыган Камо, лучший в городе скрипач и певец, и его пятеро сыновей были уже наготове и подобострастно ели глазами Османа и его друзей — гуляк, игроков, скандалистов, шутов, пьяниц, главных дебоширов города.
Как только в крепости раздался пушечный выстрел, возвестивший конец поста, Осман поднялся, оскоромился, так сказать, кусочком хлеба и чаркой ракии, поздравил всех с праздником — бог знает, вспомнят ли они о нем завтра,— и пошло веселье.
Сеймены и ночные караульщики всю ночь кружили вокруг трактира, но оттуда доносились лишь песни, музыка, смех, крики, ни один человек за порог не вышел.
Все это мне рассказал Махмуд Неретляк, ночь напролет гулявший с Османом и его компанией; прикорнув утром на час-два, он вылетел из дома, желтый как лимон, но радостный и счастливый, словно сбылись все мечты его жизни. Он гулял с самим Османом Вуком! Об этом все должны знать.
Никогда не добраться бы ему до Османа и трактира Зайко — для него это все равно что попасть во дворец к паше,— если бы не счастливый случай. Осман Вук пришел звать меня, но зловеще сведенные брови Тияны убили во мне всякую охоту веселиться. «Никогда не ходил, не пойду и сейчас»,— утешал я себя, а что другое мне оставалось?
Махмуд слушал как зачарованный и наверняка думал, что я болван, который не знает и никогда не узнает, что такое настоящий кутеж, раз я отказываюсь от приглашения, которое каждый истинный мужчина непременно принял бы. Но я, видно, не истинный мужчина и потому предложил Осману вместо себя моего приятеля Махмуда, он, мол, знает толк в таких вещах, и в компании от него будет больше пользы, чем от меня.
Махмуд с благодарностью взглянул на меня и с надеждой — на Османа, трепеща, как девушка на смотринах — возьмут замуж или не возьмут, а когда Осман согласился, у него даже в горле заклокотало и дыхание перехватило от такой чести, но он быстро пришел в себя и с достоинством поблагодарил за приглашение.
Откровенно говоря, я удивился, что Осман его позвал, однако не это была моя главная забота. Я вышел с ним, чтобы спросить, не собирается ли он сегодня вызволить Рамиза — ночь больно подходящая, все гуляют. Он улыбнулся:
— Я тоже гуляю!
Я остался стоять в растерянности, а Осман, хохоча во все горло, ушел.
На следующий день Махмуд рассказывал, что пьянка удалась на славу: и то сказать, для такого дела нужны настоящие люди! Удальцы, право слово, все как на подбор, особенно Осман, да и его, Махмуда, не зря позвали. Он им показал, как надо пить — медленно, долгими глотками, покатав ракию на языке, а не опрокидывать в горло залпом: это слишком просто и долго не продержаться. Правда, потом и он пил залпом и хлебал ракию из тарелки, но это уже на заре, когда все напились до беспамятства, кроме Османа, конечно. Махмуд и скрипачей научил, как следует играть — тихо, благородно, чтоб за двери музыка не выходила, а пробирала до сердца, чтоб горло сжимало, а ты и понять не мог, с чего бы это. Осман Вук отдал ему должное, сам признал, что с Махмудом веселее пир пировать, и все обнимал его, словно родного брата или лучшего друга. Да Осман Вук [13] не волк вовсе, а истинный лев, он может все, что могут другие, зато другие могут далеко не все, что может он. С ним не соскучишься: лихой, веселый, мужественный. У Махмуда челюсти заболели от смеха и удивления; умри он вчера, и не узнал бы, какие люди на свете есть. Осман самый веселый, самый занятный, самый лучший, умный, храбрый человек из всех, кого он встречал в своей жизни. Никаким даром не обделила его судьба! Играл на домре, а Рамо пел, потом он пел, а Рамо играл, затем плясал какой-то черкесский танец — ничего лучше Махмуд в жизни не видел, потом — румынский с Зайко. Незадолго до полуночи явились какие-то неотесанные чурбаны и давай портить веселье, требовать, чтоб Рамо играл для них, чтоб прекратили пляску. Осман им и так и эдак объясняет: сидите, мол, и пейте, не портите нам праздник, и мы вам мешать не станем. А они и слушать не хотят и нахально так отвечают: «Мы, мол, давно опекуна похоронили. Не нравится — скатертью дорожка» — и все такое прочее, слушать — с души воротит, ну, думаю, что-то будет. Но с Османом шутки плохи. Он тихонько встает и вразвалочку, не спеша, словно торопиться ему некуда, подходит к одному чурбану — даром что тот ростом под потолок, еле в дверь протиснулся,— дал ему по правой щеке, дал по левой, да наотмашь, изо всей силы, у того колени и подкосились. Осман подошел к другому, надавал и ему оплеух, у бедняги голова знай мотается из стороны в сторону и вовсе слетела бы с плеч долой, если б на шее не держалась, рука у Османа что твоя палица, тот уж и не знает, на каком он свете. Потом Осман приказал открыть двери и выставил обоих, велев на глаза не показываться, покуда живы. Те втянули головы в плечи, словно нашкодившие мальчишки, и давай бог ноги. А Осман вернулся к застолью и как ни в чем не бывало спросил:
— Ну, на чем мы остановились?
Тут Мухарем Пево на радостях заказал музыкантам песню и сунул было руку в карман за деньгами. Осман глаза выпучил, а из них прямо пламя пышет — смотреть страшно, кровь в жилах стынет, но через минуту снова будто солнышко проглянуло, и он сказал Пево:
— Ты сегодня в карман не лезь!
А сколько он заплатил Зайко, сколько заплатил музыкантам, слугам, одному ему ведомо, платил с глазу на глаз, по-благородному, только, видно, деньги огромные, так уж они все на него смотрели, улыбались, кланялись, готовы были три дня и три ночи не присесть, чтоб ему услужить. Но как только муэдзин стал сзывать на утреннюю молитву, Осман поднялся и сказал:
— Счастливого вам байрама, братья! И спасибо, что оказали мне честь встретить праздник как подобает.
И трезвый как стеклышко, будто и не пил ночь напролет, простился с Зайко, музыкантам велел не провожать далеко, праздник, мол, байрам, люди уже идут на молитву, не надо им мешать. Проводили музыканты Османа и его друзей до моста, на мосту сыграли последнюю песню, прохожие останавливались, а он прижимал руки к груди, кланялся и поздравлял их с праздником. Потом со всеми перецеловался, и с Махмудом тоже, двукратно, в обе щеки, и пошел домой. От волнения Махмуд не мог заснуть, вылил на голову два ведра воды, чтобы прийти в себя от ракии и от счастья, и долго после этого рассказывал об Османе и о незабываемой ночи, проведенной с ним.
Не очень-то это походило на Османа Вука, правда, мне не доводилось видеть его кутежи, но сдержанность и уравновешенность совсем не в его характере и обычаях. Или Махмуд что-то переврал, или я ровно ничего не знаю об Османе Вуке.
Лишь когда я услышал, что́ произошло той ночью в крепости, я начал кое-что понимать.
А в ту самую ночь, накануне байрама, из крепости похитили и увезли Рамиза.
После яции несколько всадников подскакали к воротам крепости, громко ударили кольцом и приказали караульному позвать коменданта — привезли, мол, важное распоряжение вали. Комендант вышел к воротам, ему показали письмо, и он впустил двоих в крепость, прочие же остались ждать за закрытыми воротами.
Что случилось потом, никто точно не знал, и об этом можно было только строить догадки, чем и занимались даже участники и свидетели происшедшего. Двое незнакомцев набросились на коменданта в его башне, хватили алебардой по голове и истекающего кровью оставили лежать на полу. Ключаря скрутили в караульном помещении у входа в подземелье. Потом вернулись к воротам, будто собрались уходить, караульный открыл им ворота, и не успел он обернуться, как тоже получил алебардой по голове. Он-то первым и очнулся — то ли потому, что был моложе, то ли голова оказалась крепче, то ли стукнули его не так сильно,— запер распахнутые ворота, поднял тревогу, разбудил стражников, те нашли ключаря, который хоть и пришел в себя, но понятия не имел, что с ним случилось, и сильнее всех пострадавшего коменданта. Коменданта долго не могли привести в чувство, поливали водой, растирали, и все впустую, пока наконец не догадались поднести под нос ракию и немного влить в рот — тут к нему вернулось сознание, но подняться он так и не сумел. На голове был большущий желвак, его тошнило, в теле слабость, в голове туман.
Рамиз из крепости исчез. Наступивший байрам запомнился людям этим событием.
Всюду говорили только о похищении, одни восприняли это как чудо, другие — как конец света, третьи — как геройский подвиг. Пронесся слух, что это сделал Бечир Тоска со своими гайдуками, другие утверждали, что это дело рук дервишей Хамзевийского ордена, третьи просто диву давались, потому что Рамиз был первым заключенным, похищенным из крепости. Одним это дало повод думать, что люди стали хуже, другим — что люди стали храбрее. Наверное, и то и другое было правдой.
Власти заволновались. Позор! Бандиты беспрепятственно проникли в крепость, но еще хуже то, что о преступлении Рамиза успели известить не только вали, но и Порту. Как теперь доложить об исчезновении преступника? Что же это за крепость такая, что это за стража, что это за власти?
Допрашивали коменданта и крепостной гарнизон, однако они знали ровно столько, сколько сказали сразу и сколько знал уже весь город. Комендант, еле ворочая языком от боли в голове, показал, что письмо в самом деле было от вали и с его печатью. Он, правда, письма не дочитал до конца, потому что злодеи ударили его по голове. Помнит только начало: «Почтенному коменданту…» — и больше ничего, а лучше бы ему и того не помнить. Ему принесли письмо, которое дерзкие бандиты оставили в его башне, и спросили, как он мог принять его всерьез, когда и слепому ясно, что печать подделана, и даже не очень умело, на что комендант ответил, что сейчас и он это видит, а тогда не видел, потому что не сомневался, да и свет был слабый.
Было известно, что власти спрашивали коменданта, почему он впустил незнакомых людей в крепость, почему не оставил их ждать за воротами, а письмо (в нем содержалось требование выдать Рамиза) не прочитал в своей башне. Он отвечал, что злодеи были одеты как сеймены — это подтвердили и остальные — и они хотели дать какие-то еще устные наставления; к тому же его ввело в заблуждение то, что они приказали закрыть ворота, пока будут в крепости. И разве мог он подумать что-нибудь плохое, когда их было всего двое, а в крепости десятеро вооруженных стражников, не считая его самого. Но больше всего обманула его непостижимая наглость этих людей. «Больше всего тебя обманула собственная глупость»,— любезно заметили ему.
Так никто ничего толком и не узнал. И я в том числе, хоть мне и было известно, откуда все пошло. Но дальше был полный мрак.
Когда я пришел к Шехаге поздравить его с байрамом, я спросил, где укрыли Рамиза.
Он взглянул на меня неприязненно, как на врага, и презрительно, как на дурака.
— Откуда мне знать? Почему ты меня спрашиваешь?
Я понял, что я и правда глуп как пробка, мне ли тягаться с ними!
Я не полез бы спрашивать Шехагу, если бы Осман Вук не избегал меня как прокаженного, словно мы с ним ни разу в жизни не встречались или ему наговорили про меня всяких ужасов.
До всего пришлось доходить своим умом. Ладно, Шехага дал деньги, а Осман нанял людей, кто знает кого — старых солдат, храбрых, но нищих, или лесных гайдуков, или бандитов, которые ни перед чем не остановятся, когда речь идет о деньгах. Потом он устроил пирушку в корчме Зайко, созвал гостей, пригласил музыкантов, был там и Махмуд, который разнес все подробности гулянки, сеймены ночь напролет кружили вокруг трактира, заглядывали внутрь, им подносили чарки, ночные караульщики тоже не проходили мимо; пьяницы, бродяги — все могли подтвердить, что Осман не выходил из трактира с заката солнца до рассвета, и снять с него и тень подозрения, если бы кому взбрело в голову заподозрить его.
Но кого он подкупил в крепости? Караульного? Нет, от него мало что зависит, и в ту ночь он вообще мог не оказаться у ворот, а если бы и был, не рискнул бы открыть ворота без разрешения коменданта. Нет, видно, удар по голове он получил задаром.
Тогда коменданта? Нищенское жалованье и докучливая служба наверняка осточертели старому служаке, и, наверное, он был готов пойти на все, если бы приличное вознаграждение позволило ему освободиться от крепости, где жизнь его мало чем отличалась от жизни заключенных, а то и жениться по примеру прочих людей, чего до сих пор он не мог себе позволить. Ему не было надобности знать людей, нагрянувших в крепость, и он, разумеется, говорил совершенно искренне, что видел их впервые. Договариваясь с Османом, он, вероятно, высказывал пожелание, чтоб похищение выглядело как можно достовернее, и согласился, а скорее всего, сам потребовал, чтоб похитители его стукнули не слишком сильно, но так, чтоб это послужило ему оправданием. Но тогда почему ему нанесли такой зверский удар? То ли они иначе не умеют, то ли стремились к вящей убедительности, а может, заплатили ему старый долг, только комендант едва жив остался; знай он, как тяжела рука злодеев, глядишь, и не пошел бы на такое дело. А может, и пошел бы — многого ли стоит здоровенный желвак и головная боль по сравнению с благополучием, купленным такой ценой. Думаю, он получил от Османа столько, сколько не заработал за всю свою жизнь, а для него уже пришла пора понять, что честным трудом не разбогатеешь. Правда, когда он, пролежав целую неделю, встал с постели, голова болела, как в сырой, пасмурный день. Болела она и когда он начинал думать. Но зато перестала болеть из-за многих других вещей, гораздо более важных. От раздумий он легко отказался, тем более что и нужды особой в них не было, да к тому же скоро сообразил, что раздумья никогда ни к чему хорошему не приводили. Спустя несколько месяцев он вышел в отставку — умер его дядюшка, оставивший ему, как он утверждал, наследство, хотя всем показался странным этот дядька, так ловко скрывавший, что у него есть что оставить. Но кто присягнет, что ему все про всех известно? Комендант купил именье у Козьего моста, женился на молодой бездетной вдове и, обрабатывая тощую землю и во всем опираясь на плодовитую жену, нажил небольшое состояние и множество детей. Прикладывая ломтики сырого картофеля ко лбу, когда в память о той счастливой ночи у него начинала болеть голова, он благодарил бога, что судьба наконец проявила к нему благосклонность и вознаградила за долголетнюю честную службу стране и султану.
Тияна во дворе услышала о побеге Рамиза, и я рассказал ей все, что знал. Она сразу встревожилась:
— А тебя не впутают?
— Кто станет меня впутывать? Я-то здесь при чем? И как можно меня впутать? Я понятия не имею, как это произошло.
— Ты уверен, что тебе ничего не будет?
— Уверен. Эту игру ведут люди побольше нас.
— Большие играют, маленькие слезы льют.
— На этот раз ты не права.
— Дай-то бог. Ты уж никому не рассказывай то, что знаешь.
— Дурак я, что ли!
Тут она вспомнила про Османа Вука и пустилась в рассуждения:
— Он и по виду настоящий гайдук! Такое только он мог сделать.
Меня смутили ее слова, надо было немедленно отвести от Османа подозрение.
— Что-то пришелся тебе по вкусу этот гайдук. А все потому, что назвал тебя красавицей.
— Оставь. Не говори глупости.
— Он это каждой женщине говорит.
— Мне-то что за дело!
— А побег устроил не он. Он ночь напролет пил.
— Мог выйти и вернуться.
— Он из корчмы шагу не ступил до самой зари.
— Кто ж тогда?
— Не знаю.
Не он похитил Рамиза из крепости, но все выполнено по его замыслу. Говорить ей это мне не хотелось, меня задело ее восторженное отношение к Осману, пусть и справедливое. Он делает что хочет, берет от жизни все, что ему нравится, он достаточно умен, чтоб все рассчитать как следует, и достаточно легкомыслен, чтоб не задумываться о причинах и следствиях. Если бы похищение не удалось и его люди погибли, его нисколько бы это не взволновало. Он думает только о себе. Жизнь для него — радость, наслаждение, занятное приключение. Он как ветер, как полуденное солнце, как весенний дождь, делает свое, живет, как живет природа, ни на кого не оглядываясь, люди получают от него, что могут и что он позволяет, а он знай идет своим путем, который никуда не ведет. Ему неведомы мечты и грезы, он твердо стоит на земле, пользуясь всеми ее благами, он не мечтает, а берет, не обороняется, а нападает.
Однако почему он освободил Рамиза?
Он придумал, как это сделать, устроил себе прочный заслон из сотни пар глаз, сознательно направив их в ту ночь на себя, и все произошло согласно его воле. Никому ничего и в голову не могло прийти, он с Рамизом и знаком не был, зачем ему было подвергать себя опасности?
А предприятие и впрямь было опасное. Если бы похитителей поймали, его роль непременно открылась бы, и тогда ему не помог бы и Шехага.
Почему он сделал это? Корысти ему никакой, Рамиз сам по себе его не волнует, да я и не верю, что он способен на какую-либо жертву. Поступает он, как ему заблагорассудится, слушается лишь своих желаний. Возможно, его толкнуло на это чистое упрямство, мятежный дух, жажда необычного и рискованного, желание посмеяться над смятением преследователей, устремившихся по ложному следу. Или вообще лишить их малейшего следа, оставить во мраке неведения, словно похищение было совершено не людьми, а бесплотными духами.
Мне было кое-что известно о героях, трусах, мошенниках, злодеях, мечтателях, малодушных чиновниках, тщеславных писарях, но об этом городском гайдуке я не знал ровным счетом ничего. Любое предположение, касающееся его, не отличалось ни полнотой, ни убедительностью и всякий раз могло быть опровергнуто другим.
В первое утро байрама я проснулся поздно, ночью долго ворочался без сна, слушая пьяные песни пекарей внизу и гул ветра с Требевича. Сна лишили меня Рамиз и Осман. Я не сомневался: Осман морочил мне голову, говоря, что собирается этой ночью как следует покутить. Начнет пиршество, а потом ненадолго оставит собутыльников, чтоб выполнить порученное ему Шехагой дело. Вернется, дружки подтвердят, что он не отлучался. Так, собственно, думала и Тияна.
Гадая, когда Осман мог появиться перед крепостными воротами, и воображая сотни препятствий на его пути, я все время отодвигал эту минуту. Вот сейчас! Но тут на улице раздавались голоса, песни и вынуждали меня снова оттягивать время. В полночь я услышал призыв муэдзина с Беговой мечети. Призывал к молению Салих Табакович, призывал не в урочный час и неизвестно кого, выкрикивал слова как-то необычно, словно жаловался в темной ночи на свой страх и одиночество. Выл как собака от ужаса, ведомого только ему одному, и делал это много раз в году, как Шехага пил, напоминая людям о несчастьях, о тщете жизни, о смерти. Этот жуткий крик, стонущий ветер, налетавший порывами, делали предпраздничную ночь непохожей на другие и придавали ей особый смысл. Сейчас самая пора — полночь, ветер, тьма, пустынные улицы, страх, заливший город. Ударит Осман кольцом по тяжелым воротам? Я обмер от этого воображаемого звука, единственного, произведенного рукой человека в это мгновение ночи. Предупрежден караульный о его приходе или его могут схватить?
В моем полудремотном мозгу начал возникать запутанный клубок опасностей — топот ног, крики, тревога, геройство, однако из всего этого клубка, который я не решался до конца распутывать, Осман и Рамиз каким-то образом выбирались, исчезали в ночи, мчась на конях, плывя на облаках, утопая во тьме.
И я снова возвращался к началу. Караульный поднял тревогу, прежде чем Осман успел что-либо сделать, в крепости зажглись огни, в городе одинокий человек кричал в черное небо о своем страхе, а я, счастливый, погружался в сон, унося с собой с этого света лишь тени двух смелых всадников.
Проснувшись, я вспомнил, что Осман ничего не сделал для спасения Рамиза, предпочел провести эту ночь в пьяном веселье. И тут же узнал, что похищение свершилось!
Только мы позавтракали, пришел Махмуд. Он не знал ни о Рамизе, ни о его побеге из крепости, да и не очень взволновался, когда мы ему об этом сказали. Его занимало более важное. И прежде всего пирушка в корчме Зайко. Выходил Осман ночью? Нет, никуда он не выходил. Зачем ему было выходить?
Я совсем растерялся. Всю ночь я продрожал за Османа, а он, оказывается, всю ночь просидел себе в корчме! Жалко, Тияна не слышала, она как раз вышла, чтоб принять праздничные гостинцы, которые принесли в двух корзинах слуги Шехаги. Корзины она вернула, подносы оставила.
— Шехага прислал,— сказала она, смущенная, видимо, неожиданным вниманием.
Махмуд растроганно кивнул головой, хотя и это его нимало не взволновало.
— Наверняка Осман вспомнил,— заметил он и продолжил свой рассказ все о том же Османе — какой это человек, какой друг, ведь несколько раз повторил, как ему приятно познакомиться с Махмудом, как они целовались на прощанье — в обе щеки, в обе!
Но, рассказывая и без конца возвращаясь к тому, что уже говорил, он мало-помалу становился все тише и словно бы печальнее. Во взгляде появилась задумчивость, голос сник.
— Ты что, устал? — спросил я его.— Или чем расстроен?
— Расстроен? Что ты! С чего мне расстраиваться?
— После такого веселья не мудрено и взгрустнуть.
— Да, но мне нечего грустить.
Даже и улыбнулся, показывая, в каком он хорошем расположении духа, и тут же, без всякого перехода, сказал, что сегодня утром пошел к Осману поздравить его с байрамом, а слуги не пустили.
— Скажите Осману, что пришел Махмуд Неретляк,— велел он им.
Один из слуг пошел и скоро вернулся.
— Нет Османа,— говорит.
— Как нет? Я слышу его голос!
— Нет его, нет дома.
— Ах вы наглецы, такие-разэтакие,— осердясь, набросился он на них.— Все расскажу Осману, вот увидите. Пусть знает, что у него за слуги! Лучших друзей не пускают!
Что проку, все равно не пустили. Да еще усмехались, стервецы!
Он долго вышагивал перед воротами, все ждал, вот Осман выйдет — и он с ним увидится, закоченел от холода, но так и не дождался.
Люди приходили с поздравлениями, слуги встречали их, прижав руки к груди, он слышал голос Османа, а повидаться с ним не смог.
Сунулся еще раз. Прогнали.
Так и ушел несолоно хлебавши, раздосадованный наглостью слуг.
Неприятно, Осман сочтет его невеждой, решит, что он позабыл друга, а что он может, разве он виноват? Придется объяснить ему, извиниться, авось не рассердится.
Значит, я не ошибся, он в самом деле расстроен.
Не понимает, что его сам Осман прогнал. Не хочет понимать.
Неужто он до могилы останется ребенком и будет грезить о дружбе с людьми, которые не снисходят до таких, как он? Мы его не устраиваем, своей нищетой мы постоянно напоминаем ему о его собственной бедности. О дружбе с блестящим Османом, хозяином жизни, до вчерашнего дня он мог только мечтать. Вчера они стали приятелями. Что произошло утром? Он проверял свою память и убедился: все было на самом деле, он ничего не выдумал, ему ничего не примерещилось. Осман и впрямь обнимал его, называл приятелем, расцеловал в обе щеки. А утром слуги не пустили его поздравить приятеля с праздником, обидели его, и все из зависти, злобы и ненависти, которые слуги питают к любому.
Осман здесь не виноват.
Для человека, сохранившего хоть каплю здравого разума, все было бы ясно с самого начала, и, будь у него малейшее чувство собственного достоинства, он послал бы Османа ко всем чертям. Но Махмуд в плену своих призрачных грез, своего желания, чтоб все было так, как ему хочется. И ему важно сохранить не достоинство, а дружбу.
И надо же было ему нарваться на Османа, который очаровывает людей, использует их и отбрасывает, чуть только пропадает в них нужда!
Осман — холодная скала, Махмуд — кот с перебитым хребтом, жаждущий тепла. Один не помнит, другой не забывает. Одному безразлично, другому — мука.
Что сказать ему? Дурень, приди в себя! Или: бедняга, забудь!
Смешон он и жалок, и не знаешь, то ли отругать его, то ли пожалеть.
— Лишь бы Осман не рассердился,— озабоченно повторил он.
Ушел он вроде веселый, но меня не обманешь: грызет его сомнение, как бы он ни старался его подавить.
Долго он будет горевать или скоро забудет? Вся его жизнь — цепь обманутых надежд, пора бы уже привыкнуть к разочарованиям.
— Плохую услугу я ему вчера оказал,— пожаловался я Тияне, когда Махмуд ушел.
— Дураком родился, дураком помрет,— отрезала она сердито.— Что ж мне теперь, плакать, коль Осман его выгнал? У него жена дома, сидел бы с ней!
Ну, сегодня явно с левой ноги встала!
Лучше всего дать ей на свободе полютовать, подумал я и решил пойти к Шехаге поздравить его с байрамом, про себя рассчитывая убить сразу двух зайцев — соблюсти обычай и избежать бури, которая каждую минуту грозила на меня, без вины виноватого, обрушиться. Вижу, молнии уже так и сверкают.
— Что ж, и перед тобой двери закроют? — язвительным тоном спросила Тияна.
— Шехага звал, неудобно не пойти. А не пустят, горевать, как Махмуд, не стану.
— Да вы готовы ползать перед ними! Ни стыда, ни совести нет!
Мне не хотелось уточнять, о ком она говорит. О гайдуках ли вроде Османа, или о богачах вроде Шехаги. Если она имела в виду их, тогда это для меня прямое оскорбление. А может, это все те, кто за пределами этой комнаты, все, кто не она? Если так, значит, это любовь.
Я выбрал то, что меня больше устраивало, поцеловал ее в щеку, показывая, что не обиделся на ее слова, и степенно вышел на улицу.
Дом Шехаги битком набит гостями, шум, как на постоялом дворе. У дверей я столкнулся с Османом, провожавшим Зафранию. Он прикинулся, что не видит меня или ему безразлично, видит он меня или нет.
Шехагу я встретил в коридоре, он только что проводил кадия. Неужто все приходят выразить ему свое почтение? Не любят, а приходят. И он не любит, а сердечно благодарит за внимание, приглашает снова заходить, мол, рад будет.
Знаю я, как он радуется!
Мне вспомнились события этой ночи, и я с наслаждением посмеялся в душе: сказать бы им, что Рамиза похитили по распоряжению Шехаги, стали бы они расшаркиваться перед ним и лебезить, скрывая свои мысли и истинные пожелания?
Я подошел к Шехаге, когда он остался один, поздравил его и поцеловал ему руку. Я думал, мы поцелуемся как равные, пусть и вопреки очевидности, но по сдержанному, напряженному выражению его лица понял, что близость со мной ему сейчас ни к чему. Может быть, оттого, что нас связала важная тайна и отношения наши другого свойства, чем с прочими людьми? Или я тоже принимаю желаемое за действительное, как Махмуд?
Нет, мы все-таки другое дело. (Все напрасно, человек неисправим, вечно обманывает себя, даже не сознавая этого.)
Чтобы не позволить ему оттолкнуть себя, я спросил, что с Рамизом, где его укрыли.
Ответил он без тени улыбки:
— Откуда мне знать? Почему ты меня спрашиваешь?
— А кого же мне спрашивать?
— Никого.
И улыбнулся заговорщицки, вводя меня в одну из комнат, где была в основном молодежь. Мелкая сошка. Знай, сверчок, свой шесток, а в старости будет, как с Махмудом. К счастью, меня это не очень трогает.
Да и заботило меня сейчас совсем другое: не шел из головы ответ Шехаги. Мне было стыдно и досадно, стыдно за себя и за свой дурацкий вопрос, досадно и на себя, и на Шехагу. Конечно, он прав, не нужно было спрашивать, тем более теперь, когда нас могли слышать сотни ушей, но мог бы и он ответить по-другому, не так грубо и оскорбительно. Неужто обязательно каждый раз показывать свое превосходство?
Я сидел мрачный и злой и прислушивался к разговору, который едва понимал.
Зачем я здесь? Надо было поздравить и убраться восвояси. Я убедил Шехагу спасти Рамиза, разве этого мало? Я сделал то, о чем и во сне не мог мечтать, чего я еще хочу? Без конца мусолить свое благодеяние, восторгаться своим добрым поступком, ликовать над поверженным врагом? Смешно, право!
Здесь другой мир, чужой и непонятный. Сделали — и точка. Что тут рассусоливать? Мы по простоте душевной любим пережевывать и тешить себя, перебирая в памяти случившееся. Они сделали — и забыли. Не могу не признать: они мудрее. Смелый поступок наполнил меня гордостью и радостью, они совершили смелый поступок — и молчок. Много ли мы совершаем и малых подвигов, не говоря уж о больших? Потому и нелегко нам с ними расставаться. А в их жизни один бог знает, сколько всевозможных дел и всевозможных тайн. Ведь у них все тайна, а у нас нет тайн. Верно, по этому признаку великие мира сего и отличаются от нас. По-настоящему важные вещи никогда не происходят у всех на виду, открыто. У всех на виду лгут, говорят громкие слова, у всех на виду лицемерят и совершают насилие. Важные дела, добрые или злые, совершаются втайне, их готовят, пока мы, ничтожные людишки, спим, а проснемся — и давай ахать и охать: что такое, откуда вдруг?
Устав от наивных мудрствований, я прислушался к разговорам молодых чиновников.
Говорили о похищении, посмеивались, ерничали. И крепость уже не крепость, сказал один. Когда-то крепость была надежнее могилы, теперь — заезжий двор на развилке. Завернешь, вроде Рамиза этого, чуток посидишь, поспишь, коли охота есть, отдохнешь, а надоест — и пойдешь себе своей дорогой. И вся-то разница, что на постоялом дворе платить надо, а в крепости тебе все даром. Жалко только, высоко стоит, на горе, подниматься тяжело, а то как бы хорошо завернуть на часок, от дел уморившись.
Другой заявил, что крепость вовсе не нужна, крупные преступники выходят из нее по своей воле, а мелких туда и сажать незачем. Превратить бы ее в лабаз под зерно и картошку! Места много, сухо, ничего не погнило бы.
Третий спросил: кто мог устроить побег? Вряд ли это сделала мать Рамиза, больно стара, и на коне не ускачет, и в сеймена-богатыря не переоденется, да и коменданта ей так лихо не стукнуть. Не могла этого сделать и беднота, что слушала его в мечетях, бедняки действуют не хитростью, для этого им ума не хватает, а голой силой. И не богачи, которые могли бы за неимением собственной храбрости купить чужую, потому что им здесь никакой корысти не предвидится, они вне всякого подозрения. А вообразишь, что в этом деле замешан человек, знающий толк в фальшивых печатях, знающий, как пишутся письма тюремщикам, как им даются распоряжения и от чьего имени, то тоже окажешься на ложном пути — Рамиз как раз и обрушивался на людей, которым все это известно. Зачем бы им во вред себе действовать? Вот и получается, что, по зрелом размышлении и принимая во внимание все обстоятельства, в похищении вообще никто не участвовал. А коль оно совершилось, ему и сказать нечего, поскольку в сверхъестественных силах он не разбирается.
Были это неглупые молодые люди, но порядочностью, на мой взгляд, они явно не отличались. Побег Рамиза сам по себе их не волновал. Они не на стороне Рамиза. Но и не на стороне своих начальников. Они издевались над их бездарностью с высоты своей одаренности, которой не дают ходу. Будь власть в их руках, Рамиз не сбежал бы из крепости. Это не было сказано, но само собой подразумевалось. Эти молодые старики, обогатив свое ненасытное честолюбие опытом старших, обеспечат нам чудесное будущее. Нынешние власти не возбраняют нам плакать, эти и того не допустят, и мы станем жить веселее. Нынешние власти допускают недовольство, безмолвное, тайное,— эти запретят, и мы будем жить счастливее, потому что недовольство делает людей несчастными.
Мне вспомнился вечер у хаджи Духотины — в который уже раз! — и я вышел из комнаты, чтоб опять не ляпнуть чего-нибудь непотребного. Нынешние бьют, эти будут кастрировать.
Не глядя, я прошел мимо Османа.
— Ты что, не видишь меня? — спросил он смеясь.
— Ты же меня не видел.
— Ребенок ты, что ли? Я нарочно, я же с Зафранией шел, а он известный нюхалка!
— Знаю.
— И разговор у нас был занятный. Знаешь, что я у него спросил? Как они дошли до такого срама? И почему такой шум подняли вокруг Рамиза? А он только посмотрел на меня и слюну проглотил.
— А почему ты Махмуда в дом не пустил?
— Какого Махмуда?
— Кутил с тобой у Зайко.
— Ах, этот! Да что бы я с ним стал делать в этакой кутерьме? Видишь, сколько народу? Кого только не было! И кадий, и муселим, и муфтий, и тефтердар. Я их всех рядком усадил. Ведь они грызутся и ненавидят друг друга, как собаки бешеные. Дай, думаю, погляжу, что будет. А они сидят бок о бок на сечии, кисло улыбаются, разговор стараются какой-никакой вести, чтоб люди видели, как они любят друг друга, будто никому ничего не ведомо! Муселим первым не выдержал, поднялся, чин чином простился и давай бог ноги. Кадий посидел чуть дольше и тоже выкатился, зеленый от злости. Потеха, сказать тебе не могу, словом, повеселился всласть!
Ему и это в радость. Все, говорит, считают своим долгом лично поздравить Шехагу, хоть и знают, что тот их терпеть не может. А приходят, потому что боятся. Знают, что вчера он был у вали и сегодня туда пойдет поздравлять с праздником и при этом может что-то сказать не в их пользу. Обмирают со страху: вдруг наговорит на них, вот и улыбаются угодливо, хоть у самих колики начинаются от одного его вида. Из-за вали боятся Шехагу. А вали немного надо, чтобы взъесться на кого-нибудь; так же, как они ненавидят друг друга, они ненавидят вали. А вали — их. Не будь этого, плохо бы нам пришлось. Живи они в согласии, от нас бы мокрое место осталось. Междоусобица их для нас чистое спасение, благослови ее господь! Испокон веку так было, вот простым людям и удается кое-как жизнь прожить, поскольку ихняя-то на волоске висит. Шехага много чего может, так много, что их озноб пробирает, лишь только они о том подумают. Друзья ли вали и Шехага? Оба, конечно, твердят, что друзья, выгодно им это, но не друзья они. Друзья — это что-то совсем иное, он не знает что, только не это. Вали — должник Шехаги. Мот он страшный, приехал сюда без гроша, Шехага помог ему, предложил денег столько, сколько надо, чтобы не испытывать нужды. И тот не испытывал нужды — за короткое время взял сто кошелей дукатов! На что он их потратил? Во-первых, легко тратить добытое без труда, а во-вторых, может, и не потратил, а отвезет туда, откуда приехал. Они все так — приезжают налегке, а возвращаются с целым караваном добра. Просто удивительно: ни одному человеку у власти не удается сохранить честность. Или боятся заварухи и отставки — а ведь надо жить и когда тебя скинут! — или уж так все поставлено, что нельзя не брать, пока тебя не скинут. Потом вроде снова честными становятся. О долге не говорят ни тот, ни другой. Вали не хочется возвращать долг, Шехаге не хочется получать долг, ибо долг делает вали слабее, а Шехагу — сильнее. Без долга вали был бы неприступен как твердыня, но состояние его убавилось бы на сто кошелей дукатов, а это целое богатство, и он предпочитает поступиться гордостью, зато выиграть в деньгах. Деньги — вещь полезная, ибо если власть — зло, то алчность власть предержащих делает ее переносимей. Как Шехага не боится, что этот долг может стоить ему головы? Ведь вали таким образом отделается от тяжкой обузы. В том-то и штука, что не отделается! Шехага умен и знает, с кем имеет дело: он взял у вали обязательство, заверенное всеми печатями и засвидетельствованное в суде, что вали выплатит весь долг в пользу богоугодного заведения — медресе или библиотеки, которые носили бы имя Шехаги, в случае если с ним случится какая беда, все равно какая. Оба прекрасно понимают, что это означает, и вали от всей души желает Шехаге долгих лет жизни и готов сделать все, чтоб оградить его от опасностей. Так вот отданные в долг дукаты превратились в чудодейственный амулет, который охраняет от всякого зла.
— Что ж, и ты тоже под защитой этих дукатов?
— Еще бы, конечно!
— Ну тогда не такие уж вы герои.
— А кто тебе сказал, что мы герои? И кому сейчас нужно геройство?
Я задал ему тот же вопрос, что и Шехаге: где Рамиз?
Он улыбнулся:
— Не в крепости.
— Много ты мне сказал.
— Больше тебе и не требуется.
Рассуждение Османа о ненависти оставили в моей душе тяжелый осадок. Что за жизнь у этих людей, думал я по дороге домой, какое непрекращающееся напряжение, каждый шаг и каждое слово строго отмерены и рассчитаны, а сколько сил отнимает стремление проникнуть в замыслы противника! Пытка, а не жизнь! На что уходит время! Для простых мыслей и чувств, для заботы о чем-либо, помимо спасения собственной шкуры, не остается места. Мы видим их силу, мощь, богатство, и знать не знаем об их несчастье, о постоянном страхе, они боятся себя, боятся других, боятся того, кто выше, боятся того, кто ниже, боятся того, кто умнее, подлее, ловчее, боятся тайны, тени, мрака, света, ложного шага, правдивого слова, боятся всего, всего на свете!
Стоит ли в таком случае удивляться их злобности!
Неужто и я завяз бы в этой дьявольской трясине, если бы каким-то чудом меня занесло на их путь? Наверняка. И понятия бы не имел, что за беда меня постигла: ведь и они не представляют себе, что можно жить по-другому.
И еще как можно! Пусть иной раз без хлеба, зато без ненависти, без постоянной дрожи и страха. Я могу позволить себе роскошь отдаться беспричинной радости, сильному чувству, необдуманно что-то сказануть, безрассудно поступить. У меня достаточно времени для простых, обычных мыслей, чувств и дел. Достаточно времени для себя — такого, какой я есть. И я собираюсь — правда, слишком уж долго! — жить мирной человеческой жизнью.
Их мысли постоянно заняты либо тем, кого они не любят и кто люто ненавидит их, либо тем, знакомым или незнакомым, кто готовит им западню {7}. Они всегда в состоянии войны, избавление им может принести только смерть.
А у меня в мыслях любимая жена (почему она сегодня такая сердитая?), а в сердце — детская радость: первый снег! Я гляжу на него с изумлением, словно вижу впервые в жизни, а он падает густыми хлопьями, набрасывая на город белое покрывало.
Незначительные мысли, незначительные ощущения, но насколько я с ними богаче! И явились-то они мне, похоже, для того, чтоб своей невинностью защитить от мрака их жизни.
Загребая стоптанными башмаками мокрый снег, навстречу мне шел Махмуд.
— Куда направился?
— Никуда. Хожу просто. Видишь, снег.
-Я говорил с Османом о тебе. Он жалеет, что так получилось. Столько народу набежало, он совсем голову потерял.
Обрадовался бедолага — в который раз!
— Может, сейчас пойти?
— Не стоит, давка страшная. Я сам видел его мельком. Успел только спросить про тебя.
— Тогда завтра?
— Лучше завтра.
Бедный мой Махмуд, и завтра будет то же самое, и завтра слуги не пустят тебя в дом. Но по крайней мере до завтра тебя будет согревать надежда. И на что тебе они? Мы не для них, и что касается меня, то и слава богу!
И я снова вернулся к приятным мыслям, прерванным встречей с Махмудом.
Первый снег, тихий разговор, глупое детство, зябкое счастье, мечта о прекрасном. Зайду за Тияной, пойдем бродить по заснеженным улицам, я стану рассказывать ей о детстве, нет, о том, как я люблю ее, как радуюсь тому, что живу на свете. Будем бродить — беспричинно, радоваться — беспричинно, смеяться — беспричинно, вернее, по одной-единственной причине — мы живем и любим друг друга. Да и есть ли причина важнее?
Тияна только вернулась откуда-то с посудой в руках.
— Ты где была?
— Раздала соседским ребятам, что Шехага прислал.
— И хорошо сделала.
— Конечно, хорошо. Я в милостыне не нуждаюсь.
Похоже, у нее сегодня день гнева. Дурное настроение не прошло.
— Это не милостыня,— сказал я спокойно.— Обычай такой.
— Ненавижу обычаи, которые унижают.
— Что с тобой сегодня?
Ничего, ответила она ледяным тоном, а вот что со мной? Она всегда одна, слова не с кем молвить (дальше — все наизусть знаю!), а ведь и она человек, нельзя же всю жизнь разговаривать со стенами! И чем только она согрешила перед господом богом, за что он покарал ее и что она сделала мне такого, отчего я так плохо к ней отношусь? От всего отреклась, забыла родных, отказалась от своих привычек, забросила друзей и знакомых — все ради меня. Я же ни от чего не отказался. Пропадаю невесть где и невесть с кем, у меня какие-то свои заботы, которые я таю от нее, по целым дням меня нет, про байрам не забыл, а она все свое мало-помалу позабудет и останется одна, как тростинка в чистом поле. В среду была ее слава, николин день, двадцать лет она проводила этот день с близкими, а в эту среду с утра до ночи просидела одна, все глаза выплакала — не из-за семейного праздника, а из-за своей незадавшейся судьбы. Почему не сказала? А разве обо всем надо говорить? Что ж, я сам не вижу? О Махмуде я пекусь, о Рамизе пекусь, о Шехаге пекусь, а о ней и думать не думаю. Она любую перемену во мне видит, малейшую тень на лице не пропустит, а я ничего не вижу, что бы с ней ни происходило. Привык, что она всегда ко мне внимательная, и даже замечать перестал, сама виновата, избаловала меня, скрывает все свои горести, нехватки всякие, недомогание — лишь бы не тревожить меня, не огорчать. Так хоть бы я это видел и понимал, все легче было бы. Другие мужья увиваются вокруг своих жен, угождают им, не знают, чем и побаловать. Она в этом не нуждается, говорит об этом потому, что знает, как другие живут. А как я к ней отношусь? Повел ли ее куда-нибудь поразвлечься? Никуда. Сделал ли ей что-нибудь приятное за эти два года? Ничего. Точно она служанка, а не жена. Мужчины вообще грубияны и эгоисты, внимательны только поначалу, пока не обвыкнут, а стоит жене подурнеть, как вот она подурнела, тут же бегут из дому. Она знает, и не нужно ей об этом говорить, по всему видно, я ее больше не люблю, и она не удивится, если услышит, что я завел себе любовницу. Но она этого не потерпит, как другие жены, она уйдет, уйдет куда глаза глядят, даром что у нее ничего и никого нет, в служанки пойдет, а унижать себя не позволит.
Короче, досталось мне и за мои действительные грехи, и за воображаемые, взвалили на меня грехи всех мужей, и живых, и мертвых, пришлось держать ответ за пороки дедов и прадедов, за повальную испорченность мужчин, которая не нуждается в доказательствах.
Вначале мне было смешно, потом обидно, потом взяло зло, и в конце концов я, как и она, уже не выбирал слов.
«Ты только посмотри, какой снег идет»,— говорил я. Потом: «Да что с тобой, побойся бога!» И наконец: «Почему ты меня так обижаешь?»
В гневе я напомнил ей, что, когда мы еще в первый раз встретились, я ей все честь по чести выложил, что я и кто я, ничего не утаил, она знала, что ее ждет бедность, и теперь я могу только сожалеть, что она не вышла замуж за торговца или ремесленника и не стала хозяйкой почтенного дома. (Во мне говорила злость и обида, а не ум и сердце, и я наяривал, как Муйо-дурачок в барабан.) Я не в состоянии предложить ей ни богатства, ни положения, я могу дать одну любовь. Но ей этого мало. Ей моя любовь как собаке пятая нога! И что она от меня хочет? Куда я должен с ней ходить? По базару, чтоб парни на нее глаза пялили? А о славе как я мог знать, когда я и своих святых давно забыл, и о байраме бы не вспомнил, если б Шехага не позвал. Разбаловала меня, говорит. Ничего себе разбаловала, костит на все корки, словно я бог весть что натворил. Это я ее до того добаловал, что скоро не смогу шагу ступить из дому, не хватает только цепь на меня надеть.
Потом мне было стыдно за свои слова, а еще больше за крик, но что поделаешь, дурь кого хочешь одолеет.
Еще бы, такая несправедливость — доброта моя не признается, любовь не ценится! Искры из меня так и сыпались, все во мне клокотало от жалости к себе, от обиды на нее, и в эту самую минуту вошел Махмуд Неретляк.
Он на мгновение застыл, поморгал своими воспаленными, усталыми после бессонной ночи глазами и кивнул головой, как бы извиняясь: продолжайте, продолжайте, я мешать не стану! И быстро вышел из комнаты.
Комичность ситуации, смущение Махмуда, его неуклюжий жест — мол, не обращайте на меня внимания, продолжайте себе — погасили мою злость, лишив ее остроты и силы. Ярость внезапно улеглась, иссякла, исчезла, и осталась только неловкость. Наша ссора, очевидно, удивила Махмуда, он, видимо, не думал, что и у нас такое бывает, но, придя в себя, решил исправить дело, благословив нас продолжать то, что мы начали и чем занимаются все.
Изумление в нем соединилось с долей удовлетворения; возможно, он испытал разочарование, что и мы не отличаемся от прочих, а возможно, радость от того, что и мы такие же, как все. Хотя, вероятнее всего, ему стало жаль Тияну, ведь вошел он как раз в ту минуту, когда я метал громы и молнии, а Тияна плакала, и в его глазах я был тираном, а она — жертвой.
Впрочем, какое это имеет значение!
Виноват я — вспыхнул как порох, нет чтобы промолчать, засмеяться, пошутить, позвать прогуляться по первому снегу. Выдержки не хватило, несправедливые укоры задели за живое. Тияну привело в раздражение что-то другое, а отыгралась она на мне. Разве это хорошо? А что, если она и в самом деле недовольна своей жизнью? Тогда, значит, не любит.
— Похоже, ты меня больше не любишь,— сказал я с укором, но уже мягче. Внезапно проснулась острая жалость к Тияне. Она сидела на сундуке, поджав ноги и упершись подбородком в колени, вид у нее был отрешенный. Я предпочел бы, чтоб она продолжала меня распекать.
— Если бы!
— Так в чем же дело?
— Тошно мне. Сказать тебе не могу, как тошно.
— Отчего?
Она чуть заметно повела плечами, и в самом деле грустная, несчастная.
Случись что-нибудь, она наверняка рассказала бы мне. Можно ли быть несчастной просто так, без всякой причины? Или виновата память, прошлое, дурная минута, глупые мысли? Я понимаю, когда грустят из-за того, что есть, или из-за того, что может быть. Но видно, все люди устроены по-разному. Придется привыкать к грусти без причины или по непонятной причине, порожденной внутренним ходом мыслей, расстроенных неизвестно чем, неизвестно отчего.
Жалко мне ее, не могу видеть ее такой убитой.
Я подсел к ней и нежно ее обнял, еще сильнее почувствовав, как она подавлена и несчастна. Что с ней такое? А я был так груб с ней!
— Ты видела? Снег идет.
Она не ответила, не обернулась, чтобы посмотреть. Мысли ее были заняты чем-то более важным и серьезным.
— Я думал, мы выйдем погулять. Все бело.
И на этот раз она промолчала. Ладно, подожду, пока между нами восстановится доверие. Ссора отдалила нас друг от друга. Тут она что-то сказала, но так тихо, что я не разобрал.
— Что ты шепчешь?
— Кажется, я беременна.
— Беременна? Правда?
Она кивнула.
— Слава богу! За такую весть будет тебе подарок!
— Боюсь.
Говорит она едва слышно, голос дрожит. Но теперь я уже все понимаю — угадываю.
— Чего ты боишься?
— Не знаю. Всего.
Чего бояться, говорил я. Все беременные женщины боятся. (Собственно, я не знал этого, но надо же было как-то ее успокоить.) Когда она первый раз носила ребенка, у нас была тяжелая жизнь, много волнений. И ей, с ее чувствительностью, это оказалось не под силу. Сейчас все по-другому, жизнь у нас спокойнее, пусть не такая уж хорошая, но и не плохая. И дальше пойдет не хуже, а лучше. Я сам был во многом виноват, но теперь я стал умнее, глупостей буду избегать, клянусь. Раньше мне казалось бесчестным молчать. Сейчас я молчу и не считаю себя бесчестным человеком. И все ради нее. Она для меня важнее всего на свете, важнее даже чести, в ней все мое богатство и счастье. Я вел себя гадко, грубо, только почему она мне сразу не сказала? Почему таилась — ведь знала, как я обрадуюсь.
Мне хотелось ее успокоить, и я не сказал всей правды. Я тоже боялся ее беременности и ее страха. Что принесет ей этот второй червячок? Одарит болью и муками? Разбередит сомнения и дурные предчувствия?
Вот откуда ее тоска и грусть — от таинственного зачатия нового живого существа, от тревоги за него и за себя, от страха, как бы не повторилось то, что однажды уже произошло, или еще хуже. Как она мучилась, пытаясь мыслью проникнуть в то скрытое и неведомое, во что невозможно проникнуть, и все одна — не мудрено почувствовать себя одинокой! Обрушив на меня град упреков, она, возможно, бессознательно корила меня за свои муки. И к сожалению, справедливо, так как, не будь я слеп, своей нежностью я если бы не избавил ее от них, то, во всяком случае, смягчил.
Она думала о ребенке, я — о Рамизе, в шумной ссоре мы излили накопившуюся горечь. Я не должен винить ее, вся вина лежит на мне.
Но все хорошо, что хорошо кончается, душу мою заливает стыд и бесконечная любовь, мы простили друг другу запальчивые слова, сейчас они кажутся нам смешными, доверие и близость вернулись и стали еще крепче из-за ее тайны и моего радостного раскаяния; тепло пекарни принадлежит только нам, мимо окна проплывают хлопья снега, чтоб нам было еще уютнее; мы уже не такие грустные и несчастные, как были недавно, хотя на лице Тияны и лежит легкая тень озабоченности.
После объяснения, которое я начал с шутки, продолжил бранью, а завершил раскаянием, я исполнился самых добрых намерений и старался не оставлять Тияну одну. Она нуждалась в моей помощи.
Беременная женщина — существо иного порядка, для себя самой непонятное; она близка к постижению самых сокровенных тайн. Все, что подавлялось, пробуждается, выходит из тайников души, проявляется, требует внимания. И оказывает неосознанное, но сильное воздействие. Женщина не в силах справиться с множеством новых, незнакомых ощущений; ни стыд, ни сила воли не могут их подавить. Ревность ее продиктована страхом подурнеть, вспыльчивость — стремлением освободиться от внутреннего напряжения, беспокойство говорит о душевном смятении. Кровь циркулирует по-другому, железы действуют по-другому. И все помимо ее воли. Она во власти более могучей силы, чем ее собственные желания, и не может ни пресечь ее, ни обратить вспять. Из-за тайны, которую она несет в себе, весь мир для нее наполняется тайной, а страх перед исходом рождает мысль о смерти. Она говорила «если я умру» точно таким тоном, каким говорят «если я простыну».
— Если я умру, как ты останешься один?
— Если я умру, ты будешь думать обо мне?
— Если я умру, ты женишься? Конечно, женишься. Смерть жены — это как удар по локтю. Боль резкая, но проходит быстро. Все женятся.
— Оставь ты эти разговоры, пожалуйста,— пытался я ее успокоить.
— А ты женишься, если я умру?
— Нет, не женюсь,— отвечал я серьезно вопреки всей смехотворности такого вопроса.
— Тебе так плохо было со мной, что ты не захочешь жениться в другой раз?
— Я умру от тоски по тебе.
— Нет, просто один раз обжегся, больше не захочется. А может, и года не пройдет, как женишься.
— А ты вышла бы замуж, если бы я умер? — пошутил я.
— Пожалуйста, не шути! (Лицо ее ужасающе серьезно.)
— Почему? Мы с тобой в равном положении. Но оставим этот разговор. Стоит ли говорить о том, что будет через пятьдесят лет?
— Раньше, гораздо раньше. Я чувствую. И боюсь.
Напрасно было взывать к ее разуму — ожившие страхи легко брали над ним верх. Лишь нежностью и лаской мне удавалось ее успокоить, это было единственное средство, которое помогало. Я смешил ее, тетешкал, как маленькую, не позволял уставать — сам делал и то, что умел, и то, чего не умел,— словом, превратился в самую добронамеренную и самую неуклюжую няньку. Она растроганно плакала, видя мое внимание, смеялась над моей неумелостью и постепенно успокаивалась, переставая считать себя одинокой и покинутой.
Вечером мы выходили пройтись, днем она не хотела показываться на улице, убежденная, что беременность обезобразила ее. Мне думалось, что сумерки она предпочитала еще и потому, что могла свободно опираться на мою руку, днем она постеснялась бы это делать. В темноте на улице она чувствовала себя увереннее, когда ощущала мою поддержку.
— Ты лучший человек в мире,— говорила она нежно, вся во власти нахлынувших вдруг чувств.
— Не так давно я был самым плохим.
— Сейчас самый лучший.
Махмуд предусмотрительно остерегал меня: Тияна прекрасная жена, но во всем надо соблюдать меру. Если я приучу ее теперь к такому вниманию, что я буду делать потом? В жизни нет ничего вечного — нельзя быть вечно добрым, храбрым или нежным; жизнь прожить — не поле перейти, а нет ничего тяжелее, чем обязанность, взятая на себя добровольно в минуту слабости или воодушевления. Отказаться стыдно, продолжать мучительно — и винить некого: сам на себя взвалил. Это про болезнь сказано: «Не уморит, так порчу оставит». Беременность же не болезнь, а я ношусь с женой, словно она при смерти, прости господи. Боком это мне выйдет, дай бог, чтоб он ошибся, жена так возьмет меня в оборот, что мне белый свет не мил станет. Женщинам только позволь командовать, и кто любит, и кто не любит — все одно. Он согласен, муж должен быть добрым к жене, не будет он добрым, будет другой, и потом, лучше жить по-людски, чем как собакам грызться. Но строгость никогда не помешает. Конечно, кто способен на нее. Ведь некоторым строгость не дается, говорит он это так, вообще, как было бы лучше, а не как есть на самом деле. Он понимает, у меня-то это навечно, а такое, прости господи, нелегко выдержать.
Когда я сказал, оправдываясь, что Тияна неважно себя чувствует, он предложил привести свою жену, она, мол, поглядит Тияну, вот и узнаем, все ли у нее как надо. Когда жена была поздоровее, она помогала при родах, да и сейчас ходят к ней, просят, молят, женщинам спокойнее, когда она рядом, она все про эти дела знает почище лекаря.
Мы с Тияной согласились, решив, что если пользы не будет, так и вреда никакого, и Махмуд привел свою жену, с которой нам до тех пор не случалось видеться. То ли он стеснялся нас, то ли ее, то ли себя при жене, Тияне и мне, сказать не могу. Может, приврал ей про наше положение. Или жена его настолько уродлива, что он боится ее выводить на люди, убежденный, что одно дело слышать, а другое — видеть, на слух уродство менее неприятно, чем на глаз. Или боится показать, что жена презирает его.
Не знаю, где здесь правда, но мне его жена сразу пришлась по душе. Она с трудом передвигалась на своих слоновых ногах, с трудом дышала — мешала одышка, с трудом говорила, утомленная ходьбой, но тем не менее говорила без умолку, весело глядя маленькими, заплывшими глазами. Прежде всего сказала, что Махмуд ей уши прожужжал, какая Тияна красивая да добрая, и она уже решила, что та злая уродина, потому что Махмуд все видит наоборот. Да и как же не наоборот, конечно, наоборот! Тияна не просто красивая, а писаная красавица. И наверняка добрая, ничего в ней нет колючего, никакой вредности, никакой скрытности, и смеется вот весело и приятно, давно такого смеха не слыхала,— такую красавицу да по утрам встречать бы, чтоб день задался. Судя по ней, так и я человек неплохой, при плохом муже и жена хужеет. Хотя Тияна осталась бы собой, будь я даже никудышным, по глазам видно, что доброта ее не напоказ, а всамделишная. Но все равно от мужа многое зависит, муж — сосуд, жена — вода. И опять же муж, который себе добра желает, всегда жену слушает. Мужчины до старости детьми остаются. Женщины — они рассудительнее, понимают, что для семьи надо, не торопыги, семь раз отмерят, прежде чем отрежут, особенно у которых дети. Ведь только женщинам ведомо, как тяжко носить детей, поднимать их, мужья думают, что это так, забава, редко когда помогут, чаще мешают, не со зла, конечно, а по глупости. Да что поделаешь, заключила она, весело смеясь, глупые, умные — они наши, и дай бог им здоровья, какие бы они там ни были!
Махмуд близоруко щурился и потихоньку тер себе голени, не глядя на жену и на ее два зуба, белевшие в пустом рту.
О ком это она? Если и о Махмуде, то ничего обидного она не сказала и ничего плохого нет в ее бодрых речах, меньше всего напоминающих жалобу.
Она велела нам пойти подышать свежим воздухом, мы вышли на узкий балкон и стали там топтаться — было холодно и сыро.
— Слыхал? Говорит, говорит,— рассеянно произнес Махмуд.
— Умные вещи говорит.
— Эх, посмотрел бы я на тебя, когда б тебе пришлось слушать эти умные вещи с утра до ночи!
— Ну, с утра до ночи ты дома не сидишь!
— Все равно хватает.
Мы замолчали, он думал о своих неведомых мне заботах, я думал о Тияне. Что-то скажет жена Махмуда?
А что, собственно, она может сказать, что она знает? Помогала роженицам, ворожила, предоставляя все божьей воле, одни умирали, другие выживали — кому какое счастье.
Что мне ее слова!
— Долго они что-то,— кивнул я в сторону комнаты, стуча нога об ногу.
— Не долго, просто волнуешься ты.
— Конечно, волнуюсь.
— Напрасно. Женщины как кошки.
Когда жена Махмуда позвала нас, я прежде всего бросил взгляд на ее лицо. Какое у нее выражение — довольное или притворно веселое? Она так и сияла. Значит, все хорошо, подумал я обрадованно. А ведь она замечательная женщина и в самом деле знает свое дело!
Тияна смущенно улыбалась.
— Лучше не бывает,— гордо изрекла жена Махмуда, словно это была ее заслуга, и постучала по дереву.
— Тияна беспокоится.— Мне хотелось услышать побольше утешительных слов.
— Все женщины беспокоятся. Но ей нечего беспокоиться. Нечего тебе, душенька, беспокоиться, родишь, даст бог, шутя, сразу вижу. У меня глаз наметанный. Сколько беременных выхаживала, у скольких роды принимала, и сказать тебе не могу. Да и сама четверых родила, по себе тоже знаю.
— Четверых? — удивился я.
— Двое живы, двое померли.
Я вопросительно глянул на Махмуда. Ведь он говорил только о дочке!
Ответил не он, а его жена:
— Сын у нас в Мостаре, в учениках у ювелира. Сейчас мы вдвоем кукуем.
И, вдруг спохватившись, оглядела убогую нашу комнатенку:
— Тесно вам здесь, детки. Махмуд, может, им к нам перебраться?
— Жаль уходить отсюда в холода. Видишь, как из пекарни теплом несет, иной раз и я прихожу погреться.
— И ругаться удобнее с глазу на глаз,— пошутил я, не сразу смекнув взглянуть на Тияну. К счастью, она смеялась.
Засмеялась и жена Махмуда:
— Ругаться мы вам мешать не будем. И вы нам тоже. Ругайтесь себе на здоровье, после ссор любовь слаще. Ладно, весной поглядим. С ребенком вам здесь будет неудобно. Как у вас с деньгами?
— Хорошо.
— Худо, конечно. Случится какая нужда, ты, дочка, приходи ко мне, что-нибудь найдется. Малость Махмуд добудет, малость я, много-то нет, да много не нужно ни вам, ни нам. Приходи и просто так, поболтаем, чего одной скучать.
— Я не одна. Ахмед со мной.
— Выгони его, нечего мужчине дома торчать, и приходи.
Я знавал подобных женщин, они приходили к моей матери, всегда бодрые, уверенные, занятные, самые спокойные создания на свете. Эти простые женщины постигли тайну душевного равновесия, не ища ее. Все их радует, добры, пока им не наступили на больную мозоль; если их обидишь, за словом в карман не лезут; любят позлословить, но не слишком, потому что не завистливы; зато в любой беде помогут; знают, что жизнь тяжела, но плакать из-за этого не плачут и всегда отыщут в ней что-нибудь хорошее, а радуют их самые что ни на есть простые вещи: весеннее цветение, чашечка кофе на траве в горах, свадебный пир в околотке; любят вести нескончаемые разговоры и говорят все разом и во весь голос, чаще всего отыскивая в людях и вещах смешное. Они бережливы, потому что не богаты, знают толк в удовольствиях, потому что не нищие. Они как цвет черешни, что распускается только тогда, когда не слишком холодно и не слишком тепло. Если людей мучает бедность, они становятся хмурыми, озлобленными, грубыми, бранчливыми. А богатые всегда равнодушны, одиноки, боятся шутить, боятся радоваться, в них нет простоты и непосредственности.
И Тияну она очаровала. «Боже, сколько в ней доброты,— с восторгом говорила она,— какая она веселая, бодрая. Какое счастье, что у Махмуда такая жена!»
Тияна другая. Слишком рано изведала она горе, одиночество, тревогу. И моя мать была другая, вечно в заботах о неверном муже.
Случайно ли я встретил Тияну или неосознанно тянулся к образу и подобию матери? Знать я не мог, верно, учуял, внутреннее чутье мне подсказало то, чего глазами не увидишь. Я как будто возвращал милое сердцу детство.
Жена Махмуда — благословение божье, но я не уверен, хотел бы я, чтоб Тияна была на нее похожа. Пожалуй, меня раздражали бы ее спокойствие и ясность духа. Пожалуй, обостренная чувствительность Тияны — признак (хотя и болезненный) более развитого ума и более живой души. Страдание и раздумья лишают нас беззаботного смеха.
Однако с трудом верится, что жене Махмуда неведомы горести и размышления. Видимо, есть такие редкие люди, которых ни мысли, ни беды не лишают бодрости и ясности духа. Даже делают их лучше. Интересно бы узнать, как это у них получается.
Меня удивило, когда она прямо спросила Тияну, не было ли у нас каких пропаж. Иногда Махмуд бывает зол на весь мир, и, если она не дает ему денег на выпивку, он нарочно что-нибудь утаскивает у знакомых, неважно что, лишь бы опозорить и себя, и ее и напакостить ей, заставить развязать узелок с деньгами, который она хранит на груди, не делай она этого — он бы все разом спустил. Тияна успокоила ее, у нас, мол, ничего не пропадало, да и взять у нас нечего. Жена Махмуда то ли в самом деле поверила, то ли сделала вид, но с Тияной они стали неразлучны.
Как-то Тияна сказала, что идет к жене Махмуда, побудет у нее часок-другой, вернется в полдень и приготовит обед.
Я удивился и даже обиделся. Значит, я уже не нужен ей и ни к чему обещание, которое я дал и себе, и ей, не оставлять ее одну. Она сама меня оставляет. Отходит постепенно. Однако во мне все же победило благоразумие: пожалуй, так лучше — погуляет (ей это полезно), выговорится, рассеется, займется чем-нибудь и думать забудет о своих страхах. Меньше поводов для ссор.
А чем мне заняться? Я мечтал о свободе, а сейчас не знаю, куда себя деть, что делать со своей свободой. В кофейню идти не хочется, люди говорят вечно об одном и том же, я молчу.
Бродить по улицам? Смешно и глупо.
Не идти же к реке смотреть на воду! Во-первых, шел снег, во-вторых, желания не было, и, в-третьих, мне не от чего бежать. Опустошенным я себя не чувствовал, каким угодно, но только не опустошенным.
Я подумал о книгах, в них человек виден не целиком, а в самых лучших своих проявлениях, в лучшие мгновенья своей жизни. С этим живым, но отсутствующим человеком можно разговаривать, можно радоваться, и он не ждет от тебя даже благодарности. С ним можно браниться, и он тебе на это не ответит ничем, кроме того, что он уже написал. Можно восхищаться своим умом, изрекая перед ним глупости, которые он терпеливо выслушает. Можно его бросить и перейти к другому, он не разозлится. И сердечно встретит тебя, всегда готовый продолжить разговор, когда ты вернешься.
Я отказался от этого разговора, не пошел в библиотеку.
Я вспомнил про Моллу Ибрагима, вдруг он знает что-нибудь о Рамизе, зайду-ка к нему, скажу, что у Шехаги я ничего не добился, поговорим о разных пустяках — вечных проблем трогать не станем, нет, сегодня я решительно не в состоянии быть один, без людей, а он — какой ни на есть — самый близкий мне человек. Пока обстоятельства позволяли, он помогал мне; когда это стало опасно, хотел помочь, и не его вина, что он не таков, каким бы мне мечталось его видеть. Об этом можно сожалеть, а сердиться бессмысленно.
В писарской я застал Шехагу Сочо. Он и Молла Ибрагим вели разговор, показавшийся мне занятным.
Шехага помахал мне рукой, Молла Ибрагим и того не сделал. Вдумчиво и серьезно он слушал Шехагу. Шехага остановился лишь на мгновенье, чтоб бросить на меня взгляд, в котором я прочел легкое недовольство: мой приход прервал его исповедь, вызванную необъяснимым согласием между ними, каким-то особым настроением и внутренней потребностью, а теперь вот приноравливайся к третьему. Но, видимо, в его голове была уже выстроена огромная армия слов и надо было дать ей ход, она сгорала от нетерпения, сказано было еще слишком мало, и он продолжил свою исповедь, и не для Моллы Ибрагима или меня, а прежде всего для себя. Он нуждался лишь в понимании или молчании. У Моллы Ибрагима он найдет и то и другое. Я буду молчать.
Человек жаждет могущества, сказал он, глядя на Моллу Ибрагима, который был весь внимание. Ибо он живет, действует, сталкивается с людьми. И хочет что-то оставить после себя, что-то сотворить, чтоб жизнь его не была похожа на жизнь бездуховного дерева. И ему кажется, что он чего-то достиг, что он важный и сильный, что он многое может. Но однажды господь заставляет его прозреть, и он вдруг видит, не вот этими глазами, а другими, более зоркими, что он лишь песчинка в необозримой пустыне этого мира, столь же мелкий и незначительный, как муравей в муравейнике. А муравьи жаждут могущества? Стремятся быть сильнее и значительнее других? Знают ли они муки, заботы, бессонницу, отчаяние? Нам это неведомо и не слишком интересно — уж очень они мелки для нас. А в таком случае разве не может существовать кто-то гораздо больше нас, кому наши беды и горести представляются пустячными? Мы его не видим, потому что он не укладывается в нашем сознании, о его присутствии мы догадываемся лишь тогда, когда он проявляет в чем-то свою волю. Муравей ведь тоже не видит человека целиком, из-за своей величины человек для муравья и не существует, он видит палец или прутик, когда мы преграждаем ему путь, ощущает сотрясение, когда мы разоряем муравейник, и все. А человек в сравнении со вселенной меньше муравья. И почему должен существовать только человек со своим образом мыслей? Мир существовал и до нас, существует и помимо нас, будет существовать и без нас. Исчезнет ли мир, если люди перемрут? Нет. Все останется на своих местах — и известное нам, и неизвестное, не будет только нас. Много есть тайн, к разгадке которых мы даже близко подойти не можем и, уж конечно, не в состоянии их объяснить. И пожалуй, самая большая загадка — смерть! Вот где настоящая тайна и ужас! И когда мы не думаем о ней, она думает о нас. Поджидает нас за углом и всегда застает врасплох, разом уничтожая все, что было. Зачем было проходить весь земной путь, зачем было надеяться, оплакивать потери, радоваться удачам? Все напрасно. Смерть делает бессмысленной и жизнь, и все, что ею создается. А за тем страшным рубежом — неведомая тьма. Конец известен, а что за ним — не знаешь. Примириться с ним не можешь, но и изменить ничего не в силах. Ведь происходит это не по нашей воле — мало кто сам испытывает желание умереть,— а по какой-то всемогущей воле, о которой мы ничего не знаем, кроме того, что она неумолима и непреклонна,— быть может, это какой-то всеобщий дух, ни в чем не похожий на нас и не подвластный нашему разуму, ибо он вне нашего опыта. Но если мы не в состоянии его познать, разве это означает, что его нет? Шехага не уподобляет его человеку, а видит в нем сверхъестественную силу и сверхъестественный разум, которые хладнокровно вершат судьбами видимого и невидимого мира. Напрасно его молить, напрасно заклинать, ибо его мерки и резоны не похожи на людские, а какие они — невозможно даже себе вообразить. Вот он и сам говорит: он, его, ибо мы не знаем, что это такое, и наш язык не способен выразить то, чего не может постигнуть разум. Если это так, а наверняка это так, немыслимо допустить, что мировой дух играет с людьми недостойную игру, позволяя им прийти из ничего, промчаться по жизни и безвозвратно кануть в ничто. Это же бессмысленная трата колоссальных сил. Гораздо вероятнее и логичнее и не так обидно, если тело смертно, а душа бессмертна, если Душа — частица общей мировой энергии, подаренная нам, данная нам на время при рождении, которая после смерти тела будет жить своей неведомой жизнью или вселится в новорожденного, чтоб продолжить свое вечное движение. Капля воды и та не исчезает бесследно, а лишь меняет свой облик, как же может исчезнуть все, что составляло жизнь человека? В основе жизни должен лежать какой-то высший принцип, а не бессмыслица, не зло, не безумие!
Я слушал и не верил своим ушам. Так ведь этот на вид сильный человек совершенно сломлен! Он больше не верит своим глазам, своему разуму, своему опыту, не верит ни себе, ни людям, не может совладать с мукой, что терзает его душу. Подкосила ли его смерть сына и собственное бессилие спасти его, уберечь от беды? Слишком уж жестокой, слишком бессмысленной кажется ему эта смерть, он ищет причину ее в проявлении высшей воли, и неотвратимость ее служит ему утешением. Непомерная гордыня не позволяет ему признать себя побежденным в схватке с людьми. Пусть лучше это будут боги, мировой дух — словом, что-то неподвластное человеческому разуму! Жестокость расправы с его сыном не становится меньше, но гибель его переходит в разряд событий, происходящих по непостижимым законам и предначертаниям. И пусть телом его сын мертв, душа его бессмертна, нелепая гибель сына — ничтожное мгновенье в бесконечном потоке времени; когда их души встретятся, они вспомнят об этом с усмешкой.
Будь мы одни, говори он это только мне, не знаю, что бы я ему ответил. Может быть, ужаснувшись, упал бы перед ним на колени, заклиная не терять хотя бы разум. Или плача склонил бы голову перед его терзаниями. Не думал я, что они так велики.
Но он говорил не мне, я был случайный слушатель. Скажет ли что-нибудь Молла Ибрагим или промолчит? Да и что можно сказать этому отчаявшемуся человеку, который ищет утешения за пределами земной логики?
Пока Шехага открывал свою кровоточащую душу, внешне оставаясь спокойным, Молла Ибрагим слушал, опустив голову, словно бы дремал. Но когда он заговорил, я понял, что он не пропустил ни слова. Молла Ибрагим тоже поразил меня. Они точно поменялись ролями и мыслями. Молла Ибрагим говорил словами, которые я мог ждать от Шехаги, а Шехага — словами, которые, по моему глубокому убеждению, могли принадлежать Молле Ибрагиму. Первый, сильный, говорил о бессилии человека, второй, слабый, говорил о долге человека оставаться человеком! Как это понимать? Один смягчал свою боль, пытаясь найти в ней высший смысл, который не в силах принять, другой отрекался от собственного малодушия, восхваляя человеческое мужество, на которое сам не способен!
Грустно смотреть на это самоотречение.
Молла Ибрагим согласился с Шехагой, что люди жаждут могущества, в этом он не видел ничего плохого. Не будь этого стремления, бед и горя стало бы в мире еще больше. Покорные, забитые, примирившиеся со своей злой долей люди — жалкие рабы, и только. Но жажда жажде рознь. Одно дело — жажда власти над людьми, желание покорить их, запугать, заставить делать вещи, на которые сами по себе они никогда бы не решились, принудить к молчанию, к беспрекословному подчинению праву сильного. Эта жажда безнравственна, она унижает и угнетателя, и угнетенного. Горе тому, кто испытал это на себе! (Кого он имеет в виду? Себя ли, униженного чужим принуждением, меня ли, пострадавшего в результате его унижения? Он скорбит, он защищается, он обвиняет!) Но совсем другое дело — жажда могущества, обращенного на пользу людям, оно добивается победы иным оружием — любовью — и побуждает к согласию. Это великая сила, если бы все люди овладели ею, зло стало бы невозможным. Человек, владеющий этой силой, не песчинка. Какой смысл спорить, есть ли верховное существо, может быть, и есть, но он убежден, что наши земные дела должны улаживать мы сами. Никто за нас этого не сделает. Ждать избавления от некой сверхъестественной силы и в ней искать утешения, а люди тщетно занимаются этим уже тысячи лет,— значит, в сущности, признать свое бессилие и отказаться от всякой попытки изменить жизнь людей к лучшему. Мир существовал до людей, он будет существовать и после людей. Ну и что из того? Пусть об этом заботится тот, кто будет жить тогда. Мы свои заботы не можем переложить ни на чьи плечи и обязаны учиться могуществу любви, чтоб не превращать жизнь в пытку. Что до души, он думал и о ней. Быстротечность жизни и неизведанная тьма вечности, поглощающая человека, порождает в душе страх и смятение. Когда он начал размышлять об этом, ему показалось, что законы развития рода людского несправедливы. Человек приходит в мир невинным младенцем, ничего не знающим ни о себе, ни о жизни, ни о грехе, ни об унижении, ни о тщеславии, все для него ново и свежо, все прекрасно, духовное начало в нем еще не развито. Потом он живет, долго и мучительно приобретает опыт, и, когда достигает полной зрелости, является мысль о смерти. И человек умирает слабым, изможденным, отчаявшимся, отягощенным мыслями о преступлениях, лежащих на его совести; он недоволен тем, что совершил в жизни, ибо чаще всего он это делал помимо своей воли, недоволен тем, чего не совершил, ибо только это он и хотел совершить, да отваги не хватило, он безумеет от сознания бессмысленности прожитой жизни и от того, что впереди непостижимая тайна смерти. Вконец напуганный, не находя опоры — а эту опору могло бы дать ему лишь убеждение, что совесть его чиста и жил он лишь по ее велению,— в отчаянии он хватается за мысль о вечности души, о ее бессмертии, о возможности где-то когда-то найти какой-то смысл. Так бесславно завершает он свое земное существование, сломленный, изверившийся. А насколько было бы лучше, если бы мы рождались старцами, постепенно достигали бы зрелого возраста, понемногу забывая первобытный страх смерти, затем становились самоуверенными юнцами, достаточно легкомысленными, чтобы ни о чем серьезно не задумываться, потом беззаботными детьми, а умирали бы новорожденными младенцами, ничего не ведающими, безгрешными, как зародыш в лоне матери. Какая бы это была прекрасная и свободная смерть! Но раз это невозможно, спасение — в любви и человечности. Так легче жить и легче умирать. Моллу Ибрагима не волнует, что его ждет после смерти: истлеет ли душа вместе с телом, или отлетит и будет наслаждаться покоем и бездельем, или, грязная и замутненная, будет подарена новорожденному младенцу, что было бы большой несправедливостью по отношению к безгрешному созданию. Его волнует другое: очень ему хочется, чтоб после его смерти люди или хотя бы один человек поминали добром его имя. Тем бы он и продлил свое быстротечное земное существование. Это желание заставляет при жизни не причинять людям зла, а иной раз и доброе дело сделать. Мысль о вечности души ни к чему не обязывает; как бы человек ни жил, что бы ни делал, все в руках некоей высшей силы, и душа закоренелого злодея вполне может оказаться в теле невинного младенца, едва появившегося на свет божий. Мысль о человечности справедливее, разумнее. Краткость жизни его не пугает, лишь бы совесть была чиста; если же она не чиста, так чем дольше живешь, тем больше зла творишь. Кому нужна долгая жизнь? Что делать с бессмертием? Ведь это самое большое несчастье, какое только может постигнуть человека. Агасфер — несчастнейший из людей. Моллу Ибрагима охватывает ужас при одной мысли о жизни, не имеющей завершения, жизни без конечного успокоения, жизни, не ведающей страха, но и радости тоже, жизни без любви. Бесконечность лишает жизнь смысла. Именно страх смерти придает прелесть всему, что нам доводится переживать. На этом коротком перегоне между двумя тайнами надо пройти через все, постигнуть радость чистой жизни и красоту любви к людям.
— Где ты видел таких людей? — яростно вопросил Шехага.— Те, среди которых мы живем, хуже волков. Чуть споткнешься, растерзают.
Молла Ибрагим качал головой, не соглашаясь с Шехагой.
— Не все люди такие. Злые вперед вылезли, потому и бросаются в глаза, а мы думаем, что все похожи на них. Не так это.
Он посмотрел на улицу. Двое его помощников медленно прохаживались перед писарской с грузом снега на головах и плечах.
Ради Шехаги он выслал их из писарской, ради меня — не захотел! Все его поступки противоречат его словам. Зачем же он говорит? И он, и Шехага? Или люди ценят и уважают лишь то, чего самим недостает? Кого они обманывают — себя, других? Или желаемое — это одно, а реальная жизнь с ее требованиями — совсем иное?
Молла Ибрагим наверняка хотел жить так, как говорил, но его желания натолкнулись на непреодолимые препятствия, и в душе осталось лишь жалкое воспоминание о том, каким он был когда-то, о добрых намерениях, сохранившихся только на словах, которым никогда не стать делом. Но и то, что осталось, прекрасно, как бывают прекрасны руины. Я не знаю, у кого он позаимствовал эти мысли, однако ничего более стоящего мне, пожалуй, от него не приходилось слышать, хотя в душе я недоумевал, как могут в одном и том же человеке уживаться малодушие и человечность.
Извинившись, Молла Ибрагим вышел на улицу к своим подручным, чтоб еще на некоторое время освободиться от них.
Шехага задумчиво смотрел ему вслед:
— Чушь. Умный человек, а говорит чушь.
— Мне близки и понятны его слова.
— У тебя мало опыта. Если бы ты знал жизнь так, как я, и в людях лучше разбирался, ты бы думал иначе. Что же он сам не живет по своим прописям?
— Бог знает, что его сломало.
— Ты для всех находишь оправдание.
— С чего вы начали этот странный разговор?
— Сам не пойму. Случайно, наверное. А может, и не случайно. Пришел я к нему о тебе поговорить. Чтоб он снова тебя взял. Да позабыл. Иногда вдруг тянет поговорить о том, чего до конца не понимаешь.
Пришел из-за меня, однако разговор увел их от меня бог знает куда! Очень мило с его стороны подумать обо мне, но я бы предпочел, чтоб он не позабыл так быстро о своем намерении.
— Разве не умнее думать о вещах, нам ведомых?
Он покачал своей узкой крепкой головой: хватит с него знакомых вещей, сыт по горло. Хотя его холодные серые глаза не столь решительны. Они по-прежнему обращены внутрь, к его безысходному горю, не так легко оторвать их от жизненного опыта и земли. Зачем он все это говорил? Чтоб оправдать свое бессилие, непростительное во мнении других, чьей-то волей, более могучей, чем воля человека? Но как можно, не принимая жестокости людей, мириться с жестокостью неведомых сил? Только потому, что они неведомы и непостижимы? Он был похож на павшего духом мученика, на неизлечимого больного, потерявшего веру в докторов и ищущего спасения в заговорах. Беда в том, что у него слишком много здравого смысла, чтобы поверить в чудо. А лекарство, что предлагал Молла Ибрагим,— примириться с людьми, жить по законам любви, а не ненависти,— для него тоже неприемлемо. Он предпочитает взвалить вину на бога, а не на людей, но в его ожесточившемся сердце так и останется ненависть и к богу, и к людям, и тоска по сыну, и яростный протест против непостижимой судьбы.
Не знаю, ждал ли он от меня каких-нибудь слов, я был слишком растерян и не нашелся что сказать. На каждом шагу я понимаю, что никак не могу понять людей. Слова их не совпадают с делами, а мысли? Пожалуй, этого они и сами не ведают. И что я могу ему сказать такого, чего он не знал бы сам, над чем не мучился бы долгими бессонными ночами? К молчанию меня склоняли и его руки, тугой судорожный узел, в который сплелись его пальцы. Он не размышлял, он страдал.
Шехага вызывал во мне жалость, меня поражала его полная безутешность. Неужто время нисколько не излечило его? Или он сильно обидел сына при жизни и смерть сына лишила его возможности искупить свою вину перед ним? Если это так, понятно, почему он познал ад здесь, на земле.
И пока я молчал, размышляя над тем, отчего люди постоянно задаются вопросом, как следует жить,— от неизбывного ли горя, или от несостоявшихся благородных порывов,— в писарскую вошел человек, который никогда в жизни над этим не задумывался. Это был Осман Вук. Он вошел вместе с Моллой Ибрагимом, сияющий, весело стряхивая шапкой снег с плеч.
— Снег валит! — сказал он с ликованием, словно никто не видит этой прекраснейшей и важнейшей вещи на свете и он счастлив сообщить людям эту радостную весть.
— Еле-еле сообразил, где ты можешь быть,— улыбнулся он Шехаге.— Есть разговор.
— Говори!
— С глазу на глаз надо.
Шехага перевел взгляд с него на нас, намереваясь проявить великодушие и показать, что у него нет от нас тайн, но благородная мысль тут же исчезла из его сознания. Он снова прочно, обеими ногами стоял на земле.
— Простите! — с улыбкой обратился он к нам и вышел с Османом на улицу.
Я тоже встал, тайны их меня не интересуют, разговор больше не возобновится, пора идти домой, подожду Тияну, если она еще не вернулась.
Однако Шехага открыл дверь и вызвал меня на улицу.
— Послушай вот. Скажи ему, Осман.
Не удивившись — видимо, они заранее условились,— Осман рассказал, что сейчас к нему приходил Зайко, трактирщик. Заявился, говорит, в трактир Авдия, сын Омера Скакаваца, малость под мухой, добавил еще и спьяну пошел бахвалиться, что знает, кто похитил Рамиза из крепости. По счастью, в трактире был один только Муйо Душица, грузчик, который с утра глушил ракию и сам уже лыка не вязал, а других и подавно не слышал. Зайко напоил Авдию до бесчувствия, и тот теперь спит в трактире. Муйо Душицу он кое-как выдворил, тот, видимо, думал, что это жена гонит его из дому, и не сопротивлялся, слуге приказал стеречь Авдию и никого в трактир не пускать, а сам побежал к Осману.
— Ну и,— спокойно заключил Шехага,— если парень и впрямь что пронюхал, может быть заваруха. Надо бы дать знать старому Омеру Скакавацу, да вот не придумаем, кого послать. Осману идти неловко. Зайко трактир не может бросить, да и не его это дело, новых людей ни к чему впутывать в эту историю.
Мне показалась обидной эта игра в прятки. Решив, что это должен сделать я, они ждут, чтоб я сам вызвался. А рассказали не все, таятся. С какой стати Зайко пришел к Осману? Но все равно, я сделаю то, чего они от меня ждут, не то еще подумают, боюсь. Покажу им, что меня это не пугает.
А ведь пугает. Сердце забилось, как мышиный хвост, когда я решился. И пожалуй, именно потому я сказал:
— Я схожу.
— А знаешь, где он живет?
— Знаю. На Белавах.
— Лучше всего сходи сейчас же.
— Почему Зайко пришел к Осману? — спросил я неожиданно для себя самого; за мгновенье до этого я не собирался ни о чем спрашивать.
Шехага рассмеялся:
— Я думал, ты не заметишь прорехи в рассказе Османа. Авдия говорил, что только он и Осман Вук знают, кто устроил побег.
Засмеялся и я:
— Прореха немалая. И что я должен сказать?
— Пусть заберет Авдию. И вразумит его. Ступай спокойно. Было бы опасно, я б тебя не послал.
— Разве похоже, что я испугался?
Я корчил из себя героя, не будучи им ни в коей мере, но страх прошел. Они помогли Рамизу, я помогу им. Дело небольшое, но и немалое.
— Не торопись. Делай вид, что гуляешь,— посоветовал Осман.
Встретится ли мне за углом Авдага? К счастью, не встретился. Я испытывал такое чувство, что тайна, которая сидит у меня в голове, проглядывает в моих глазах, что тень ее лежит на моем лице, что она сквозит в моих движениях, в моей походке. Они держали меня на расстоянии, таились от меня и, лишь когда я им понадобился, чуть-чуть приоткрыли завесу.
А снег шел с завидным постоянством, как бывает вначале со всем на свете, покрывая мои плечи, украшая меня хлопьями и остужая мой нос и мое возбуждение.
Значит, Шехага и Осман все сделали чужими руками?
Кто-то, видимо, пошел к старику Омеру Скакавацу с предложением, чтоб он с сыновьями выкрал Рамиза. Кто-то договорился о вознаграждении и затем выплатил его. Я же должен устранить возможные нежелательные последствия.
Да, но кто договаривался с комендантом крепости?
Со Скакавацами просто, для них это привычное дело, пожалуй, даже легче, чем угон лошадей из Мачвы и Посавины, что, судя по всему, их главное занятие. Согласны или не согласны — и весь разговор. Они вообще предпочитают не вступать с властями в какие бы то ни было сношения.
Но кто осмелился предложить измену коменданту крепости? Откажись он, смельчаку плохо бы пришлось. Наверняка сидел бы в одном каземате с Рамизом. Кто бы он ни был, он должен был хорошо его знать, чтоб не напугать рискованным предложением. Был ли это Осман, готовый тут же прикончить человека, потерпи он в переговорах неудачу? Или сам Шехага, слову которого поверят скорее, чем доносу тюремщика? Или кто-то третий, кого я не мог себе даже вообразить и кого не видел ни в одном знакомом мне человеке? Ведь в таком человеке должно соединиться несколько качеств — честность, чтоб ему можно было верить, как себе самому; ум, чтобы найти подход к тюремщику, не спугнуть его и не нарваться на отказ; бесстрашие, чтоб не испугаться возможной неудачи. Кто же этот человек?
Если бы это вдруг предложили мне, я с ходу бы отказался. Ни за что на свете не решился бы на разговор с тюремщиком. Для меня это было бы все равно что подписать себе смертный приговор.
Пойти к Скакавацу я могу, здесь и впрямь ничего опасного нет, пройду себе гуляючи мимо, будто первый снег выманил на улицу, передам что велели, словно и не знаю, о чем идет речь,— меня ни в чем не могут заподозрить, даже если все и выйдет наружу! Каждое дело находит человека по своей мерке. Моя мерка маленькая, как и дело, выпавшее на мою долю. Большего мне и не требуется.
Старого Омера Скакаваца я увидел еще с улицы, он стоял с вилами в руках на стоге сена — высокий, худой, жилистый, в распахнутой на груди рубахе и в накинутом кожухе, который мешал ему работать, и он размеренными движениями плеч поправлял его.
Двое парней, видно его сыновья, таскали сено в конюшню, где ржали и беспокойно били копытами кони.
Я подошел ближе, и старик холодно окинул меня быстрым взглядом черных глаз, опасливых и недоверчивых, грозных, как острие кинжала; не хотел бы я оказаться перед ними, когда они загорятся, когда эти угли, тлеющие под белой стрехой густых бровей, вспыхнут пламенем. И не только глаза — он весь настороже: судорожно сжатые руки, в которых он держит вилы, треугольник широко расставленных мускулистых ног, выдвинутый вперед квадратный подбородок, стиснутые зубы.
Он не спросил, зачем я пришел, что мне надо, кого ищу, он ждал моих слов, чтоб по ним определить свои действия. Примет он все одинаково — и пустячное, и важное, и опасное, а поступит, как ему выгоднее. Поэтому я заговорил первым, одним духом выпалив наказ Зайко и Османа.
Старик выслушал меня с грозным спокойствием, лишь между белых бровей пролегла резкая складка, и сердито кликнул сыновей.
Те выбежали из конюшни с вилами в руках и свирепо уставились на меня.
— Возьмите лошадей, привезите дурня от Зайко. Напился там, мелет языком всякое.
Парни круто повернулись, явно разочарованные, что расправляться надо не со мной, и пошли в конюшню за лошадьми, а старик продолжал таскать сено из-под снега. На меня он больше не глядел, спасибо не сказал, разговор закончен, я сделал свое, он свое. Можно уходить.
Пробормотав слова приветствия, которых он не слышал и не ждал, я попятился, не решаясь показать спину, смущенный немногословием старика и враждебным взглядом, которым он удостоил меня на прощанье. У меня было такое чувство, словно я вырвался из разбойничьего притона.
Только выйдя на улицу, я перевел дух.
Упаси меня бог встретиться с этими Скакавацами на узкой дорожке в густом лесу! И кинжалов не пришлось бы вынимать, я умер бы от страха, пронзенный их жуткими взглядами.
С какими же страшными людьми надо было сойтись Осману, чтобы выручить хорошего человека!
Неужто и доброе дело не обходится без насилия?
Чтоб вас черти взяли, будете теперь сниться мне по ночам, ироды! Слава аллаху, нет у меня важных дел, и я могу не видеться ни с этими, ни с другими Скакавацами.
Сохрани бог моего бедного доброго Махмуда, который мухи не обидит.
То, что произошло три дня спустя, еще раз убедило меня, что каждый должен держаться своей жизненной стези и не сходить с нее на чужую. Какая моя, я, правда, не знаю, зато знаю, какая не моя.
Авдия Скакавац, младший сын Омера, скоропостижно скончался, и сегодня его хоронят. Никогда не болевший, здоровый как бык, он сковырнулся в одночасье, отравившись непривычным питьем.
Отец и братья сами обмыли, обрядили его, завернули в полотно и позвали трех ходжей читать заупокойную молитву. День и ночь простоял старый Омер над мертвым сыном, лежащим на середине комнаты и прикрытым белым покрывалом.
Осман предложил мне пойти вместе на дженазу к Беговой мечети. Он-то и рассказал мне про Авдию.
— Ведь они убили его! — в ужасе воскликнул я, вспомнив Омера Скакаваца и его взгляд убийцы.
— Вряд ли. Скорее всего, с перепою, от белой горячки.
Однако тон, которым он отверг мои подозрения, еще больше укрепил меня в них. Да и говорил он лишь порядка ради, не особенно настаивая на своем мнении.
Нет, его наверняка убили, и Осман это знает; собственно, его рассказ и навел меня на эту мысль. А сейчас он говорит то, что положено говорить в таких случаях.
Парня били, думая выбить из него дурь, а выбили, не желая того, душу. Дикость нравов, страшная сама по себе, становится еще страшнее, соединившись с глупостью. Авдия совершил тягчайший грех, нарушив закон молчания, за которым они чувствуют себя как за каменной стеной, как в неприступной крепости. Они не хвастали своими подвигами, не требовали признания, ни слова о себе от них нельзя было услышать. Авдия заговорил, и над семьей нависла угроза. Они решили его вразумить, чтоб не болтал о том, о чем следует молчать, чтоб раз и навсегда запомнил: безопасность семьи священна. А когда им показалось, что кулаки образумили его, ибо слова тут бессильны, когда они решили, что он получил суровый урок сполна — а что значит для них сполна, трудно сказать,— и оставили его проспаться, Авдия заснул навеки, излеченный от скудоумия, выученный молчать как рыба, до конца постигший искусство оберегать безопасность семьи.
Они убили его, и это я сказал им о его преступлении. Выходит, я виновник его смерти!
Мысль эта поразила меня в самое сердце и настолько лишила покоя, что я начал яростно защищаться.
Я не виноват!
Знал ли я, что на свете есть такие люди! Неужто во имя собственной безопасности можно убить сына и брата? Я думал, они его выбранят, пригрозят, ну поколотят, однако такое мне даже в самом кошмарном сне не могло привидеться. И потом, я здесь лицо второстепенное, не я, так кто-то другой пошел бы к ним, а результат был бы тот же самый.
Я не виноват!
Я не виноват, твердил я взволнованно, ни в чем не виноват. Но не переставал думать о парне, которого отец и братья, обезумев от ярости, пьяного били и пинали ногами. А может, дождались, когда он проспался, и напустились на него с бранью за его непростительную промашку, а он возьми да и скажи им что-то такое, от чего они еще больше распалились и начали вершить свой семейный суд.
Что происходило в потаенной комнате или в темном подвале, что происходило в их головах, в их душах? Вероятнее всего, он молчал, ведь как-никак он тоже Скакавац, и это решило его судьбу, слов раскаяния от него не услышали, что всегда можно принять за вызов. Пожалуй, так оно и было. Сама смерть его была вызовом. Был ли он в сознании, когда на него сыпались удары, сотрясающие все нутро, рвущие жилы, видел ли он налитые кровью глаза братьев и отца, испепеляющие его огнем ненависти? Может быть, потому он и не покорился, не воззвал к милосердию?
В ужасе я представлял себе, как измолоченный вконец парень, у которого вся утроба кровоточила, из последних сил тянул перешибленную руку к голове, чтоб прикрыть ее, на что-то еще надеясь. Или уже ни на что не надеясь. И ни о чем не думая. Или он думал о том, что с ним поступают по справедливости, и поэтому молчал: дело семейное, никто и звука не должен услышать. Это касается только их, и больше никого. И он, и отец, и братья находятся во власти закона более могучего и сурового, чем они сами.
А может быть, Авдия восстал против жестокости этого закона? Ведь что в малом, что в большом сообществе — все одинаково!
Мне становится нехорошо от этих раздумий, от этих картин, подсказанных разыгравшимся воображением,— ужаса, крови, липнущей к остервенелым кулакам, костей, ломающихся с неслышным хрустом, хриплого, натужного дыхания, сменяющегося полной тишиной, имя которой смерть. Все эти картины еще больше усиливают во мне ощущение собственной вины. Взбудораженное сознание тщетно вопит о моей невиновности, о том, что все это случилось бы и без меня. Но это случилось с моим участием, и этого нельзя ни исправить, ни забыть.
Что за жизнь, что за мир, в котором делаешь зло, желая сделать добро! А ведь делаешь зло и тогда, когда ничего не делаешь, оставляя в стороне добро и зло. Творишь зло, когда говоришь — ибо говоришь не то, что надо бы говорить. Творишь зло, когда молчишь — потому что живешь так, словно и не живешь. Злом оборачивается вся твоя жизнь, потому что не знаешь, как жить.
Я случайно затесался в эту жизнь, и мои поступки — не мои.
Стоило мне пошевелиться, сказать слово — и я убил человека. Мы не были знакомы, ни разу не видели друг друга, и я виноват в том, что мы уже никогда не увидимся. И я бьюсь не над тем, почему он преступил закон семейной твердыни — то ли ему надоело молчать, то ли он задумал бежать, то ли ему захотелось сказать о себе что-то хорошее, важное — он же еще очень молод, ведь ему нужно не только дело, но и слово об этом деле или хотя бы о чем-то своем, личном! Нет, меня терзает другое — я сам, зачем я согласился и бездумно полез в чужую жизнь, желая проявить отсутствующую во мне храбрость, сравняться хоть в чем-то с людьми, с которыми мне не дано сравниться. Чем я так разгневал старого Омера — вырвалось ли у меня резкое слово, понял ли он по моему виду, что болтовня его сына сильно затронула меня, было ли что-то оскорбительное в том, как я держался? Нет, ничего не было, я был растерян, немного напуган, немного обижен враждебным приемом старика, думал опять же о себе, а не о своих словах и не о молодом Скакаваце. Приговор вынесен. Не важно, какие при этом произнес слова я. Не важно, почему пришел я. Достаточно того, что я пришел, что я сунулся в чужой огород.
Всю дорогу к мечети Осман что-то рассказывал, как всегда, похохатывая. Я шел по снежной протопке, не слыша его и думая о своей вине. Снег вокруг из чистого и сверкающего превратился в грязное месиво, машинально отметил я про себя, из харчевни несло удушающим чадом прогорклого масла. Кощунственный, как мне казалось, смех Османа усугублял мои муки.
— Слушай, перестань, пожалуйста, смеяться!
На лице Османа отразилось искреннее недоумение.
— А что такое? Чем тебе мой смех мешает?
Я не ответил, разозлившись на себя: хорош, людям уж и посмеяться нельзя!
К моему удивлению, он не рассердился и весело спросил:
— Что, с левой ноги встал? Ты сегодня как мокрая курица.
— Брось, змея отравится, если укусит меня.
— Вижу, только не пойму, с чего бы это? С женой поругался?
— Какое там!
— Может, живот болит? Съел что-нибудь тяжелое?
— Нет, не живот. Не выходит у меня из головы бедный парень, на молебен по которому мы идем.
— Почему, скажи на милость?
— Не пошел бы я к Омеру Скакавацу, может, и был бы он сейчас живой-здоровый.
— А, вот в чем дело! Знаешь, не сердись, но ты и впрямь дурак. Не пошел бы ты, пошел бы другой.
— Да, зато я не чувствовал бы на себе вины.
— Надо же. Шехага мне тогда так и сказал про тебя: «Не подходит он для такого дела». Почему, спрашиваю. Мальчонку любого можно послать свободно, не то что его. Выходит, Шехага прав. Ты и верно никуда не годишься!
— Вот бы счастье было, если б вы мальчонку послали. Я бы ничего не знал, и совесть бы меня не грызла.
Осман посмотрел на меня с сожалением, как на слабоумного или избалованного младенца, не имеющего представления о жизни. Он уже не смеялся. Взяв за плечи, он повернул меня к себе и грубо сказал:
— Ну-ка, послушай, что я тебе скажу. Ничего бы не знал, говоришь? Так ли уж ты в этом уверен? Не приди ты к старому Омеру, пришел бы кто-то другой, и все было бы так, как было, только у тебя совесть была бы чиста, знать бы ты все знал, только не мучился бы из-за своей выдуманной вины. А если бы мы не нашли кого послать или ошиблись в человеке, а тот струсил и вместо Омера Скакаваца побежал прямехонько к сердару Авдаге, что тогда? Ну-ка, пораскинь своими премудрыми мозгами! А было бы вот что: дурака Авдию взяли бы под арест и он все равно погиб бы. Арестовали бы и Османа Вука, который сейчас с тобой смеется, а случись такое, ему было бы не до смеха. Пожалуй, и Шехагу Сочо посадили бы за то, что послушался тебя и спас твоего приятеля. И всех троих Скакавацев. Арестовали бы, не дай боже, и тебя, потому что под пытками человек сам не знает, что говорит, и может невзначай помянуть любого. Сколько же это было бы покойников? Немало, черт побери. Ведь беда одна не ходит. И все из-за ерунды — не того человека, к примеру, пошлешь по пустячному делу. Теперь же один мертвый — и вины ни на ком нет! Было да сплыло, зашел малость глубже, вода и унесла. Ну как, смекаешь?
Я молчал. Грубая действительность иной раз бывает весьма убедительной.
— Вот тебе и весь мой сказ,— заключил он и снова заулыбался.— Пошли дальше? На молебне не стой ни с убитым, ни с веселым видом. Держись серьезно и спокойно. О парне не думай, так уж ему на роду было написано, и, говоря по чести, лучше так, чем иначе. Для него хуже, для нас лучше.
— Как можно о нем не думать?
— Очень просто. Думай о своей красивой жене. До чего ж она у тебя хороша!
— Ты опять за свое!
— А что? Уж и поговорить нельзя. Прямо скажу, не будь мы с тобой приятели, увел бы я ее у тебя.
Я поморщился, как от резкой боли.
— И я тебе прямо скажу: не люблю я таких разговоров.
— Я тоже,— краешком губ улыбнулся Осман, потому что мы уже входили во двор мечети.— Просто мне хочется навести тебя на другие мысли. Думай лучше о живой жене, чем о мертвом Авдии.
Что с него возьмешь? Ударит и приласкает, разозлит и утешит — все разом. Вот уж неунывающий сатана, без сердца, но с блистательным умом, точный и холодный, как часы. И такой же бездушный, как часы.
У входа во двор мечети просил милостыню знаменосец Мухарем. Он стоял молча, не протягивая руки, как прочие нищие. Я порылся в кармане, заведомо зная, что он пустой, и попросил Османа одолжить мне мелочи. Он вытащил, не считая, полную горсть.
— Дай Мухарему.
Я дал. Мухарем взял деньги, не сказав ни слова, ни поблагодарив.
— Старый лис,— весело сказал Осман, войдя во двор мечети.
Есть ли на свете что-нибудь способное тронуть его сердце? Явная несправедливость и та оставляет его равнодушным.
— О ком это ты?
— О Мухареме.
— Неужто тебе не жаль человека, оказавшегося в беде? Да еще не по своей вине?
— Ну да, героя выбросили на улицу!
— Что ж тут смешного?
— И заставили на старости лет побираться, чтоб с голоду не умереть!
— А разве не так?
— Не так, брат, совсем не так! Чего ты удивляешься? Не так. Шехага каждый месяц дает ему больше, чем он может проесть.
Я не мог скрыть изумления.
— Я слышал, он побирается в отместку за то, что ему отказали в просьбе.
— Точно, в отместку. А выполнили бы его просьбу, он был бы как все прочие. Может, еще и хуже. Ну, теперь тихо, началось.
Мы примкнули к толпе, стоящей за спиной муллы, покойник лежал на каменном возвышении перед мечетью. Мулла читал молитвы, а я думал об Османе.
По-разному мы с ним видим мир. В чьих глазах мир проще, а в чьих сложнее — в его или в моих? Пожалуй, его мир сложнее, он различает не только лицо вещей, но и изнанку их, не только видимость, но и суть, не только скорлупу, но и сердцевину. Для меня нищенство знаменосца — его беда и наш позор; для Османа — старческий каприз и мелкая месть. Мне всюду видится рок и безысходные раздоры людей. Он все мерит людской меркой, не выходя за пределы земного мира и не придавая особого значения ни несчастью, ни насилию: несчастья не минуешь, насилия не избежишь. «Да» и «нет» у него так переплетены, что их едва отличишь друг от друга, добро и зло — родные братья и зачастую идут рука об руку; вина и наказание — бессилие и могущество; жизнь — занятное ристалище, на котором одни погибают, другие одерживают победу, и не в силу чьего-либо ума или глупости, а в силу неловкости одних и изворотливости других. Неловких жалеть нечего, они были бы столь же беспощадны, если бы случай или удача посадили их кому-нибудь на шею. Волноваться вообще не стоит, самое лучшее — надо всем смеяться и глядеть в оба, чтобы не попасть под жернов. Не хочешь быть наверху, поостерегись, чтоб не оказаться внизу, и живи как твоей душе угодно. У Османа нет ненависти к людям, он лишь не принимает их всерьез и презирает за то, что они как последние дураки проводят свою жизнь в сварах и неизбывной суете.
В этой легковесной философии, которая чем-то и привлекала и отталкивала, удивительным образом соединялись бесцеремонность и доскональное знание людей. А во мне в свою очередь соединялись повышенная щепетильность и полное незнание людей. Мой взгляд на мир был проще Османова при всей легковесности его философии. Для меня «да» и «нет» — это лето и зима; добро и зло — две противоположные стороны света; число наказаний превышает число преступлений, и причинной связи между ними нет; жизнь — горестное поле битвы, где несколько палачей и множество жертв, где побеждает сильный и наглый, погибает слабый, и все это так грустно, что впору плакать, а не размышлять.
Мой взгляд на мир продиктован малодушием и слабостью, он неприемлем для человека дела; его взгляд на мир продиктован жестокостью и себялюбием, он неприемлем для человека мысли. Где же выход? Рамиз? Его отношение к миру и ближе мне, и непонятнее, ибо оно самое бескорыстное и самое опасное, но о Рамизе сейчас лучше не думать.
Предаваясь этому безмолвному смятенному самокопанию, я не слушал древние молитвы, которые я знал и которые так хорошо применимы к каждому новому покойнику: конец у всех один и милость от бога тоже нужна всем одна. Эта схожесть человеческих судеб и всегда одинаковые мольбы об отпущении грехов и делают похороны столь утомительными. Но когда мулла повернулся к нам и стал спрашивать, каков был покойный при жизни, был ли он добрым и честным мусульманином и заслужил ли царство небесное, я вздрогнул. Посмотрел на Омера Скакаваца. Я видел сбоку его напряженное, заострившееся морщинистое лицо, белые брови нависли над запавшими глазами, словно крылья белой птицы. О чем он думает, слушая, как мы отвечаем, что покойник был достойным и честным мусульманином? Сжалось ли у него сердце или он и сейчас отгоняет от себя скорбь? Он вскинул голову, борясь с собой, не поддаваясь горю, и вдруг его голова стала опускаться все ниже, ниже на грудь. Слеза скатилась по редким ресницам и медленно поползла по рябой щеке, исчезнув в глубоких морщинах. Я толкнул локтем Османа, кивком показав ему на Омера. Осман глазами сделал мне знак, что все видит. Но тут упрямый старик резким движением снова вскинул голову и устремил взор в окно мечети — над землей, над каменным возвышением, над покойником. Он был один на один с собой. Ему стало стыдно за свои слезы и перед собой, и перед людьми. Одолеют ли его скорбь и раскаяние, когда спустится ночь, разъединяющая и обособляющая людей, и темнота, сталкивающая нас с самими собой? Или он спрячется за преступление сына и священную неприкосновенность семьи? Сейчас он стоял перед нами как жертва немилосердной судьбы, люди жалели его — жалели убийцу! А подлинная жертва лежала на каменном возвышении, покрытая иссиня-черным сукном, неподвижная и безмолвная, явный и красноречивый укор лишь отцу да братьям. И хотя я знал все и про отца, и про сына, мне было жалко обоих. И тот и другой — жертвы.
Когда по примеру прочих я подошел к Омеру выразить ему соболезнование, его каменное лицо судорожно передернулось и я почувствовал в своей руке его оцепенелую, холодную как лед ладонь. Он узнал меня и вспомнил тот день, когда сын его был еще живой. Я был вестником несчастья и для него, и для его сына. Я поспешил отвести свою руку, горячую и влажную, потрясенный слепой ненавистью старика.
— Он готов ненавидеть и тебя, и меня, и сыновей своих, и весь мир, лишь бы не думать о своей вине,— шепнул мне Осман, угадав мое состояние.
Мысль о собственной вине ушла из моей головы. Я думал, она будет мучить меня при виде тела Авдии, но, занявшись разгадыванием тайн невозмутимо-холодного лица старого Скакаваца, я совсем позабыл про себя. И лишь когда впечатления мои поостыли, сгладились и потеряли остроту и яркость, как бывает со зрительным образом, когда закрываешь глаза, мне вдруг стало не по себе, я почувствовал смутную тревогу, причины которой не мог понять. Минутами я забывался, но она снова возникала, рождала смутное ощущение назревающей беды. Тревога эта не была связана ни со стариком, ни с его сыном. В чем же дело? Так иногда дают себя знать затаенные страхи, тягостные предчувствия, особенно из времен войны, когда, бывало, ползешь по лесу, с трудом усмиряя всполохи сердца, чующего близость неприятеля. Я всегда отыскивал причины подобной тревоги, вылавливал и извлекал на свет божий эти вроде бы уже призрачные страхи, а потом все же опять находил их в основе, казалось бы, совершенно беспричинного страха. Но на сей раз я никак не мог разгадать неведомую мне причину знакомого ощущения тревоги, хотя перебирал в уме все, что могло ее вызвать, пытаясь приманить ее ласковым зовом, как факир мелодичной игрой выманивает из логовищ змей. Мой зов оставался без ответа. Оставалась и тревога, смысл которой мне был по-прежнему неведом.
Вдруг без всякой причины я обернулся и встретился взглядом с сердаром Авдагой.
Так вот почему мне стало не по себе и я почувствовал тревогу и смятение!
Возможно, я видел его и раньше, но, занятый своими мыслями, не осознал этого, не заприметил, а возможно, и не видел, и он сам, прилепившись взглядом к моему затылку, подал весть о себе прежде, чем я его углядел. Сердце учуяло, как некогда чуяло неприятеля.
Так и стояли мы — пуля и мишень.
Когда я подошел к Омеру Скакавацу, я видел, что с Авдагой разговаривал Осман.
Снова сойдясь с Османом, я спросил его:
— О чем ты говорил с Авдагой?
— Спросил его, знал ли он Авдию.
Безумец! Или он как ночной мотылек кружит вокруг свечи? Желая его предостеречь, я укоризненно сказал:
— Знал я одного солдата — стоило начаться бою, он метался как угорелый. Лез в самое пекло, лишь бы не ждать. Вскоре его убили.
— Нет, я не чета твоему пугливому солдату. Авдага сам собирался спросить меня об этом, просто я его опередил. Потом он задал мне тот же вопрос. «Мы с тобой,— сказал я ему,— всех знаем. Ты по своим делам, я по своим. С той лишь разницей, что мои знакомцы от меня не прячутся».
— Он все время смотрел на меня.
— Он на всех смотрел — ему за то деньги платят! Плюнь!
Я попросил Османа зайти вместе со мной к Махмуду Неретляку — он здесь рядышком, в ювелирном ряду, пусть скажет ему пару добрых слов, ведь бедняга до сих пор не может забыть и пережить, что слуги не пустили его в байрам к нему в дом.
— Дурак твой Махмуд! И чего привязался?
— У него давняя мечта завести дружбу с важной особой.
— И я эта важная особа?
— Целыми днями только о тебе говорит.
Осман от души расхохотался:
— Так он еще глупее, чем я думал.
Все же он согласился повидаться с Махмудом, хотя моих доводов не понял и наверняка решил, что я или малость чокнутый, или что-то от него таю. Он не признает жалости, считая ее оскорбительной и для того, кто жалеет, и для того, кого жалеют. Предупредил только, что у него мало времени и он не любит тратить его на пустяки, но так уж и быть, ради меня, раз я его прошу, скажет ему пару глупых слов и тут же пойдет по своим делам, и без того потерял уйму времени.
Махмуд сидел в лавке. Мы видели, как оттуда вышел и снова вошел молодой человек — то ли его позвали, то ли он о чем-то вспомнил и вернулся.
Подойдя ближе, мы увидели, как этот худощавый, высокий молодой мужчина, держась за ручку полуотворенной двери, что-то говорит, словно бы прощаясь и собираясь уходить. Но, когда мы услышали, что он говорит, мы остановились, посмотрели в приоткрытую дверь и переглянулись в растерянности. Я сразу понял, что это сын Махмуда, ювелир, приехал из Мостара по делам к отцу. Но господи боже, что это был за разговор! Разговор — не то слово. Это был бешеный поток брани, в который Махмуду изредка удавалось вставить робкое слово.
— Это его сын,— смущенно шепнул я Осману.— Пойдем отсюда.
— Погоди, дай послушать!
Он встал за дверью и слушал с напряженным вниманием, нехорошо ощерясь и невнятно что-то бормоча.
— Стыдно так говорить, да? Стыдно делать то, что ты делаешь всю свою жизнь! С тех пор как я себя помню, я не могу от стыда избавиться. Сколько я пролил слез из-за мошенника отца. Ты у меня детство отнял! Говоришь, отец ты мне. Да, к сожалению, отец. Потому я и сбежал из дома, из-за тебя сбежал, стал изгнанником, как и ты, только без всякой своей вины. И теперь, когда я хочу начать новую жизнь, я имею право требовать свою долю.
— Вот тебе лавка, вот дом, приводи жену сюда, будем жить вместе.
— Лучше в Неретву брошусь, чем вернусь сюда.
— Подожди, пока деньги соберу.
— Не хочу ждать, никаких денег ты не соберешь. Продай лавку, продай дом, зачем вам такой большой, купите поменьше.
— На старости лет, сынок, крова родного лишаться? Неужто не можешь подождать нашей смерти? Недолго уж осталось.
— Я ждать не могу, мне сейчас деньги нужны.
— А ты с матерью говорил?
— Я вот с кадием поговорю и через суд взыщу свою долю. А мать увезу в Мостар.
— Ей хорошо со мной.
— С тобой никому не может быть хорошо.
Осман улыбнулся краешком губ и громко затопал ногами, стряхивая снег, чтоб в лавке услышали.
Я было схватил его за руку, хотел удержать, но он вырвался.
В лавке стало тихо.
— Не говори, что мы слышали разговор.
Он вошел в лавку. Неужто скажет? Махмуд — человек непутевый, но гордость у него есть. Даже про сына молчал, чтоб не открывать своего горя.
— Помешали? — спросил Осман, глядя на молодого человека.
— Еще чего! Нет, конечно!
Разумеется, не помешали. Помощь подоспела как нельзя вовремя.
Но Махмуд по-прежнему шарил глазами по лавке.
— Кто это, Махмуд?
— Сын.
— Красивый у тебя сын.
Махмуд растерянно смотрел на нас, гадая, слышали мы их или нет.
Я поспешил его успокоить и перевести разговор на другое. Осман яростно бил сжатым кулаком правой руки по ладони левой — вполне могло случиться, что собственной ладони ему покажется мало.
— Зашли вот повидаться с тобой.
— Спасибо,— пробормотал Махмуд.
— И сказать тебе, что тогда в байрам нескладно получилось,— добавил Осман неправдоподобно ласковым голосом.— Жаль, что не удалось встретиться. Вон Ахмед знает, дел столько навалилось, голову поднять было некогда.
— Знаю, он говорил мне.
Парень повернулся к отцу:
— Ну я пошел!
В словах звучала угроза: я пошел, но скоро ты обо мне услышишь!
И он вышел, не взглянув на нас. Сильного впечатления мы на него явно не произвели, а может быть, он нас сразу сбросил со счетов, услышав, что мы в приятельских отношениях с Махмудом. Жаль было Махмуда, но парня я не осуждал: его жизнь тоже не гладкая стежка.
Махмуду захотелось оправдать поведение сына:
— Женится, не знает куда приткнуться. Сейчас вот только говорили, что мне надо бы продать лавку, а он купит что-нибудь в Мостаре.
О, мука родительская!
— Продавай,— решительно сказал Осман.
— Да вот не знаю, продать тоже нелегко. Как продавать — все дешево, а как покупать — все дорого. И жалко: придешь сюда, сядешь — и вроде бы делом занят.
Внезапно Османа осенило:
— А чего ты сидишь в пустой лавке и воображаешь, что делом занят? Почему и впрямь делом не займешься?
— Стар я, Осман. Чем я могу заняться?
— Знаешь лабаз Шехаги, в котором мы зерно держим? Сможешь записать, сколько мешков зерна принял?
— Как не смогу, конечно, смогу.
— Тогда вот что: доставай мангал и приходи за ключами. Дедо уходит, свою лавку открывает.
Махмуд проглотил слюну, кадык медленно сползал по его тонкой шее, взглянул вопросительно на меня, не шутка ли это, подошел к Осману и остановился перед ним в полной растерянности.
Вот-вот начнет вращать глазами или махать руками, а то и вовсе упадет.
Но нет! Держится молодцом. Взволнован до крайности, однако держится!
Я и сам взволнован. Что это с Османом?
— Если не шутишь,— произнес Махмуд дрожащим голосом, стараясь скрыть свое волнение,— если в самом деле не шутишь… Я, понятно, согласен. Еще бы не согласиться. Если, разумеется, не шутишь… И уж как благодарить тебя, ума не приложу!
— Какие могут быть шутки, какая благодарность?! Я же тебя не муфтием назначаю. А свою лавку продавай!
— Продам. Пойду жене скажу. Сразу же. А дом? Может, и дом продать?
Он уже терял голову.
— Зачем?
— На что нам такой большой? Куплю поменьше.
— А если сын со снохой приедут? Тесно будет в маленьком.
— Ты прав. В самом деле тесно будет.
Возвращались через торговые ряды молча. Осман крутил головой, словно все еще не мог прийти в себя от удивления и досады. Я сказал то, что думал:
— Не ожидал я от тебя такого. Ты мне другим представлялся.
— Разозлил меня этот осел.
— Я боялся, ты его ударишь.
— И то. Или ударить, или какую-нибудь глупость учудить — другого выхода не было.
— Никакой глупости ты не сделал.
— Ну да, не сделал. Знаешь, какой ералаш он там устроит? Махмуд ни на что не способен.
— Не давай ему в руки денег,— сказал я неохотно, решив все же, что так будет честнее и по отношению к нему, и по отношению к Махмуду.
— И это ты о своем приятеле говоришь?
— Лучше не вводить его в искушение. Случай рождает вора.
Осман рассмеялся. Похоже, он смехом лечится.
— Вор тоже создает случай. Искушения Махмуду не миновать. И он не устоит. Денег у него не будет: я сам за все плачу. Отсыплет килограмма два зерна из каждого мешка — ему и довольно. Так и Дедо делал, а теперь вот собственной лавкой обзавелся. И любой на его месте так сделает, хоть святого приведи. Ну, да это не больно важно. Хороший торговец знает эту человеческую слабость и заранее учитывает убыток. Неглупо было бы нам во всей нашей жизни заранее учитывать возможные убытки. Знаешь, что без них не обойтись, и уже не огорчаешься.
Так я впервые убедился в том, что и у Османа есть слабости. И впервые ошибся в Махмуде.
Из лабаза Махмуд устроил целое царство.
Лабаз побелили, вымыли, проветрили, и он стал светлее и пригляднее, а конторка, в которой сидел Махмуд, превратилась в уютную комнату. Посередине — мангал, полный жара, вдоль стены — красивая сечия, пол блестит, стены белые. Махмуд сидит рад-радешенек.
— Хорошо у тебя,— сказал я то, что Махмуду наверняка хотелось услышать.
— Было плохо.
— Верю.
— Когда я первый раз увидел, меня чуть не вывернуло. Грязь, темнота, омерзение, противно войти, не говоря уж о том, чтоб здесь сидеть. Где ж, думаю, я приятелей буду принимать? Уговорил Осман-агу, мастера побелили, мы с женой убрали все и вымыли, из дому принесли кое-что, и вот теперь стало хорошо. Ты, верно, удивляешься, зачем мне такая сечия. Осман-ага тоже удивлялся…
— Какой еще Осман-ага?
— Осман-ага Вук. Сечия для гостей — соседей, торговцев, ремесленников. Утром уже приходили. Вчера я их всех обошел, пригласил на новоселье.
— Это первое, что ты сделал?
— Вначале убрал, а потом позвал. Все как водится.
— Что ж, будешь советы им давать?
— Боже сохрани! Среди деловых людей такое не принято. Разве кто сам попросит. Да у меня и своих дел много.
— И ракией не пахнет.
— Здесь не пью, не положено. Пью дома, понемножку перед сном. На службу ведь рано поднимаешься, негоже опаздывать.
— Постой, ради бога! Может, я заблудился? Или говорю с двойником Махмуда? Неужто от прежнего Махмуда ничегошеньки не осталось?
— Взялся за ум, только и всего. Надеюсь, к лучшему. Пора бы и тебе угомониться.
Что стало с Махмудом? Балаболка сорока превратилась в мудрую сову! Вот что значит человек нашел свое место! Раньше не признавал никаких правил, ровно мальчишка-недоросток, теперь назубок шпарит законы торгового мира, как завзятый лавочник. Что с ним Осман сделал? Оторвал у мотылька крылья и пустил ползать по земле как червяка? Был занятный человек — стал скучный. Был живой — стал мертвый. Был единственный в своем роде — стал одним из многих. Выходит, это и есть «взяться за ум»?
— А ты еще мечтаешь разбогатеть?
— Нет,— ответил он рассудительно.— Зачем обманывать себя? Так вернее, лучше и легче. Работа не тяжелая, о жалованье я еще не говорил с Осман-агой…
— Какой еще Осман-ага?
— Осман-ага Вук. О жалованье, говорю, мы с ним еще не толковали, но, если он положит, как платил Дедо, можно не бояться нищей старости. А думаю, он положит не меньше, может, и больше. Знает Осман-ага, как было прежде и как теперь. Видел кошек?
— Каких еще кошек?
— Я взял в лабаз четырех кошек. Забот, конечно, прибавилось, меняй им воду, убирай за ними, но зато польза есть. Мышей ловят.
— Это ты умно придумал,— сказал я с плохо скрытой издевкой.
Он принял мои слова всерьез.
— Конечно, умно. Мышей-то здесь полчища, мешки прогрызли, зерно жрут — чистое разорение! Я возьми да подсчитай: пусть их сейчас двести голов, а их больше, через год ведь их будет две тысячи, а через десять лет — двадцать тысяч.
— Чего же они до сих пор ждали? Почему их только двести?
— Прошлый год их, верно, было только две, самец и самка, а плодятся они страшно. Итак, мышей, значит, будет две тысячи. Положим, каждая мышь съедает двадцать зерен в день, двести мышей съедят в день четыре тысячи зерен, а в год около полутора миллионов. Если в каждой окке две тысячи зерен, то это семьсот пятьдесят окк. А ведь и соседские мыши наведываются в гости, сколько же это мешков выйдет? Мешков! Осман-ага ахнул, когда я ему все это подсчитал.
— Какой еще Осман-ага… ах да! Никак не привыкну…
Осман-ага наверняка ахнул, услышав, сколько мешков приберет к рукам Махмуд, хуля и обличая мышей!
Нет, и тут я не угадал! И я ахнул подобно Осману, и тоже напрасно, потому что Махмуд уже не Махмуд. Он и зерна не унесет!
— Мы заткнули все дыры, взяли кошек, и теперь в лабазе на три мешка зерна будет больше.
О небо! Собственными руками он отрезал себе путь к отступлению!
— А высчитал ты своему Осман-аге, сколько мышей изведут кошки?
— Да. Пусть одна поймает в день всего десяток, четыре загрызут сорок…
— В год столько-то и столько, ладно, понял, надеюсь, в этой войне кошек и мышей победят мыши.
— Нет, видишь ли…
— Вижу. А лавку продал?
— Покупатели есть. Жду, кто больше даст. Больно на хорошем месте стоит.
У меня защемило сердце. Не мой это Махмуд. Мой был враль и фантазер, поэт в своем роде, этот — жалкий крохобор. Мой Махмуд гонялся за облаками, этот гоняется за мышами. Мой Махмуд был малохольный и симпатичный, этот — нудный и противный.
Как могла произойти такая быстрая перемена? Значит, плут только делал вид, что жаждет невозможного, а в действительности ждал лишь случая, чтоб стать самим собой.
Может быть, я несправедлив к нему: бедняга получил то, о чем мечтал, пусть мельче, ничтожнее,— и успокоился. Почему я считал его уж таким беспочвенным фантазером, не испытывающим желания хоть отчасти претворить свои мечты в реальность? То, что произошло, более естественно. Правда, в мире одним занятным человеком стало меньше, а это невосполнимая утрата. Не жаль, когда исчезает один из многих — это обычный людской листопад. Но когда уходит недюжинный человек, возникает устрашающая пустота. Все больше серых людей в серой жизни, жизнь становится тусклой и невеселой.
Умер какой-никакой поэт, родился еще один лабазник.
А может, его и не было, может, я его выдумал, может, отличил его незаслуженно? И все же я потерял больше. Его постоянная тоска по счастью, возможно и воображаемому, была неосуществима и потому прекрасна. Легкомыслие, непутевость, непосредственность, простодушное мошенничество, неунывающая безоружность, трусость, малодушие, пустое фантазерство — все это были понятные человеческие слабости. То, что я вижу сейчас, слишком заурядно. С этим человеком мне не о чем разговаривать. К его удовольствию, мы разойдемся. Я, такой, какой есть, ему, такому, каким он стал, больше не нужен. И он мне тоже.
И пока я, расстроенный и огорченный, хоронил в душе близкого человека, не желая вступать в приятельские отношения с новым, пришедшим ему на смену, и думал, как бы уйти, чтоб не обидеть старого Махмуда, ибо новый меня никоим образом не волновал, в лабаз вошел сердар Авдага. Его появление не вызвало во мне ни радости, ни злости, я просто решил, что теперь могу уйти без всякого объяснения.
Однако не ушел, это слишком походило бы на бегство.
Махмуд встал, прижал руку к груди и поклонился, ниже и подобострастнее, чем это сделал бы прежний Махмуд, но с гораздо большим чувством собственного достоинства. Раньше Махмуд представал перед Авдагой жалким и испуганным — где уж ему было думать о том, как держаться,— сейчас у него вид спокойного, уверенного в себе человека, знающего законы и порядки.
Он произнес какие-то слова, точно я не запомнил, во всяком случае что-то любезное и складное, вроде «очень приятно», «большая для меня честь»… Именно поэтому я решил вообще не вставать, уязвленный поведением Махмуда, его грустным перерождением, которое проглядывало во всем, потрясенный его внешним подобострастием и внутренней независимостью, самым, на мой взгляд, невероятным из всего, что мог выдумать Махмуд. Но нет, он не выдумывал, он и впрямь чувствовал себя независимым. Больше он ничего не будет выдумывать. А потом мне пришло в голову, что мое поведение неприлично и вызов я бросаю не Махмуду, а Авдаге, причем без всякого повода и смысла. Я неуверенно поднялся, снова сел, тут же встал и опять сел, Махмуд в это время, словно невесту, вел Авдагу к сечии. Настроение у меня окончательно испортилось, а мое дурацкое вскакиванье еще раз убедило меня в том, что в обиходных делах лучше всего следовать общепринятым правилам, если не хочешь оказаться в смешном положении.
Жаль, не ушел сразу, теперь нельзя уйти, неприлично, и потом, пожалуй, снова начну уходить и возвращаться, как недавно вставал и садился. Вот беда: стоит сделать одну ошибку — и уже нанизываешь их одну на другую, набираешь целое монисто. Ничто так не ранит душу одинокого человека, как собственные промахи.
Наименьшая вероятность сделать промах — это молчать.
Молчал и сердар Авдага.
К счастью, говорил Махмуд. Он рассказывал то же самое, что и мне, даже теми же словами, не обращая внимания на мое присутствие (прежде он никогда бы так не поступил): как побелили, вымыли лабаз, как притащили вещи, о мышах, о количестве зерен в окке пшеницы, об ущербе, о соседских кошках и пользе от них, которую признал сам Осман-ага.
Я с трудом удержался, чтоб не рассмеяться, когда Авдага спросил: «Какой еще Осман-ага?» Только в его вопросе не было ни горечи, ни насмешки, как у меня, он в самом деле понятия не имел, кто такой Осман-ага, потому что Османа никто так не звал.
Говорил Махмуд нудно и скучно, слушать его второй раз было невыносимо, а ведь эти стены будут слушать его каждый день. Я больше никогда не буду. Но сейчас этот тягостный бред имел хоть какой-то смысл, отодвигая грозившую воцариться в лабазе мертвую тишину.
Я избегал взгляда Авдаги, прикидываясь, что слушаю Махмуда. Он тоже молчал и слушал. Молчал — это точно, а вот слушал ли? Глаза его были прикованы к жару в мангале. Он был явно подавлен, зол и, как ни удивительно, печален. Да-да, печален!
Откуда взяться печали в сердце человека, который даже убитого брата не пожалел, у которого нет ни единой родной души, ибо нет в ней потребности, для которого служба — это все: и жена, и дети, и любовь, и счастье? И все же печальная подавленность сквозила в его глазах, во всей его фигуре, в каждой черте лица, как у самого обыкновенного человека.
Страдальческое выражение на лице Авдаги все усиливалось, голова склонялась все ниже и ниже на грудь, и, когда уже, казалось, он вот-вот заснет, он вдруг поднял руку и прервал рассказ Махмуда о мышах и кошках на полуслове.
Махмуд покорно умолк, не смутившись и не испугавшись, и спокойно ждал, что тот скажет.
Авдага тихо спросил:
— Почему Осман взял тебя в лабаз?
— Знает, что я честный и работящий, потому и взял.
— А почему не его? — показал Авдага на меня.— Работать он, как и ты, не любит, но почестней тебя будет.
— Нехорошо ты говоришь, Авдага. Мало ли что бывает в молодости, да я и заплатил за то сверх меры. Суди меня по тому, каков я сейчас, а не по тому, каким был когда-то.
— Что было потом, мне неведомо. И Осману тоже. А что было в молодости, мне хорошо известно, как и Осману. Почему же тогда он дал тебе работу? Да и какой из тебя торговец?
— Знаешь что, Авдага,— сказал Махмуд оскорбленным тоном уважающего себя человека,— спроси-ка ты об этом Осман-агу. Ему это лучше известно.
— Надо будет, спрошу. А сейчас я с тобой разговариваю. Почему он дал это место тебе?
— Откровенно тебе скажу, обидно мне слушать это.
— Обидно ли, не знаю, но мне нужно знать.
Замолчали.
Махмуд начал растирать свою больную ногу, страх и обида всегда напоминали ему о ней.
Авдага мертвыми, печальными глазами смотрел на Махмуда, наверняка жалея, что у того голова не стеклянная и что он не может ее размозжить, чтоб найти в ней ответ на вопрос, который привел его сюда.
Ни тот ни другой, видимо, ничего не знали. Махмуд живет в убеждении, что ему наконец повезло — нашелся человек, открывший в нем коммерческий талант и потому пожелавший взять его на службу. Любое другое предположение — какое бы то ни было — для него оскорбительно. Авдага же со своей стороны полагал, что только дурак ни с того ни с сего возьмет Махмуда на службу. Осман не дурак; значит, должен быть какой-то резон, оправдывающий эту глупость. Какой? Одолжил ли он его чем-нибудь, является ли это наградой за какую-то услугу? Услуги Махмуда всегда наводят на подозрения, Авдаге это хорошо известно, значит, совершено что-то противозаконное, и неплохо бы знать, что именно.
Неужто он всегда ищет вот так, вслепую?
Авдага долго молчал — это тоже способ посеять в душе человека смуту.
Махмуд дрожащими пальцами все ожесточеннее мял больную ногу, подавленный обличающим молчанием Авдаги, встревоженный его тяжелым взглядом, напуганный непонятным ему упорством. Похоже, он думал: «Надо же, с первых шагов суют папки в колеса, встают поперек дороги!» Вконец расстроенный, он снова напомнил мне прежнего Махмуда.
Смешно, если б не было так грустно!
Молчание Авдаги порождало в жертве страх перед тем, что кроется за ним недосказанного и недооткрытого, давая ей время взвесить все свои прегрешения и пасть духом. Но, возможно, это было и экономным ведением огня ввиду нехватки патронов. На одном подозрении атака долго не продержится, захлебнется. Вертелись бы в заколдованном кругу одних и тех же вопросов и ответов, а подозрение так и оставалось бы подозрением, не больше.
Но Авдага еще не сложил оружия, он принялся кружить вокруг жертвы, неуклонно стягивая обруч.
— Ты знал коменданта крепости? — спросил он.
— Какого коменданта? — с бессильным лукавством вопросом на вопрос ответил Махмуд.
— Крепости.
— А, крепости!
— Да, крепости.
— Знал.
— Хорошо?
— Видел только.
— А часто с ним разговаривал?
— Никогда не разговаривал. За всю жизнь слова не сказал.
— А вспомни-ка!
— Точно знаю.
— И поклясться мог бы?
— Мог.
— А когда ты сидел в крепости?
— А, когда сидел! Не знаю, ну, может, имя он у меня спрашивал.
— А за что посадили, не спрашивал?
— Не помню, забыл.
— А еще что забыл?
— Я не знаю, о чем ты толкуешь.
— Когда ты говорил с ним в последний раз?
— Сказал же тебе, тогда, в крепости.
— Это я сказал. А недавно?
— После того ни разу, жизнью детей своих клянусь!
— Понял уж я, чего стоит твоя клятва.
— Спроси коменданта, пусть он подтвердит.
Снова воцарилось молчание, накрыв нас словно грозовой тучей.
Махмуд судорожно открещивался от знакомства с тюремщиком, словно это само по себе было уликой. Точно так же он стал бы отрицать, что гулял вдоль реки, что на обед ел голубцы, что у него четыре кошки, спроси его Авдага и об этом, потому что кто может знать, на чем основано подозрение, что вызывает сомнение Авдаги.
Мне же после этого допроса стало ясно: Авдагу интересует побег Рамиза. Видно, решил, что Махмуд подговорил тюремщика. И за эту услугу Осман взял его к себе на службу.
Жаль Махмуда, я-то знаю, что он ни в чем не замешан, а помочь нельзя. Разве скажешь Авдаге: Осман Вук понятия не имел о Махмуде, он познакомился с ним лишь в ночь похищения Рамиза.
Почему Осман взял его на службу, не знаю. Этот его поступок, совершенный, видимо, в минуту слабости, редкую для него, удивил и Махмуда, и меня, а может, и его самого.
Авдага не признает непоследовательности душевных движений, не признает внезапных решений, для него существуют только причина и следствие, услуга и вознаграждение. Ход его мысли таков: неизвестный подговорил коменданта впустить злоумышленников в крепость; после этого Осман Вук берет на службу недотепу Махмуда. Почему? Потому что Махмуд подговорил коменданта. По логике Авдаги это настолько очевидно, что растерянность и отговорки Махмуда он уже воспринимал как верную улику.
А грустит Авдага оттого, что не в силах доказать его вину. Для этого нужны улики. Он слишком честен, чтобы во всеуслышание обвинить человека, не имея неопровержимых доказательств. Необходимы свидетели, признание, а где они? Их нет, пока нет. Махмуда он теперь не выпустит из рук до конца его и своих дней. Он станет преследовать его, как голодный волк старого оленя, оба будут спотыкаться, один убегая, другой догоняя, задыхаться от страха и от сладострастия: вдруг жертва обессилеет, вдруг согласится на муки — лишь бы остановиться, не бежать больше, передохнуть.
А виною всему подозрение, основанное на неправильно связанных фактах. Я же молча слушаю и не могу набраться решимости сказать: оставь человека в покое, он даже не понимает, о чем ты толкуешь, потому и усиливает твои подозрения.
Да и скажи я такое, это ни к чему не привело бы. Авдага — раб своего призвания, его единственная страсть — преследовать и хватать людей подобно тому, как другие посвящают свою жизнь тому, чтоб утешать людей и лечить их; разница лишь в том, что Авдага чаще испытывает радость победы.
Однако почему он взял под сомнение Османа? А может, это я приписываю ему знание известных мне фактов, а он о них и не думает? Или думает: раз Осман определил Махмуда на службу, значит, хотел его за что-то вознаградить. Он подозревает весь мир, вся его жизнь состоит из сплошных подозрений, даже во сне он не расстается с подозрениями и нередко оказывается прав. Преступления совершаются каждый день. Если виновный не пойман, значит, все люди — вероятные преступники. По его глубокому убеждению, ни об одном живом человеке нельзя утверждать, что он не может совершить преступление. Авдага ищет, Авдага всех держит под сомнением, это его удел, долг и главная услада, ему нелегко — преступление чаще всего покрыто мраком неизвестности, виновный проходит рядом с ним, смотрит ему прямо в глаза, спокойно занимается своим делом, смеется, пожалуй, даже сидит с ним за одним столом, а он лишь гадает, вынюхивает, действует на ощупь, приближается, снова отходит, то не сомневаясь, то теряя уверенность, испытывая подлинное счастье, когда набредает на след, и впадая в отчаяние, когда его упускает. Только смерти под силу заставить его прекратить слежку. Ведь он убежден, что, если он отступится, устанет, не поймает и не накажет виновника, мир заполнят преступления, тьма накроет землю, придет Судный день.
Махмуд навел его на тоненькую ниточку, и тем не менее он крепко за нее ухватился. Печальнее всего, что повод для подозрений Авдаги — удача Махмуда и благородный порыв Османа, в котором он, возможно, уже раскаивается. Бывают же такие невезучие создания! Сколько людей, не обладая ни умом, ни честью, ни талантами, добились в жизни успеха. А несчастный Махмуд едва ступил в свой темный лабаз, полный мышей и мышиного помета, только решил, что наконец избавился от страха остаться в старости без куска хлеба, как тут же навлек на себя подозрения. Всю жизнь его преследовали неудачи, видно, так и не знать ему покоя! Не за красивые же глаза взял его Осман на службу.
А в самом деле, почему Осман взял его на это место? Нехорошо об этом спрашивать, но все-таки почему? Я рад, что это случилось, но почему?
Откуда мне знать! Я попросил Османа позвать его в тот вечер в трактир, я попросил сказать ему несколько ласковых слов, я виноват в том, что мы оказались свидетелями ссоры, которая возмутила Османа. Все это я знаю, и все же почему он взял его на службу? Ведь не только потому, что сын надерзил отцу? Османа не трогают куда более серьезные вещи, а тут была обычная перебранка.
Как заразительно подозрение! Оно грызет тебя и тогда, когда знаешь, что человек чист.
Если он чист.
А что, если это не так, если матерый охотник Авдага напал на верный след?
Эта мысль ошеломила меня.
Нет, это невозможно, голову даю на отсечение!
Однако я уже не мог остановиться; вопреки желанию мысль катилась дальше, переходя границу, поставленную разумом, и увлекая меня в бездну возникшего подозрения.
Если допустить, что Авдага прав, все становится яснее ясного.
Осман послал Махмуда к тюремщику, сочтя его самым подходящим человеком — даже предай он, ему никто все равно не поверил бы. Потом Махмуд упрямо добивался встречи с Османом, желая получить за свою услугу вознаграждение. Осман бегал от него, чтоб не вызвать лишних подозрений, горькая стычка Махмуда с сыном дала Осману повод выдать ему обещанное.
Все сходится. Разве только я оказываюсь круглым идиотом, но их это не касается. Они ловко провели игру, держа ее в тайне, а я выполнял роль ширмы и был своего рода связным.
Все сходится. Точь-в-точь как это мог придумать Осман. Люди для него лишь средство, почему бы мне быть исключением?
Но Махмуд? Неужели Махмуд способен на такое притворство? Мне казалось, я знаю его как облупленного; конечно, человек он не без недостатков, но таиться он не может. Бывало, он скрывал какую-нибудь пустяковую тайну, молчал день или час, а потом выкладывал все как на духу, с облегчением избавляясь от нее, словно сбрасывая с плеч тяжелый груз. Я воспринимал его как большого бесприютного ребенка с голубиною душой, оттого он и был мне дорог. Но если он участвовал в этой игре, тогда он закоренелый мошенник, которого я знать не желаю. Я порвал с одним Махмудом, нынешним. Неужто предстоит рвать и с прежним, несуществующим?
Терзаемый сомнениями, я хмуро взглянул на него. Он ответил мне встревоженным, покаянным взглядом, словно прочел мои мысли. Как и прежде, во всем его облике проглядывала беспомощность, и меня снова пронзила жалость к моему Махмуду. И все-таки нынешнего я не простил. За каждым я оставляю право обмануть меня, только не за другом.
Авдага молчал, вороша щипцами затухающие угли в мангале. Чего он ждет? Почему не уходит? А может, он вообще не уйдет, так и будут они с Махмудом молча сидеть возле мангала, остынут, как угли, и умрут молча. Обвинитель останется без улик, обвиняемый — без наказания.
Однако полумертвый Авдага, к сожалению, жив, он расправил свои могучие плечи и уставился на меня.
Настал, стало быть, мой черед?
Голос у него тихий, усталый, грустный. Во мне играет желчь. Ни у тебя, ни у меня нет охоты разговаривать, оставь меня в покое.
Но он на посту и не знает, что такое усталость.
— Почему Осман не дал лабаз тебе? — спросил он.
— На что он мне?
— Хочешь чего-нибудь получше?
— Ничего не хочу.
— А на что живешь?
— Краду, граблю, убиваю — как когда.
— Я видел тебя на дженазе по Авдии Скакаваце.
— И я тебя тоже видел.
— Зачем ты приходил?
— Не знал, что это запрещено.
— О чем ты говорил со старым Омером у него во дворе?
К счастью, Осман предвидел этот вопрос и предупредил меня.
— Слышал, что у него есть хороший табак, хотел купить.
— Купил?
— Нет, не было.
— После этого его сыновья поехали на лошади за Авдией.
Тут я вспомнил совет Османа, что иногда нехудо выстрелить первым, и спросил:
— Отчего он умер? Говорят, здоровый был.
Он взглянул на меня живее и пристальнее, и я пожалел, что вылез со своим вопросом. Умом Авдага, может, и не блещет, но дурака из себя строить не позволит. Он ничего не ответил, и это был худший ответ, словно он сказал: «И ты меня спрашиваешь?!»
Он посидел еще немного, не сводя глаз с мангала, а потом медленно поднялся и не спеша вышел из комнаты.
Махмуд проводил его, несчастный и растерянный. Вернувшись и лишь прикрыв дверь, он тут же кинулся ко мне:
— Почему он спрашивал меня о тюремщике?
— А меня спрашивал об Омере Скакаваце.
— Но почему?
— Может, завтра скажет.
— Думаешь, и завтра придет?
— Непременно.
— О господи, смотрит, молчит! Страх до костей пробирает.
— А чего тебе бояться, если на тебе вины нет?
— Какая вина, побойся бога, что ты говоришь? В чем вина-то?
Я встал и попрощался. Оставаться здесь я больше не мог. Мысль о его возможном вероломстве глубоко оскорбила меня.
Мой уход и, вероятно, моя холодность совсем лишили его самообладания. Он снова стал похож на старого Махмуда, но я был слишком раздосадован, чтобы воскрешать его из мертвых.
— Погоди, посиди,— просил он.
— Пора.
Так и оставил его одного с мышами, кошками и страхом; уже на улице мне пришло в голову, что поступил нехорошо, но я не вернулся.
На следующий день в полдень, когда я пришел домой, Тияна сказала, что меня искал Махмуд.
Я объяснил ей, зачем я ему нужен: он снова почувствовал одиночество, торговцам не доверишь своих страхов; похоже, у него были дела с Османом, и сердар Авдага в чем-то его подозревает.
Не желая ее пугать, я намеренно напустил туману, но она отнеслась к моему сообщению с полным равнодушием: и как мужчинам не надоест заниматься глупостями? У нее заботы поважнее. Она показала мне шелковый платок, который ей подарила Паша, жена Махмуда, расшитый в середине и по краям желтыми и голубыми цветочками. Разве он не лучше всей этой вашей возни?
Они крепко подружились, просто жить друг без друга не могли. Если Тияна не шла на Вратник, Паша приходила к ней, и тут же затевался разговор, начатый вчера, чтобы продолжиться завтра. Чаще всего говорили о будущем ребенке Тияны, обсуждали детское приданое, гадали, родится мальчик или девочка, без конца перебирали имена — из песен, истории, жизни — и каждый день останавливались на новом, причем одно было хуже другого, и то же самое произойдет, когда ребенок родится, и будет потом человек таскать за собой всю жизнь какое-нибудь немыслимое имя как бремя или надругательство. Паша в этом находила пищу для своего неисчерпанного материнства (двоих детей ей было явно мало, она сожалела, что не родила десятерых), а Тияна, отдавшись радостным заботам, забыла про все свои страхи и зловещие предчувствия и с полной серьезностью занялась приятными пустяками, с удивлением ощущая себя счастливой и гордой.
Я оказался забытым, оттесненным в сторону, не таким нужным, как раньше. Все ее внимание было отдано живому, хоть и не появившемуся еще на свет божий существу, оно было важнее меня, важнее всего на свете. О чем бы она ни говорила, я знал — думает она о нем. Когда она спрашивала, есть ли надежда найти работу, она спрашивала ради него. Если она вспоминала отца, то уже без прежней, пугавшей меня неуемной тоски, а с грустным сожалением, что дед не увидит внука. И наша каморка никуда теперь не годилась — тоже из-за него, к весне надо искать что-нибудь получше — без тараканов, пекла и попросторнее. Все, что она делала, говорила, думала, было рождено одним поводом и одной причиной. Она уже была без ума от своего будущего ребенка и неразумно спрашивала меня, люблю ли я его; боясь показаться чудовищем, я отвечал, что люблю, ведь ей все равно никогда не понять, что матери дорога сама мысль о ребенке, а отец может испытать к нему какое-то чувство, лишь когда он родится или даже тогда, когда ребенок впервые ему улыбнется. Я ничего о нем не знал, он был чужим и далеким; она же постоянно ощущала его как часть себя. У меня он вызывал тревогу — я боялся за нее, боялся перемен, которые он внесет в нашу жизнь; Тияна же видела в нем смысл жизни, и потому для нее было вполне естественным отдать эту жизнь ему и его счастью. Я волновался, с ужасом думая о том, что с ней будет, если она вновь выкинет; она же была спокойна, ровна, в ней и вокруг нее все было таким, как надо, все наполнено смыслом и содержанием. И придал всему порядок и смысл ребенок, которого она носила под сердцем.
Случалось, хлопоча у печки, она вдруг останавливалась, широко и удивленно открывала глаза, блаженно улыбалась и медленно опускалась на диван, прямая, торжественно-собранная, а рука нежно ложилась на округлившийся живот.
— Шевелится,— говорила она, зардевшись от счастья.— Ножкой толкает.
Никакая добрая весть, никакой подарок, никакое богатство не способны были доставить ей такую радость, как тихое движение живого существа в ее утробе. Она ждала нового толчка, как наивысшего блаженства, мечтала о нем, как мечтают о любви.
Тронутый ее волнением, не совсем для меня понятным, я подходил к ней, стараясь не спугнуть ее торжественности, брал за руку и говорил, что люблю ее. Она легонько сжимала мои пальцы, благодаря за то, что я подошел к ней из-за него, что люблю ее — из-за него, что мы вместе — из-за него. Я великодушно прощал ей эту несправедливость, подавляя в себе обиду на то, что отошел на второй план, грусть из-за того, что потерял ее, и все же надеялся, что рождение ребенка вернет мне Тияну.
Жалко, что пришел конец нашим разговорам обо всем на свете, что я уже не могу, как прежде, делиться с ней всем, что со мной происходит,— радостями, печалями, страхами. Все это я сейчас переживаю один, она потеряла к этому интерес, слушает равнодушно и вполуха, отвечает неохотно и без участия, оставляя меня наедине с моими мыслями, а впрочем, возможно, она убеждена, что мы чувствуем одинаково.
Спрашивал меня и сердар Авдага. Какая удача, что он меня не застал! Не обнаружив меня, он наверняка навалился на Махмуда, как и вчера доведя его до безумия.
Они искали меня, я искал Османа Вука. Его тоже не было, слуги знали только, что он куда-то ускакал на коне, и больше ничего. И Шехаги не было, видно, уехал по делам. Осман как-то поминал про скупку шерсти, а возможно, Шехага на охоте, ведь всеми делами заправлял Осман.
С Османом я встретился лишь спустя три дня и рассказал ему, как сердар Авдага допекает меня и Махмуда расспросами. Он отмахнулся, не придав этому никакого значения, а когда я сказал, что он подозревает Махмуда в сговоре с тюремщиком, Осман расхохотался:
— При чем тут Махмуд! Кто рискнул бы положиться на Махмуда в таком деле?
— А кто же тогда?
— Откуда я знаю?
— А почему же ты уверен, что это не Махмуд?
— Не годится он для таких дел. Сидеть в лабазе и принимать зерно — это он может. Я даже не ожидал от него такой прыти. Представляешь, завел кошек — мышей изводить! Смех, да и только. Но там он на месте.
Он демонстративно свернул разговор на другое, не желая говорить о своих заботах. Возможно, для моего же блага он не хотел меня ни во что посвящать. Чего не знаешь, о том не проговоришься.
Я признался, что мне показалось, будто они с Махмудом все от меня утаили, а сердар Авдага, напугавший меня до смерти, открыл мне глаза. Потому я и хожу за ним вот уже три дня.
Не было меня в городе, сказал он. За шерстью ездил и Шехагу искал. Снова исчез. Как-то на рассвете ускакал, и никто не знает, где он. Ханум обезумела от страха, ночи напролет не спит, ждет мужа. Несчастная, то терзается из-за сына, то дрожит из-за мужа. Да и он беспокоится, снег, ночи холодные, а Шехага во хмелю совсем разум теряет (потому и пьет), всякое может случиться. Осман уже давно начеку, Шехага вдруг потребовал у него отчет и список всех должников, хотя они все счета подбили два месяца назад, а потом послал за Моллой Ибрагимом, видно завещание менял. Потому Осман и смотрел за ним в оба, ровно сторож, а тот возьми и сбеги, чуть только он заснул.
— Что же ты теперь будешь делать?
— Ничего. Ждать.
А неспокоен он еще и вот почему. За день до того, как Шехага пропал, к нему заходил Джемал Зафрания и просил помочь им с кадием. Кадий должен был стать муфтием, а Зафрания — судьей. Но тут выкрали Рамиза, и ненавистники всю вину за это возлагают на них и постараются им помешать. Хорошо бы Шехага, которого они очень почитают, замолвил за них словечко перед вали, тот послушался бы его. И кадий и Зафрания были бы ему благодарны до гроба и сумели бы ответить на добро добром. Куда они метили, на что намекали, Осман понятия не имеет, только Шехага разъярился и встретил Зафранию в штыки, что на него совсем не похоже — не любит он без нужды обижать людей. Так и сказал Зафрании, мол, просишь о помощи, а на самом деле хочешь, чтоб он, Шехага, не становился поперек дороги. Зачем лгать друг другу? Не станет он им помогать, все сделает, что в его силах, чтоб помешать их возвышению, потому что они не заслуживают и того места, на котором сидят, куда же им еще выше лезть? Пусть сидят и не рыпаются — люди честнее и умнее их ходят без дела или смотрят на них со страхом. И пусть думают, что делают, потому что жалуются на них люди, а слезы бедняков даром не проходят. За что он должен им помогать? Чем они заслужили его помощь?
Османа удивляло, для чего Шехага все это наговорил, мог ведь пообещать и ничего не сделать — так бы и вышло, как хотел. Но Шехагу уже скрутило горе, и в Зафрании он увидел того неведомого и безымянного судью, который приговорил его сына к смерти или приговорит еще кого-нибудь, вот и не удержался, излил на него всю свою ненависть и тоску по сыну. Зафрания вышел белый как полотно, держась руками за стены. А Шехага отправился к вали, чтобы воспрепятствовать этому совершенно его не касающемуся повышению. Приди к нему Зафрания в более удачную минуту, когда тот не был бы в гневе и ярости, пожалуй, кончилось бы тем же, только разговор был бы учтивый. Но Шехага совсем потерял власть над собой; чем ближе старость, тем сильнее терзает его мысль, что после него не останется ничего, даже имени. Теперь между ними открытая война — тайная или явная, конечно, один черт, но надо держать ухо востро, те тоже не ангелы и при первой возможности на удар ответят ударом.
— И ты будь начеку,— сказал он смеясь,— ты на нашей стороне.
— Поэтому они и подослали ко мне Авдагу?
— Авдага самый из них глупый и самый порядочный. Он как дикий кабан — нападает открыто, не ведая, что творит. Может, и они послали. Улики ищут, без верных улик не осмеливаются подступиться к Шехаге. А где их найдешь, эти улики?
— А Скакавацы не скажут?
— Если замешаны, не скажут. Можешь не бояться.
— Я и не боюсь.
— Слава богу. Страх — главный предатель.
Удивительный человек этот Осман, спокойно и холодно судит обо всем на свете, все видит, но и тени страха не испытывает, наоборот, будто даже получает удовольствие от всеобщей заварухи. Ум и хладнокровие его вызывают уважение. Он словно защищен броней Шехагиного могущества, собственного бесстрашия, высокомерия и презрения к людям, дерзостной хитрости, бесцеремонности, способности действовать и молчать, ибо главное для него — дело, а не разговоры о нем. Преданность его Шехаге, видимо, зиждется на том, что он чтит его силу и нуждается в его защите, предоставляющей ему полную свободу действий. Да, пожалуй, они чем-то и схожи, много лет вместе, друг от друга ничего не таят и не могут утаить, настолько они знают друг друга, оба одинаково жестокие, одинаково коварные, одинаково далекие от людей, хоть и каждый на свой лад. Шехага — в силу незатухающей ненависти, Осман — холодного презрения.
Расставшись с Османом и продолжая думать о нем, я слишком поздно заметил сердара Авдагу и не смог свернуть в сторону. Случайно ли он оказался здесь, поджидал ли кого, а может, знал, где я был, но, так или иначе, дьявол послал его мне навстречу и молча пройти не было никакой возможности. Смотрел он на меня так, словно нас с ним связывает общая тайна, или как добрый знакомый, который ждет, что я остановлюсь и мы поболтаем о том о сем. Все же по моему виду и кислой физиономии он понял, что встреча с ним не вызывает во мне восторга и, если меня не окликнуть, я пройду мимо не задерживаясь.
— Где был? — спросил он бесстрастным голосом, точно его это совершенно не волновало.
— Шатаюсь.
— Ты был у Османа Вука.
— Раз знаешь, зачем спрашиваешь?
— Ты сказал ему о нашем разговоре?
— Сказал.
— И что он говорит? Смеется, конечно. Он всегда смеется.
— Смеется и не может понять, чего тебе от меня надо.
— Видать, знает, от кого надо.
— Я спрашивал, что сердар Авдага вынюхивает. Он понятия не имеет.
— О чем еще говорили?
— О Шехаге. Опять из дому ушел.
— Какое тебе дело до Шехаги?
Терпение и упорство в нем чисто бульдожье — не выпустит жертву из зубов, хоть челюсти ему свороти. Неужто так и будет щелкать зубами у моего горла, пока один из нас не рухнет? Ходит вокруг меня как хищник, неуверенный в своем прыжке, но, стоит ему почувствовать, что не промахнется, тут же сломает мне хребет.
Уразумев, что я и Махмуд — слабые звенья в цепи, в нас и вцепился. И не отпустит.
Прекрасная перспектива льдом сковала сердце, а мозг превратила в тяжелое месиво, лишенное всякой способности думать. Это продолжалось одно мгновенье, долгое и мучительное, от ужаса и волнения перехватило дыхание, мысленно я слепо и затравленно озирался, готовый бежать куда угодно, лишь бы избавиться от этого кошмара.
Но подобно тому, как в голове неожиданно и беспричинно образовалась пустота, а в сердце поселился ужас, во мне вдруг вскипела ярость, словно после внезапного застоя бурно заходила кровь в жилах, пробужденная чувством стыда за унизительный страх. Я понимал, ярость не спасет меня, однако запал был слишком силен, и сдержаться я не мог. Разозлился я на себя, на собственное малодушие. Что он знает? Если и впрямь что-то ему известно, почему не ищет в нужном месте? Мусолит веревочку, где потоньше, терзает беззащитного.
Обосновав таким образом свою ярость и обиду, я почувствовал всю ее правомерность и неподдельность.
— Говоришь, какое мне дело до Шехаги? — сказал я сквозь зубы самым язвительным тоном, на какой только был способен, с острым желанием унизить и себя, и его.— А известно тебе, сколько времени я хожу без работы? Вот и увиваюсь вокруг Шехаги, ем его глазами, говорю любезности, только бы он нашел мне какое-никакое место, чтоб хоть не грызть себя за то, что меня отовсюду гонят как последнюю собаку! Понял теперь, зачем мне нужен Шехага? Скажи спасибо, что я еще не подался в гайдуки, к Бечиру Тоске! Ну что ты ко мне пристал? Над сирым и убогим, Авдага, легко куражиться!
— Чего ты взъярился? — спокойно спросил он.— Что я тебе сказал?
— Оттого и взъярился. Ходишь вокруг меня, вынюхиваешь. Возьми и скажи прямо: так-то и так. Что знаю, скажу.
— О чем вы разговаривали с Омером Скакавацем?
— Я уж говорил тебе: хотел купить у него табаку. Не веришь, спроси у него.
— Я спрашивал. Он то же самое говорит.
— Ну что ж ты еще хочешь?
— Это и подозрительно, что вы одинаково говорите. Вот те на. И смех и горе!
— Прости, Авдага, ты все-таки старше меня, но ты, право, чудак какой-то. То, что для любого другого доказательство, для тебя повод для подозрений.
— У меня все на подозрении. И чего ты так яришься? — добавил он рассудительно.— У кого совесть чиста, тот покоя не теряет, а на ком есть вина, вот тот из себя выходит, потому как волнуется.
— Ладно, в чем моя вина?
Он не торопился с ответом, молчал и буравил меня своим тяжелым взглядом, в котором было и сожаление, и обида, и грусть, и еще не знаю что, словно он видел меня насквозь и ему было жалко и обидно, что я не хочу признаться. И не признаюсь, думал я. Выдержу, стисну зубы, перетерплю, пока минует меня эта напасть, как тяжкое ненастье.
А если не минует?
Наглядевшись и налюбовавшись на меня, он снова принялся за свое.
— Легко, говоришь, куражиться над сирым и убогим? А над кем нелегко?
— С меня хватит моей печали, другие меня не касаются.
— А у этих других есть имя?
— Авдага, повторяю тебе: я понятия не имею, что тебе от меня надо. Ты будто ворожить задумал. Околдовать меня хочешь.
Еще раз почтив меня своим умильным взглядом, от которого птица оцепенела бы и обмерла, как от змеиного, он не спеша пошел вниз по улице.
И слава богу, потому что мне стало дурно, я задыхался, будто он уже стиснул мне горло.
В памяти воскресла бабушкина сказка о вампире, черном демоне, которую она мне рассказывала в давние-предавние времена. В ночь под рождество он подлавливал людей на развилках дорог и вскакивал им на спину, вонючий и тяжелый. Человек тащит его, спотыкаясь от тяжести, задыхаясь от смрада, насмерть перепуганный, а вампир спрашивает: «Тяжко тебе?» Человек стонет и говорит, как есть: «Тяжко!» И вампир еще тяжелее делается, а утром человека находят на дороге мертвого. Но если кто ответит: «Нет, не тяжко», тот спасается, демон в тот же миг исчезает, и человек свободен. Слово мужества, отваги — вот ключ к спасению. Позже, думая над этой притчей, я пришел к выводу, что она говорит о жизни: если мы стонем, жалуемся на тяготы, тут нам и крышка; а если говорим: «Выдержу, не дамся» — жить становится легче.
Перехватил меня на жизненном перекрестке черный демон Авдага, взобрался мне на спину. Задыхаюсь я под его тяжестью, словно гору на плечах тащу. Что тяжко мне, я не признаюсь, но что и легко, я еще не сказал. Поборемся. Пока не избавлюсь от страха, не почувствую в душе свободы, мне его не сбросить. А страх еще живет во мне.
Иногда вроде бы и забудусь, чего я, собственно, опасаюсь, а тревога так и гложет. «Что такое? — спрашиваю я себя.— В чем дело?» И тогда, точно из тьмы, выплывает фигура Авдаги и я сразу все вспоминаю.
А каково Махмуду? Если он ничего не знает, подозрения Авдаги сведут его с ума. А если знает, хватит ли у него выдержки молчать? Вдруг, не совладав с мукой, он сознается и, чтоб не сойти с ума, прыгнет очертя голову в бездну? А может быть, он все же совершенно не замешан? Был бы Осман так спокоен, если бы Махмуд что-то знал? Махмуд — все равно что дырявый мешок, он сразу все вывалит, вот Осман и отмахивается от него. Значит, Авдага поджаривает его на медленном огне ни за что ни про что. Схожу-ка я к нему, он наверняка сидит всеми покинутый и несчастный, а я веду себя как сопливый мальчишка. Даже если он таился от меня, негоже оставлять его в самую трудную для него минуту.
Но лабаз заперт, Махмуд ушел, спасаясь от своего страха и от Авдаги и предоставив кошкам уничтожать неистребимую армию мышей. Недолгим было его купецкое счастье.
Сосед его, бакалейщик, сказал, что Махмуд в трактире у Зайко, животом мается, пошел выпить ракии, настоянной на травах.
И в самом деле я нашел его у Зайко, он сидел в углу один-одинешенек, подперев голову тощей рукой, спавший с лица, сокрушенный — чистое воплощение горя и несчастья.
Когда я подошел к нему, он поднял глаза и лицо его мгновенно озарила радость.
— Ох, слава тебе господи! — сказал он с облегчением.
Встал, схватил меня за руку, словно боялся, что я убегу, усадил рядом с собой, и все это не сводя с меня глаз, непрестанно трогая меня то за плечо, то за локоть, то за край рукава, будто не веря, что я тут, возле него.
— Я искал тебя. И домой заходил.
Голос у него тихий и слабый, как после тяжелой болезни.
— Слушай, у тебя такой вид, что можно поклясться — с тобой что-то происходит.
— Хуже не бывает… Видно, подыхать пора.
— Сосед сказал, ты животом маешься и пошел пить целебную ракию, потому я и нашел тебя.
Он заказал две чарки ракии себе и мне и выпил обе.
— Хорошо, что ты пришел. Я нарочно сказал соседу, куда иду, как чувствовал, ты придешь. А животом я и правда маюсь. Опять тот был.
— Поэтому и животом маешься?
— Поэтому.
Тот — это Авдага. Само имя его не след поминать, как все равно нечистого.
— И у меня был.
— После первого раза, как он приходил в лабаз, у меня открылся такой понос, точно я паслена наелся. Малость успокоил кофе и мятой, но только о нем подумаю, в животе начинает бурчать и из меня фонтаном.
— От страха.
— Само собой, от страха. Говорю себе: не буду о нем думать! Стану думать о делах, о бедах, которые довелось изжить, о других людях. Но думаю о ком-нибудь другом, а вижу его глаза, его лицо, слышу его голос. И в животе опять круговерть. Только вот ракией и спасаюсь.
— Забываешься.
— Забываться не забываюсь, а вроде легче. Сижу здесь — честно тебе скажу, сбежал я от него,— и думаю: и чем это я бога прогневил, что наслал он на меня такую муку? Есть на мне грех, знаю, ну, монеты там фальшивые, ну, еще пустяки разные, но разве бога это касается? И потом, не стал бы бог мелочиться и допекать меня из одной вредности. Нет, видно, уж судьба у меня такая — из овражка да в рытвину! И за что мне такое выпало? Справедливо разве? Никому зла не сделал, за что же, господи? Столько лет мечтал о том, что сейчас вот случайно свалилось в руки, еще и к запаху лабаза не принюхался, а уже напасть. Ну скажи, за что?
Говорит — чуть не плачет. Всякое с ним бывало, многому я и сам свидетель, но в таком горе я его еще никогда не видел. Он всегда жил легко, готовый поддаться любой иллюзии, полный надежд и упований, а теперь все перед ним черно. Нежданная удача пришла к нему лишь затем, чтоб он мог убедиться, что они не созданы друг для друга.
— Что Авдага от тебя хочет? — спросил я, пытаясь его прощупать.
— Кабы знать, было бы легче. А так он сживет меня со свету именно за то, что я не знаю.
— Было ли в твоей жизни что-нибудь такое, не важно что, о чем он хотел бы узнать?
— Без конца думаю, голова аж вспухла, ничего не могу придумать. Но что-то он подозревает. А не говорит, потому что доказать не может, я же не могу отбиться, потому что не знаю, в чем он меня подозревает.
— А тебе что за дело! Пусть подозревает.
— Нет, Ахмед, нет. К несчастью, этим дело не кончится. Вижу, идет крупная игра, не стал бы он тратить столько времени на ерунду, чья-то голова слетит с плеч. И чья же, если не моя? Не найдут виноватого — обойдутся невинным. Махмуд для этого подходит. Защищать меня никто не станет, ни единый человек не удивится и, уж конечно, не пожалеет. За жертвенную овцу я вполне сойду. Одному уготовлено в мире счастье, другому — горе, мне — быть жертвенной овцой.
Из узких щелок глаз закапали слезы, от страха и ракии он совсем раскис.
— Не валяй дурака! — сказал я резко.— Ты ни в чем не виноват, и ничего тебе не сделают. Выдумал тоже: жертвенная овца! Какого дьявола! Думаешь, Авдага только тебя подозревает? У него все на подозрении.
Кажется, помогло, и только потому, что я не стал его жалеть.
— Ты думаешь? — спросил он с надеждой.
— Не думаю, а знаю. Но если ты будешь сидеть здесь, пить и распускать нюни, тебя и правда заподозрят.
— Ты думаешь?
— Конечно. Иди в лабаз и занимайся своим делом. Если придет снова, спроси его добром: «Чего тебе надо?» И привыкни к нему. Я уже привык. Он спрашивает одно и то же, и ты отвечай ему одно и то же. Когда-нибудь да надоест!
— Ты думаешь?
Третий раз он уже задает мне этот вопрос, не пытаясь спорить. Ему хочется, чтоб все было так, как я говорю, хочется, чтоб я его в этом убедил. Он не любит грустить, и эта минута слабости, мимолетное проявление жалости к себе скоро пройдет. Глаза уже повеселели, смотрит увереннее, говорит свободней. Точно поддержка товарища вливает в него силу, пусть и обманчивую. Для него она истинная и желанная. Этот непутевый человек, подумал я, погиб бы от одиночества, останься он без друзей или людей, которых считает друзьями. Мои пустые слова подняли в нем дух, потому что отвечали его легкомысленному нраву и исходили от друга.
— Правильно,— сказал он бодро.— Если придет, я ему скажу: «Чего ты вынюхиваешь? Убирайся-ка от меня к черту!»
Но тут перед глазами у него встала фигура Авдаги, и бодрость его поубавилась.
— Нет, пожалуй, не скажу. Ты не боишься, а я боюсь.
— Честно говоря, у меня тоже не всегда храбрости хватает. Но порой возьмет за живое и подумаешь: да пропади все пропадом, однова умирать!
Ему, однако, не по душе храбрость отчаяния и безрассудная заносчивость.
— В том-то и дело, Ахмед, что однова умирать. Дважды, трижды — это куда ни шло, можно было бы и не поскупиться на одну смерть. А так надо быть или храбрецом, или дураком — только они страха не ведают. Чересчур гордиться, что ты не дурак, глупо, а храбрецом быть при всем желании не могу — кишка тонка… Вот вспомнил только… Погоди, я сейчас…
И побежал в нужник.
Я невольно улыбнулся. Неприятно, что и говорить, но все равно смешно. О страхе своем он говорит совершенно по-детски, откровенно и искренне, откинув всякое самолюбие. Страх отвратителен, когда видишь его со стороны.
Я не хочу так! Чтоб подбодрить Махмуда, я слицемерил, сказав: однова умирать. Но, пожалуй, сейчас я всерьез это думаю. Это не мужество, а стыд за собственное унижение. «Страх — главный предатель»,— сказал Осман. А по мне, нет для человека большего позора и большего унижения, чем страх. Он взвивается над ним, как хлыст, приставлен к горлу, как кинжал. Человек мечется, словно в кольце пламени, тонет, словно в омуте. Его страшит судьба, страшит завтрашний день, страшит властвующий закон, страшит любая сила, и он уже не он, а тот, кем вынужден быть. Он заискивает перед судьбой, молится о завтрашнем дне, покорно следует закону, подобострастно улыбается ненавистной силе, примирившись с необходимостью быть омерзительной помесью страха и послушания.
Тоска снедает человека при одном воспоминании о том, каким он видел себя в мечтах, каким ему хотелось быть и каким бы он мог быть, кабы не стал тем, что есть. И кабы мир был не таким, каков есть.
Не хочу!
Я говорю: «Не боюсь тебя, судьба! Не боюсь тебя, завтрашний день! Не боюсь тебя, всесильный человек!» Но говорю это про себя, говорю с трепетом. Лишь наполовину свободный, раздвоенный. Первый держится в тени, потому что не может принять властвующий порядок, второй молчит, потому что не хочет погибнуть.
Выходит, я такой же трус, как и Махмуд. Только на свой манер.
Свобода — в свободе действия, а мне до этого далеко.
Слишком малы мои силы — что я могу? Я не знаю даже, как жить, чтоб не стать ни бессмысленной жертвой, ни безмолвным бунтарем. Зла в мире много, мне с ним не совладать.
Зачем же тогда помышлять о свободе действия, если она неосуществима?
Высказаться, чтобы замолчать навеки?
Сделать что-то, чтобы больше уже ничего никогда не делать?
Молчать и радоваться тому, что живешь?
Ну а если я решусь принести себя в жертву, не зная, во имя чего, могу ли я быть уверенным, что она кому-то не принесет вреда? Я помог спасти Рамиза и погубил Авдию.
Значит, отказаться от всякого действия, предоставить миру плыть по течению, раз я все равно не в состоянии ничего изменить?
Все доводы говорят, что это самое разумное, лишь одно лишает меня покоя: совесть. И сам не пойму, откуда она во мне и зачем, жить мешает, а избавиться от нее не могу.
Брось меня, говорю я своей непрошеной совести, на что тебе такой слабак! А она притаилась себе в каком-то уголке, иной раз словно бы дремлет, иной раз бдит, но расставаться со мной не желает. Ты смешна, говорю, ведь пользы от тебя никакой! Ненужный придаток, которому я не могу радоваться. Удовлетворения от того, что ты избрала именно меня, я не испытываю, и рождаешь ты во мне не благородные порывы, а ущербность. Тебе бы найти человека сильного, могучего, неустрашимого и в то же время честного! Я ли виноват, что такого нет? Укрылась во мне, как сиротка, и молчишь, как сиротка, ничего не просишь, ни на что не подбиваешь, во всем полагаешься на меня, и, пока я о тебе не помню, все хорошо, но, чуть вспомню, готов со стыда сквозь землю провалиться. Почему, не понимаю, ничем вроде я тебе не обязан. Я даже не знаю, что ты такое, тебя нельзя увидеть, пощупать — безмолвный страж, который и не пытается взывать к доводам разума, невидимый указатель невидимого пути, сердце само должно отыскать его. Как отыскать этот путь и как не пасть духом, встав на него? Ты безрассудна, чужой горький опыт тебе не указ, опасность ты презираешь, толкаешь на рискованные тропки и считаешь это не подвигом, а долгом. Долгом перед кем? И почему это мой долг? Найди более подходящего человека, со мной только зря время потеряешь.
А она молчит себе, ждет своего часа. Часа моего вдохновения или безрассудства. Могла бы и не ждать, все меньше у нее надежд чего-нибудь дождаться.
Махмуд вышел из нужника, прервав мой разговор с совестью, заказал еще стопку ракии, чтоб утишить резь в желудке, и сказал, что там, прошу прощения, он думал обо мне и пришел к выводу, что я прав. В самом деле, бояться не стоит, смысла нет. Конечно, нелегкое дело — не бояться, но и бояться нет смысла. Вся жизнь пройдет в страхе, а это все равно что и не жить. Но и заноситься не след, лучше поговорить с Шехагой, попросить его избавить нас от Авдаги.
Я ответил, что он выбрал подходящее место, чтоб поразмыслить обо мне, и зря времени не терял, здорово все придумал, жаль только, Шехаги сейчас нет, придется подождать. Если Авдага согласится подождать. Честь и слава храбрости, но без нее спокойнее. Хорошо, когда можешь ни перед кем не дрожать, однако еще лучше, когда и не надо дрожать. Геройство длится мгновенье, а страх — всю жизнь, и разумнее позаботиться о всей жизни, чем об одном мгновенье. Лучше преувеличить опасность, чтоб потом не убиваться и не каяться.
Я молол всякую чепуху, не заботясь о смысле, сейчас это было неважно, Махмуд слушал меня с восхищением и, успокоенный, пошел было в лабаз. Но вдруг вспомнил, что меня спрашивал Молла Ибрагим. И кроме того, сказал, что арестована женщина, у которой жил Рамиз. Тут я убедился, что собственные его страдания утихли и он уже в состоянии подумать обо мне.
Весть об аресте незнакомой мне женщины сразила меня наповал. И в этой трагедии виноват я.
Теперь у меня было уже две причины идти к Молле Ибрагиму: во-первых, я ему был нужен, во-вторых, он мне был нужен.
Я хотел спросить его, нельзя ли что-нибудь сделать для арестованной женщины. Даже не зная о ее существовании, я навлек на нее беду. Возможно, она не избежала бы ареста, если бы побег Рамиза и не состоялся, но такое предположение чересчур зыбко, чтоб освободить меня от чувства вины. Я не преувеличивал свою вину: это все равно, как если бы я стоял на горе и камень, стронутый моей ногой, угодил в кого-то у подножья. Сознательной и непосредственной моей вины нет, и я не знал и не видел пострадавшего, но камень стронул с места я. И вот теперь мне хочется помочь, и я думаю об удивительном устройстве нашего мира, при котором часто, делая доброе дело, невольно делаешь и злое. А чего стоит доброе дело, если оно не может обойтись без злого?
Я думаю не о цели, а о человеке, поэтому я и не уверен в каждом своем шаге.
Конечно, Молла Ибрагим отвергнет разговор о женщине, но я упрямый. И потом, не мешает лишний раз убедиться, что даже у порядочных людей не так уж сильно желание помочь другому. Иногда полезно узнать, что есть люди хуже тебя. Для моей совести это не оправдание, она сочтет этот довод нечестным и постарается напомнить мне, что каждый отвечает перед самим собой, и все же это какое-никакое утешение, пусть и мимолетное.
Моллу Ибрагима я застал в писарской и с ходу объявил, что пришел поговорить с ним об арестованной женщине. Я произнес это шепотом, чтоб другие не слышали, что я прошу за нее, а хотелось мне сказать громко, чтоб люди слышали, как он откажется помочь.
Он отринул и помощь, и всякий разговор о ней, безгласно качнув головой и сделав решительный жест рукой.
Моя прозорливость не привела меня в восторг. Неужто и впрямь несчастной неоткуда ждать помощи?
Ведь это грех, продолжал я, ведь за нее некому вступиться, меня никто и слушать не станет, а он мог бы что-нибудь сделать — и с кадием, и с Зафранией знаком, знает всех наперечет в суде и в полиции; надо ее выпустить, она же не спрашивала Рамиза, каких он придерживается мыслей да чем занимается, когда сдавала комнату, хватит с нее собственных горестей, муж лежит больной, соседи его обихаживают — дело, мол, богоугодное,— но милосердие людей недолговечно и непрочно, и останется бедняга один, без всякой помощи, да она и сама больная, что с нее взять?
Молла Ибрагим только качал головой и отмахивался от меня как от назойливой мухи, а я все гнул и гнул свое с тем большим упорством, что понимал — он ничего не сделает. Сомнений на этот счет у меня не было, как бы я ни был рад ошибиться.
И напрасно я его мучаю. Ни на что он не решится, страх не даст. Конечно, он охотно помог бы бедной женщине, человек он добрый, но это вызовет подозрения. Кто нынче заступается за арестованных? И просить-то за них опасно. Сразу скажут: «Суду не доверяешь? Не согласен с порядками? А может, ты сам связан с обвиняемой? А может, ты и Рамиза знаешь?» Тут, приятель, никакого благородства не хватит. И женщине не поможешь, и себя угробишь.
В заключение он сказал, что женщину, если она невиновна, наверняка освободят, а если виновна, то никакое заступничество не поможет. Это старое как мир оправдание невмешательства — чистый самообман. Он слишком хорошо знает, что далеко не каждого невинного освобождают, но поминает этот принцип воображаемой справедливости, чтоб со спокойной совестью отойти в сторону и умыть руки. Да, не такой уж он всесильный!
Оба мы сказали то, что хотели, что могли, на что отважились, и все осталось, как было. Что называется, потешили совесть, хотя мне по-прежнему было жаль попавшую в беду женщину. Потом Молла Ибрагим сказал, что у него есть ко мне дело, поэтому он меня и искал. Родственники казненного имама из Жупчи ставят надгробный камень на могиле покойного и ищут человека, который составил бы надпись, а они высекут ее на камне. Он вспомнил про меня, я наверняка это сделаю хорошо, да и подработаю, на покойников крестьяне денег не жалеют, как и на жалобы.
Я поблагодарил его, подумав о том, как мы зашли в тупик с неразрешимыми проблемами добра и справедливости и как быстро управились с мирскими делами, которыми и жив человек. Только здесь еще можно понять друг друга.
Когда я сказал Тияне, что завтра иду в Жупчу, она пожала плечами и засмеялась:
— Вот не знала, что мой муж будет сочинять надгробные надписи.
— Предлагали место муфтия, да я отказался.
— И правильно сделал. Какая из меня жена муфтия?
На следующий день рано утром я отправился в Жупчу. Я шел медленно, опьяненный сверкающим на солнце снегом и далекими горизонтами. Ноги с непривычки гудели, но я не думал ни об усталости, ни о вчерашних тревогах и заботах. Тишина могучих гор и широких просторов действовала умиротворяюще. Толчемся в тесноте душных городов, вздорим, мешаем друг другу, а здесь мир в первозданной своей чистоте и девственности; исконный закон позабытой красоты и всемогущего покоя подчиняет ток крови в жилах. Отсюда все, что происходит внизу, представляется мелким и ничтожным. Вчера я пошел к другому горемыке, чтоб освободиться от мыслей об арестованной женщине, а вернулся разочарованный — обмануть мне себя не удалось. Сейчас же я почти позабыл про нее. А если и не позабыл, то думается об этом словно бы легче.
В Жупче меня встретили сердечно. Молла Ибрагим предупредил о моем приходе. Брат имама накормил меня, напоил, хотел показать, где он меня уложит спать, и очень удивился, услышав, что ночевать я не останусь и работу сделаю сейчас же. Он даже немного разочаровался, потому что не любил спешки, а особенно когда что-то делалось на века. Я успокоил его, сказав, что все подготовил дома, посоветовался с Моллой Ибрагимом и другими учеными людьми, у меня есть несколько готовых надписей и надо лишь выбрать наиболее подходящую.
Мне хотелось, чтоб все выглядело как можно солиднее на тот случай, если он сочтет меня чересчур молодым и недостаточно серьезным для такого дела. Ни одного готового текста у меня не было, в голове вертелось множество слов, однако я понятия не имел, какие из них могли подойти имаму. Разумеется, покойнику все равно, он согласится со всем, что я напишу,— надо угодить его родственникам, утолить их тщеславие, может быть, и горе, а это нелегко. Меньше всего вероятности ошибиться, если сказать о покойнике все самое хорошее, но я не знаю, что родственники считают самым хорошим и что хотят сохранить в памяти потомков.
Чтоб не решать этого самому, я стал задавать вопросы. Но брат имама, упрямый и дошлый мужик, из которого слова не вытянешь, до крайности осложнил дело.
— Покойный любил людей? — начал я с самого очевидного. Ответ брата привел меня в замешательство.
— Одних любил, других ненавидел. Как все.
— Знал ли он, что его ждет, когда воспротивился султанскому указу?
— Нет, конечно! Знал бы, не противился. Кто мог подумать, что за это голова с плеч полетит! Нет, какое там знал! Мы сговорились: если прижмут — заплатить.
— Но он был, верно, храбрый человек?
— Да нет. Всего опасался.
— Почему же он тогда отказался платить военную подать?
— Как почему? Все люди были против военной подати, мы не хотим войны, да и давать нам нечего. Он сказал только то, что у всех было на уме.
— Стало быть, покойный был добрым человеком.
— Добрым легко быть. Тяжело живым остаться.
— Власти ненавидел?
— Сохрани бог! С чего ему их ненавидеть?
— А ты?
— Что я?
— Ты ненавидишь власти? Ведь они брата твоего убили.
— Камень упал и убил человека. Что ж, камень ненавидеть?
— Брата убили люди, не камень.
— Нет, убили не люди, а власти.
— Написать — надгробный камень поставлен братом или семьей?
— Зачем? Кто ж другой поставит?
— Что ж тогда написать?
— Вот этого не скажу, не знаю.
Сбитый с толку, растеряв всю уверенность, с которой я приступал к делу, не зная, за что зацепиться, я писал и зачеркивал до тех пор, пока, кроме дат рождения и смерти, не осталась одна-единственная фраза:
«Он был добрый человек, умер невиновным».
Но ему и это не понравилось. Имам был добрый человек, это точно, но зачем говорить, что он умер невиновным? Все умирают невиновными, виновными бывают только при жизни.
С трудом мы согласились на такие слова:
«Он был добрый человек и умер без вины. Да дарует ему аллах вечное блаженство».
Смысл и назначение последней фразы были не совсем понятны, но звучала она торжественно и красиво и ему понравилась.
Брат имама поблагодарил меня, щедро оплатил мой труд, и я собрался идти домой. Однако он хотел мне что-то сказать — я еще раньше это заметил,— да все не решался, и похоже было, что уже не решится. У людей, подобных ему, на уме гораздо больше, чем на языке. Все-таки он сказал:
— Халила Ковачевича знаешь?
— Даже имени не слышал.
— Брат его служит у Шехаги Сочо. Сторожем.
— Кажется, видел его. Высокий такой, костлявый?
— Халил просил, чтоб ты зашел к нему. Он тут рядом, третий дом от моего.
— Зачем?
— Один человек спрашивал про тебя.
— Кто?
— Не знаю.
Я подумал, что пропавший Шехага укрылся в этом горном селе и крестьяне решили спровадить его со мной. Шесть дней прошло, как он ушел из дому.
Халила Ковачевича я сразу узнал, он был вылитый брат, служивший у Шехаги.
— Я Ахмед Шабо. Ты звал меня?
— Звать не звал, мне о тебе говорили, вот и захотелось поглядеть.
— Видно, у тебя есть ко мне дело, если тебе захотелось поглядеть на меня.
Он посмотрел на меня, на дом, явно колеблясь, и в последнее мгновенье малодушно отступился от своего первоначального намерения.
— Да нет, особого дела нет,— сказал он, улыбаясь натужно и неумело.— Так просто.
— Брат имама говорил, что обо мне кто-то спрашивал.
— Кто?
— Откуда мне знать?
— А, да, спрашивал, но так, между прочим.
— Что он хотел?
— Что хотел? Не знаю, что он хотел. Видно, окончательно передумал. Не скажет.
— Ладно,— говорю ему.— Повидались, поглядели друг на друга, поговорили. Теперь пойду, чтоб засветло до города добраться.
— Да, зима, рано смеркается.
Я стал спускаться по горной дороге.
— Проводить тебя? — спросил он и двинулся за мной.
— Ты что-то собирался мне сказать, да не решился,— начал я в открытую.
Халил улыбнулся:
— Собирался, да это неважно.
— А может, важно.
— Нет.
— Кто спрашивал обо мне? Шехага?
— Какой Шехага? Откуда здесь быть Шехаге?
— Кто же тогда?
— Кто? Да не знаю. Понятия не имею, кто он да что, зашел сегодня случайно и, верно, приметил тебя. Вот и говорит: «Это не Ахмед Шабо?»
— Молодой, чернявый, худой?
— Да вроде.
— Рамиз?
— Не знаю. Может, и Рамиз.
— Он велел привести меня к себе?
— Кто? Этот парень? Ничего он мне не сказал, пошел своей дорогой.
— Куда?
— Ей-богу, не знаю.
— Ну хорошо, увидишь его — передай привет от меня.
— Вряд ли я его увижу.
— Знаешь, Халил, в другой раз ты сначала придумай, что и как сказать, а уж потом зови человека. Ну, я пошел, а ты возвращайся восвояси.
— А что внизу, в городе, как дела? Так, вообще…
— Да шарят, вынюхивают, ищут Рамиза.
— А зачем?
— Не знаю, зачем его ищут, но дай бог, чтоб не нашли!
Крестьянин остался на взгорье — освещенный солнцем, наглухо закрытый изнутри, я же быстро зашагал к затянутому серой пеленой городу.
Измучил меня этот бедолага — желание сказать боролось в нем с желанием утаить, стремление узнать от меня, что происходит,— со страхом выдать себя. Скорее всего, Рамиз, спрятанный в его доме, видел, как я вошел в село, а возможно, и знал, что я приду, и просил его привести меня. Возможно, вначале Халил не соглашался, тот уговорил его, и он поджидал меня перед домом, продолжая колебаться, а все взвесив, окончательно передумал, начал говорить обиняками, подтвердил лишь мою догадку о Рамизе, но от прочего отгородился, объяснив все случайной встречей: откуда-то пришел, о чем-то спросил, куда-то ушел. Рамиз наверняка хотел со мной увидеться. Халил решил, что лучше не допускать этого. Лучше и безопаснее и для него, и для Рамиза. Рамизу он обещал привести меня, я стоял перед домом, возможно, тот нас видел, и теперь Халил, довольный своей ловкостью, наврет ему с три короба, что я, мол, спешил или струсил и отказался. Что ж, его право. Он укрыл Рамиза в своем доме — ради Шехаги, ради своего брата, может, и ради денег, и с него достаточно страхов из-за того, что беглый бунтовщик прячется в его доме. Не хватало еще, чтоб он начал рассказывать об этом каждому встречному-поперечному!
В глазах Рамиза я много потерял.
И тут я вдруг вспомнил Моллу Ибрагима. Почему он послал меня в Жупчу? Знал ли он, где скрывается Рамиз, и молча направил меня по его следу? Или сам Рамиз через кого-то передал, чтоб я пришел? Задавать Молле Ибрагиму эти вопросы — напрасный труд, он будет открещиваться, мотать головой, удивляясь, как такое могло прийти мне в голову, он-де знать ничего не знает и не желает знать.
Осмотрительный Халил оборвал все нити тайны, которую по частям хранило много разных людей.
Хотелось ли мне повидаться с Рамизом? Не знаю, возможно, надо мной нависла бы новая опасность и начали бы терзать новые страхи, как бы кто не прознал про нашу встречу. Такое со мной уже случалось: сделаешь один шаг, а последствий не оберешься.
И все-таки я жалел, что наше свидание не состоялось. Я засыпал бы его вопросами о людях, о жизни. Ответы его можно представить себе заранее, но вдруг бы я уверовал в его добрую волю и твердую надежду. Мне необходимо уверовать. Лучше жить с обманчивой надеждой, чем ни во что и ни в кого не верить.
В городе Махмуд ждал меня с плохими вестями. Он пошел в дом арестованной женщины навестить ее больного мужа, отнести ему кое-какой еды и застал там плач и стоны: женщина умерла в тюрьме. От страха ли, от болезни, от пыток, кто знает?
Тяжелая весть, бессмысленная смерть.
Расстроившись, я даже не задался вопросом, откуда в Махмуде такая храбрость — идти в прокаженный дом? И как же все-таки в нем сильна потребность помогать тем, кому еще хуже, чем ему!
Тайна была наверняка известна Осману Вуку, Шехаге — в той мере, в какой это отвечало его желанию, сердару Авдаге — в той мере, в какой он мог о ней догадываться. А догадывался он, к сожалению, о многом, словно сам дьявол нашептывал ему на ухо.
Я и не представлял себе, что Рамиз станет для меня больше, чем просто человек, с которым однажды столкнула жизнь — кинул взгляд и тут же забыл, был — и нет его,— больше, чем приятель, с которым охотно встречаешься и легко расходишься, больше, чем женщина, которую любишь, а потом с трудом припоминаешь ее имя. (О приятеле и женщине говорю с чужих слов, у меня их не так много и было; это я слышал от Османа, и мне запало в голову ухарское бесстыдство его слов.) А судьба Рамиза настолько захватила меня, что ни о чем другом я и думать не мог.
Принудил меня к этому сердар Авдага.
Шло время, а побег Рамиза не выходил у него из головы. Вначале я полагал, что его усердие подогревают те, кто стоит над ним, но я ошибался. У них было столько неприятностей с Шехагой (тот возвратился из своего необычайного странствования, ни словом не обмолвившись, где был, пришел пеший, без денег, без мехового кафтана, грязный, исхудавший, молчаливый), такого он задал им перцу, так напугал их своей ненавистью, что они, спасая свои головы, и думать забыли про студента Рамиза и сердара Авдагу. Весь сыр-бор загорелся оттого, что Шехага в присутствии вали выразил пожелание, что надо их разогнать всех к чертовой матери. Не знаю, так ли точно он выразился или просил от имени народа, во имя которого творят и добро и зло, положить конец их тиранству, только скоро прошел слух, что кадия переводят в захолустный Зворниковский округ, а уже облысевшего Джемала Зафранию — в Сребреникский, причем надолго, одного — заштатным кадием, другого — писаришкой; если их не спасет счастливый случай и не переместят в другое место самого вали. Такие случаи не редкость, но никаких видов на то, что это произойдет в ближайшее время, не было, и они, можно сказать, висели на волоске, по городу ходили позеленевшие от злости и негодования, слали прошения в Стамбул, мольбами и угрозами заставляли людей писать высшим властям требования оставить их в Сараеве, ибо лучших государственных служащих и ревнителей народных (как будто это можно совместить), чем они, нет, не было и не будет, искали защитников и союзников, но все напрасно. Стамбул молчал, там никто и в мыслях не держал спасать их; союзников и защитников найти не удавалось, потому что искали они их не тогда, когда были в силе, а когда звезда их закатилась, вот они и жарились в огне пламенной ненависти Шехаги и одновременно стыли, обдаваемые холодом всеобщего равнодушия, уповая на чудо, которое вдруг превратит ненависть и равнодушие в благоволение, и ожидая неизбежного конца, когда, склонив голову, отправятся в глухомань, в изгнание.
Шехага утопил их, как слепых котят, без особенных причин, касающихся именно и только их, правда, он был наслышан об их неблаговидных поступках, об их высокомерии и запоздалой милостивости, но главная причина заключалась в его ненависти ко всем чиновникам вообще. В его глазах это самые дурные люди на свете, самые вредоносные, самые испорченные. Они поддерживают любую власть, собственно, они и есть власть, они сеют страх, не зная ни милосердия, ни меры, холодные как лед, острые как кинжал, они по-собачьи преданы любой власти и, как последние шлюхи, предают любого, если того требуют их личные интересы, эти люди — нелюди. Пока они царят в мире, не будет счастья на земле, потому что они уничтожают все, что представляет истинную человеческую ценность.
Ненависть Шехаги чиновники ощущали давно, но прорывалась она у него временами, словно он забывал про них, а потом вдруг вспоминал, как вспоминают свои горести, и мстил беспощадно — все равно кому, все были одинаковы, все подряд ненавистны, как ядовитые змеи. Сейчас ему случайно под горячую руку попался кадий и его первый помощник, и ничто их уже не спасет. Все понимали, судьба их решена, стоило только Шехаге помянуть их имена.
Вали выполнил пожелание влиятельного друга, поскольку Шехага не заговаривал о возвращении долга, сохраняя его как залог своей силы, и поскольку судьба чиновников, за исключением ближайшего окружения, вали не очень-то заботила. Стоит ли говорить о каком-то кадии и каком-то писаре, если они стали помехой на его пути? Таких, как они, чуть лучше или чуть хуже, он найдет сотни, а Шехага — один.
Кадий и Зафрания ничем не выделялись среди прочих, лишь злая судьба их виновата в том, что Шехага вспомнил о них в одну из своих мрачных минут. Вспомнил и ткнул пальцем. Может, это получилось случайно, как случайно молния ударяет в какое-то дерево на вершок выше других. А может, они оплошали, выпустив из виду эту всегда существующую опасность, грозящую вулканическим взрывом, не подумали об этом раньше и не сделали попытки с помощью мудрого или доброго дела отвести от себя внимание Шехаги, чтоб этот страшный человек в минуту гнева и ярости вспомнил кого-нибудь из их знакомых, а не их. Они готовы были уступить это его злосчастное внимание и отцу родному, только бы оно их миновало. Увы, власть отняла у них разум и ослепила, породив ощущение неуязвимости. Шехага казался далеким облачком на горизонте. Было уже поздно, когда они обнаружили, что это страшная грозовая туча. Они боролись — так борется утопающий, колотя руками по воде, затягивающей его на дно. То, что они стучались во все двери, прося помощи и милосердия, раскрывая даже причину влияния Шехаги, губительного для всех лучших людей (они имели в виду вали, не считая, однако, его таковым), только ухудшило их положение. Все опальные чиновники пишут письма, взывая к справедливости, о которой они забывали, когда она зависела от них. Уже и без того рождая подозрения своими мольбами о спасении, они делали еще большую ошибку, изображая себя ангелами, а других — дьяволами во плоти. Каждый знает, что они не ангелы, а те, кого они называют дьяволами, люди весьма влиятельные, и называть их так неразумно, во всяком случае до тех пор, пока они у власти. Вот когда они покачнутся, называй их хоть вампирами. Но раньше — ни-ни. Сейчас покачнулись они, и на их головы пали все издевки и надругательства. Сейчас для них настала пора беззащитности, одиночества, бессильной ярости. Любое их действие ошибочно, и мутная вода унесет их в забвение. Все пойдет по-прежнему, на их место придут другие серые люди, и мало кто заметит перемену. Но если каким-то чудом они восстанут из мертвых, это уже будут настоящие исчадия зла, среди людей им не будет равных.
Сейчас кадий и Зафрания еле на ногах удерживаются, скользя вниз, всецело занятые собой и оскорбленные постигшей их горькой участью. Неудивительно, что ни о чем другом они думать не могут.
Зато думал сердар Авдага. Без приказа, без всякой корысти, по велению сердца и души, как ученый или художник, как исследователь. Во-первых, его занимало дело само по себе, во-вторых, чувство долга в нем было развито до крайности, а в-третьих, существовало еще что-то такое, что доводами разума не объяснишь. Хозяйство его разорялось, а он самоотверженно гонялся за ведьмами. Непреклонность его не была вызвана каким-то тяжким переживанием, несчастьем или ненавистью, корни которых можно было отыскать в его биографии, и тем труднее было ее объяснить. Его не ждала ни благодарность, ни награда, ни повышение по службе. Его награда — презрение и страх людей. Его награда — чистая радость от сознания выполненного долга. К людям, которых он преследует, он не испытывает ненависти, он даже не знает в точности, в чем их вина. В голову мне часто приходила мысль: какая жалость, что дураков, как правило, отличает незаурядное упорство. Копай он с таким же упорством землю, он за год срыл бы половину Требевичской горы, чтобы она не заслоняла Сараево от солнца, и люди вспоминали бы его добром, но он наивысшей добродетелью считал поимку преступников, злодеяния которых он понять был не в состоянии, а знал только, что они нарушили закон. Он был фанатиком существующего порядка, не пытаясь постигнуть его смысл, как глубоко верующие не пытаются постигнуть смысл бога.
Во имя своей веры он добросовестно ловил людей.
Особенно ополчился он на меня и Махмуда.
Авдага не пропускал дня, чтоб не заглянуть к Махмуду в лабаз: придет, молчит, смотрит, задает вопросы — всегда одни и те же. Махмуд на себя стал не похож, пожелтел, исхудал, под глазами мешки, взгляд безумный, руки дрожат, ноги болят, от поноса никак не избавится, поминутно выбегает во двор, прерывая Авдагу на полуслове, а потом понуро возвращается, покорно садится перед сердаром и ждет продолжения пытки. Он решил, что это его судьба, наказание за грехи, хоть искупление тяжело сверх меры.
Но некоторые грехи придется искупать и Авдаге. Если он убивает сейчас Махмуда своими подозрениями, которые тот отвергает, то те же самые подозрения убьют и его, поскольку он не может найти доказательств.
Похоже, он забросил все дела, позабыв о всех прочих злоумышленниках, и настоящим мошенникам благодаря побегу Рамиза жилось как никогда вольготно. Его занимал один Махмуд. И еще я. Или нам только казалось, что он вцепился лишь в нас, потому что нам от него совсем не стало житья. Без устали кружил он одним и тем же путем, разговаривал с одними и теми же людьми, задавал одни и те же вопросы, уповая на то, что вдруг ему улыбнется счастье, звезды окажутся в благоприятном расположении, и бог нашлет прозрение на кого-нибудь из нас, и он ухватится наконец за нужную ниточку, потянув за которую распутает весь клубок. Ему нужны были неопровержимые улики.
Он обходил крепость, разговаривал с бывшим комендантом, со Скакавацами, потом с Махмудом и со мной.
Со мной он говорил не каждый раз. Придет в кофейню, сядет напротив, всегда один, всегда молчаливый, всегда погруженный в себя, и неотрывно смотрит, словно пытается отыскать во мне то, что ему так необходимо. Или я вдруг чувствовал его у себя за спиной; ночью ли, днем ли, как безответно влюбленный, тенью ходил он за мной. Иной раз я останавливался и ждал его, предпочитая пусть и мучительный, но прямой разговор, чем это преследование на расстоянии, когда я, словно тяжелый груз, волочил его за собой. Однако он тоже останавливался, невозмутимо ждал, когда я тронусь, и опять плелся за мной. Дальше моих ворот он не шел, некоторое время я слышал его шаги перед домом, после чего он наконец удалялся.
Иногда он приходил помолчать, иногда поговорить. Но ни единого слова, не имеющего связи с побегом, он не произносил. Я уже смирился с тем, что он следит за мной, проверяет меня, но привыкнуть к одним и тем же его словам, одним и тем же вопросам, одному и тому же выражению лица я никак не мог. Это ненормальность, рассуждал я, он маньяк, безумец, который ни о чем другом не в состоянии думать, даже во сне. И меня во сне преследовал его тяжелый печальный взгляд. Возможно, именно таким способом он доводит жертву до изнурения, но в поединке со мной это не дает ему преимущества, потому что я всегда начеку, хоть это и нелегко.
Я выходил из дома в разное время, шел разными улицами, но скрыться от него не мог. Он вынюхивал меня везде, словно я оставлял за собой запах, встречал меня на каком-нибудь углу или неожиданно выходил из каких-нибудь ворот, как из засады, и хмуро спрашивал:
— Для чего ты ходил к Омеру Скакавацу? О чем вы говорили?
Мой ответ так же постоянен, как и его вопрос, и он не сердился. Он поднимал на меня взгляд, точно удивлялся упрямству, заставляющему меня отвечать одно и то же, или опускал глаза, точно ему было стыдно за мое вранье. И, не попрощавшись, уходил.
Я стал для него потребностью, он для меня — привычкой, и мне было не по себе, если я не видел его целый день. Куда пропала моя тень? Не выдумал ли он чего-нибудь новенького? Упорство маньяка к добру не приводит, но я привык к нему, да и повторение одних и тех же слов и поступков, не имевших пока никаких последствий, в какой-то мере успокаивало. Между нами сложились отношения определенной терпимости: ни я, ни он не испытывали друг к другу ненависти. Правду сказать, порой я впадал в состояние невыносимой тревоги оттого, что он не спускает с меня свое недреманное око, в желудке полыхало пламя, сердце замирало от мрачных предчувствий.
В глазах у меня все пошло кругом, когда он однажды объявил, что ему все известно обо мне и Скакавацах.
Кто мог ему сказать?
Я ответил, что первый раз все это слышу и могу только удивляться способности некоторых людей выдумывать небылицы, но тут же с ужасом подумал: еще немного, и я выдам себя с головой — страхом, словом, сказанным невпопад, внезапным приступом бессилия и усталости, которые, видно, всегда овладевают человеком, чувствующим свое поражение. Однако это был лишь обратный ход памяти, заново пережитый страх. От резкой перемены привычного течения вещей у меня перехватило дыхание. Но сдаваться я не собирался и быстро взял себя в руки.
Что же ему все-таки известно?
Довольно долго он держал меня в тревожном неведении, а потом, встретив однажды на улице, велел идти за ним. По базару мы шли молча, не проронив ни слова — он не хотел, я не смел. Молчание его пугало, и в то же время я боялся выдать себя, поинтересовавшись, куда он меня ведет и зачем, или начав какой-нибудь пустячный разговор. Его новый шаг внушал мне беспокойство, за ним таилась неизвестная мне цель.
Холод сжимал сердце при мысли, что он ведет меня в крепость, и я облегченно вздохнул, когда мы вошли в его канцелярию.
Я бывал здесь и раньше, комната как нельзя лучше выражала характер ее хозяина — все здесь угнетало, внушало страх, но сейчас она показалась мне еще более холодной и суровой.
Он сел напротив меня и долго смотрел на свои сцепленные пальцы. Потом, без всяких околичностей, по-прежнему не глядя на меня, сказал, что ему все известно и что он не понимает, почему я не хочу признаться. Я соучастник преступления, он, разумеется, отдаст меня под суд, но зато он сохранил бы ко мне уважение за честность и искренность. (Я подумал про себя, что я предпочту обойтись без его уважения, но и без суда тоже.)
Когда я спросил, что это за преступление, о котором мне ничего не известно, он укоризненно покачал головой и рассказал мне всю историю побега Рамиза с начала до конца.
Ноги у меня подкосились, нутро свела судорога, совсем как у Махмуда.
Сказал он следующее.
Осман Вук, сам по себе или с ведома Шехаги, скорее с ведома Шехаги, чем сам по себе, придумал способ освободить Рамиза. Он не знает, зачем им это понадобилось — то ли они одних мыслей с Рамизом, то ли хотели насолить властям,— это неважно, его это не касается. Они наняли — за большие деньги, конечно,— старого Омера и трех его сыновей, чтоб те выкрали Рамиза. Махмуда послали к коменданту крепости с деньгами, чтоб тот впустил Скакавацев в крепость. Скакавацы спокойно вошли в открытые ворота, избили караульных и, вскочив на коней, умчали Рамиза неизвестно куда. Пока неизвестно, потому что Рамиз рано или поздно сам себя обнаружит, он сложа руки сидеть не будет. Вскоре после этого младший сын Омера напился в трактире Зайко и давай бахвалиться, что он и еще кое-кто знают, кто выкрал Рамиза. Носильщик Муйо Душица не помнит точно, кого парень поминал, но, когда его спросили, не Османа ли Вука, сказал, что, может, и его. Зайко дал знать Осману, а Осман послал меня к старому Скакавацу с жалобой на сына. Братья тут же на коней, помчались за Авдией и привезли его домой. Что там между ними произошло, сказать трудно, ясно только, что они убили его — на дженазе мы все были.
Не веря своим ушам, слушал я подлинную историю побега Рамиза. Лишь кое-где чувствовались незначительные бреши, но все действующие лица были расставлены по своим местам.
Вот что составилось у него в голове, когда он сложил воедино все раздробленные детали.
— Так? — спросил он почти весело.
— Не знаю,— ответил я, с трудом преодолевая шум в голове.— Могу сказать только о себе: не так! Сто раз тебе говорил, что ничего про это не знаю.
— И сто раз врал.
— Понимаешь, Авдага, мое дело сторона, но история твоя выглядит чересчур сомнительной. Носильщик точно не помнит, никто ничего толком не знает, ни одного свидетеля нет, а ты представляешь дело так, словно все видел своими глазами.
— Я двадцать лет на этой службе и хорошо изучил людей, знаю, кто на что способен.
— Слушай, Авдага,— разозлился я,— раз тебе все известно, чего ты не идешь в суд?
Он высоко поднял свои густые брови и помрачнел.
— Все мне известно, а сделать с вами пока ничего не могу. Нет неопровержимых улик. Скакавацев не разговоришь, молчат, Муйо Душица не помнит. У Махмуда отнимается язык, как только я помяну тюремщика. Ты скрываешь, да и кадий сейчас не хочет трогать Шехагу, надеется еще, что тот не выгонит его из Сараева. Но нельзя же злодеяние оставить безнаказанным?
— А ты знаешь, что совершил Рамиз?
— Я знаю, что он говорил против властей и был арестован. Остальное не мое дело. И знаю, кто вызволил его из крепости. Это преступление. А если преступления не наказывать, мир пойдет прахом. Против вас я ничего не имею, а вот против того, что вы совершили, имею. Улики я найду. И уж тогда пощады от меня не жди. Ты же мне не хочешь помочь! А я мог бы сказать кадию, что ты ничего не знал и был лишь слепым орудием в руках преступников. Теперь не скажу.
— Поступай, как тебе совесть велит, а я лгать не могу.
— Я только хочу тебя предупредить: улики у меня вскоре будут. У одного из сыновей Омера язык уже развязывается. И если кадий даст согласие арестовать Скакавацев, Махмуда и тебя в придачу, разом все узнаем. А согласие он даст, это и ему поможет.
— Я тебе, Авдага, уже однажды сказал, что над бедняками легко куражиться.
— Если эти бедняки заговорят — а они непременно заговорят,— надеюсь, от кары никто не уйдет. Никто! Я понимаю, на что ты намекаешь, но меня не испугают ни чины, ни богатство. Мне важна правда.
— Смотри, как бы в погоне за правдой не наделать кривды.
Он не ответил, лишь махнул рукой, отпуская меня.
Я ушел, ступая одеревеневшими ногами по неровной булыжной мостовой. Меня поразила его откровенность. Значит, он так убежден в своей правоте, что не считает нужным прибегать ни к хитрости, ни к осторожности. Он докопался до истины, добьется и справедливости. Своей справедливости. Он тем более опасен, что упрям и к тому же уверен, будто спасает мир. Упорный сыщик, одинаково беспощадный и к себе, и к жертве, жестокий, но без подлости, ограниченный, но с железной волей, по-своему честный, прямодушный, некорыстолюбивый, чистый в своей непритворной преданности порядку и страшный именно в силу всех этих своих качеств. Он не знает, чему служит, но служит на совесть. Не знает, за что карает, но со всей жестокостью. Возможно, он привык к одному закону, но вряд ли бы заметил, если бы воцарился другой. Он родился в давние-предавние времена, и в каждую эпоху рождается заново, он вечен. Как вечно его призвание вылавливать непокорных, а если непокорные приходят к власти, преследовать других непокорных. Думая о нем, я спрашивал себя: «Если человек честно служит грязным целям, кто он — честный или подлец? И честен он или подл, если грязными средствами стремится достичь высоких целей?»
Но обо всем этом я думал позже, тогда я ощущал только страх, смутный и в то же время весьма определенный. Если Авдага найдет то, что ищет, а найдет он наверняка, за свою шкуру я не дам и ломаного гроша. Но, помимо этой непосредственной опасности, меня окружала тьма неведомых угроз. Мне всюду мерещились тени и глаза, зорко следящие за каждым моим шагом, кольцо сужалось, тени все ближе, близость их гнетет все сильнее, я беспомощно верчусь, не видя ни выхода, ни спасения. Все эти бесчисленные глаза и тени принадлежат Авдаге. Это он породил целую армию призраков. И я не знаю и не могу себе представить ничего более мучительного, чем это состояние полной беспомощности. Точно болезнь с роковым исходом.
Подобное смятение мне доводилось переживать и раньше, но это было на войне, в непроглядном мраке густого леса или ровного поля, когда вокруг ни души, не слышно даже отдаленного человеческого голоса, а опасность чудится всюду, и ты не можешь определить ни ее характера, ни точного места, и поэтому она представляется еще более жуткой. Разум беспомощен перед этим страхом неведомой угрозы, он не в силах побороть его, как зрение — кромешную тьму.
Кто знает, сколько бы я еще барахтался в тине малодушия, если б вдруг не стал противен сам себе и с омерзением не плюнул в лицо собственной трусости. Да пошли они к черту, эти воображаемые страхи! Я человек, не мертвая мишень, ожидающая выстрела, и не стану на коленях встречать беду. Стыдно и перед собой, и близких нельзя разочаровывать — они же верят в меня!
Я сделал немного, но сделал сознательно. Зачем же втаптывать в грязь и эту малость?
Не хочу дрожать, не хочу бояться!
И так ли уж обязателен плохой исход?
Авдага все знает, но пока не предпринимает никаких шагов (рассуждал я спокойнее), уговаривает меня прийти с повинной и тем облегчить ему задачу. А я не пойду с повинной, и никто ни в чем не признается, вот Авдага до самой своей смерти и будет ходить за мной по пятам и все тише повторять свои вопросы. От такой пытки умрет он, а не я.
Или Шехага каким-то образом укротит его рвение и обезоружит его. Вспомнит его в злую минуту, когда ненависть заклокочет в сердце, и смертоносная струя ее зальет и сердара, и наше преступление.
Вернув опасность на землю, к людям, я почувствовал себя смелее. Опасность не утратила своей серьезности, только стала конкретнее и обозримей, я знал ее размеры, знал, чем она мне грозит, но моя растерянность и смятение исчезли.
Авдага прилагает усилия к тому, чтоб уничтожить меня, а я приложу все усилия, чтоб сохранить свою шкуру целой и невредимой. Стоит она недорого, но другой у меня нет, она прекрасно мне служит, а ему все равно ни на что не сгодится. Он готовит мне погибель, я желаю ему лишь неудачи, а учитывая наши силы, мои — ничтожные, его — могучие, будет справедливо, если он ничего не выиграет, а я ничего не проиграю. Ставки в игре у нас неравноценные, я ставлю на карту все, он ничего, для него проигрыш — неудача, для меня — конец. А раз так, пусть лучше он потерпит неудачу, чем я погибну. Как-никак собственная жизнь меня заботит больше, чем его удачи или неудачи.
Желание сохранить голову и решение не ждать, когда кинжал вонзится тебе в спину, принесли мне некоторое облегчение, и я отправился на поиски Османа Вука. Про него я вспомнил сразу же, как только надумал принять бой. Если кто и может обуздать Авдагу, так это он один.
Нашел я его в лабазе Махмуда. Лабаз, к моему удивлению, на сей раз был набит шерстью. Осман следил за тем, как увязывали тюки.
Махмуд ковылял по лабазу, без всякой нужды оттягивал веревки на тюках, стараясь показать Осману, что знает толк в деле и полон рвения. Разумеется, рвения было больше, чем знания, и Осман проверял после него все заново и приказывал затягивать крепче.
— Шерсть для Венеции,— объяснил Махмуд, как мне показалось, с грустью в голосе.— Осман с Шехагой едут.
— Чего ж ты не попросил, чтоб и тебя взяли? — спросил я, поняв причину его грусти.
Он пожал плечами: кому он там нужен?
И пошел дальше оттягивать веревки на тюках.
— Где ты пропадал? Нет чтоб помочь людям! — встретил меня Осман улыбкой.
— Мне надо поговорить с тобой.
— Дай вот кончу.
— Я бы хотел сейчас.
— И я много чего хотел бы.
Но все-таки пошел к каморке Махмуда. Я двинулся следом и закрыл за собой дверь.
— Долгий разговор?
— Как хочешь.
— Тогда давай покороче! Дела ждут.
— Я разговаривал с Авдагой.
— Да что ты говоришь? Неужто впервой?
Как всегда, скоморошничает. Ничего, сейчас услышит — забудет про свои шуточки.
— Авдага все знает. Я ушам своим не поверил…
В каморку вошел Махмуд, посмотрел на нас подобострастно, сгорая от любопытства. Год жизни отдал бы за то, чтоб услышать наш разговор.
— Хотите что-нибудь? Может, кофе принести?
— Не надо ничего,— резко оборвал его Осман.— У нас важный разговор.
Махмуд понуро вышел, он ведь и пришел из-за этого разговора.
Я передал рассказ Авдаги, не опустив ни одной подробности. Он слушал, не прерывая, но с поразившим меня ироническим видом. Я предполагал, что мой рассказ встревожит его больше.
И, что совершенно уж неожиданно, он громко расхохотался, как только я закончил.
— Что-что? Махмуд договаривался с комендантом? Много он знает, в точку попал, прямо пальцем в небо!
— А кто же?
— Много будешь знать — скоро состаришься.
— Чего ты от меня таишься? Надеюсь, не думаешь, что я побегу доносить?
— Не думаю, ты, брат, не такой дурак! С комендантом говорил знаменосец Мухарем. Ну, легче тебе стало?
— А он с какой стати?
— Ненавидит он их — всех! А с комендантом они приятели, на войне вместе были, один стариком, другой молодым. Теперь оба старики.
Знаменосец Мухарем! А бедняга Махмуд высох из-за поноса, без вины виноватый!
— А другие? В других он тоже ошибся?
— В тебе нет.
— Авдага опасен. И становится все опаснее.
— Знаю.
— Что будем делать?
— Уповать на бога.
— Плохо наше дело, если только на бога нам и осталось уповать.
Осман улыбнулся и дружески хлопнул меня по колену:
— Не так страшен черт, как его малюют.
И весело, без тени озабоченности пошел проверять, как работники увязывают шерсть.
Выходя, я видел, как Махмуд, разговаривая с Османом, грустно поглядел мне вслед, не смея спросить, о чем мы говорили. Он не выносит тайн, ни своих, ни чужих, но сильнее всего его мучает эта тайна, в которую он, ничего о ней не зная, влип без всякой вины.
Но что я мог сказать ему? Что он не виновен и Авдага напрасно его подозревает? Это он и сам знает, да толку от этого чуть. Сказать же ему, что он страдает за знаменосца Мухарема, мне и в голову не приходило. Это открытие могло вызвать в нем не гордость, а желание избавиться от поноса и скинуть со своей шеи сердара Авдагу, открыв ему имя настоящего виновника.
Что разумнее — освободить Махмуда от несправедливого обвинения или не освобождать? И вот снова от моего решения зависит, кому быть преступником — Махмуду или Мухарему? Избавишь Махмуда от муки, которую у него уже нет сил выносить,— погубишь другого бедолагу. Что лучше? Или что хуже? Если открыть Махмуду тайну, он не сумеет ее сохранить, сердар Авдага обеими руками ухватится за улику, за которой давно рыщет, и клубок начнет разматываться. Знаменосец умрет под пытками или признается. Один бог ведает, сколько людей погибнет. А так Махмуд связан с нами одной веревочкой, связан, правда, несправедливо, но опасность в этом случае меньше. Пусть остается все, как есть! Махмуд ничего не знает и потому не может ничего открыть. Все другое будет хуже.
Но и приняв такое решение, я не успокоился. Как ни было благоразумно мое решение, справедливым оно не было. Я обрекал невинного человека на страдания и, возможно, на гибель. Я утешал себя тем, что, если все выйдет наружу, я скажу о нем правду и таким образом спасу его хотя бы в последнюю минуту, но все равно чувство вины перед приятелем меня не покидало.
Нелегкое дело — решать судьбу людей. Не способен я к дележу справедливости, при котором всегда кто-то хоть ненамного, а окажется обделенным. Я никогда не испытывал желания быть судьей людям — справедливо тут никогда не рассудишь.
И все-таки жизнь вынудила меня взять на себя эту роль, и я чувствую себя прокаженным, виноватым и перед собой, и перед другими.
Смутило меня и поведение Османа, когда он услышал мой рассказ. Беззаботно расхохотался и предоставил все божьей воле. Легко ему уповать на божье милосердие, в которое он, кстати сказать, так же слабо верит, как и я, находясь в полной безопасности за широкой спиной Шехаги. Значит ли это, что всех нас он бросает на произвол судьбы? Трудно поверить в такую подлость, хотя от него всего можно ожидать. Но это было бы слишком большим легкомыслием с его стороны — ведь и ему, и Шехаге тоже не поздоровилось бы, если бы все открылось.
Почему же он так несерьезно отнесся к моему известию? Тем более что он и сам отдает себе отчет, насколько Авдага становится опасен.
Прошло три тяжелых дня. Тияне я ничего не говорил. Как и все прочие, я превратился в осажденную крепость, мрачную и безгласную, ворота которой были на тяжелом замке. К чему говорить Тияне? Напрасно волновать только. Стали бы вздыхать вместе — разве этим делу поможешь? Хоть ее надо пощадить.
Я, как водится, напускал на себя веселый и беспечный вид. И, как водится, обмануть мне ее не удалось. То ли тревога придавала моему смеху привкус горечи, то ли я просто не умею притворяться, но Тияна мигом учуяла, что я не такой, как всегда.
— Что с тобой? — озабоченно спросила она.
— Со мной? Ничего.
Сперва она поверила, но вечером взялась за меня снова:
— Что с тобой? Почему ты мне ничего не говоришь? Что ты скрываешь от меня?
— Ничего я не скрываю. Нечего мне скрывать.
— Может, ты полюбил другую? И, жалея меня, не хочешь признаться?
Женщины, кажется, все на свете готовы объяснять любовью.
Я горько рассмеялся. Имя моей новой любви — сердар Авдага!
— Что ты говоришь? Выкинь, пожалуйста, из головы эти мысли!
— Ты можешь смело мне сказать. Лучше знать наверняка, чем мучиться и сомневаться. Да и неудивительно, я так подурнела, разве я сама не понимаю?
— Похорошела ты, а не подурнела. И я никогда не любил тебя так, как сейчас,— сказал я взволнованно, потому что это была правда. Она — единственное мое убежище, но и ей грозит опасность. Что с ней будет, если меня заберут?
Она успокоилась, поверила.
— Что ж с тобой все-таки? Ведь что-то случилось, я вижу.
— Работы найти не могу. Бездельничаю, как шалопай какой-нибудь. Сколько можно так жить?
Она приняла это объяснение и стала бодро корить меня за малодушие, пытаясь уверить, что я наверняка скоро найду работу. Пока можно жить спокойно. На деньги, которые у нас есть и которые она тратит, пропуская сквозь самое частое сито, мы сможем прожить, если понадобится, год. С голоду, во всяком случае, не умрем. Мы молоды, здоровы, что еще надо? Деньги ее меньше всего беспокоят.
Конечно, беспокоить это ее беспокоит, но она храбрится, чтоб подбодрить и успокоить меня, не зная, что сейчас и для меня это последняя забота. Рану мою она не исцелила, но преданность ее меня тронула до глубины души. Она целебна сама по себе, прекрасна и дорога не меньше любви.
И тут-то, когда можно было уже ничего не говорить, я рассказал ей об Авдаге.
Тияна задумалась ненадолго, но, видно, в тот вечер она решила быть мужественной до конца. Она умалила мою вину ввиду грозившей мне опасности и наверняка возвела бы ее в заслугу, если бы за нее давали награду.
Оправдала она меня с легкостью.
— Ты же, по сути, не знаешь, что и было-то. Как ты можешь быть виноватым?
Довод не очень убедительный, но он помог мне заснуть спокойнее.
Разрешилось все совершенно неожиданно.
Спустя три дня после этого мучительного разговора сердара Авдагу убили. Убили под Даривой. Молва говорила, что его подстерег в глухом ущелье разбойник Бечир Тоска, когда тот под вечер возвращался от коменданта крепости.
Я узнал об этом утром от пекарей и, забыв про хлеб, побежал к Махмуду.
Он встретил меня, ошалевший от счастья и радостного возбуждения.
— Правда, правда! — захлебываясь, ответил он на мой вопрос.— Иду я утром и думаю, неужели и сегодня сердар припожалует, и вдруг навстречу мне столяр Абаз. «Слыхал,— говорит,— сердара Авдагу убили?» Я так и сел, хочу спросить, сказать что-нибудь, а слова произнести не могу, в горле клокочет — и все тут. А Абаз продолжает: «Убили его под Даривой из ружья; говорят, Бечир Тоска убил и ушел себе спокойненько в горы. Комендант как раз об эту пору слышал топот коня». Абаз, значит, говорит, а я слушаю и мало-помалу в себя прихожу, так и хочется засмеяться от радости, обнять его. Сын родился — я не так обрадовался! Помчался в лабаз, заперся там и давай ходить между мешками с зерном и тюками шерсти. Смеюсь, сам с собой разговариваю: «Нет его больше!» Только это и твержу: «Нет его больше!» Совсем ополоумел от счастья. Потом спохватился, сел и возблагодарил бога: «Аллах, благодарю тебя за то, что прикончил ты изверга рода человеческого! Давно я о тебе не вспоминал, прости, знаю, ты не злопамятный, как некоторые, ты увидел, как измывается надо мной этот палач, и пришел мне на помощь в самое время. Долгонько ты раскачивался! Запоздай ты чуть, и мне уж ничья помощь была бы не нужна, даже и твоя». Есть правда на земле, Ахмед!
— Я услышал в пекарне — ушам своим не поверил!
— Только хотел к тебе бежать, мол, с тебя причитается за добрую весть, а ты сам тут как тут. Ну да ладно, поздравляю тебя!
— Откуда взялся Бечир Тоска возле самого города? И надо же, напоролся как раз на сердара Авдагу!
— А мне все равно! Разве это важно? Важно, важнее всего на свете, что мне не надо больше смотреть на дверь и умирать, когда кто-нибудь берется за ручку. Теперь пусть кто хочет приходит! Милости просим! Сегодня я во второй раз родился!
Пока я в некотором смущении размышлял о нашем удивительном мире, в котором смерть одного человека вызывает ликование другого, получающего тем самым свободу, в лавку вошел Осман Вук. Вид у него был серьезный.
— Слыхали про сердара Авдагу? — спросил он нас.
— Да, слава аллаху! — радостно отозвался Махмуд.
— Нехорошо радоваться смерти человека! — укорил его Осман.— Каким бы он ни был при жизни, сейчас он мертв, и пристало говорить лишь одно: «Упокой, господи, его душу!»
— Я и радуюсь тому, что могу сказать: «Упокой, господи, его душу!» Ахмед вот спрашивает: «Кто его убил?» А я говорю: «Божье милосердие! И богу и людям в тягость стал».
— Говорят, Бечир Тоска его убил. Как он оказался на его пути?
Осман метнул на меня быстрый взгляд холодных серых глаз. В голосе его прозвучала угроза, а не смирение:
— Так бог судил. Или на роду ему было так написано.
В эту минуту я почувствовал твердую уверенность, что Авдагу убил он. До сих пор я сомневался, теперь я знал точно. По словам, которые он произнес — обычным, но ему не свойственным,— по грозному предостережению, которое я уловил в его голосе, по холодному блеску его сузившихся зрачков, по отсутствию во мне даже тени сомнения на этот счет. Словно выбились из моего и его мозга два луча и скрестились на одной и той же мысли, появившейся разом у меня и у него. Между нами больше не существовало тайн. Махмуду он сказал, что сегодня придет еще партия шерсти и надо приготовить рогожу и веревки.
Я следил за ним — мне хотелось понять, как выглядит убийца. (На войне их называют героями.) Ничего особенного: красив, спокоен, деловит, будничен, поглощен сегодняшними заботами, вчерашние уже перестали его волновать. Не знаю, что у него в душе, но по его виду никак не заключить, что он взволнован или думает об убитом. Если же и думает, то с удовлетворением: сделано важное дело, убрана с дороги серьезная помеха, жизни больше не угрожает опасность.
Соедини свои силы десятеро таких непреклонных людей, они с легкостью завладели бы миром. Подавляющее большинство людей слабаки вроде меня. Где нам сладить с ними?
Жестокость Махмуда мнимая. С детской непосредственностью он чуть ли не плясал от счастья, которое ему принесло несчастье другого, и благодарил позабытого бога за то, что избавил его от напасти, от которой сам он был не способен избавиться. Осман больше верит в свои силы, чем в божье милосердие, не ждет сложа руки, пока случай придет ему на помощь, а сурово разрубает путы, которыми пытаются его скрутить, и спокойно идет дальше.
Убивал он не сам, но это его рук дело. Кто знает, сколько было посредников между ним и посланной им смертью. Между смертным приговором, вынесенным им, и тем человеком, который спустил курок, стоит целая вереница неведомых людей. Последний, может, никогда и не слышал про Османа. Но, не будь Османа, Авдага был бы жив. Осман — его судьба.
Когда я собрался уходить, он крикнул мне вдогонку:
— Шехага тебя спрашивал. Велел прийти!
Я вышел на улицу и зашагал, низко опустив голову, старательно обходя людей, чтоб не слышать пересудов об убийстве Авдаги. Я не хотел думать о нем, а думал не переставая.
Больше я не увижу в конце улицы его высокую, сухопарую фигуру, не увижу его тяжелого, пронизывающего взгляда, никогда он больше меня не остановит, не спросит, о чем я разговаривал со старым Омером Скакавацем, а я не буду по утрам просыпаться с мрачной мыслью о том, что день снова принесет мне встречу с ним.
Но радости нет, душу гложет мысль: а не я ли его убил?
Я хотел избавиться от страха и опасности, смерти я ему не желал.
Боясь запоздалого раскаяния, я без всякого милосердия допрашивал себя: не ожидал ли я все-таки в глубине души именно такого исхода? Ибо каким другим он мог быть? Мог ли Осман убедить Авдагу, подкупить его, запугать? Наверняка нет. Авдага с презрением отверг бы все. Что, собственно, оставалось такому человеку, как Осман? Уповать на удачу и божье милосердие, как он издевательски наставлял меня, замышляя убийство? Нет, такой путь не для Османа. Он сделал то, что сделал, другого выхода не было. Ни для Османа, ни для Авдаги. Будь Авдага умнее, он испугался бы; будь он менее честным, взял бы деньги; будь он более легкомысленным, махнул бы на все рукой. Но он был он, остановить его могла только смерть. А к такому выводу мог прийти только Осман.
И я это знал, хорошо представлял себе обоих. Чего же я в таком случае ждал, на что рассчитывал?
Копаюсь в себе, ковыряюсь, роюсь, ищу в себе эту тайную, подспудную мысль и не нахожу, еще и еще раз убеждаясь, что ее не было. Иного исхода быть не могло, сейчас я это понимаю, но я ни на мгновенье не думал о нем раньше. Я должен был его предусмотреть и не предусмотрел.
Можно ли до такой степени усыпить свою совесть? Оборвать мысль, как нитку, и, не желая думать о последствиях, запретить себе думать о них? Выходит, можно. Инстинкт самосохранения защищает нас полным забвением, избавляя от ответственности и угрызений совести. Я все отдал в чужие руки, руки Османа, предоставив ему решать судьбу Авдаги без меня, без моего участия!
Если это так — а другого объяснения я не вижу,— человек довольно-таки дрянное создание, даже когда не сознает всех последствий своих поступков. Ибо он не хочет их сознавать!
Однако хитрость удалась: подавленный и расстроенный, я все-таки не ощущаю своей личной ответственности за происшедшее. Как я могу нести ответственность за то, что не я придумал, не я осуществил? Мне даже пришла в голову мысль (в который уже раз!), что это могло произойти и без меня, ведь Осман и сам знал об Авдаге. Невероятно было бы предположить, что только после моего рассказа он решил убить его.
Так моя пристрастная мысль, моя упорная защитница, искала все новые облегчающие обстоятельства для моей совести. А совесть принимала защиту, правда с легкой долей сомнения и некоторой неловкостью, но было видно, что она на пути к полному успокоению.
Когда я рассказал Тияне о смерти Авдаги, она раздраженно сказала:
— До чего же люди глупы! Делают зло, чтоб им злом отплатили.
Когда-то она говорила: «Как несчастны люди!»
Сейчас она убеждена, что зло должно быть наказано. Создавая семью, она не может и не хочет думать иначе.
Одна смерть, а сколько различных о ней мнений! И каждого волнует не смерть сама по себе, а его отношение к ней.
Шехага Сочо предложил мне ехать вместе с ним в Венецию. Молодому человеку надо, мол, повидать мир, да и ему не по душе ехать одному, и вообще он не против взять меня на службу. Если я не захочу работать у него, хоть мне и пора чем-нибудь заняться, поездка мне не повредит, легче потом будет жить в нашей глухомани. Деньги для Тияны он мне даст, и она может или остаться в нашем жилище, или перейти к нему в дом. Он полагает, что последнее было бы лучше. У нее будет своя комната, услужение, забот никаких, а поговорить, если захочет и когда захочет, может с его женой. Они поладят, о Тияне отзываются хорошо (кто отзывается? Осман?), да и у него жена добрая, словно в другом мире родилась. Если заплачет по сыну (никак не забудет его, говорит с ним, как с живым), Тияна ее утешит, а и уйдет, он ни в чем ее попрекать не станет. И ему будет спокойнее, что рядом с женой близкая душа. Понравится Тияне — мы сможем насовсем остаться у них: и для ребенка лучше, двор большой, дом просторный, а есть и другой, поменьше, на заднем дворе, можно там поселиться. Им с женой мы мешать не будем, да и они, надеется, нам тоже. И ребенок, когда родится, им не будет мешать, пусть себе пищит-заливается, все лучше, чем пустой дом.
О сыне он упомянул, лишь говоря о жене, но я знал: он не может его забыть. И меня берет с собой вместо него, в его сознании мы как-то соединились: были на одной войне, ровесники, даже родились в одном месяце, и глупость сделали одинаковую, вот только последствия разные. А он, попытавшись утишить свое горе ненавистью, сейчас пытается смягчить его заботой о других. Не выйдет: боюсь, что сознание своего несчастья станет у него еще сильнее от близости нашего счастья, но он ищет лекарства от своего недуга, как безнадежный больной, которому уже нечего терять.
Я не допущу, чтоб он возненавидел меня, когда к нему снова придет разочарование, когда он увидит, что и это лекарство не помогает, вовремя отойду, но сейчас отказать ему я не в силах.
Тронуло меня его горе, которое он скрывает и не может скрыть, и безуспешные поиски утешения. И сейчас ему не найти его. Я не могу быть другим — человеком, живущим в его памяти, тень мертвого сына всегда ему будет милее и дороже его живого подобия. Но какое-то облегчение, пусть ненадолго, я ему принесу. И то хорошо.
Ну что ж, отправлюсь в эту дорогу надежды. Мое дело быть при нем, остальное он додумает сам. Все, что сочтет нужным.
Надо ли мне было отправляться в этот далекий путь? Снялся с места я легко, не чувствуя ни охоты, ни нужды, вняв лишь просьбе другого. А может быть, и мне будет полезно поглядеть на этот удивительный романский мир. Говорю «может быть», потому что сильно в этом сомневаюсь. Кроме торговцев, ездят по свету люди мятущиеся, не выносящие одиночества, они гонятся за новыми впечатлениями, новыми видами, давая пищу глазам, но душа их остается пустой.
Что я увижу? Благоденствие или убожество? Благоденствия с собой не унесешь, а убожества и дома с избытком, горести других вряд ли могут служить утешением в собственных. И все-таки чем черт не шутит!
Однако чем больше я удалялся от Сараева и Боснии, тем сильнее овладевали мной малодушие и даже страх. Особенно по вечерам и ночью. Для этого не было никакой видимой причины, я не боялся чего-то определенного, а смута в душе росла и росла. Все во мне словно встало на дыбы, точно я заболел неведомой болезнью, проявляющейся не болью, а страхом. На душе было пусто и грустно, края вокруг чужие и грустные, люди холодные, небо далекое, мир зыбкий, мысли тревожные.
Все вокруг не мое, замкнутое, недоступное.
Мною овладевало все большее беспокойство.
Хорошо помню, как в подобные минуты крайнего смятения я воспринимал самые обычные вещи. Мы приближались к морю. Суровые боснийские снега остались в двух днях пути за нами, но, когда даль растопила их, они показались мне вдруг такими милыми! Серые голые горы вызывали тошноту. Внезапно на вершине горы показался обычный приморский дом, крытый каменными плитами, на убогом дворе, огороженном ветхим плетнем, на фоне затянутого облаками неба стояла старуха в черном; она что-то кричала кому-то, кого я не видел, одна-одинешенька в неоглядном пространстве каменистых гор. В другом случае я подумал бы, что она кричит соседке, или кому-то из домочадцев велит присмотреть за скотиной, или еще что. Но теперь я воспринял ее как воплощенное отчаяние. Я полностью ушел в созерцание этой картины, не в силах подавить в себе ощущение дрожи и ужаса: последний человек, один на всем белом свете — все прочее превратилось в камень,— посылает в небо горестные вопли.
«Что меня ждет здесь? — в панике спрашивал я себя.— И разве где-нибудь бывает иначе?»
Потом тоска моя несколько улеглась, стала привычной. Когда, достигнув моря, наши вооруженные проводники двинулись в обратный путь, я умирал от зависти, считая их самыми счастливыми людьми на свете, потому что они возвращались в Сараево, от которого я уходил все дальше и дальше. И чувствовал все большую неуверенность, словно лишался корней, которые держали меня на одном месте. Теперь я нигде.
С мучительной тоской думал я о Тияне, расстояние между нами вызывало боль, время, проведенное без нее, вызывало боль. Я был одинок и никому не нужен, пока счастливая звезда не привела меня к ней. Душа во мне угасла, Тияна дала ей жизнь, проявив ко мне большее милосердие, чем к ребенку, которого носила под сердцем. Война и жизнь выбили почву у меня из-под ног, она дала мне уверенность, но ощущал я ее только тогда, когда она была рядом. Она — земля, питающая меня своими соками, она — воздух, которым я дышу, та сторона моей жизни, которую всегда освещает солнце.
Зачем я уехал от нее?
Я думал о шалопутном Махмуде, заплакавшем при прощанье то ли оттого, что не он едет в Венецию, то ли оттого, что долго не увидит меня; думал об убитом сердаре Авдаге, не позволявшем мне скучать и дремать; думал о добром, перепуганном Молле Ибрагиме, который радовался моему путешествию, не предполагая, что мне будет так тяжко; думал я и о своей убогой каморке, представляющейся мне теперь самым прекрасным местом на земле, думал о нашей нищей улочке с покосившимися заборами, думал о всем том, что ощущал своим, пусть ничтожном, но родном и милом.
Думал и тосковал.
К счастью, пока мы ехали верхами, у меня болели спина и ягодицы; от морской качки выворачивало наизнанку, высокие волны и необозримые морские просторы наводили на меня ужас. Физические страдания спасали от душевных мук.
Шехага выглядел мужественнее и веселей меня. Он привык к сомнительным прелестям путешествия, да и нрав у него другой. Я никогда не знаю, как поступлю в следующую минуту, а он держит себя в узде и делает лишь то, что отвечает его самолюбию и гордости, кроме, конечно, случаев, когда на него нападает тоска. Не берусь судить, соответствует ли состояние его души выражению лица, но приветливая улыбка и спокойный взгляд серых глаз открыли мне нового Шехагу — путешествие словно преобразило его. Оживился, все его интересует, с людьми учтив и весел, никаких жалоб на еду, помещение, весь светится, точно ждет от этого путешествия чего-то особенно приятного.
Меня встречает с мягкой улыбкой близкого человека, о предметах горестных не заговаривает, молчит и о своей ненависти, держится откровеннее, чем раньше, рассказывает о сыне и своей тоске по нему, правда скупо и немногословно, но, принимая во внимание его обычную замкнутость, все же неожиданно. Говорит и обо мне, о моем будущем, предрекает мне много детей — нельзя испытывать судьбу одним ребенком,— интересное занятие, семью, которая будет любить меня и станет моей крепостью, в ней я смогу укрыться от мира. Нет ничего важнее покоя и счастья, созданного своими руками. Такое счастье надо беречь, окружить его рвами, никому не позволять ставить его под угрозу. Пусть меня другие не волнуют: жизнь жестока, люди злы, и их надо держать на расстоянии, подальше от всего, что принадлежит тебе и дорого тебе!
Я не мог согласиться с его рассуждениями, порожденными опытом и мудростью в ту пору жизни человека, когда мудрость уже без надобности. Жизненная мудрость — несчастье, а вовсе не благо.
Она остерегает тебя на каждом шагу, портит тебе любое начинание, подсовывает множество причин, согласно которым лучше молчать, не рыпаться и ни во что не вмешиваться. То, чем занимается студент Рамиз, отвергла бы любая жизненная мудрость. А Рамиз вселяет в души людей надежду. Мудрость труслива, малодушна, опыт помогает не жить, а пресмыкаться. Мудрость и опыт не приемлют сущее, но и не борются с ним. Только отсутствие опыта и безрассудство дают крылья! Тот, кто не прислушивается к чужому горькому опыту, разобьется, это верно. Но он взлетит, вырвется из болота, оставит по себе светлую память, и она не исчезнет. Будь побольше такого безумства храбрых, может быть, опыт веков и перестал бы нас пугать.
Я не спорил с ним, за свой опыт он заплатил слишком дорогой ценой, было бы жестокостью опровергать его голословными принципами, которых я сам не придерживаюсь.
На море Шехага вдруг снова переменился. Замкнулся, ушел в себя, часто сидел один. Говорил он меньше и без прежней убежденности, с каким-то даже страхом, весь обращенный к чему-то внутри себя. Или вдруг останавливался на полуслове, широко раскрыв глаза, словно его пронзало внезапное мучительное воспоминание или он прислушивался к чьему-то, только ему слышному голосу. Продолжалось это мгновенье, потом я не мог сказать с уверенностью, было ли это на самом деле, хотя моя собственная взвинченность убеждала меня в том, что я не обманывался.
Я считал, что его мучают воспоминания, от которых он не в состоянии избавиться. Это могло кончиться плохо и для него, и для меня, ведь так недолго и возненавидеть друг друга. Но лишь только он выходил из состояния мрачной отрешенности, как вновь становился приветливым и ласковым, и я тоже успокаивался. Сколько мужества и силы надо иметь, чтобы сохранять доброе расположение ко мне, когда в сердце оживал покойный сын!
А может быть, эти внезапные приступы ипохондрии вызваны физическим недомоганием. Сирокко дул во все время нашего пути, море было бурным, и корабль то зарывался носом, то вставал на дыбы.
Я спросил Шехагу в тревоге:
— Зимой море всегда такое?
— Часто.
— Почему же ты тогда каждый год ездишь?
— Люблю Венецию. Веселый город, особенно сейчас, во время карнавала.
На что ему карнавал?
— А когда не карнавал? Наверно, такая же тоска, как у нас.
— У нас всегда тоска.
— Не любишь Боснию?
— Не люблю.
— Переехал бы в Венецию.
— Может, и ее возненавидел бы. Так лучше.
Что такое это его паломничество в чужой город? Привычка ли, укоренившаяся за многие годы, попытка убежать от себя и своего горя или у него там какая-то романтическая связь, которая хотя бы на время снимает с души напряжение? Не знаю, но его любовь к этому городу казалась мне странной и наигранной, словно кому-то наперекор.
Венеция — это кружево, рассуждал он, город, построенный, чтоб им любоваться, созданный для всевозможных радостей, готовый принять любого. Все истинно человеческое находит в нем прием и понимание, это город зрелых людей, которые не стыдятся и не боятся того, что делают; слабости людей воспринимают трезво и спокойно, достоинствам и благородству радуются. Законов у них немного, но их отличает строгость и справедливость, они знают: чем больше законов, тем больше мошенников. Правителей у них немного, потому и прихлебателей мало. Наказывать наказывают, но за преступления и без самодурства, без ненужной жестокости. О государстве пекутся все, налог платят соответственно своим возможностям, а больше всего средств тратят на школы и украшение города. Есть богачи, но нет нищих. И несправедливость есть, но нет насилия. Есть тюрьмы, но нет застенков. Горожане выбирают управу, каждые три года сменяют ее и выбирают новую. Сила их в согласии, к которому они стремятся и которого добиваются. Рая они не создали, но жизнь устроили, насколько это возможно, наилучшим образом.
«Неужто и такое есть на свете?» — удивлялся я.
Шехагин рай я сразу учуял носом: от каналов, в которые щедро сливались помои со всего города, несло смрадом, а над неподвижной водой стлался туман, отдающий плесенью, словно этот удивительный город, богатый водой и бедный сушей, не продувал никакой ветер.
Сомнительным показался мне этот рай. Пожалуй, свое видение прекрасной жизни, как он ее себе представляет, Шехага связывает с этим городом без всяких оснований, лишь потому, что он хочет, чтоб где-то существовал такой город и он мог думать о нем, глядя на наше убожество, чтоб легче было сносить наш ад. Возможно, в этом частично проявлялась его месть: видали, как в Венеции живут! А возможно, и больше чем месть — вера и желание, чтоб был на земле город, страна, где жизнь не цепь сплошных страданий и несправедливостей. А если такое может быть в одном месте, почему бы ему не быть и в другом? Город мечты создало страстное желание иметь его. И Шехага знать не хочет, что он существует лишь в его воображении.
Похоже, эта поездка — паломничество в святые места прекрасных грез.
— Ну, разве не красиво? — спрашивал он меня то и дело, а я смотрел на старых портовых носильщиков, которые понуро сидели вдоль стен, прячась от ветра.
Так о чем же они пекутся — о делах государства или о куске хлеба? Неужто и они верят, что живут в раю? И будто эти роскошные дворцы выстроены для них? И это они сменяют правителей? И это у них спрашивают мнение, когда решают государственные дела?
Есть богатые, значит, есть и бедные.
Нетрудно построить счастливый город в мечтах, труднее представить себе его в действительности и еще труднее сохранить веру в него.
Каким образом Шехаге удалось это сделать?
Спрошу его позже, когда придумаю, как лучше спросить.
На пристани нас встретил Осман Вук, прибывший раньше с грузом шерсти. Он собрался было с места в карьер докладывать о делах, но Шехага прервал его усталым движением руки: потом!
Осман Вук проводил нас в гостиницу на канале. Шехаге отвели просторную комнату с передней, меня поместили в маленькой рядом.
Я положил вещи, умылся и пошел к Шехаге договариваться, что мы будем делать сегодня. К своему изумлению, я застал его в кровати. Он даже не разделся.
— Плохо тебе?
— Отдохну немного.— Он усмехнулся.— Годы никому спуску не дают. Прежде я легко переносил дорогу.
— Попробуй заснуть. Я зайду позже.
Осман сидел в зальце на втором этаже. Он знал, что Шехага лежит, но был скорее разочарован, чем встревожен. Когда я сказал, что Шехага устал с дороги, он с сомнением покачал головой:
— Если б только устал, он не лег бы. Не станет человек ехать из Боснии в Венецию, чтоб сидеть в доме. Не нравится мне он. Не нравится.
То же самое он повторил, когда мы вошли в мою комнату. Вздыхал и охал: надо же такому случиться! Его не пришлось долго расспрашивать, в чем дело, он тут же выложил, что договорился на вечер с какими-то греками и герцеговинцем играть в кости. Ну а теперь, конечно, все лопнет, пропал верный выигрыш: во-первых, он, скорее всего, понадобится хозяину, если тот простыл или животом занемог, а во-вторых, у него выручка за проданную шерсть, а с деньгами по ночам ходить опасно, особенно здесь, в Венеции. Вот так всегда бедность с невезеньем рука об руку идут. Вчера он проиграл, только греков заманил на эту ночь — и на тебе!
— С чего бы тебе быть бедным? Ты же хорошие деньги получаешь!
— Руки у меня дырявые, деньги враз просыпаются, только я их и видел.
— На что же ты их тратишь? На женщин?
— Спроси лучше, на что не трачу!
— А если и сегодня проиграешь?
— Ты что, вспомнил Брчака? — Он весело рассмеялся.— Это совсем другое. Брчак — король игроков, а греки просто торговцы. Продали два парусника оливкового масла. Я вчера посмотрел, как они играют,— один парусник мог бы быть мой.
— Хорошо ли отбирать у людей такие деньги?
— Они у меня тоже отобрали бы, если б могли.
— Ладно, я побуду с Шехагой. Иди занимайся своим дьявольским промыслом. Выручку от шерсти оставь у меня, напиши, сколько там денег.
— Неловко мне тебя затруднять. Может, всю ночь сидеть с ним придется. Право, неловко.
— Знаю, как тебе неловко, цену себе набиваешь! Для чего ж ты мне все и говорил, если не для того, чтоб я тебя подменил?
— Честно говоря, верно,— согласился он смеясь.— Спасибо, я тебе тоже услужу.
— Что с Шехагой, как ты думаешь?
— Видно, с желудком что-то. Скажи хозяину, пусть заварит ромашки, и дай ему. А может, и не понадобится.
Теперь он преуменьшал опасность, оправдывая себя, что проведет ночь в игре, а не у постели больного хозяина.
— Почему Шехага каждый год ездит в Венецию? — спросил я Османа, знающего все тайны своего хозяина.
— С сыном сюда приезжал. До того, как тот на войну ушел. Сын гулял напропалую. Завтра увидишь, Шехага обойдет все места, где сын веселился.
О боже! Правда всегда оказывается горше и больнее, чем все, что мы можем себе вообразить.
Вечером шум карнавала приблизился к гостинице. Шехага поднялся посмотреть и пошатнулся — ноги совсем не держали. Я едва успел подскочить и не дал ему упасть. Внезапная слабость этого могучего человека напугала меня всерьез, и я упросил его раздеться и лечь, а карнавал, мол, мы увидим и завтра.
Обессиленный, он позволил себя раздеть, лег и закрыл глаза. Не открыл он их и тогда, когда карнавальный шум раздался под нашим распахнутым настежь окном.
Я выглянул в окно. Толпа мужчин и женщин в причудливых нарядах с невообразимым шумом и гамом двигалась по улице, отдельные голоса разобрать было невозможно, свет факелов и китайских фонариков отражался в тихой воде канала.
С недоумением разглядывал я эту пеструю толпу — она кружилась, раскачивалась, двигалась вперед, а то вдруг останавливалась, и внутри нее каждый сам по себе кружился, скакал, прыгал, плясал, пел, словно стремился перещеголять другого в несуразности и безрассудстве поведения. У меня голова пошла кругом от этого веселья, похожего на беснование. Это не праздник радости, это разгул. Быстрей! Неистовей! Вчера была скука, запреты, и завтра будет то же, так насладись же сегодня полной свободой!
— Что там? — раздался голос Шехаги.
Я подошел к нему:
— Как тебе? Лучше?
— Что на улице?
Я сказал коротко, в двух словах.
— Тебе, видать, не нравится.
— Не знаю. Торопятся отчудить свое, словно их завтра тюрьма ждет.
— Со стороны смотришь, потому тебе так и кажется. А был бы вместе с ними, тоже веселился бы.
— Возможно.
— Эта радость доступна всем. Довольно двух-трех тряпок, чтобы перестать быть собой. И маски — никто не видит твоего истинного лица, и ты можешь не стесняться делать любые глупости. Потому что их делают все. Таков мудрый уговор — прочь благоразумие! Все позволено, ничто не безобразно, ничто не грешно. И так поступает не один человек наперекор всем, чтоб выделиться из толпы, а все поголовно. Значит, греха в этом нет и попрека не может быть. Несколько дней и ночей живи как хочешь, отдыхай от всяких пут, запретов, указов, лжи, грубостей, стыда — нет лучшего лекарства для души! Мы так не умеем.
— А потом?
— А потом опять по-прежнему, до нового очищения.
Нет, не это его волнует, но спросить не решаюсь.
Я сказал, что отпустил Османа — он пошел играть с греками,— и вручил ему деньги, которые тот мне дал. Шехага не глядя сунул деньги под подушку.
— Этот пройдоха,— усмехнулся он,— ославит нас на весь мир. Люди будут думать, что мы все такие. Я иной раз завидую его нраву. Ему всюду хорошо.
— А я дождаться не могу, когда домой ворочусь.
И тут же понял, что допустил промашку. Не надо было так говорить.
Ничего не ответив, Шехага отвернулся к стене.
Молча я слушал шум карнавала, безобразный визг, обрывки начатых и незаконченных песен, оглушительный хохот, слушал вместе с Шехагой, глядя на его седую голову. Мне было жаль его, и жалость мою усиливало его молчание, за которым скрывалась боль. Но чем помочь?
Когда мы плыли по морю, он любил, когда я рассказывал ему о людях, об их судьбах, грустных и смешных, как это и бывает в жизни. О своих боевых товарищах по Хотину, о других людях, которых мне довелось узнать, о переплетчике Ибрагиме, что сбежал на войну от своих трех жен, а лучше бы ему воевать с ними, чем с русскими; о хаджи Хусейне Пишмише, что укрылся от своих кредиторов на далекой Украине, но оплатил векселя с самыми большими процентами; об Авдаге Супрде, которого убила не война, а груша; о Салихе Голубе и его горьком счастье; о Рабии-ханум и ее поздней любви; о страхе Махмуда и его поносе, о людях и вещах, которые видишь яснее, когда смеешься над ними сквозь слезы.
— Рассказать тебе что-нибудь? — спросил я его.
— Я был здесь с сыном четыре года тому назад,— сказал он неожиданно.— Всю ночь мы провели на улице, в карнавальных масках.
Вырвалось-таки, не удержался.
Я ничего не спрашивал, не издал ни звука, пусть выговорится.
— Восемнадцать лет он был на моих глазах, и я никогда не видел его таким веселым. Я думал, мы будем приезжать сюда каждую зиму. А потом он ушел на войну. Не знаю… я не знаю, почему он ушел. Может, не хотел отстать от товарищей. Не знаю…
Голос у него сухой, напряженный, тихий. Больше он ничего не сказал и снова отвернулся к стене. Я подошел к окну вдохнуть свежего воздуха и прийти в себя. Улица опустела, шум утих, перенесся на другой ее конец. Вдруг я обмер. Что это? Всхлип или тяжелый вздох, оборвавшийся рыданием?
Я обернулся: Шехага лежал в прежнем положении, дышал ровно и тихо.
Поздно ночью Шехага заснул, и я вышел на улицу. Она была пуста, лишь щедро усыпана всем тем, что бросила или потеряла бесновавшаяся толпа. После шума, сотрясавшего каменные стены домов, стояла жуткая, какая-то призрачная тишина.
Я смотрел на безмолвную воду канала, один на всей улице, потонув в этой тишине, как в недвижной воде подо мной, меня окружали тени чужой тьмы и заливала болезненная тоска, причину которой я не знал.
Я убежал от этой странной ночи и от себя, ставшего мне самому непонятным.
Шехагу я застал перед постелью, он стоял на коленях, прислонив голову к спинке кровати, и тщетно пытался опереться на бессильные руки.
Я поднял его и уложил. Он походил на умирающего.
— Позвать врача?
— Нет,— шепнул он.
Я дал ему ромашки, и он скоро успокоился. Даже заснул. Утром он проснулся почти здоровым. Я уговорил его не вставать и не курить — с сердцем, мол, шутить нельзя.
— Думаешь, сердце у меня?
— Похоже.
— Ладно, послушаюсь тебя. А врача не зови! Поставит пиявки, последнюю кровь выпьют.
— Может, и не вредно бы.
— Бог мой, как легко люди соглашаются на то, чтоб пустить чужую кровь,— пошутил он.
Потом заговорил о том, как мы возместим эту пустую трату времени, как он покажет мне такую красоту, что у меня глаза на лоб полезут.
Я искренне признался:
— Что касается меня, то я хотел бы всей этой красоте поскорее показать спину.
— Почему? Чего ты торопишься в этот наш ад, побойся бога! Чем позже туда попадешь, тем лучше.
Осман Вук вернулся утром, ночь для него кончилась неудачно. Начал проигрывать, греки пустились мухлевать, Осман одернул их, те совсем обнаглели, тогда он избил их как собак, на шум прибежали полицейские. Османа с герцеговинцем отвели в тюрьму. Утром их отпустили, но содрали большой штраф. Таким образом, Осман лишился и выигрыша, и своих кровных.
— Неужто ты не можешь без скандалов? — рассмеялся Шехага.
Но тут его пронзила боль, он побелел, скорчился, сидя на постели, так что подбородком почти уткнулся в колени, потом выпрямился, помолчал мгновенье и сказал Осману:
— Давай сыграем!
Мы удивленно переглянулись.
— Как это? С тобой? У меня и денег нет.
Шехага вытащил деньги из-под подушки.
— Выиграешь — твои. Проиграешь — другого наказания тебе и не надо.
— Не по справедливости это, ага.
— Я знаю, ты игрок хороший. Но играем без обмана!
— Боже сохрани!
— Ну, тогда садись!
Осман придвинул стол к постели и сел, явно не в себе.
— У тебя руки дрожат,— заметил ему Шехага.— Успокойся.
— Какое там! Ведь такие деньги!
— Будем тянуть жребий?
— Нет.
— Бросай.
В этой необычной игре сошлись опытный игрок и чудак. Для одного будто вся жизнь зависит от результата игры, другой дурачится или хочет помочь, но не хочет дарить. У одного душа трепещет — другой наслаждается его страданиями. Один поджаривается на раскаленных углях, подавленный близостью нежданного счастья,— другой забавляется, ему безразлично, выиграет он или проиграет.
Осман бросил кость дрожащей, точно расслабленной рукой.
— Что с тобой? — рассердился Шехага.— Противно смотреть. Ты же ничего не теряешь, можешь только выиграть.
— Такой случай могу упустить!
— Вся жизнь состоит из случаев. За всеми не угонишься. Рано или поздно ты свое возьмешь. Ты же как ястреб — всех бы нас когтями сгреб.
— Что ты говоришь! Да никогда в жизни!
— Сгреб бы, сгреб! За то я и люблю тебя! И хочу, чтоб ты выиграл. Разве можно людям прощать?
— И я хотел бы выиграть.
Но счастье изменило Осману именно тогда, когда было ему нужнее всего. Он спал с лица, как-то съежился; покрылся потом, в глазах застыла тоска, весь он стал какой-то потерянный.
Удача так и не пришла к нему. Он проиграл.
Играли недолго, десять раз бросили. Мне показалось — долго, как болезнь.
— Видно, не судьба,— серьезно сказал Шехага.
— Не судьба.
Осман встал, подошел к окну и забросил кости в канал.
— Больше не играю,— сказал он подавленно.
— Поклянись! Не словом, не душой — жизнью поклянись!
Осман произнес клятву, будто казня себя, и вышел из комнаты.
Он вызывал жалость.
— Зачем ты так? — укорил я Шехагу.
— Я загадал: выиграет он — и я выиграю. Кажется, мы оба остались в проигрыше.
— Как это? Не понимаю.
Он отмахнулся, не желая отвечать.
Бодрости ему хватило ненадолго. Не в силах поднять руки, он беспомощно теребил одеяло, на побелевшем лице выступил пот, губы скривила гримаса боли.
Мне показалось, он умирает.
— Шехага, что с тобой! Шехага! — испуганно звал я его.
Он начал клониться набок — вот-вот свалится с постели; я положил ему голову на подушку.
Несколько мгновений он лежал спокойно, а потом медленно поднял веки, открыл угасшие зрачки, почти мертвые. С натугой улыбнулся и даже сказал, чтоб я не пугался. Я и не предполагал в нем такой силы духа. За врачом он снова не разрешил мне идти.
— Нечего впутывать в наши дела иностранцев,— прошептал он.
Я не понял, о каких делах он говорит.
Постепенно в глаза его вернулась жизнь, и он посмотрел на меня долгим, пронизывающим взглядом. Словно чего-то искал, пытался прочесть на моем лице. Почему он не спрашивает? Я бы все ему сказал. Думаю, что все.
— Не бойся,— сказал он тихо, но твердо, почти грозно.— Я не умру. Не все еще сделал. Я должен отплатить за причиненное мне зло. Негоже оставаться должником.
— Зачем думать о мести? Неужто все счастье в этом?
— Будто счастье в жизни, а вот живу.
— Месть все равно что хмель. Стоит только начать — конца не будет. И зачем сейчас об этом думать?
Он крикнул рассерженно:
— А о чем же мне еще думать?
Но внезапно замолчал, испуганно схватился за край одеяла и потянул его к подбородку, из груди его вырвался крик боли, будто судорога свела все нутро. К счастью, приступ продолжался мгновенье, он успокоился и отклонил полотенце, которым я утирал ему покрывшийся испариной лоб.
— Не надо,— сказал он тихо.— Где Осман?
— Не знаю, куда-то ушел. Я не могу тебе помочь?
— Где Осман?
— Не знаю я, где Осман. Что ты хочешь? Скажи мне.
— Ты не годишься.
— Для чего не гожусь?
— Пожалуй, я этого ждал, но не сейчас и в другом месте. Не здесь и не так.
— О чем ты, Шехага?
Его вид, непонятные речи, музыка и веселые голоса, доносившиеся с улицы, унылая комната, пугающая, неведомая мне тайна — все это привело меня в состояние крайнего возбуждения.
Приступы повторялись все чаще, болезненная судорога сводила лицо в жуткую гримасу, силы таяли.
Его мутило, казалось, вот-вот начнется рвота, он глубоко втягивал воздух широко открытым ртом, старался удержать дыхание и все это время не спускал с меня взгляда. Скоро смерть погасит блеск в его серых глазах, которые внушали людям страх.
— Знаешь, что со мной? — спросил он шепотом, когда судорога отпустила его.— Отравили.
— Как отравили, господь с тобой! Что ты говоришь?
— Все нутро горит. И горло. И голова.
— Кто? — крикнул я.— Кто мог тебя отравить?
— А кто не мог? Может, ты. Или Осман. Хотя нет. Ты слаб для этого. Османа с нами не было, а жечь начало еще в пути. Слуги, верно.
— Почему ты не сказал? Всю жизнь таишься. И тут тоже.
— Может, подкупили какого чужака в пути, на постоялых дворах, в трактирах. Настоящий-то виновник в Сараеве.
— Проклятые!
— Позови Османа! И оставь нас одних.
— Догадываюсь, зачем он тебе. Не надо, прошу тебя! Не думай о мести! Ты поправишься!
— Позови Османа!
Я не мог пошевелиться, не мог собраться с мыслями, не знал, что делать. Человек умирал на моих глазах, отравленный, а я думал не столько о случившемся с ним несчастье, сколько о жестокости его и его палачей.
— Опередили меня, перехитрили,— шептал он, с трудом шевеля синими губами.— В чем-то я обмишулился, а может, в ком-то? Или уж ничего нельзя было сделать?
Как поступить? Не слушать его и дать ему умереть, проклиная меня, или послушать и дать ненависти пережить его?
— Пойти за врачом?
— Позови Османа.
Я вышел в коридор.
Осман разговаривал с хозяином гостиницы, итальянцем, на совершенно тарабарском языке, что, однако, не мешало им понимать друг друга. Хозяин встревоженно расспрашивал о больном, опасаясь, что постоялец умрет у него в доме и отпугнет других гостей. Осман же разрывался между желанием припугнуть хозяина и суеверной боязнью слов, которые скажешь ненароком, а они, не дай бог, еще сбудутся, и поэтому только пожимал плечами и отделывался общими философскими замечаниями («все в руках божьих»), показывая вверх, и хозяин растерянно таращился в ободранный потолок, провожая взглядом его указующий перст.
Я сказал Осману, что Шехаге совсем плохо и что он зовет его.
— Что с ним? — испугался он.
— Я иду за врачом.
— Неужто до того дошло? А может, ты зря напугался? Вот уж не везет так не везет! Не даст дьявол встать на собственные ноги, человеком сделаться!
— Ступай к Шехаге!
— Иду. Честно говоря, подозрительна мне его болезнь,— сказал он, нюхом улавливая преступление.
От хозяина гостиницы я запасся несколькими нужными мне словами и узнал, что врач живет — третья улица налево, вторая направо, потом вниз, вверх, снова направо, словом, я его еле-еле нашел; приступ ревматизма, скрутивший лекаря как раз сегодня, помог мне застать его дома.
Мне сразу вспомнился больной травник Махмуда, который всех лечил, а себя не мог вылечить, но выбирать не приходилось. Кое-как мне удалось уговорить врача пойти к больному; дукаты, на которые я не скупился, сдвинули с места его скрипучие кости. Собственно, только дукаты его и убедили, потому что ни он не знал моего языка, ни я его (все выученные слова вылетели у меня из головы, остались лишь два слова: «пожалуйста» и «больной»), и я благодарил бога, что есть на свете вещи, в одинаковой мере понятные всем. Не знаю, что это за врач и как он разбирается в болезнях, да и какой прок знать, если сама судьба послала его несчастному Шехаге. В ревматизме он, конечно, мало что понимает, но Шехага болен не ревматизмом, в его болезни скорее может помочь счастье, чем врач. Но за счастьем сходить нельзя, а за этим хромым увальнем можно. Если счастье улыбнется Шехаге, то он и будет его счастьем.
Перед Шехагиной комнатой находились хозяин и его жена, они были в полном отчаянии оттого, что их заведение постигла такая беда — смерть чужестранца, и в то же время были настолько потрясены тем, что происходило рядом, что стояли как истуканы. Они коротко объяснили врачу, что слуга ворожит.
Не оборачиваясь, а может, и не зная, что они тут, Осман Вук стоял на коленях перед постелью Шехаги и, держа его обессиленную руку, медленно читал свою известную литанию из названий боснийских сел, но не с обычной веселой издевкой над нашей нищетой и убожеством, а глухо и монотонно, будто выполнял тяжелый долг.
В гостиничном номере над Большим каналом, протекавшим по городу Шехагиных грез, под оглушительный грохот карнавала раздавались мрачные слова нашей нищеты и горя:
— Злосело, Черный Омут, Грязи, Гарь, Голый Шип, Голодное, Волчье, Колючее, Трусливое, Вонючее, Змеиное, Горькое…
Вдруг Шехага скорчился, превратившись в клубок непереносимых мук, посинел, и его вырвало в полотенце, подставленное Османом. На губах выступила пена.
Врач подошел к больному, внимательно оглядел его, не прикасаясь к нему.
— Что с ним? — спросил он коротко и, как мне показалось, испуганно. Если мы скажем, что не знаем, и он будет делать вид, что не знает. С судом путаться у него нет никакого желания.
Я пожал плечами. Лучше ничего не знать.
— Сердце,— сказал Осман, ударяя пальцами по левой стороне груди.
Врач кивнул головой. Он так и запишет: умер от сердца.
И нам, и ему это безразлично. Безразлично и Шехаге.
«Это их не касается»,— сказал Шехага. Хвастать нам нечем, а помочь все равно не помогут.
Шехага утих, чуть заметно шевелились лишь пальцы, искали руку Османа.
Осман обернулся.
— Хотел слушать наши песни — я пел. Хотел слушать нашу речь — я говорил. Что еще не знаю.
Рука еще звала, тихая, ослабшая.
Осман взял Шехагу за пальцы. Они задвигались. Снова о чем-то просили.
Осман бросил взгляд на меня.
Я кивнул головой: говори что-нибудь!
Тихо, придвинувшись к самому лицу Шехаги, которое покрывала все более безнадежная бледность, оставляя лишь возле сжатого рта синий круг, Осман Вук глухим от волнения голосом начал считать:
— Один, два, три, четыре, пять…
Что-то вроде облегчения пробежало по серым щекам, тень горькой радости легла на лицо умирающего, а из-под прикрытого века скатилась слеза. Он еще жил, еще держался за руку Османа, он еще жаждал человеческой речи, скрытой любви.
Неожиданно я понял все, дрожь пробежала по моему телу, душа содрогнулась. Осман Вук, этот пройдоха, игрок, убийца, совершал самое благородное дело своей жизни. Здесь, на чужбине, на пороге вечной неотвратимой чужбины, куда он отправится через несколько мгновений, Шехага вдруг почувствовал тягу к родному краю, его теплу, к человеческому голосу, что, постепенно затихая, ласкает его слух, не оставляя его одного перед лицом бесконечного одиночества, чтоб не было так глухо и пусто перед лицом бескрайней пустыни.
Ненависть его к родным местам и людям — это лишь обида. А когда надвигающаяся смерть оттеснила мысль о мести, сама собой проявилась его сущность, любовь к своему корню, тоска по людям.
Какие мысли, последние, мелькали в его гаснущем сознании? Какие картины? Радости, печали, может быть? Думал ли он о родном крае, из которого бежал, спасаясь от себя? Или ему виделись люди, которых он любил? Жалел ли он о том, что не жил иначе? А может, последними крохами сознания он ловил небо детства, которое мы никогда не забываем?
Любовь — вначале,
вся жизнь — в ненависти,
В конце — воспоминания.
И все же любовь сильнее всего на свете.
Внезапно меня облил ледяной пот от мысли, молнией блеснувшей у меня в голове. А вдруг я ошибаюсь? Вдруг это последнее пожатие полумертвой руки — призыв к отмщению?
Нет, не хочу так думать, нет у меня права на все обесценивающее сомнение, ведь по моему требованию родная речь была последним, что улавливал его слабеющий слух. В свой предсмертный час он забыл про месть и вспомнил то, что любил, но таил от всех.
А может быть, он вспомнил это тогда, когда передал Осману свой наказ, успокоившись и уверившись, что долг будет возвращен сполна?
Я ничего не узнал, молчали оба — один мертвый, другой живой, но никому не доверяющий, а мне так хотелось знать правду, словно бы это открыло мне недоступные до тех пор тайны людские.
На моих глазах умирал могучий человек, убитый тоской, убитый ненавистью, а я как зачарованный думал только об одном: что было его последней мыслью — месть или любовь?
Будто от этого зависела вся моя жизнь.
Я решил, что Шехага думал о любви. Это менее похоже на правду, менее вероятно, но более благородно. И прекраснее: все наполняется смыслом. И смерть. И жизнь.
Печально смотрел я на вечернюю звезду в чужой ночи, на чужой земле.
И, подавленный, думал:
звезда знакомая,
не узнаю тебя.
На родину я возвращался, все изведав, и себя тоже.
Когда повеяло духом родной земли, я с трудом скрыл слезы.
Как любимой, шептал я взволнованные слова:
без тебя моя душа покрыта мраком,
мое сердце без тебя кричит от боли,
без тебя мои мысли убоги, без крыльев.
О том же я думал, обнимая Тияну, близость ее исцеляла меня от страха, запах ее освобождал меня от гнета чужбины.
Я не думал о несчастьях и бедах своей земли. Я думал о добрых людях, думал о добром родном небе. И может быть, еще и потому, что один несчастный человек всю жизнь таил свою любовь к нему.
Чужбина и загадочная смерть Шехаги разбередили мне душу. К тому же еще в дороге меня начала трясти лихорадка.
Я свалился в постель, как только вернулся. Тяжелая горячка разлучила меня с Тияной, с друзьями, со всем миром, с самим собой.
Мне чудилось, что я в старой каморке над пекарней, лежу в печи и горю огнем; голова разрывалась от наплыва болезненных кошмаров: мчались взбесившиеся лошади, распластываясь надо мной, из тьмы выходили маленькие искаженные фигурки моих товарищей по Хотину. Они были без рук, без ног, без головы, внезапно они начинали расти, превращаясь в страшных чудовищ. Из бескрайней пустоты багрового раскаленного пространства до меня доносились безумные крики ужаса, царящего в мире. Потом все приобретало свои обычные размеры, искаженные, но все же знакомые, как во сне; на своем огромном лбу я чувствовал маленькую руку и знал, что это рука Тияны, слышал ее шепот и смех Османа, видел, как сдвигаются их головы. Нет, кричал я, убью! Тяжелое забытье горячки сменилось мучительной усталостью и полным бессилием.
— Осман приходил? — спросил я Тияну.
— Да. Каждый день.
— Я слышал его смех.
— Знаешь, я и не думала, что он такой добрый человек.
Значит, приходил, это не было болезненным видением, горячечным бредом. А все прочее?
Это невероятно, мой воспаленный мозг в страхе все это выдумал! Невероятно! Но спросить я не решился.
И Махмуд приходил, однако его я не запомнил, потому что не боялся. На третий день, когда я пришел в себя, Махмуд сидел возле меня со слезами счастья на глазах.
— Слава аллаху, слава аллаху! — шептал он умиленно.
— Осман приходил? — спросил я его.
— Приходил. И Осман, и Молла Ибрагим, и моя жена — все приходили.
Он смотрел на меня то с укоризною, вспоминая о моем отъезде, то восторженно, радуясь моему выздоровлению. И зачем мне понадобилось странствовать по белу свету? Люди везде люди, дома́ везде дома́. А для человека главное — друзья. Ему было пусто и тяжело без меня, он выходил на дорогу, в поле, хотя знал, что нам еще не время возвращаться, но так ему было легче, как будто он становился ближе к нам, а когда я свалился в горячке, сидел у моей постели день и ночь. Надо было мне искать беду на чужой стороне, сердито выговаривал он мне. Разве здесь ее мало? Если бы я умер, думал он, что бы он стал делать? И что было бы с моей бедной женой, все глаза выплакавшей по моей милости? Они с Османом часами утешали ее и успокаивали. Конечно, ей легче, она молодая, красивая, тут же вышла бы замуж; ему пришлось бы хуже. Хорошего друга трудно найти.
«А за кого бы Тияна вышла? — продолжал я его мысль.— За Османа? Э, нет! Жаль, конечно, только ни за кого она не выйдет. Я живой, дома — дома и живой!»
О себе Махмуд сказал, что от службы отказывается: едва Османа дождался, чтоб сдать ему лабаз. Надоело сидеть на одном месте, словно ты дерево или камень! Да и ногам вредно, ему надо больше двигаться, и потом, он с людьми любит быть.
Что такое?
Смешной фантазер, он все же предпочитает необеспеченность и мечту обеспеченности и одиночеству. Его вдохновляли необыкновенные подвиги, а выпали на долю обыкновенные, скучные будни. Он, мечтой возносившийся к самым облакам, должен был кормить кошек и гонять мышей, он чувствовал себя обманутым, это было хуже, чем его прежняя убогая жизнь, позволявшая ему лелеять несбыточные надежды.
Теперь он собирался разводить канареек, дело это приятное, чистое, красивое и забавное, птицы любятся, поют себе и плодятся. А плодятся они так, что продажей птенцов вполне можно жить.
Тут он замолчал и нервно провел рукой по своему худому лицу.
— Что-то ты скрываешь,— сказал я.
— Что мне скрывать?
— Не знаю. Тебя спрашиваю.
— Главное я сказал. Остальное так, пустяки.
— Что пустяки?
— Да так. Я зерно давал в долг. Осман ругается.
— Зачем же ты это делал?
— Зачем? Зима тяжелая, люди сидят без денег, потому и давал. Заплатят, когда будет чем.
— А ты хоть записывал, кому давал?
— Записывал. Почти всех.
Как же, ничего он не записывал! Разве великодушный богач, каким он виделся себе в эти минуты, станет записывать должников?
Не знаю, что толкает его на столь неожиданные поступки. Жажда благодарности и уважения? Тяга к чему-то незаурядному: никто так не поступает, а вот он поступит именно так! А может, просто доброе сердце?
— Ну и что теперь?
— Дом продам.
— Сколько уж раз ты его продавал?
— Теперь продам.
Он живет сегодняшним днем, не помнит вчерашнего, не думает о завтрашнем. Какие бы добрые или дурные поступки он ни совершал, ему все идет не впрок. Осману он сказал, что продаст дом и возместит недостачу, полагая, что тот не согласится. Однако Осман не Ахмед Шабо, у которого сердца больше, чем ума. Осман плевал на сердце! Он согласился, да еще потребовал, чтоб тот продавал дом побыстрее. Жена Махмуда не возражала, добродушно ворча на мужа: состарился, а ума не нажил. Что тут поделаешь!
— Легко быть добрым за чужой счет,— сказал Осман и как ни в чем не бывало взял деньги, но голову ему в это время сверлили другие мысли.
Он рассказал мне, как хоронили Шехагу. Уехали с живым человеком, а вернулись с покойником в окованном железом дубовом гробу.
В просторный дом битком набились люди, желавшие посмотреть на невидимого Шехагу. Видели его только кадий с писарями и свидетелями, оказав честь Шехаге и доставив себе невыразимое удовольствие: мертвый недруг наверняка милее живого друга. Выглядел кадий опечаленным, а сердце заливалось соловьем.
И Зафрания пришел. Он, конечно, не мог не верить тем, кто засвидетельствовал, что это действительно Шехага и что он действительно мертв, но все же на всякий случай вплотную приблизился к восковому лицу Шехаги, чтоб самому убедиться и, словно цветок, понюхать труп.
Все выражали соболезнование ему, Осману, и просили передать слова сожаления жене Шехаги, которая, не выдержав этого последнего удара, свалилась замертво. Осман благодарил особенно усердно кадия и Зафранию. Сказал даже, что Шехага перед смертью вспомнил всех своих приятелей и просил простить, если кого обидел, как и он всех простил.
Плохо дело тех, кого он вспомнил, подумал я про себя, хорошо зная волчьи повадки Османа.
— Кадий и Зафрания виноваты в смерти Шехаги? — спросил я Османа.
Ответил он недоуменным вопросом, полным укоризны:
— Они-то здесь при чем? Шехага умер от тоски по сыну.
— Но ведь он сам сказал, что его отравили. И тебя позвал, чтоб дать наказ отомстить за него.
— Бог с тобой! Кому отомстить? Он позвал меня насчет дел распорядиться,— произнес он холодно, с ледяной и язвительной усмешкой.
Он всегда начеку, всегда в обороне — неприступная крепость.
Я так и сказал ему, он засмеялся:
— Как все. И слава аллаху! Разве лучше быть загоном с развалившимся плетнем? Всюду враги.
Завещал ему Шехага мщение?
Если да, скоро этот призрачный мир будет взорван.
Кто окажется быстрее? Кто первый обвинит Бечира Тоску еще в одном преступлении?
А я все-таки спрошу Тияну о том, что, как мне казалось, я видел. Это невероятно, но я спрошу. Глупо думать об этом, но я спрошу.
Я решил сделать это, когда во мне утихнет страх.
Больше всего мне хотелось поскорее уйти из этого дома.
А на моей милой родине снова развевались ратные стяги и собиралась военная подать. Народ костил все войны на свете, но платил подать и шел воевать.
Взбунтовались только крестьяне в Жупче. Они прогнали султанских чиновников и не дали ни людей, ни подати.
Рамиз недаром сидел в Жупче!
Добрый Молла Ибрагим, вконец напуганный людской жестокостью, разговаривал лишь о погоде и здоровье, да и то тихо и опасливо, ведь все можно взять под подозрение — и когда скажешь, что дни стоят слякотные, и когда пожалуешься на нездоровье. Но меня он не забыл. Нашел мне дешевую комнатенку, маленькую, но удобную, и место учителя — ни на какое другое я не пошел бы. Учу детей читать и писать, пытаясь научить их добру, надеясь, что какие-то крохи моих наивных слов западут им в душу.
Среди детей иногда сидит и Махмуд Неретляк, скрестив под собой тощие ноги и выставив острые колени, и молча, потирая больную ногу, слушает, кивает головой, то ли подтверждая мои слова, то ли подвергая их сомнению.
Особенно грустно кивал он своей худосочной головой, когда мы вернулись в школу, проводив десятерых связанных жупчан в крепость. Дети нам были в тот день как лекарство. Крестьян вел бывший австрийский пленный, веселый Ферид со стражниками. Он занял место покойного Авдаги, но его привычек не перенял. Он вернул свою усадьбу, вселился в дом, выгнал жену и своего заместителя с пятью детьми, стал муселимом и теперь за восстановленную справедливость платил жестокостью.
У крестьян, шедших между вооруженными стражниками, был недоумевающий, растерянный вид: за что их взяли, что они сделали?
Жены и родичи безмолвно провожали их, держась на расстоянии.
А с Мейдана солдаты уходили на войну.
Их провожали матери, отцы, сестры, невесты. Одни плачут, другие молчат подавленно.
Цирюльник Салих с Алифаковаца стоит в сторонке. Узнал ли он правду о сыновьях или все еще надеется?
Кто погибнет из уходящих сейчас? И где? На дунайских болотах? В бессарабских лесах? На далеких неведомых равнинах?
Я с горечью смотрю на них. Есть ли среди них какой-нибудь Ахмед-ага Мисира, который стал агой и заплатил за это чужой и своей жизнью? Где тут бранчливый глашатай Хидо, спасающийся от нищеты? А двойник Ибрагима Паро, убегающий от своих жен? Тут ли сыновья другого цирюльника Салиха с какого-нибудь иного Алифаковаца? Тут ли Хусейн Пишмиш, Смаил Сово, Авдия Супрда?
Не важно, как их зовут,— судьба у них одна.
Не важно, грустят они или натужно веселятся,— все равно им не вернуться. Мои товарищи не вернулись. Погибли. Все.
Пойдут ли мои дети, когда станут взрослыми, тем же печальным путем?
Будут ли они жить так же никчемно и глупо, как их отцы?
Вероятно, будут, но я не хочу этому верить.
Не хочу верить и не в силах избавиться от страха за них.
Имена собственные и нарицательные, восходящие к арабским, персидским и турецким корням, кроме вошедших в словарный фонд русского языка, даются в том виде, в каком они существуют и произносятся в сербскохорватском языке.
Ага (тур.) — хозяин, господин; уважительное обращение, добавляемое к собственному имени человека.
Алим (араб.) — ученый человек, специалист по вопросам мусульманского вероучения.
Аллахеманет (тур.) — прощай.
Андуз (тур.) — ароматический корень.
Анка — фантастическая птица из персидских легенд.
Асаф — легендарный мудрец, приближенный царя Соломона.
Аскер (тур.) — воин.
Аян (араб.) — видный, богатый и авторитетный человек.
Байрам (тур.) — религиозный мусульманский праздник. В течение года отмечается два байрама: Рамазан и Курбан.
Бедел (араб.) — наемник, которого отправляют вместо себя в рекруты или паломником в Мекку.
Безистан (араб., перс.) — крытый рынок или часть площади в городах Востока.
Ваиз, ваис (араб.) — проповедник.
Вакуф (араб.) — недвижимость, передаваемая мусульманскому духовенству в благотворительных или просветительских целях. Вали (араб.) — губернатор, правитель области.
Джемат (араб.) — собрание, религиозная община.
Дженаза (араб.) — молитва о мертвом перед похоронами.
Джилит (араб.) — оружие, напоминающее булаву, которое в состязаниях бросали друг в друга всадники.
Джюбе, джюба (араб.) — одежда мусульманского духовенства, обычно черного цвета.
Джюма (араб.) — торжественная полуденная молитва по пятницам.
Диванхана (перс.) — комната на втором этаже старых мусульманских домов, предназначавшаяся для беседы.
Дивит (араб.) — письменный прибор.
Диздар (перс.) — начальник, комендант крепости.
Драм (греч.) — мера веса, равная 3,2 г.
Зулькарнайн (араб.) — букв.: двурогий, одно из прозвищ Александра Македонского.
Имарет (араб.) — общественная благотворительная кухня, где бедняки, путники, учащиеся получали бесплатную еду.
Ичиндия (тур.) — послеполуденная молитва у мусульман.
Кабил (араб.) — Каин.
Кадий, кади (араб.) — духовный судья, осуществляющий судопроизводство на основе шариата.
Каймекам, каймакам (араб.) — представитель визиря в округе или начальник округа.
Катул-фирман (араб., перс.) — указ султана о казни.
Коло — народный танец югославян, хоровод, часто с песней.
Медресе (араб.) — средняя и высшая мусульманская школа.
Мектеб (араб.) — начальная школа, предшествующая медресе.
Мерхаба (араб.) — мусульманское приветствие.
Минтан (перс.) — короткий кафтан с длинными узкими рукавами.
Миралай (перс., тур.) — полковник.
Мисир (евр.) — Египет.
Михраб (араб.) — овальная ниша в обращенной к Мекке стороне мечети, где при богослужении находится имам.
Мудериз (араб.) — учитель в медресе, ученый человек.
Муса (ассир.) — у христиан и иудеев Моисей.
Муселим, мутеселим (араб.) — правитель округа (аналогичное каймекаму) или начальник уездной полиции.
Мутевели (араб.) — управляющий вакуфом.
Муфтий (араб.) — старший по должности мусульманский священник в округе.
Муэдзин, муэззин (араб.) — священнослужитель, с минарета призывающий мусульман к молитве.
Наиб (араб.) — представитель или заместитель кадия. Намаз (перс.) — в исламе ежедневное пятикратное моление.
Нух (евр.) — Ной.
Окка (араб.) — старинная мера веса, равная 1,283 кг.
Пара (перс.) — первоначально вообще деньги, затем мелкая монета, сотая часть динара.
Ракия (араб.) — сливовая или виноградная водка.
Сахат-кула (араб.) — башня, на которой установлены городские часы.
Сеймен (перс.) — стражник, полицейский солдат.
Сераскер (перс., араб.) — главнокомандующий; назначался во время войны или похода из числа визирей. Позже — полководец, военачальник, командующий.
Сердар (перс.) — старейшина, глава племени; предводитель; командир.
Сечия (тур.) — широкий низкий деревянный помост (или скамья), обычно устланный коврами и подушками, в старых мусульманских домах.
Силахдар (араб., перс.) — чиновник, ведавший хранением оружия при дворе султана, визиря или паши.
Слава — праздник святого, покровителя семьи у православных сербов.
Спахия (перс.) — первоначально воин-кавалерист, получивший от султана земельный надел (спахилук), затем — помещик. В Боснии — зажиточный хозяин-мусульманин.
Стечак — древний надгробный памятник богомилов; в основном стечаки сохранились на территории Боснии и Герцеговины.
Субаша (тур.) — управляющий хозяйством, сборщик налогов для спахии. Сура (араб.) — глава в Коране, состоящем из 114 сур.
Табут (араб.) — у мусульман гроб без крышки, в котором покойника доносят до могилы.
Тавла (лат.) — настольная игра типа шашек.
Текия (араб.) — здание, в котором жили и совершали свои обряды дервиши, своего рода дервишский монастырь.
Тефтердар (греч., перс.) — высокий чиновник, ведавший вопросами финансов.
Тимар (перс.) — крупное феодальное имение в Османской империи, которое жаловал султан за верную службу.
Улема (араб.) — ученый священнослужитель; собират.: собрание, совет высшего духовенства, определявшие нормы религиозной жизни и просвещения мусульман.
Фирман (тур.) — султанский указ.
Френкмахала — квартал, где жили иностранцы-католики.
Хазнадар (тур.) — казначей.
Хан (перс.) — постоялый двор.
Хафиз (араб.) — человек, знающий Коран наизусть.
Чабуртия (араб., тур.) — покров из освященной материи, которым у мусульман накрывают табут.
Чаршия (перс.) — торговый квартал в городах Востока; площадь, вокруг которой сосредоточивается торговля. В переносном смысле — молва, мнение улицы.
Чесма (перс.) — источник, чаще всего выложенный камнем и заключенный в трубу.
Чефенак, чепенак (тур.) — откидная доска в лавке, на которой днем выставляли товар, а подчас и работали мастера, а вечером, поднимая ее, запирали лавку.
Чулах (перс.) — белая шапочка из катаной шерсти.
Чурак (тур.) — верхняя мужская одежда, кафтан на меху, кожух, длинный или короткий.
Эфенди (греч.) — господин, хозяин; добавлялось к личному имени человека в знак уважения, затем стало титулом мусульманского священника или человека, получившего религиозное образование.
Яг (тур.) — ароматическое масло, которое паломники приносили из Мекки.
Яджудж и Маджудж (евр.) — библейские Гог и Магог.
Ясин (араб.) — название тридцать шестой суры Корана.
Яция (тур.) — пятая в течение суток мусульманская молитва, спустя два часа после захода солнца.
Яшмак (араб.) — вуаль из белого муслина, которую мусульманки носили под чадрой.
Л. Аннинский. Человек — в крепости и вне ее . . . . . . . . . 5
Дервиш и смерть. Перевод А. Романенко . . . . . . . . . . . . . . 17
Крепость. Перевод О. Кутасовой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323
Пояснительный словарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
1
Имеется в виду Мевлевийский дервишский орден, один из наиболее древних (основан во второй половине XIII в.) мусульманских орденов.— Здесь и далее примечания переводчиков.
2
Высказывания средневековых мусульманских поэтов и философов Рагиба Исфахани, Ибн-Сины, Имама Газали, Джалалуддина Руми.
3
Из Корана.
4
Ибн-Ареб (Мохиддин ибн-Араби) (1164—1240) — мусульманский писатель, философ-мистик.
5
Абу-ль-Фарадж (1226—1286) — знаменитый сирийский писатель, ученый, философ и врач. «Книга занимательных историй» — наиболее известное его произведение.
6
Цитаты из Корана в переводе И. Ю. Крачковского.
7
Цитаты из Корана в переводе И. Ю. Крачковского.
8
Цитаты из Корана в переводе И. Ю. Крачковского.
9
Муберид — известный на Востоке в средние века художник.
10
Так в Далмации произносят итальянские слова «синьор» и «синьора».
11
Бергиви — этим именем называли Мухамеда бин Пир Али (1522—1573), автора труда по мусульманскому вероучению.
12
Перевод Б. Слуцкого.
13
Волк (сербскохорв.).
(Libens)
1
Таково размещение посвящения (которое адресовано жене писателя) — под заголовком части первой — в печатном издании. В оригинале (http://library.borut.eu/authors/s/selimović_meša) посвящение предпослано всему роману и соответственно размещено непосредственно после заглавия романа.
2
В изд. 1969 г. (Селимович М. Дервиш и смерть. / Перевод с сербохорват. А. Романенко. — М.: Прогресс, 1969): синим; так же в оригинале: modrom. У мусульман цвет траура — синий.
3
Может быть, зря мы не боремся…— В печатном изд. ошибочно: «Может быть, зря мы боремся…». Исправлено по изд. 1969 г. и в соответствии с оригиналом: «Da li se uzalud ne borimo…».
4
…всегда равномерного…— В печатном изд. ошибочно: всего равномерного. Исправлено по изд. 1969 г. и в соответствии с оригиналом: uvijek jednakog.
5
В печатном изд. ошибочно: оковывание. Исправлено по изд. 1969 г. и в соответствии с оригиналом: ukopavanje.
6
Странно, что не весна.— В печатном изд. ошибочно предложение оформлено как авторская речь; исправлено в соответствии с оригиналом.
7
Их мысли ~ готовит им западню.— Нарушение согласования в предложении — неисправность печатного изд., следует: «Их мысли постоянно заняты либо теми, кого они не любят… либо теми, знакомыми или незнакомыми…»