Книга: Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса

Был ли Бог математиком? Галопом по божественной Вселенной с калькулятором, штангенциркулем и таблицами Брадиса
© MARIO LIVIO, 2013
© Бродоцкая А., перевод на русский язык, 2016
© ООО «Издательство АСТ», 2016
* * *
ПОНЯТНО ДАЖЕ ДИЛЕТАНТУ
Доктор Ливио сплетает воедино науку, историю, философию. Он вдохнул жизнь в образы самых известных мыслителей и математиков. Он объясняет сложнейшие теории так четко и лаконично, что даже самый далекий от науки человек с легкостью поймет их. Будь он учителем в моей школе или университете, я бы без сомнения смог понять и полюбить точные науки.
НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
После сказочной книги «p – число Бога. Золотое сечение – формула мироздания» Ливио берется за вопрос о «необоснованной эффективности» математики в объяснении мира. Смешав философию, математику и прочие науки, он создает интеллектуальное чтение, которое воспринимается почти как детектив. Мне понравился, в частности, раздел, посвященный идеям Архимеда и Галилея, и глава о логике, которая была сложной, но увлекательной.
ИСТОРИЯ ИДЕЙ И СВЕЖИЕ ГИПОТЕЗЫ
Марио Ливио делает попытку исследовать отношения между математикой, Вселенной и человеческим разумом. Это такая амбициозная цель, что я был сначала настроен скептически: «Что можно рассказать об этом в популярной книге?» Однако в этой книге Ливио не только знакомит нас с историей идей, но и подкидывает свежие удивительные гипотезы. Настоятельно рекомендуется.
ПОЧЕМУ ЭТОТ ВОПРОС НЕ ПРИШЕЛ МНЕ В ГОЛОВУ РАНЬШЕ?!
Все, кто интересуются математикой, философией или наукой, будут в восторге от этой книги.
Хотя я всегда знал, что все фундаментальные теории мироздания основаны на математике, мне почему-то никогда не приходило в голову поинтересоваться: почему математика столь всеведуща?
Ливио объясняет, почему этот вопрос даже важнее ответа. И это делает книгу совершенно уникальной. Это не столько история математики, сколько история гениальных прозрений.
ЭТА КНИГА БУДИТ МЫСЛЬ!
Хотя я далеко не математик, я нашел дискуссии, представленные в этой книге, о природе математики и о причинах ее успеха как «языка» науки очень увлекательными. Мыслители буквально ожили на этих страницах. Это одна из самых увлекательных и полезных книг среди всего, что я прочла.
Моей жене Софи
Когда изучаешь космологию, то есть историю Вселенной в целом, в твою жизнь прочно входят еженедельные письма и факсы от тех, кто жаждет познакомить тебя со своей личной теорией устройства мироздания (кстати, это только мужчины, женщин среди них не бывает). Самой большой ошибкой в подобных случаях будет вежливо ответить, что хотелось бы узнать подробности. На это тут же получишь лавину сообщений. Как же обезопасить себя от атаки? Я на собственном опыте убедился, что есть один действенный тактический прием (можно, конечно, и вовсе не отвечать, но это ведь невежливо!): указать, что оценить значимость теории невозможно, пока она не переведена на точный язык математики, и это непреложная истина. Такой довод позволяет раз и навсегда остудить пыл большинства космологов-любителей. И в самом деле, без математики современные космологи не могут приблизиться к пониманию законов природы ни на шаг. Математика – прочный каркас, на котором зиждется любая теория Вселенной. Казалось бы, в этом нет ничего удивительного, – пока не вспомнишь, что природа самой математики нам пока не вполне ясна. Как сказал однажды английский философ сэр Майкл Даммит: «Две самые отвлеченные научные дисциплины – математика и философия – вызывают одинаковое недоумение: чем они, собственно, занимаются? Причем это недоумение вызвано не только незнанием: ответить на этот вопрос трудно даже специалистам в соответствующих областях».
В этой книге я робко попытаюсь прояснить некоторые вопросы, касающиеся сути математики, и, в частности, природу отношений между математикой и наблюдаемым миром. Разумеется, изложить на этих страницах полную историю математики в мои намерения не входило. Скорее я прослеживаю эволюцию определенных понятий, которые непосредственно влияли на понимание роли математики в исследованиях мироздания.
На идеи, о которых рассказано в этой книге, в самое разное время прямо или косвенно повлияли очень многие люди. Я бы хотел поблагодарить сэра Майкла Атья, Гию Двали, Фримана Дайсона, Гиллеля Гочмана, Дэвида Гросса, сэра Роджера Пенроуза, лорда Мартина Риса, Рамана Сандрама, Макса Тегмарка, Стивена Вайнберга и Стивена Вольфрама за ценнейшие замечания. Я в долгу перед Дороти Моргенштерн Томас за то, что она предоставила в мое распоряжение полный текст воспоминаний Оскара Моргенштерна о взаимодействии Курта Гёделя со Службой иммиграции и натурализации США. Уильям Кристенс-Барри, Кейт Еокс, Роджер Истон и в особенности Уилл Ноэл оказали мне любезность, поведав в подробностях о работе над расшифровкой «Палимпсеста Архимеда». Особая благодарность – Лауре Гарболино, которая снабдила меня важнейшими редкими материалами по истории математики.
Кроме того, я благодарю отделы особых коллекций Университета им. Джонса Хопкинса, Чикагского университета и Французской национальной библиотеки в Париже, где для меня находили редкие рукописи. Спасибо Стефано Касертано, который помог мне с переводами трудных латинских текстов, и Элизабет Фрэзер и Джилл Лагерстрем – за бесценные советы по лингвистике и библиографии, которые сопровождались неизменными улыбками.
Особая благодарность – Шэрон Тулан за профессиональную помощь в подготовке рукописи к печати, а также Энн Филд, Кристе Вилдт и Стэйси Бенн за подготовку ряда иллюстраций.
Любой писатель считал бы, что ему повезло, если бы к нему на протяжении всей работы над книгой относились с таким терпением и чуткостью, как моя жена Софи.
А напоследок я говорю спасибо моему агенту Сьюзен Рабинер: если бы она не подбадривала меня постоянно, этой книги не было бы. Еще я в неоплатном долгу перед моим редактором Бобом Бендером, который тщательно вычитал рукопись и высказал точные и глубокие замечания, перед Джоанной Ли, которая оказывала мне неоценимую поддержку в течение издательского процесса, перед Лореттой Деннер и Эми Райан – за корректорскую правку, перед Викторией Мейер и Кэти Гринч – за продвижение и рекламу книги и перед всеми сотрудниками отделов производства и маркетинга в издательстве «Саймон и Шустер» – за их усердный труд.
Загадка
Несколько лет назад я выступал с докладом в Корнельском университете. На одном из слайдов в моей презентации значилось: «Бог – математик?» Едва этот слайд появился на экране, одна студентка в первом ряду ахнула и громко прошептала: «О Господи, надеюсь, нет!»
Я всего лишь задал риторический вопрос – и вовсе не пытался ни дать слушателям определение Бога, ни тонко поддеть тех, кто панически боится математики. Нет – я просто хотел загадать загадку, над которой мучительно ломали головы на протяжении веков самые независимые мыслители: указать на то, что математика, похоже, вездесуща и всемогуща. Подобные качества принято приписывать лишь божествам. Как сказал когда-то английский физик Джеймс Джинс (1877–1946): «Вселенная устроена так, словно ее конструировал чистый математик» (Jeans 1930). Такое чувство, что математика слишком уж хорошо описывает и объясняет не только Вселенную в целом, но даже некоторые довольно хаотические начинания, предпринимаемые людьми.
Всякий раз, когда физики пытаются сформулировать теории об устройстве Вселенной, биржевые аналитики чешут в затылке, чтобы предсказать следующий обвал на фондовой бирже, нейрофизиологи строят модели функционирования мозга, а статистики на службе у военной разведки работают над оптимизацией распределения ресурсов, все они пользуются математикой. Более того, хотя они и пользуются конкретными методами, разработанными в различных областях математики, но при этом сверяются с одной и той же «математикой» в общем, понятном для всех смысле слова.
Что же наделяет математику таким невероятным могуществом? Или, как спросил однажды Эйнштейн: «Как так получилось, что математика, продукт человеческой мысли, независимый от опыта (курсив мой. – М. Л.), так прекрасно соотносится с объектами физической реальности?» (Einstein 1934).
Это ощущение полной растерянности нам не в новинку. Некоторые древнегреческие философы, в частности Платон и Аристотель, уже восхищались тем, что математика, похоже, способна формировать и направлять Вселенную, оставаясь, по всей видимости, вне пределов досягаемости людей, которые не могут ни менять ее, ни повелевать ею, ни влиять на нее. Английский философ и политолог Томас Гоббс (1588–1679) тоже не смог сдержать восхищения. В своем «Левиафане» Гоббс рисует величественную панораму своих представлений об основах общества и правительства, приводя геометрию в качестве образца рациональной аргументации (Hobbes 1651).
Так как мы видим, что истина состоит в правильной расстановке имен в наших утверждениях, то человек, который ищет точной истины, должен помнить, что обозначает каждое употребляемое им имя, и соответственно этому поместить его; в противном случае он попадет в ловушку слов, как птица в силок, и, чем больше усилий употребит, чтобы вырваться, тем больше запутается. Вот почему в геометрии (единственной науке, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человеческому роду) люди начинают с установления значений своих слов, которые они называют определениями (пер. А. Гутермана).
Целые тысячелетия глубочайших математических исследований и философских размышлений так и не пролили света на тайну могущества математики. Более того, в некотором смысле завеса тайны стала еще плотнее. Знаменитый оксфордский математик сэр Роджер Пенроуз, к примеру, считает, что вместо одной загадки перед нами уже три. Пенроуз выделяет три разных «мира» – мир сознательного восприятия, физический мир и платоновский мир математических форм[1]. Первый мир – вместилище всех ментальных образов: как мы воспринимаем лица детей, как любуемся головокружительным закатом, как отзываемся на страшные военные фотографии. А еще именно в этом мире обитают любовь, ревность, предубеждения, а также наше восприятие музыки, аппетитных ароматов и страха. Второй мир – тот самый, который мы привыкли называть физической реальностью. В этом мире обитают живые цветы, таблетки аспирина, белые облака и сверхзвуковые самолеты, а еще – галактики, планеты, атомы, обезьяньи сердца и человечьи мозги. Платоновский мир математических форм, который для Пенроуза не менее реален, чем физический и ментальный, – родина математики. Именно там обнаруживаешь натуральные числа 1, 2, 3, 4 и так далее, все формы и теоремы евклидовой геометрии, законы движения Ньютона, теорию струн, теорию катастроф и математические модели поведения фондового рынка. И тут-то, как замечает Пенроуз, и таятся три загадки. Во-первых, мир физической реальности подчиняется законам, которые на самом деле пребывают в мире математических форм. Эта загадка ставила в тупик самого Эйнштейна. В таком же недоумении по этому поводу пребывал физик Юджин Вигнер (1905–1995), нобелевский лауреат (Wigner 1960)[2].
Математический язык удивительно хорошо приспособлен для формулировки физических законов. Это чудесный дар, который мы не понимаем и которого не заслуживаем. Нам остается лишь благодарить за него судьбу и надеяться, что и в своих будущих исследованиях мы сможем по-прежнему пользоваться им. Мы думаем, что сфера его применимости (хорошо это или плохо) будет непрерывно возрастать, принося нам не только радость, но и новые головоломные проблемы. (Здесь и далее пер. Ю. Данилова.)
Во-вторых, само воспринимающее сознание, обиталище сознательного восприятия, неведомо как зарождается именно в физическом мире. Но как именно материя порождает сознание – причем порождает в буквальном смысле слова? Сумеем ли мы когда-нибудь сформулировать теорию работы сознания, столь же цельную и убедительную, сколь, к примеру, наша нынешняя теория электромагнетизма? Тут цикл чудесным образом замыкается. Воспринимающее сознание благодаря какому-то загадочному механизму обладает доступом к математическому миру, поскольку именно оно то ли открывает, то ли создает и формулирует целую сокровищницу абстрактных математических форм и понятий.
Пенроуз не предлагает ответов ни на одну из этих трех загадок. Он просто делает лаконичный вывод: «Миров, несомненно, не три, а только один, о подлинной природе которого мы на сегодня не имеем ни малейшего представления». В этом признании гораздо больше смирения, чем в ответе учителя из пьесы английского драматурга Алана Беннетта «Сорок лет службы».
Фостер: Сэр, мне по-прежнему не вполне понятна идея Святой Троицы.
Учитель: Все очень просто – один есть три, три есть один. Если у вас по этому поводу есть сомнения, спросите учителя математики.
На самом деле загадка еще запутаннее. У того, что математика так хорошо описывает мир вокруг нас (Вигнер называл это «непостижимой эффективностью математики»), есть две стороны, одна поразительнее другой. Одну из них можно было бы назвать активной. Когда физики блуждают по лабиринтам природы, то освещают себе путь математикой: инструменты, которыми они пользуются и которые постоянно разрабатывают, модели, которые они конструируют, и объяснения, которые они предлагают, по сути своей математические. На первый взгляд это само по себе чудо. Ньютон наблюдал падение яблока, фазы Луны и приливы по берегам морей (не уверен, что он видел их воочию), а не математические формулы. Однако он каким-то образом сумел вывести из этих природных явлений ясные, лаконичные и неимоверно точные математические законы природы. Подобным же образом шотландский физик Джеймс Клерк Максвелл (1831–1879), когда он расширил рамки классической физики и включил в нее все электрические и магнитные явления, известные в шестидесятые годы XIX века, сделал это при помощи всего четырех математических формул. Задумайтесь об этом. Объяснение результатов целого ряда экспериментов в области света и электромагнетизма, на описание которых потребовались целые тома, свелось к четырем сухим формулам. Общая теория относительности Эйнштейна – случай еще более поразительный: это идеальный пример необычайно точной и самосогласованной математической теории, которая описывает самые основы мироздания – структуру пространства-времени.
Однако у загадочной эффективности математики есть и «пассивная» сторона, столь неожиданная, что напрочь затмевает «активную». Понятия и отношения, которые математики изучают ради чистой науки, даже и не думая об их практическом применении, спустя десятки, а иногда и сотни лет нежданно-негаданно оказываются решениями задач, которые коренятся в физической реальности! Как такое может быть? Возьмем, к примеру, довольно забавный случай с чудаковатым британским математиком Годфри Гарольдом Харди (1877–1947). Харди так гордился, что в его трудах не содержится ничего, кроме чистой математики, что подчеркивал в своей знаменитой книге «Апология математика», опубликованной в 1940 году: «Я никогда не делал ничего “полезного”. Ни одно мое открытие не способствовало ни прямо, ни косвенно увеличению или уменьшению добра или зла и не оказало ни малейшего влияния на благоустроенность мира (здесь и далее пер. Ю. Данилова)» (Hardy 1940). Так вот, представляете, он ошибся! Один из его трудов получил второе рождение под названием «Закон Харди-Вайнберга» (в честь Харди и немецкого врача Вильгельма Вайнберга (1862–1937)) – это основополагающий принцип, на который опираются генетики при изучении эволюции популяций. Говоря простыми словами, закон Харди-Вайнберга гласит, что если спаривание в большой популяции происходит совершенно случайно (и нет ни миграции, ни мутаций, ни селекции), то генетический состав от поколения к поколению не меняется[3]. Даже отвлеченный на первый взгляд труд Харди по теории чисел – исследование свойств натуральных чисел – нашел неожиданное практическое применение. В 1973 году британский математик Клиффорд Кокс применил теорию чисел, чтобы совершить прорыв в криптографии – науке о разработке шифров, и изобрел уникальный криптографический алгоритм[4]. Алгоритм Кокса отправил на свалку истории другое утверждение Харди. В той же «Апологии математика» Харди заявил: «Никому еще не удалось обнаружить ни одну военную или имеющую отношение к войне, задачу, которой служила бы теория чисел». Очевидно, что он в очередной раз впал в заблуждение. Шифры играют определяющую роль в военном деле, без них невозможно налаживать связь. Так что даже Харди, один из самых ярых критиков прикладной математики, оказался против собственной воли (будь он жив, он бы наверняка визжал и отбивался) вовлечен в число создателей полезных математических теорий.
Но все это лишь верхушка айсберга. Кеплер и Ньютон обнаружили, что планеты нашей Солнечной системы описывают орбиты в форме эллипсов – тех самых кривых, которые на 2000 лет раньше изучал древнегреческий математик Менехм (ок. 350 г. до н. э.). Геометрии нового типа, которые описал Георг Фридрих Бернхард Риман (1826–1866) в своей классической лекции, прочитанной в 1854 году, как выяснилось, сослужили важнейшую службу Эйнштейну – именно они позволили описать ткань мироздания. Математический «язык» под названием «теория групп», разработанный юным гением Эваристом Галуа (1811–1832) исключительно ради того, чтобы определять, имеются ли у тех или иных алгебраических уравнений корни среди целых чисел, стал сегодня языком физиков, инженеров, лингвистов и даже антропологов, позволяющим описать все симметрии на свете[5]. Более того, концепция закономерностей математической симметрии в известном смысле перевернула с ног на голову весь научный метод. На протяжении столетий путь к пониманию устройства мироздания начинался со сбора экспериментальных или наблюдательных фактов, после чего ученые методом проб и ошибок пытались сформулировать общие законы природы. Работа должна была начинаться с локальных наблюдений, после чего мозаику приходилось собирать по кусочкам. Когда в ХХ веке стало понятно, что структуру субатомного мира определяют четкие математические закономерности, современные физики стали поступать диаметрально противоположным образом. Они сначала привлекают принципы математической симметрии и настаивают, что законы природы и, разумеется, кирпичики, из которых состоит вещество, должны подчиняться определенным закономерностям, и выводят из этих предпосылок общие законы. Но откуда природа знает, что ей положено следовать абстрактным математическим симметриям?
В 1975 году Митч Фейгенабаум, который тогда был молодым специалистом по математической физике в Национальной лаборатории в Лос-Аламосе, играл со своим карманным калькулятором HP-65. Он изучал поведение одной простой функции. И обнаружил, что последовательность чисел, получавшаяся в результате вычислений, устремляется все ближе и ближе к определенному числу – 4,669…[6]. Когда Митч изучил некоторые другие уравнения, то, к своему изумлению, обнаружил, что и там появляется то же самое загадочное число. Вскоре Фейгенбаум сделал вывод, что открыл некую универсальную закономерность, которая каким-то образом знаменует переход от порядка к хаосу, хотя объяснения этому найти не мог. Неудивительно, что поначалу физики отнеслись к этому весьма скептически. И в самом деле, с какой стати одно и то же число должно характеризовать поведение разных на первый взгляд систем? Первая статья Фейгенбаума проходила рецензирование в течение полугода, после чего ее отклонили. Однако довольно скоро эксперименты показали, что если нагревать жидкий гелий снизу, он ведет себя именно так, как предсказывает универсальное решение Фейгенбаума. Как выяснилось, так себя ведут и многие другие системы. Удивительное число Фейгенбаума возникало и при переходе от упорядоченного течения жидкости или газа к турбулентности и даже в поведении воды, капающей из крана. Перечень подобных случаев, когда математики «предвосхищали» потребности различных дисциплин на несколько поколений вперед, все пополняется и пополняется. Среди самых поразительных примеров загадочного и неожиданного взаимодействия между математикой и реальным (физическим) миром – история создания математической теории узлов. Математический узел похож на обычный узел на тонком шнуре, концы которого намертво сращены. То есть математический узел – это замкнутая кривая без свободных концов. Как ни странно, первоначальный толчок развитию математической теории узлов дала ошибочная модель атома, разработанная в XIX веке. Когда эту модель отвергли – спустя всего 20 лет после создания, – теория узлов стала разливаться дальше как сравнительно малоизвестная отрасль чистой математики. Невероятно, но факт: в наши дни это абстрактное начинание неожиданно нашло широчайшее применение в самых разных областях исследований – от молекулярной структуры ДНК до теории струн, попытки объединить субатомный мир с гравитацией. К этой восхитительной истории я еще вернусь в главе 8, поскольку ее циклическая структура, пожалуй, лучше всего показывает, как из попыток объяснить физическую реальность возникают отрасли математики, которые затем уходят в область отвлеченной математики, однако впоследствии неожиданно возвращаются в реальность.
Даже такой сжатый рассказ уже содержит в себе массу убедительных доводов в пользу того, что Вселенная либо подчиняется математике, либо, как минимум, поддается анализу посредством математики. Как покажет эта книга, практически все, а может быть, и абсолютно все человеческие начинания, похоже, основаны на каком-то скрытом математическом механизме, даже там, где этого совсем не ждешь. Возьмем хотя бы пример из мира финансов – модель ценообразования опционов Блэка-Шоулза (Black and Scholes 1973). Модель Блэка-Шоулза стяжала своим разработчикам Нобелевскую премию по экономике (правда, только двоим из трех – Майрону Шоулзу и Роберту Кархерту Мертону, так как Фишер Блэк скончался до присуждения премии). Главная ее формула позволяет понять, как устроено ценообразование опционов (это такие финансовые инструменты, которые позволяют игрокам на бирже покупать или продавать ценные бумаги в какой-то момент в будущем по заранее согласованной цене). Однако тут-то и начались неожиданности. Эта модель опирается на явление, которое физики изучают уже десятки лет – броуновское движение, оживленное мельтешение крошечных частичек вроде пыльцы, если размешать их с водой, или частичек дыма в воздухе. А потом, будто этого оказалось мало, выяснилось, что то же самое уравнение применимо и к движению сотен тысяч звезд в звездных скоплениях. Выражаясь словами Алисы, все страньше и страньше, не так ли? Конечно, космос есть космос, но ведь бизнес и финансы – это определенно плод человеческого разума!
Или вспомним, с какими трудностями часто сталкиваются производители электронных комплектующих и разработчики компьютеров. В печатных платах нужно проделывать лазерным сверлом десятки тысяч отверстий. Чтобы снизить затраты, разработчики компьютеров стараются, чтобы сверло не вело себя словно «заблудившийся турист». Задача состоит в том, чтобы проложить кратчайший маршрут между отверстиями, при котором сверло проходило бы точку, где расположено каждое отверстие, ровно один раз. Как выяснилось, математики уже успели позаниматься этой задачей еще в 20-е годы ХХ века, и тогда она получила название «Задача коммивояжера». Суть ее такова: коммивояжеру или политику в рамках предвыборной компании нужно объехать определенные города, причем стоимость дороги между каждыми двумя городами известна заранее. Путешественник должен проложить самый выгодный маршрут, чтобы объехать все города и затем вернуться в исходную точку. В 1954 году было получено решение задачи коммивояжера для 49 городов в США. В 2004 году – для 24 978 населенных пунктов в Швеции[7]. Иными словами, электронная промышленность, компании, которые прокладывают маршруты для развозки посылок и покупок, и даже японские производители игровых автоматов под названием патинко – это что-то вроде пинбола, – которым приходится вбивать тысячи гвоздиков, должны полагаться на математику при выполнении простейших, казалось бы, действий – сверлении отверстий, составлении расписания, разработке компьютерного «железа».
Математика проникла даже в те сферы, которые по традиции никак не ассоциируются с точными науками. Например, существует «Журнал математической социологии» («Journal of Mathematical Sociology» (в 2006 году вышел его тридцатый выпуск), тематика которого – статьи о математическом понимании сложных общественных структур, организаций и неформальных объединений. В журнале публикуются статьи по самым разным вопросам от математических моделей прогнозов общественного мнения до предсказания взаимодействий внутри тех или иных социальных групп.
Если двинуться в обратном направлении, от математики в сторону гуманитарных наук, мы попадем в область вычислительной лингвистики, которая изначально привлекала исключительно специалистов по информатике, а сейчас превратилась в пространство междисциплинарных исследований, где совместно трудятся лингвисты, психологи-когнитивисты, логики и разработчики искусственного интеллекта, исследующие тонкости естественного развития языков.
Неужели это какой-то хитроумный розыгрыш – ведь все попытки человека что-то понять, в чем-то разобраться приводят в конце концов к открытию все новых отраслей математики, по законам которой, как видно, создана и сама Вселенная, и мы, ее сложные творения? Неужели математика, как любят говорить педагоги, – спрятанный учебник, тот, по которому учится преподаватель, сообщая ученикам неполную версию, чтобы казаться умнее? Или, если обратиться к библейской метафоре, математика – это и есть плод древа познания?
Как я уже отмечал в начале этой главы, непостижимая эффективность математики задает множество интереснейших загадок. Можно ли считать, что математика существует независимо от человеческого разума? Иначе говоря, можно ли считать, что мы просто открываем математические истины, как астрономы открывают неизвестные ранее галактики? Или математика – всего лишь изобретение человека? Если математика и правда существует в какой-то абстрактной стране чудес, как этот волшебный мир соотносится с физической реальностью? Каким образом человеческий мозг со всеми его ограничениями, о которых нам прекрасно известно, находит путь в этот незыблемый мир вне времени и пространства? С другой стороны, если математика не более чем человеческое изобретение и вне нашего разума не существует, как объяснить тот факт, что изобретение огромного количества математических истин по какому-то волшебству надолго опередило вопросы об устройстве Вселенной и человеческой жизни, которые возникли лишь много веков спустя? Ответить на эти вопросы непросто. Не раз и не два на страницах этой книги вы увидите, насколько разные ответы дают на них даже современные математики, психологи-когнитивисты и философы. В 1989 году французский математик Ален Конн, удостоенный двух самых престижных премий по математике – Филдсовской медали (1982) и премии Крафорда (2001), высказался вполне ясно и недвусмысленно (Changeux and Connes 1995).
Возьмем, к примеру, простые числа (то есть те, которые делятся только сами на себя и на единицу. – М. Л.), – насколько я могу судить, они составляют куда более стабильную реальность, чем та материальная реальность, которая нас окружает. Математика, который трудится над своей задачей, можно уподобить естествоиспытателю, который изучает неведомый мир. Основные факты обычно выводят из опыта. Например, если проделывать несложные вычисления, становится понятно, что последовательность простых чисел продолжается бесконечно. Значит, задача математика – доказать, что существует бесконечно много простых чисел. Это, разумеется, очень старый результат, мы обязаны им еще Евклиду. Среди самых интересных следствий из этого доказательства – если когда-нибудь кто-нибудь заявит, будто нашел самое большое простое число, будет легко показать, что он заблуждается. Это справедливо для любого доказательства. То есть мы сталкиваемся с реальностью, которая в точности так же неопровержима, как и реальность физическая.
Мартин Гарднер, знаменитый писатель, автор множества книг и статей о развлекательной математике, тоже придерживается того мнения, что математика – это открытие. Он ничуть не сомневается, что числа и математика существуют сами по себе и неважно, знают ли о них люди. Как-то раз он остроумно подметил: «Если два динозавра повстречали на полянке двух других динозавров, всего их было четыре, даже если поблизости не было людей и некому было это пронаблюдать, а сами зверюги по глупости об этом не догадывались» (Gardner 2003). Как подчеркивал Конн, сторонники точки зрения «математика-открытие» (что, как мы вскоре убедимся, соответствует взглядам Платона) указывают, что как только удается усвоить какое-то одно математическое понятие, скажем, понятие натуральных чисел 1, 2, 3, 4…, как мы натыкаемся на неопровержимые факты вроде 32 + 42 = 52, и при этом не играет никакой роли, что мы думаем об этих соотношениях. Это, по крайней мере, оставляет впечатление, что мы сталкиваемся с некоей существующей реальностью.
Но с этим согласны не все. Когда английский математик сэр Майкл Атья, получивший Филдсовскую медаль в 1966 году и Абелевскую премию в 2004 году, писал рецензию на книгу, в которой Конн излагал свои идеи, то заметил следующее (Atiyah 1995).
Любой математик не может не сочувствовать Конну. Все мы интуитивно чувствуем, что целые числа или, скажем, окружности и в самом деле существуют в некоем абстрактном смысле и платоновское мировоззрение (о нем мы подробно поговорим в главе 2. – М. Л.) необычайно соблазнительно. Однако как его отстоять? Трудно представить себе, чтобы во Вселенной возникла и развилась геометрия, будь Вселенная одномерной или даже дискретной. Может показаться, что с целыми числами мы чувствуем себя увереннее и что счет – это и в самом деле нечто существующее изначально. Однако представим себе, что разумом наделено не человечество, а какая-нибудь огромная одинокая медуза в глубинах Тихого океана. Все ее сенсорные данные определялись бы движением, температурой и давлением. Поскольку все это – чистейший континуум, в такой обстановке не может появиться ничего дискретного, и медузе нечего было бы считать.
Поэтому Атья считает, что «человек создал (курсив мой. – М. Л.) математику посредством идеализации и абстрагирования элементов физического мира». Той же точки зрения придерживаются и ингвист Джордж Лакофф и психолог Рафаэль Нуньес. В своей книге «Откуда взялась математика» («Where Mathematics Comes From») они приходят к такому выводу: «Математика – естественная составляющая человеческого бытия. Она возникает из нашего тела, нашего мозга, нашего повседневного опыта взаимодействия с миром» (Lakoff and Núñez 2000).
Точка зрения Атья, Лакоффа и Нуньеса затрагивает еще один интересный вопрос. Если математика – это целиком и полностью человеческое изобретение, универсальна ли она? Иначе говоря, если существуют внеземные цивилизации, будет ли их математика такой же, как наша? Карл Саган (1934–1996) полагал, что ответ на последний вопрос утвердительный. В своей книге «Космос» Саган, в частности, размышлял о том, какого рода сигналы передавала бы в космос разумная цивилизация, и писал: «Крайне маловероятно, чтобы какой-нибудь естественный физический процесс генерировал радиосообщение, содержащее только простые числа. Получив подобное сообщение, мы можем заключить, что где-то есть цивилизация, которая любит простые числа (пер. А. Сергеева)». Но можно ли утверждать это с уверенностью? Недавно физик и математик Стивен Вольфрам в своей книге «Наука нового типа» («A New Kind of Science») утверждал, что так называемая «наша математика», вероятно, соответствует лишь одному из богатейшего ассортимента «вкусов» математики (Wolfram 2002). Например, вместо того, чтобы описывать природу при помощи законов, выраженных в виде математических уравнений, мы могли бы пользоваться законами иного типа, воплощенными в виде простых компьютерных программ. Более того, некоторые космологи в последнее время стали обсуждать гипотезу, согласно которой наша Вселенная – всего лишь составная часть множественной Вселенной или мультиверса, огромного ансамбля вселенных. Если множественная Вселенная и вправду существует, вправе ли мы ожидать, что в других вселенных будет такая же математика?
Специалисты по молекулярной биологии и психологии познания предлагают совершенно иную точку зрения, основанную на изучении свойств и способностей мозга. По представлениям некоторых ученых, математика – это нечто вроде языка. Иными словами, согласно «когнитивному сценарию», после того как человечество сотни тысяч лет таращилось на свои две руки, две ноги и два глаза, появилось абстрактное определение числа 2 – примерно так же, как возникло слово «птица», обозначающее множество двукрылых теплокровных пернатых существ, умеющих летать. По словам французского нейрофизиолога Жан-Пьера Шанжё: «С моей точки зрения, аксиоматический метод (применяющийся, например, в евклидовой геометрии. – М. Л.) – выражение способностей головного мозга, связанное с его использованием. Ведь основная характеристика языка – это именно его генеративный характер (Changeux and Connes 1995)». Однако, если математика – тот же язык, как объяснить, что, хотя дети легко учатся родному языку, математика дается многим с таким трудом? Марджори Флеминг (1803–1811), шотландская девочка-вундеркинд, не дожившая до 9 лет, оставила дневник – более девяти тысяч слов прозы и около пятисот стихотворных строк – где, помимо всего прочего, очаровательно описывает, с какими сложностями сталкиваются дети при изучении математики. В одном месте Марджори жалуется: «А теперь я хочу рассказать тебе, дорогой дневник, как страшно и ужасно мучает меня таблица умножения, ты себе и представить не можешь! Самое кошмарное – это восемь на восемь и семь на семь, это противно самой природе!»
Сложные вопросы, о которых я здесь рассказал, можно в некоторой степени переформулировать: есть ли какое-то фундаментальное различие между математикой и другими выражениями человеческого разума, например изобразительным искусством и музыкой? Если нет, почему математика обладает столь впечатляющей последовательностью, всеохватностью и самодостаточностью, в отличие от всех остальных творений человечества? Ведь, к примеру, евклидова геометрия в наши дни (когда она нашла практическое применение) так же точна, что и в 300 году до нашей эры; она отражает «истины», которые нам навязаны. А при этом мы, напротив, не обязаны ни слушать ту же самую музыку, которую слушали древние греки, ни придерживаться наивной аристотелевой модели Вселенной. Лишь очень немногие научные дисциплины в наши дни находят применение идеям, которым уже три тысячи лет от роду. С другой стороны, последние достижения математики могут относиться к теоремам, опубликованным в прошлом году или на прошлой неделе, однако при этом, не исключено, что они опираются на формулу площади сферической поверхности, которую вывел Архимед около 250 года до нашей эры! Узловая модель атома прожила всего лет двадцать, поскольку были сделаны новые открытия, показавшие, что составные части этой теории ошибочны. Так и происходит научный прогресс. Ньютон благодарил (или не благодарил, см. главу 4!) гигантов, на плечах которых стоял. Надо было ему еще и извиниться перед гигантами, чьи труды из-за него канули в Лету.
В математике все идет совсем иначе. Хотя математический инструментарий, необходимый для доказательства определенных результатов, иногда меняют, сами математические результаты не меняются никогда. Более того, как выразился математик и писатель Иэн Стюарт: «В математике есть особый термин для полученных когда-то результатов, которые затем были изменены: они называются ошибками» (Stewart 2004). И эти ошибки называются ошибками не потому, что были совершены какие-то новые открытия, как в других науках, а потому, что результаты более тщательно и дотошно сверили со все теми же старыми математическими истинами. Но делает ли это математику родным языком Бога?
Если вам кажется, что не так уж важно знать, изобрели мы математику или открыли, задумайтесь, как сильно оказывается нагружена разница между словами «изобрели» и «открыли», если задать вопрос иначе: а что же Бог – изобрели мы его или открыли? Или еще провокационнее: Бог ли создал людей по Своему образу и подобию или люди изобрели Бога по своему образу и подобию?
Многие из этих интереснейших вопросов (и довольно много дополнительных), а также весьма неоднозначные ответы на них, я и попытаюсь рассмотреть в этой книге. По ходу дела я предложу обзор идей, которые можно почерпнуть в трудах величайших математиков, физиков, философов, специалистов по когнитивной психологии и лингвистов прошлого и настоящего. Кроме того, я приведу мнения, оговорки и размышления многих современных мыслителей. Это увлекательное путешествие мы начнем с революционных прорывов, которые совершили философы далекой древности.
Мистики: нумеролог и философ
Жажда понять устройство мироздания двигала человечеством с самого начала времен. Попытки наших собратьев добраться до дна с вопросом «Что все это значит?» выходили далеко за рамки необходимого для простого выживания, улучшения экономической ситуации или качества жизни. Из этого не следует, что все и всегда активно участвовали в поисках каких-то закономерностей в природе или в метафизике. Тот, кто тратит все силы, чтобы свести концы с концами, редко может позволить себе роскошь размышлять о смысле жизни. А в череде тех, кто искал закономерности в головокружительно сложной на первый взгляд структуре Вселенной, выделяется несколько гигантов – на голову выше прочих.
Для многих из нас символом начала современной эпохи в философии науки стало имя французского математика, философа и естествоиспытателя Рене Декарта (1596–1650). Декарт был среди тех, кто добился перехода от описания мира природы с точки зрения качеств, воспринимаемых нашими органами чувств, к объяснению природных явлений при помощи численных величин, полученных на основе точных математических методов (о вкладе Декарта в научный прогресс мы поговорим подробнее в главе 4). Вместо ощущений, запахов и цветов, которые можно было охарактеризовать лишь расплывчато, Декарт потребовал научных объяснений, которые доходили бы до самого фундаментального микроуровня и были бы сформулированы на языке математики (Descartes 1644).
…Мне неизвестна иная материя телесных вещей, как только… та, которую геометры называют величиной и принимают за объект своих доказательств… И так как этим путем… могут быть объяснены все явления природы, то, мне думается, не следует в физике принимать других начал, кроме вышеизложенных, да и нет оснований желать их (пер. С. Шейнман-Топштейн, Н. Сретенского).
Интересно, что Декарт исключил из своей общей научной картины мира царства «мышления и разума»: он считал, что они независимы от материального мира, который можно описать математически. Хотя не приходится сомневаться, что Декарт входит в число самых влиятельных мыслителей последних четырех столетий, не он первый отвел центральное место математике. Хотите верьте, хотите нет, но обобщенные представления о космосе, пронизанном и управляемым математикой, заходившие временами даже дальше декартовских, высказывались, пусть и с сильным уклоном в мистицизм, за две с лишним тысячи лет до Декарта. Легенды гласят, что не кто иной, как загадочный Пифагор, считал, что душа человека, занимающегося чистой математикой, «напоена музыкой».
Пифагор (ок. 572–497 гг. до н. э.) был, вероятно, первым человеком, которому удалось одновременно быть и авторитетным естествоиспытателем, и харизматическим главой философской школы, и ученым, и религиозным мыслителем. В сущности, считается, что именно он и ввел понятия «философии» – любви к мудрости – и «математики» – совокупности научных дисциплин, подлежащих изучению (Iamblichus ca. 300 ADa, см. Guthrie 1987). Хотя до нас не дошло ни одного подлинного сочинения Пифагора (если они вообще записывались, поскольку его учение распространялось в основном устно), в нашем распоряжении есть три подробные, пусть и не вполне достоверные биографии Пифагора, созданные в III веке (Laertius ca. 250 AD; Porphyry ca. 270 AD; Iamblichus ca. 300 ADa, b.). Четвертая, анонимная, пересказана в трудах византийского патриарха и философа Фотия (ок. 820–891 гг.). При изучении наследия Пифагора основная трудность заключается в том, что его последователи и ученики, пифагорейцы, неизменно приписывали ему все свои идеи. В результате даже Аристотелю (384–322 гг. до н. э.) было сложно определить, какие принципы пифагорейской философии можно без опасений приписывать самому Пифагору, поэтому он обычно ссылается на «пифагорейцев» или «так называемых пифагорейцев» (Aristotle ca. 350 гг. до н. э.; см. Burkert 1972). Тем не менее, если учесть, как часто Пифагор упоминается в позднейшей традиции, в целом принято считать, что по крайней мере часть пифагорейских теорий, оказавших сильное влияние на Платона и даже на Коперника, восходят к самому Пифагору.
Нет практически никаких сомнений, что Пифагор родился в начале VI века до н. э. на острове Самос, неподалеку от побережья современной Турции. Вероятно, в юности он много путешествовал, особенно в Египет и, возможно, в Вавилон, где и получил первоначальное математическое образование. Затем он эмигрировал в маленькую греческую колонию Кротон у южной оконечности Италии, где вокруг него быстро собралась группа энтузиастов – учеников и последователей.
Греческий историк Геродот (ок. 485–425 гг. до н. э.) назвал Пифагора «величайшим эллинским мудрецом» (Herodotus 440 гг. до н. э.), а поэт и философ-досократик Эмпедокл (ок. 492–432 гг. до н. э.) восхищенно добавил (Porphyry ca. 270 AD)/
Жил среди них некий муж, умудренный безмерным познаньем,
Подлинно мыслей высоких владевший сокровищем ценным,
В разных искусствах премудрых свой ум глубоко изощривший.
Ибо как скоро всю силу ума напрягал он к Познанью,
То без труда созерцал любое, что есть и что было,
За десять или за двадцать провидя людских поколений.
Однако не на всех учение Пифагора производило такое сильное впечатление. Философ Гераклит Эфесский (ок. 535–475 гг. до н. э.) в комментариях, в которых явственно прослеживается личное соперничество, признает широкие познания Пифагора, однако тут же пренебрежительно добавляет: «Многознание не научает быть умным, иначе бы оно научило Гесиода (греческого поэта, жившего около 700 г. до н. э. – М. Л.) и Пифагора» (пер. М. Дынника).
Пифагор и ранние пифагорейцы не были ни математиками, ни учеными в строгом смысле слова. Скорее, в основе их учения лежит метафизическая философия значения чисел. В глазах пифагорейцев числа были и актуальными сущностями, практически живыми, и универсальными принципами, которые охватывали все, от небес до человеческой этики. Иначе говоря, числа рассматривались с двух разных, хотя и взаимосвязанных сторон. С одной стороны, они существовали вполне осязаемо, физически, с другой – это были абстрактные рецепты, на основании которых строилось все остальное. Скажем, монада (число 1) понималась и как генератор всех прочих чисел, сущность, столь же реальная, сколь и вода, огонь и воздух, играющая свою роль в структуре физического мира, и как идея, метафизическая единица, стоящая у источника всего творения[8]. О двойном значении, которое придавали числам пифагорейцы, писал (на прелестном языке XVII века) и английский историк философии Томас Стэнли (1625–1678).
Число двояко – его можно понимать либо как нечто умственное (то есть нематериальное), либо как нечто научное. Умственное число есть та вечная сущность числа, которую пифагорейцы в своих рассуждениях о богах называли тем самым первоначалом, на котором и зиждется и земля, и небо, и заключенная меж ними природа… Именно его называют первоначалом, источником и корнем всего сущего… Научное же число Пифагор определяет как расширение и претворение в действие продуктивных первопричин, заключенных в монаде или в скоплении монад (Stanley 1687).
Итак, числа – не просто инструменты для обозначения количества или объема. Нет, их надо было открыть – и именно они служат основными движущими силами в природе. Все во Вселенной, от материальных объектов вроде Земли до абстрактных понятий вроде справедливости, – это числа и только числа.
В принципе, числа вполне могут заинтересовать и увлечь кого угодно, в этом нет ничего удивительного[9]. Ведь даже самые заурядные числа, с которыми мы сталкиваемся изо дня в день, и те обладают занятными свойствами. Возьмем, к примеру, число дней в году – 365. Нетрудно убедиться, что 365 – это сумма трех последовательных квадратов: 365 = 102 + 112 + 122. Мало того, это число также равно сумме двух следующих квадратов (365 = 132 + 142). Или рассмотрим число дней в лунном месяце – 28. Это число – сумма всех своих делителей (чисел, на которые его можно делить без остатка): 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14. Числа, обладающие этим особым свойством, называются совершенными числами (первые четыре совершенные числа – 6, 28, 496, 8218). Отметим также, что 28 – это сумма кубов первых двух нечетных чисел: 28 = 13 + 33. Свои странности есть даже у такого широкоупотребительного в нашей десятичной системе числа, как 100: 100 = 13 + 23 + 33 + 43.
В общем, ясно, что в числах много интересного. И все же вполне можно задаться вопросом, каков источник пифагорейского учения о числах. Откуда появилась идея, что не просто всему на свете можно приписать число – что все на свете суть числа? Поскольку, либо пифагорейцы ничего не записывали, либо все их сочинения были уничтожены, ответить на этот вопрос нелегко. Мы имеем возможность составить впечатление о пифагорейской логике на основании небольшого числа доплатоновских фрагментов и гораздо более поздних и менее надежных суждений, принадлежащих в основном философам-последователям Платона и Аристотеля. Картина, которую удается воссоздать из этих разрозненных отрывков, наталкивает на мысль, что подобная одержимость числами, вероятно, объясняется тем, что пифагорейцы увлекались двумя занятиями, на первый взгляд не связанными, – музыкальными экспериментами и наблюдением над небесами.
Чтобы понять, как образовались все эти таинственные взаимосвязи между числами, небесами и музыкой, придется начать с интересного наблюдения: пифагорейцы придумали способ представлять числа в виде фигур из точек или камешков. Например, натуральные числа 1, 2, 3, 4,… они представляли в виде треугольников (как на рис. 1). В частности, треугольник, выстроенный из первых четырех целых чисел (треугольник из десяти камешков), называется тетрактида (тетрактис, тетрада, «четверица») и в глазах пифагорейцев символизировал совершенство и составляющие его элементы. Это нашло отражение в рассказе о Пифагоре, который приводит греческий сатирик Лукиан (ок. 120–180 гг.) Пифагор просит собеседника начать считать (цит. по Heath 1921). Тот считает: «Один, два, три, четыре…» Пифагор перебивает его: «Видишь? То, что ты принимаешь за четыре, на самом деле десять, идеальный треугольник и наша клятва». Философ-неоплатоник Ямвлих (ок. 250–325 гг.) говорит, что пифагорейцы и правда клялись особой клятвой (Iamblichus ca. 300 ADa; разбор см. у Guthrie 1987).
Именем клятву даю открывшего нам четверицу,
Неиссякаемой жизни источник.
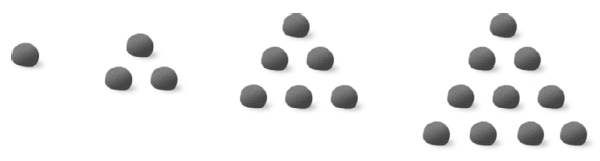
Рис. 1
За что же так почитали тетрактиду? Дело в том, что в глазах пифагорейцев VI века до н. э. она воплощала в себе всю природу Вселенной. В геометрии – которая послужила трамплином для эпохальной древнегреческой научной революции – число 1 соотносилось с точкой , число два – с отрезком



Однако это только начало. Тетрактида неожиданно проявилась даже в музыковедении. Считается, что именно Пифагор и пифагорейцы открыли, что если разделить струну так, чтобы длины частей относились как соседние натуральные числа, получаются гармоничные созвучные интервалы – это заметно, когда слушаешь выступление струнного квартета. Когда две подобные струны звучат одновременно, звук получается приятным, если отношения длин этих струн представляют собой простую пропорцию (Strohmeier and Westbrook 1999; Stanley 1687). Например, струны равной длины (соотношение 1:1) звучат в унисон, при соотношении 1:2 получается октава, 2:3 – чистая квинта, 3:4 – чистая кварта. Выходит, что тетрактида не только охватывает все пространственные измерения, но еще и может считаться воплощением математических соотношений, которые лежат в основе музыкальной гаммы. Этот волшебный на первый взгляд союз музыки и пространства стал для пифагорейцев важнейшим символом, дарующим чувство гармонии («взаимного соответствия частей») космоса («прекрасного порядка вещей»).
Где же тут место небесам? Пифагор и пифагорейцы сыграли в истории астрономии роль пусть не главную, однако существенную. Они одними из первых предположили, что Земля имеет форму шара (возможно, потому, что считали сферу совершенной с математико-эстетической точки зрения). Возможно, они также первыми установили, что планеты, Солнце и Луна независимо, сами по себе движутся с запада на восток, в направлении, противоположном ежедневному (очевидному) движению сферы неподвижных звезд. Энтузиасты-наблюдатели ночного неба не пропустили и бросающиеся в глаза основные свойства созвездий – количество звезд и общие очертания. Каждое созвездие характеризовалось числом входящих в него звезд и геометрической фигурой, которую они образуют. И именно эти характеристики лежат в основе пифагорейской доктрины чисел, что ясно видно на примере тетрактиды. Пифагорейцы были под таким впечатлением от того, что геометрические фигуры, созвездия и музыкальные гармонии зависят от чисел, что числа стали для них и строительным материалом Вселенной, и первоначалом самого ее существования. Неудивительно, что девиз Пифагора гласил: «Все есть число».
О том, насколько серьезно воспринимали эту максиму сами пифагорейцы, можно судить по двум замечаниям Аристотеля. В компилятивном трактате «Метафизика» Аристотель пишет: «В это же время и раньше так называемые пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами всего существующего» (здесь и далее пер. А. Кубицкого). В другом месте Аристотель живо описывает, как пифагорейцы почитали числа, и упоминает об особой роли тетрактиды: «Эврит [ученик пифагорейца Филолая] устанавливал, какое у какой вещи число (например, это вот – число человека, а это – число лошади); и так же как те, кто приводит числа к форме треугольника и четырехугольника (курсив мой. – М. Л.), он изображал при помощи камешков формы животных и растений». Выделенная фраза – «кто приводит числа к форме треугольника и четырехугольника» – отсылает и к тетрактиде, и к другому интереснейшему пифагорейскому понятию: к идее гномона.
Слово «гномон» (в сущности, «маркер») происходит от названия вавилонского астрономического устройства для определения времени, похожего на солнечные часы[10]. Похоже, что этот аппарат привез в Грецию учитель Пифагора, естествоиспытатель Анаксимандр (ок. 611–547 гг. до н. э.). Не приходится сомневаться, что геометрические представления наставника и их применение в космологии – науке о Вселенной в целом – произвели на ученика сильное впечатление. Впоследствии слово «гномон» стало обозначать и чертежный угольник, и фигуру в виде двух полос, состыкованных под прямым углом, – если приложить ее к квадрату, получится квадрат большего размера (рис. 2). Обратите внимание, что если добавить, например, к квадрату 3 × 3 семь камешков, выложенных в форме прямого угла (гномона), получится квадрат 4 × 4, состоящий из 16 камешков. Это фигурное изображение следующего свойства: в последовательности нечетных целых чисел 1, 3, 5, 7, 9,… сумма любого количества последовательных членов (начиная с 1) всегда дает квадрат. Например, 1 = 12, 1 + 3= 4 = 22, 1 + 3 + 5 = 9 = 32, 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 = 52 и так далее. Такие тесные отношения между гномоном и квадратом, который он «обнимает», пифагорейцы считали символом познания в целом: знание «обнимает» познанное. Следовательно, по мнению пифагорейцев, числа не просто описывали физический мир, но и лежали в основе умственных и эмоциональных процессов.
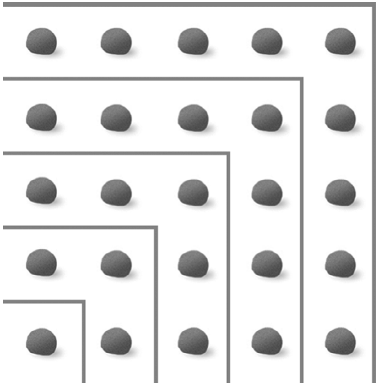
Рис. 2
Квадраты целых чисел, которые ассоциируются с гномонами, вероятно, привели Пифагора и к формулировке его знаменитой теоремы. Это прославленное математическое утверждение гласит, что у любого прямоугольного треугольника площадь квадрата, достроенного на самой длинной стороне – гипотенузе, равна сумме площадей квадратов, достроенных на двух других сторонах – катетах (рис. 3). Карикатуристы под псевдонимом «Франк и Эрнест» посвятили истории открытия теоремы смешную картинку (рис. 4). Как видно на рис. 2, если добавить к квадрату 4 × 4 гномон 9 = 32, получится новый квадрат 5 × 5, то есть 32 + 42 = 52. Поэтому числа 3, 4, 5 могут быть длинами сторон прямоугольного треугольника. Наборы целых чисел, обладающие этим свойством (например, 5, 12, 13, поскольку 52 + 122 = 132), называются пифагоровыми тройками.
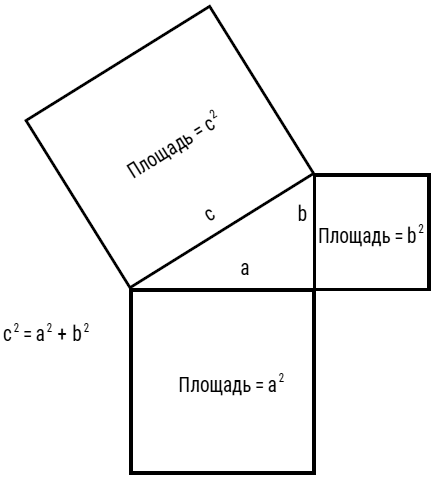
Рис. 3
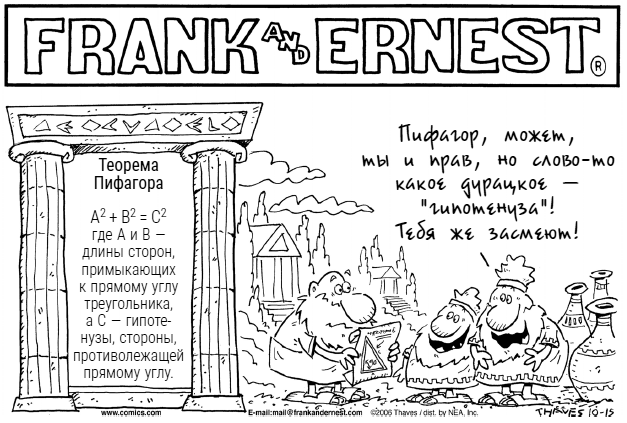
Рис. 4
Мало какие математические теоремы могут похвастаться такой «узнаваемостью», как теорема Пифагора. В 1971 году, когда республика Никарагуа выбирала «десять математических формул, изменивших облик планеты» для коллекционной серии марок, теорема Пифагора появилась на второй марке (рис. 5); на первой значилось «1 + 1 = 2»).
Однако был ли Пифагор первым, кто сформулировал широкоизвестную теорему, которую ему приписывают? Некоторые древнегреческие историки в этом не сомневались. В комментарии к «Началам» Евклида (ок. 325–265 гг. до н. э.) – пространному труду по геометрии и теории чисел – греческий философ Прокл (ок. 411–485) писал: «Если мы захотим послушать тех, кто любит записывать древности, мы узнаем, что они приписывают эту теорему Пифагору и сообщают, что он принес в жертву быка за свое открытие» (здесь и далее пер. А. Щетникова)[11]. Однако пифагоровы тройки изображены и на вавилонской клинописной табличке Plimton 322, которая датируется куда более ранним временем – приблизительно династией Хаммурапи (ок. 1900–1600 гг. до н. э.). Более того, геометрические конструкции, основанные на теореме Пифагора, обнаружены и в Индии, где этим соотношением пользовались при строительстве алтарей. Несомненно, о них знал и автор «Шатапатха-брахманы», комментария к древнеиндийским священным текстам, созданного, вероятно, по меньшей мере за несколько веков до Пифагора (Renon and Felliozat 1947, van der Waerden 1983). Впрочем, не так уж важно, первым ли Пифагор сформулировал теорему, получившую его имя, – главное, что постоянно обнаруживавшая себя разного рода взаимосвязь между числами, формами и Вселенной еще на шаг приблизила пифагорейцев к детальной метафизике порядка.

Рис. 5
Важнейшую роль в пифагорейском мире играла и другая идея – понятие о космических противоположностях. Поскольку система противоположностей была основным принципом ранней ионийской научной школы, было естественно, что ее приняли пифагорейцы с их одержимостью порядком. Более того, Аристотель рассказывает, что с идеей, что все на свете уравновешено, поскольку организовано в пары, соглашался даже врач по имени Алкмеон, живший в Кротоне в те годы, когда там существовала знаменитая школа Пифагора. Главная пара противоположностей состояла из предела, выраженного нечетными числами, и беспредельного, выраженного четными. Предел есть сила, наводящая порядок и гармонию в диком необузданном беспредельном. И хитросплетения Вселенной в целом, и перипетии человеческой жизни на уровне микрокосма, как полагали пифагорейцы, состоят из пар противоположностей, которые так или иначе соотносятся друг с другом, и управляются этими противоположностями. Эта несколько черно-белая картина мира описывалась «таблицей противоположностей», которая приведена в «Метафизике» Аристотеля:

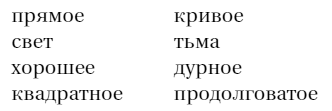
Философская концепция, выраженная в этой таблице, была распространена отнюдь не только в Древней Греции[12]. Китайские инь и ян, где инь – это отрицание и тьма, а ян – утверждение и свет, отражают такое же мировоззрение. Примерно такие же идеи проникли и в христианство, где есть понятия рая и ада (и даже в заявления американских президентов наподобие «Вы или с нами, или с террористами»). У противоположностей есть и более общий смысл – всегда считается, что смерть оттеняет и подчеркивает смысл жизни, а знание особенно заметно по сравнению с невежеством.
Не все принципы пифагорейского учения имеют непосредственное отношение к числам. Стиль жизни замкнутого сообщества пифагорейцев был основан на вегетарианстве, убежденности в метемпсихозе – переселении бессмертных душ – а также на несколько загадочном запрете употреблять в пищу бобы. Существует несколько объяснений, почему пифагорейцам нельзя было есть бобы: то ли бобы напоминают видом детородный орган человека, то ли есть бобы – все равно что есть живую душу. Приверженцы последней версии считали, что когда человек, поевший бобов, испускает ветры, то это погибшая душа словно бы испускает дух.
В книге «Philosophy for Dummies» («Философия для чайников», Morris 1999) учение пифагорейцев кратко изложено следующим образом: «Все состоит из чисел, и не ешь бобы, потому что за это получишь по первое число».
Самая старая дошедшая до нас история о пифагорейцах довольно-таки поэтична и связана с представлением о переселении души в другие живые существа (Joost-Gaugier 2006). Она сохранилась в стихах поэта Ксенофана Колофонского, жившего в VI веке до н. э.
Как-то в пути увидав, что кто-то щенка обижает,
Он [Пифагор], пожалевши щенка, молвил такие слова:
«Полно бить, перестань! Живет в нем душа дорогого
Друга: по вою щенка я ее разом признал».
Влияние Пифагора явно прослеживается не только в учении древнегреческих философов – его непосредственных последователей, – но и в том, как строился учебный план средневековых университетов. Семь предметов, которые там преподавали, делились на тривиум – диалектику, грамматику и риторику – и квадривиум, в который входили любимые темы пифагорейцев – геометрия, арифметика, астрономия и музыка. Небесная «гармония сфер» – музыка, которую якобы исполняли планеты на орбитах и которую, по свидетельствам учеников, слышал один лишь Пифагор, – вдохновляла равным образом и поэтов, и ученых. Знаменитый астроном Иоганн Кеплер (1571–1630), открывший законы движения планет, назвал один из своих революционных трудов «Harmonices Mundi» – «Гармонии мира». И вполне в пифагорейском духе сочинил даже музыкальные «мотивы» разных планет (это же проделал три века спустя композитор Густав Холст).
Однако вернемся к теме нашей книги: если снять с пифагорейской философии мистический покров, обнаружится каркас, по которому можно сделать множество важнейших выводов касательно математики, ее природы и ее связи как с физическим миром, так и с человеческим разумом[13]. Пифагор и пифагорейцы – первопроходцы на пути поисков вселенского порядка. Их можно считать основателями чистой математики, поскольку, в отличие от своих предшественников – вавилонян и египтян, – они подходили к математике абстрактно, в отрыве от каких бы то ни было практических целей. А вот ответить на вопрос, пифагорейцы ли поставили математику на службу естественным наукам, уже сложнее. Да, пифагорейцы связывали все природные явления с числами, однако предметом их изучения были числа как таковые, а не природные явления или их причины. Для научного исследования такой путь не слишком перспективен. И все же в основе пифагорейского учения лежало общее представление о существовании универсальных законов природы. Это представление, ставшее краеугольным камнем современной науки, вероятно, коренится еще в идее Рока в древнегреческой трагедии. Вплоть до конца эпохи Возрождения твердая вера в реальность совокупности законов, которые способны объяснить все природные явления, далеко опережала данные любых наблюдений и экспериментов, и лишь Галилей, Декарт и Ньютон обратили ее в гипотезу, которую можно обосновать методом логической индукции.
Пифагорейцам принадлежит и другая заслуга – они сами обнаружили, что их «культ числа», к сожалению, не проходит проверку реальностью. Это открытие, конечно, спустило их с небес на землю. Целых чисел 1, 2, 3,… не хватало даже для того, чтобы вывести из них математику, не говоря уже об описании Вселенной.
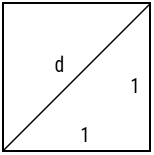
Рис. 6
Рассмотрим квадрат на рис. 6, сторона которого принята за единицу, а длину диагонали мы обозначили d. Мы без труда найдем d при помощи теоремы Пифагора, применив ее к любому из двух прямоугольных треугольников, на которые поделен квадрат. Согласно теореме Пифагора, квадрат диагонали (гипотенузы) равен сумме квадратов двух катетов (коротких сторон): d 2 = 12 + 12, то есть d 2 = 2. Поскольку мы знаем, что квадрат – это положительное число, его легко найти, если взять квадратный корень (например, если x 2 = 9, то положительное число x = √9 = 3) Поэтому из d 2 = 2 следует, что d = √2 единиц. Итак, соотношение длины диагонали к длине стороны квадрата – это число √2. И вот тут-то пифагорейцев и ждало страшное потрясение – открытие, которое не оставило камня на камне от тщательно сконструированной пифагорейской концепции дискретных чисел. Один пифагореец (возможно, это был Гиппас из Метапонта, живший в первой половине V века до н. э. (Fritz 1945)) сумел доказать, что квадратный корень из двух нельзя выразить в виде отношения каких бы то ни было целых чисел. Иначе говоря, даже если мы располагаем бесконечным множеством целых чисел, поиски такой их пары, отношение которой даст нам √2, изначально обречены на провал.
Если число можно выразить в виде отношения двух целых чисел (например, 3/17, 2/5, 1/10, 6/1), его называют рациональным числом (собственно, латинское слово ratio и означает «отношение»). Пифагорейцы доказали, что √2 – не рациональное число. Более того, вскоре после этого открытия обнаружилось, что и √3, √17 и вообще квадратный корень любого числа, которое не представляет собой точный квадрат (16, 25 и т. д.), – тоже не рациональные числа. Последствия были самые серьезные: пифагорейцы доказали, что к бесконечному множеству рациональных чисел придется добавить бесконечное множество чисел другой разновидности – сегодня мы называем их иррациональными числами. Важность этого открытия для дальнейшего развития математического анализа невозможно переоценить. Помимо всего прочего, оно привело и к тому, что в XIX веке признали существование счетных и несчетных бесконечностей[14]. Однако на самих пифагорейцев это открытие произвело настолько ошеломляющее впечатление, что философ Ямвлих пишет, что тот, кто открыл иррациональные числа, «вызвал, как говорят, такую ненависть, что его не только изгнали из общины и отлучили от пифагорейского образа жизни, но и соорудили ему надгробие, как будто действительно ушел из жизни тот, кто некогда был их товарищем».
Однако пифагорейцам принадлежит заслуга, вероятно, даже более важная, чем открытие иррациональных чисел, – то, что именно они первыми стали настаивать на математическом доказательстве, процедуре, основанной исключительно на логических рассуждениях, при помощи которой можно было раз и навсегда установить истинность любого математического предположения, исходя из некоторых постулатов. До древних греков даже сами математики не считали, что кому-то хоть сколько-нибудь любопытно, какие умственные упражнения привели их к тому или иному открытию. Если какой-то математический рецепт можно было с успехом применять на практике, скажем, чтобы распределять участки земли, иного доказательства не требовалось. А вот греки захотели объяснить, почему его можно с успехом применять на практике. Хотя саму идею доказательства первым предложил философ Фалес Милетский (ок. 625–547 гг. до н. э.), именно пифагорейцы превратили эту привычку в совершенный инструмент, позволявший удостовериться в истинности математических утверждений. Значение этого прорыва в логике колоссально. Когда математика стала прибегать к доказательствам, основанным на постулатах, сразу же оказалось, что она покоится на куда более прочном фундаменте, чем любая другая научная дисциплина, которую обсуждали философы того времени. Как только удавалось представить строгое доказательство, основанное на последовательности умозаключений, где не было никаких логических оплошностей, истинность соответствующего математического утверждения становилась незыблемой навечно. Особый статус математического доказательства признавал даже Артур Конан Дойл, создатель самого знаменитого сыщика в мире. В «Этюде в багровых тонах» Шерлок Холмс объявляет, что его выводы «безошибочны, словно теоремы Эвклида» (пер. Н. Треневой).
Для Пифагора и пифагорейцев не было никаких сомнений, изобретают они математику или открывают: математика для них была реальна, незыблема, вездесуща и гораздо более совершенна, чем любое мыслимое творение жалкого человеческого разума. Пифагорейцы буквально воплотили вселенную в математике. В сущности, пифагорейцы не считали, что Бог – математик, они считали, что математика есть Бог (см. разностороннее обсуждение этого тезиса в Netz 2005)!
Значение пифагорейской философии выходит далеко за рамки ее конкретных достижений. Пифагорейцы подготовили почву и в определенном смысле составили перечень важнейших вопросов для следующего поколения философов – в частности для Платона – и заложили основное направление развития западной мысли.
Во глубину платоновской пещеры
Знаменитый английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед (1861–1947) однажды заметил, что «самое надежное обобщение, которое можно сделать при изучении истории западной философии, – что вся она представляет собой примечания к Платону» (Whitehead 1929).
И в самом деле, Платон (ок. 428–347 гг. до н. э.) первым свел воедино самые разные темы – от математики, науки и лингвистики до религии, этики и искусства – и понял, что нужно подходить к ним одинаково, в результате чего, собственно, и появилась философия как научная дисциплина. Философия для Платона была не каким-то отвлеченным предметом, который стоит особняком от повседневной жизни, а общим руководством, как нужно проживать жизнь, как отличать истину ото лжи и как строить политику. В частности, Платон считал, что философия способна открыть перед нами царство истин, которое простирается далеко за пределы того, что мы воспринимаем при помощи органов чувств, и даже того, что мы можем вывести на основании простого здравого смысла. Кто же был этот неутомимый искатель чистого знания, абсолютного блага и вечных истин?[15]
Платон, сын Аристона и Периктионы, родился в Афинах или в Эгине. На рис. 7 приведена герма Платона – скорее всего, копия с более раннего греческого оригинала, созданного в IV веке до н. э. Платон был весьма родовит и по отцовской, и по материнской линии: среди его предков были прославленные исторические деятели, в частности великий законодатель Солон и последний царь Аттики Кодр. Дядя Платона Хармид и двоюродный брат Критий были старыми друзьями знаменитого философа Сократа (ок. 470–399 гг. до н. э.) – многие исследователи полагают, что это знакомство в основном и сформировало взгляды юного Платона. Поначалу Платон хотел стать политиком, однако партия, взгляды которой ему тогда импонировали, была замешана в насильственных действиях, и это отвратило его от политического поприща. Именно нелюбовь к политике, вероятно, и побудила Платона в последующие годы изложить свои представления о том, каким должно быть фундаментальное образование государственных мужей будущего. Он даже попытался быть наставником правителя Сиракуз Дионисия II, впрочем, к успеху это не привело.
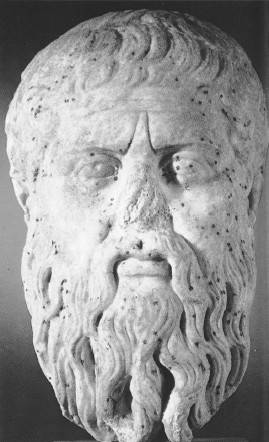
Рис. 7
После казни Сократа в 399 году до н. э. Платон отправился в длительное путешествие, которое завершилось лишь с основанием его легендарной научно-философской школы, Академии, около 387 года до н. э. Платон возглавлял Академию (был ее схолархом) до самой своей смерти; на посту его сменил Спевсипп, приходившийся ему племянником. Академия, в отличие от современных научно-образовательных учреждений, была скорее неформальным клубом интеллектуалов, которые под руководством Платона изучали самые разные предметы. Не было ни платы за обучение, ни устоявшегося учебного планая – не было даже преподавателей в привычном нам смысле слова. Однако же те, кто хотел поступить в Академию, должны были удовлетворять одному довольно необычному требованию. Согласно речи императора Юлиана Отступника, правившего в IV веке (уже нашей эры), над входом в Академию Платона висела массивная доска с надписью. Надпись гласила: «Не геометр да не войдет!»[16]. Поскольку с основания Академии до первого описания ее девиза прошло не меньше 800 лет, нет никакой уверенности, что надпись вообще существовала. Однако не приходится сомневаться, что выраженная в этом требовании идея отражает личное мнение Платона. В одном из своих знаменитых диалогов «Горгий» Платон пишет: «… Как много значит и меж богов, и меж людей равенство, – я имею в виду геометрическое равенство» (пер. С. Маркиша).
«Студенты» Академии по большей части сами себя обеспечивали, и некоторые, в том числе, например, великий Аристотель, оставались там лет по двадцать. Платон считал, что такое длительное общение творческих умов – лучшее средство для порождения новых идей в самых разных сферах, от отвлеченной метафизики и математики до этики и политики. Чистота помыслов и божественная возвышенность учеников Платона прекрасно отражены на картине «Школа Платона» бельгийского художника-символиста Жана Дельвиля (1867–1953). Чтобы подчеркнуть духовное совершенство учеников, Дельвиль изобразил их обнаженными, с андрогинными телами, поскольку именно таковы должны были быть первые люди.
Когда я узнал, что археологи не смогли найти никаких следов Академии Платона, то очень огорчился[17]. Летом 2007 года я побывал в Греции и решил найти какой-нибудь заменитель. Платон упоминает, что его излюбленным местом для бесед с друзьями была Стоя Зевса (крытая галерея, выстроенная в V веке до н. э.). Я нашел развалины этой стои в северо-западной части древней афинской агоры, которая была центром общественной жизни города (рис. 8). Признаться, даже при сорокапятиградусной жаре меня пробрал холодок, когда я шагнул на те же каменные плиты, где сотни и даже тысячи раз ступала нога этого великого человека.

Рис. 8
Легендарная надпись над входом в Академию прямо и недвусмысленно говорит об отношении Платона к математике. Более того, львиная доля значительных математических исследований, которые велись в IV веке до н. э., были так или иначе связаны с Академией. Однако сам Платон не обладал ни математическими талантами, ни какими-либо существенными инженерными задатками, и непосредственный его вклад в развитие математических наук был, пожалуй, совсем невелик. Платон был скорее восторженным зрителем, вдохновителем и руководителем, поставщиком интересных задач и образованным критиком. Философ и историк Филодем, живший в I веке, рисует ясную картину: «В то время математика стремительно двигалась вперед, причем Платон, словно главный зодчий, ставил задачи, а математики усердно исследовали их» (см. Cherniss 1945, Mekler 1902). А математик и философ-неоплатоник Прокл добавляет: «…И геометрия, равно как и прочие математические науки, получила его [Платона] стараниями величайшее развитие: известно, сколь часто он использует в своих сочинениях математические рассуждения и повсюду пробуждает ими восторг в преданных философии» (Cherniss 1945, Proclus ca. 450). Иначе говоря, Платон, чьи познания в математике были достаточно широкими для своего времени, беседовал с математиками на равных и ставил им задачи, хотя его личные заслуги в развитии математики были незначительны.
Еще один яркий пример любви Платона к математике мы находим в его, пожалуй, лучшей книге – «Государство», где этика, эстетика, политика и метафизика сведены в единую систему головокружительной красоты. Главный герой «Государства» – Сократ, однако в книге VII именно Платон предлагает смелый план воспитания и образования будущих правителей утопических государств. Это строгая, пусть и несколько идеализированная программа предполагает обучение с самых ранних лет посредством игр, путешествий и физических упражнений. Затем подающих надежды детей отбирают и не менее десяти лет учат математике и пять лет – диалектике, после чего они в течение пятнадцати лет набираются практического опыта, то есть служат военачальниками и предаются другим занятиям, подобающим молодежи. Платон подробно объясняет, почему он считает, что именно так следует воспитывать и обучать будущих политиков (Plato ca. 360 ВС.).
Однако не следует, чтобы к власти приходили те, кто прямо-таки в нее влюблен. А то с ними будут сражаться соперники в этой любви… Кого же иного заставишь ты встать на страже государства, как не тех, кто вполне сведущ в деле наилучшего государственного правления, а вместе с тем имеет и другие достоинства и ведет жизнь более добродетельную, чем ведут государственные деятели? (Здесь и далее пер. А. Егунова.)
Освежает, правда? По правде говоря, такая строгая и трудоемкая программа обучения во времена Платона была, пожалуй, неосуществима, однако Джордж Вашингтон тоже считал, что будущих политиков хорошо бы обучать математике и философии.
Мало того, что без науки о числах в той или иной степени невозможно сделать ни шагу в цивилизованной жизни, – исследование математических истин приучает ум к методу и точности выводов; подобное занятие весьма подобает существу разумному. Когда бытие затуманено и растерянному исследователю столь многое представляется неясным – именно тогда находит себе опору дар рационального мышления. С прочной позиции математического и философского доказательства мы незаметно переходим к куда более благородным умозаключениям и тонким раздумьям (Washington 1788).
Что же касается вопроса о природе математики, Платон-философ сыграл здесь даже более важную роль, чем Платон-математик. Здесь его идеи, оставившие ярчайший след, не просто ставят его выше всех математиков и философов его поколения, но и делают самой влиятельной фигурой последующих тысячелетий.
Представление Платона о том, что такое на самом деле математика, имеет прямое отношение к его знаменитой «аллегории Пещеры». Платон подчеркивает, как опасно доверять сведениям, полученным посредством органов чувств человека. Он утверждает, что то, что мы воспринимаем как реальный мир, на самом деле не более реально, чем тени, отбрасываемые на стены пещеры[18]. Приведу этот примечательный отрывок из «Государства».
…Посмотри-ка: ведь люди как бы находятся в подземном жилище наподобие пещеры, где во всю ее длину тянется широкий просвет. С малых лет у них там на ногах и на шее оковы, так что людям не двинуться с места, и видят они только то, что у них прямо перед глазами, ибо повернуть голову они не могут из-за этих оков. Люди обращены спиной к свету, исходящему от огня, который горит далеко в вышине, а между огнем и узниками проходит верхняя дорога, огражденная – глянь-ка – невысокой стеной вроде той ширмы, за которой фокусники помещают своих помощников, когда поверх ширмы показывают кукол… Так представь же себе и то, что за этой стеной другие люди несут различную утварь, держа ее так, что она видна поверх стены; проносят они и статуи, и всяческие изображения живых существ, сделанные из камня и дерева… Разве ты думаешь, что, находясь в таком положении, люди что-нибудь видят, свое ли или чужое, кроме теней, отбрасываемых огнем на расположенную перед ними стену пещеры?
Согласно Платону, все мы – все человечество – не слишком отличаемся от этих узников в пещере, которые принимают тени за реальность (на рис. 9 приведена гравюра Яна Санредама, иллюстрирующая эту аллегорию (1604)). В частности, подчеркивает Платон, математические истины относятся не к окружностям, треугольникам и квадратам, которые можно нарисовать на клочке папируса или начертить палочкой на песке, а к абстрактным объектам, которые пребывают в идеальном мире – вместилище подлинных форм и совершенств. Этот платоновский мир математических понятий отделен от мира физического, и именно там, в этом первом мире, верны математические суждения наподобие теоремы Пифагора. Прямоугольный треугольник, который мы чертим на бумаге, лишь несовершенная копия, приближение к истинному, абстрактному треугольнику.
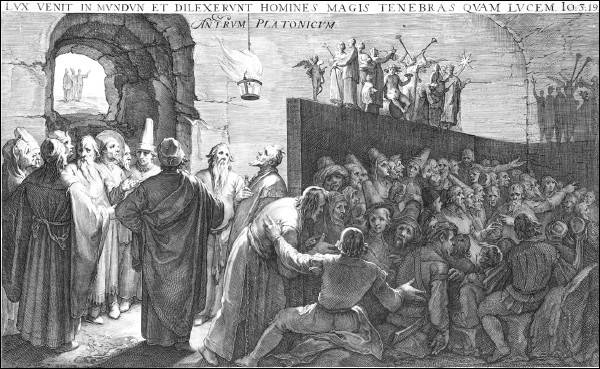
Рис. 9
Другая фундаментальная проблема, которую Платон подробно исследовал, – это природа математического доказательства как процесса, основанного на аксиомах и постулатах. Аксиомы – это основополагающие утверждения, истинность которых считается самоочевидной. Например, первая аксиома евклидовой геометрии гласит: «Между любыми двумя точками можно провести прямую». В «Государстве» Платон прекрасно сочетает понятия о постулатах и о мире математических форм.
…Я думаю, ты знаешь, что те, кто занимается геометрией, счетом и тому подобным, предполагают в любом своем исследовании, будто им известно, что такое чет и нечет, фигуры, три вида углов и прочее в том же роде. Это они принимают за исходные положения и не считают нужным отдавать в них отчет ни себе, ни другим, словно это всякому и без того ясно. Исходя из этих положений, они разбирают уже все остальное и последовательно доводят до конца то, что было предметом их рассмотрения… Но ведь когда они вдобавок пользуются чертежами и делают отсюда выводы, их мысль обращена не на чертеж, а на те фигуры, подобием которых он служит. Выводы свои они делают только для четырехугольника самого по себе и его диагонали, а не для той диагонали, которую они начертили. Так и во всем остальном. То же самое относится к произведениям ваяния и живописи: от них может падать тень, и возможны их отражения в воде, но сами они служат лишь образным выражением того, что можно видеть не иначе как мысленным взором (курсив мой. – М. Л.).
Представления Платона заложили основу платонизма – такое название получили его идеи в философии вообще и в проблеме природы математики в частности[19]. Платонизм в самом широком смысле слова предполагает веру в некие вечные, незыблемые абстрактные объекты, абсолютно независимые от эфемерного мира, которые мы воспринимаем посредством органов чувств. Согласно платонизму, реальное существование математических понятий – столь же объективный факт, сколь и существование самой Вселенной. Существуют не только натуральные числа, окружности и квадраты, но и мнимые числа, функции, фракталы, неевклидовы геометрии, бесконечные множества, а также самые разные теоремы, которые их описывают. Короче говоря, каждое математическое понятие или «объективно истинное» суждение (подробнее об этом чуть позже), когда бы то ни было сформулированные или возникшие в чьем-то воображении, и бесконечное количество понятий и утверждений, еще не открытых, – все это абсолютные сущности, или универсалии, которые нельзя ни создать, ни уничтожить. Они существуют независимо от наших знаний о них. Нет нужды говорить, что это не физические объекты, они обитают в автономном мире вечных сущностей. Математики для платонизма – исследователи неведомых земель, они могут лишь открыть математические истины, но не изобрести их. Америка существовала задолго до того, как ее открыл Колумб (или Лейф Эриксон), – так и математические теоремы существовали в платоновском мире задолго до того, как вавилоняне приступили к математическим изысканиям. Для Платона подлинно, в полной мере существуют лишь эти абстрактные математические формы и идеи, поскольку лишь в математике, по его мнению, можно обрести совершенно точные и объективные познания. Следовательно, по Платону, математика тесно связана с божественным (подробнее об этом см. Mueller 2005). В диалоге «Тимей» бог-творец формирует мир при помощи математики, а в «Государстве» знание математики становится главным шагом на пути к познанию божественных форм. Платон не применяет математику для формулировки некоторых законов природы, которые можно проверить экспериментально. Для него математический характер мира – всего лишь следствие того, что «Бог всегда остается геометром».
Платон распространил идеи «истинных форм» и на другие дисциплины, в особенности на астрономию. Он считал, что при изучении подлинной астрономии «мы должны оставить небеса в покое»[20] и не пытаться рассчитывать взаимное положение и видимое движение звезд. Платон полагал, что истинная астрономия – это наука, изучающая законы движения в некоем идеальном математическом мире, движения, для которого наблюдаемые небеса – лишь иллюстрация (в том же смысле, в каком геометрические фигуры, начерченные на папирусе, лишь иллюстрируют истинные фигуры).
Представления Платона об астрономических исследованиях казались противоречивыми даже некоторым самым убежденным платоникам. Сторонники его идей утверждали, что на самом деле Платон считает не что подлинная астрономия должна заниматься какими-то идеальными небесами, не имеющими отношения к наблюдаемым, но что ее задача – изучать реальное движение небесных тел, а не искаженное, какое мы наблюдаем с Земли. Однако многие мыслители указывают, что, если понимать максиму Платона слишком буквально, это сильно затруднило бы развитие наблюдательной астрономии как науки. Впрочем, как бы мы ни толковали отношение Платона к астрономии, во всем, что касается основ математики, платонизм играет ведущую роль.
Но существует ли платоновский мир математики на самом деле? И если да, то, собственно, где? И что это за «объективно истинные» утверждения, которые населяют этот мир? Или же математики, которые придерживаются платонизма, просто выражают те же романтические представления, каких, как говорят, придерживался великий художник Возрождения Микеланджело? Согласно легенде, Микеланджело был убежден, что его великолепные скульптуры уже существуют в глубине мраморных глыб, а его задача – лишь стесать все лишнее.
Современные платоники (да-да, они есть, и их представления мы подробно опишем в следующих главах) настаивают, что платоновский мир математических форм совершенно реален, и предлагают конкретные, по их мнению, примеры объективно истинных математических утверждений, которые обитают в этом мире.
Рассмотрим следующее простое и понятное утверждение. Каждое четное целое число больше двух можно представить в виде суммы двух простых чисел (делящихся только на себя и единицу). Это несложное на первый взгляд утверждение называется проблемой Гольдбаха, поскольку именно в такой формулировке обнаружено в письме прусского математика-любителя Кристиана Гольдбаха (1690–1764) Леонарду Эйлеру от 7 июня 1742 года. Убедиться в верности этого утверждения для первых нескольких четных чисел совсем не трудно: 4 = 2 + 2; 6 = 3 + 3; 8 = 3 + 5; 10 = 3 + 7 (или 5 + 5); 12 = 5 + 7; 14 = 3 + 11 (или 7 + 7); 16 = 5 + 11 (или 3 + 13) и так далее. Утверждение это до того просто, что британский математик Г. Г. Харди объявил, что «любой дурак мог бы догадаться». Более того, французский математик и философ Рене Декарт высказал это предположение еще до Гольдбаха. Однако выяснилось, что сформулировать проблему легко, а вот доказать – совсем другое дело. В 1966 году китайский математик Чэнь Цзинжунь сделал существенный шаг по пути к доказательству. Он сумел показать, что всякое достаточно большое четное число представляет собой сумму двух чисел, одно из которых простое, а второе имеет не более двух простых делителей. К концу 2005 года португальский ученый Томаш Оливейра э Сильва показал, что это утверждение верно для чисел, не превышающих 3 × 1017 (до трехсот тысяч триллионов). И все же, несмотря на колоссальные усилия многих талантливых математиков, на сегодняшний день, когда я пишу эти строки, общее доказательство так и не удалось найти. К желаемому результату не привел даже дополнительный стимул в виде миллиона долларов, которые предложили в виде награды всякому, кто найдет доказательство в срок с 20 марта 2000 года по 20 марта 2002 года (в рамках рекламной кампании романа А. К. Доксиадиса «Дядюшка Петрос и проблема Гольдбаха» [Doxiadis 2000]).
Тут-то перед нами и встает вопрос о значении «объективной истины» в математике. Предположим, что в 2016 году все же будет представлено строгое доказательство проблемы Гольдбаха. Можно ли будет тогда сказать, что это утверждение было верным уже тогда, когда о нем задумался Декарт? Многие, наверное, согласятся, что это глупый вопрос. Ясно, что если истинность утверждения доказана, значит, оно всегда было истинным, даже до того, как мы в этом убедились. Или рассмотрим другой невинный на вид пример – гипотезу Каталана (подробнее см. Ribenboim 1994). Числа 8 и 9 – последовательные целые числа, и каждое из них равно степени натурального числа – 8 = 23 и 9 = 32. В 1844 году бельгийский математик Эжен Шарль Каталан (1814–1894) предположил, что среди всех возможных степеней целых чисел лишь одна пара последовательных чисел, за исключением 0 и 1, представляет собой степени других целых чисел, и это 8 и 9. Иными словами, можно хоть всю жизнь записывать все целые степени, однако не найдешь другой пары таких чисел, которые различаются на 1. На самом деле, еще в 1342 году франко-еврейский философ и математик Леви бен Гершом (1288–1344) доказал малую часть этой гипотезы: он показал, что 8 и 9 – это единственные степени 2 и 3, которые различаются на 1. Большой шаг вперед был сделан математиком Робертом Тейдеманом в 1976 году. И все же доказательство гипотезы Каталана в общем виде ставило в тупик лучшие математические умы вот уже более 150 лет. Но вот наконец 18 апреля 2002 года румынский математик Преда Михайлеску представил полное доказательство гипотезы. Оно было опубликовано в 2004 году и на сегодня полностью принято математическим сообществом. И снова можно задаться вопросом: когда гипотеза Каталана стала истинной: в 1342 году? В 1844? В 1976? В 2002? В 2004? Разве не очевидно, что это утверждение всегда было истинным, хотя мы не знали, что оно истинно? Именно такого рода утверждения платоники и называют «объективными истинами».
Некоторые математики, философы, специалисты по когнитивной психологии и другие «потребители» математики, например программисты, считают платоновский мир плодом воображения чересчур мечтательных умов (такую точку зрения и другие догмы мы еще обсудим подробнее на страницах этой книги, в главе 9). Более того, в 1940 году знаменитый историк математики Эрик Темпл Белл (1883–1960) сделал вот какое предсказание (Bell 1940).
Согласно пророкам, последний приверженец платоновских идеалов разделит участь динозавров к 2000 году. И тогда к математике, лишившейся мифического покрова этернализма, будут относиться именно как к той науке, какой она была всегда, – к языку, изобретенному людьми с определенной целью, которую они сами себе поставили. Последний храм абсолютной истины исчезнет, а вместе с ним исчезнет и ничто, которое в нем свято оберегали.
Предсказание Белла не сбылось. Хотя в науке и появились догмы, диаметрально противоположные платонизму (правда, противоположные, если можно так выразиться, с разных сторон), им не удалось полностью завоевать умы (и сердца!) всех математиков и философов, и раскол между ними в наши дни остался прежним.
Однако давайте предположим, что в один прекрасный день платонизм победил, и все мы стали убежденными платониками. Объясняет ли платонизм «непостижимую эффективность» математики при описании нашего мира? Не совсем. Почему физическая реальность ведет себя в соответствии с законами, обретающимися в абстрактном платоновском мире? Ведь в этом, в сущности, и состоит одна из загадок Пенроуза, а Пенроуз – убежденный платоник. Так что пока придется нам смириться с фактом, что даже если бы все мы стали сторонниками платонизма, тайна могущества математики осталась бы тайной. По словам Вигнера: «Невольно создается впечатление, что чудо, с которым мы сталкиваемся здесь, не менее удивительно, чем чудо, состоящее в способности человеческого разума нанизывать один за другим тысячи аргументов, не впадая при этом в противоречие».
Чтобы вполне оценить масштабы этого чуда, нам придется углубиться в жизнь и наследие самих чудотворцев – блистательных умов, которым мы обязаны открытием множества неимоверно точных математических законов природы.
Волшебники: наставник и еретик
Наука, в отличие от десяти заповедей, попала в руки человечества не в виде надписей на внушительных каменных скрижалях. История науки – это история взлетов и падений многочисленных теорий, умозаключений и моделей. Многие идеи, на вид весьма многообещающие, оказались фальстартами или вели в тупик. Многие теории, казавшиеся в свое время незыблемыми, впоследствии разваливались, не пройдя суровых испытаний дальнейших экспериментов и наблюдений, и оказывались забыты навеки. Даже незаурядный ум авторов некоторых концепций не гарантировал, что эти концепции не будут смещены со сцены. Например, великий Аристотель был убежден, что камни, яблоки и прочие тяжелые предметы падают вниз, поскольку ищут свое естественное место, а оно – в центре Земли. Когда эти тела приближаются к Земле, утверждал Аристотель, они ускоряются, поскольку рады вернуться домой. А вот воздух (и огонь) поднимаются вверх, поскольку естественное место воздуха – в небесных сферах. Каждому предмету приписывалась своя природа на основании того, к какой стихии, как считалось, они ближе всего – к земле, огню, воде или воздуху. Как говорил сам Аристотель (Aristotle ca. 330 BCa, b; см. также Koyré 1978).
Из существующих [предметов] одни существуют по природе, другие – в силу иных причин. … Простые тела, как-то: земля, огонь, воздух, вода – эти и подобные им, говорим мы, существуют по природе. Все упомянутое очевидно отличается от того, что образовано не природой: ведь все существующее по природе имеет в самом себе начало движения и покоя… … Природа есть некое начало и причина движения и покоя для того, чему она присуща первично, сама по себе… Согласно с природой [ведут себя] и эти [предметы], и все, что присуще им само по себе, например огню нестись вверх… (Пер. В. Карпова.)
Аристотель даже попытался сформулировать количественный закон движения. Он утверждал, что чем тяжелее предмет, тем быстрее он падает, причем его скорость прямо пропорциональна весу (то есть предмет вдвое тяжелее и падать будет со вдвое большей скоростью). Хотя житейский опыт и показывал, что это вполне разумно – ведь и правда кирпич ударяется о пол раньше, чем перышко, если бросить их с одной высоты, – однако Аристотель так и не подверг свое количественное утверждение более тщательной проверке. То ли ему это не приходило в голову, то ли он не считал необходимым проверить, действительно ли два кирпича, связанные вместе, падают вдвое быстрее, чем один кирпич. Галилео Галилей (1564–1642) придавал гораздо больше значения математике и эксперименту, а благополучие падающих яблок и кирпичей не слишком его заботило, и он первым заметил, что Аристотель глубоко заблуждался. При помощи хитроумного мысленного эксперимента Галилею удалось показать, что закон Аристотеля не имеет никакого смысла, поскольку логически непоследователен (Galileo 1589–92). Рассуждал Галилей следующим образом. Предположим, мы свяжем вместе два предмета, один легче, другой тяжелее. С какой скоростью упадет получившийся составной предмет по сравнению с двумя предметами, из которых он состоит? С одной стороны, согласно закону Аристотеля, можно сделать вывод, что упадет он с какой-то средней скоростью, поскольку более легкий предмет задержит падение более тяжелого. С другой, если учесть, что составной предмет на самом деле тяжелее каждой из своих частей, падать он должен даже быстрее, чем более тяжелый из двух компонентов, а это приводит к очевидному противоречию. Перо на Земле падает медленнее кирпича по одной простой причине – из-за сопротивления воздуха: если бы перо и кирпич падали с одной и той же высоты в вакууме, то коснулись бы пола одновременно. Это показали самые разные эксперименты, самый зрелищный из которых провел Дэвид Рэндольф Скотт, астронавт с «Аполлона-15» и седьмой человек, чья нога ступала на Луну: он одновременно выпустил из одной руки молоток, а из другой перо. Поскольку никакой существенной атмосферы у Луны нет, молоток и перо коснулись поверхности одновременно.
Но самое удивительное в ошибочном законе Аристотеля не то, что он неправильный, а то, что в нем за две тысячи лет никто не усомнился. Как удалось очевидно неверной идее достичь такого примечательного долголетия? Перед нами пример «идеального шторма» – уникального стечения неблагоприятных обстоятельств: совокупное действие трех сил обеспечило создание незыблемой догмы. Во-первых, налицо простой факт: в отсутствие точных средств измерения закон Аристотеля вроде бы соответствует жизненному опыту: листы папируса и правда парили в воздухе, а куски свинца – нет. Нужен был гений Галилея, чтобы заявить, что жизненный опыт и здравый смысл могут наталкивать на неверные выводы. Во-вторых, надо учесть, каким колоссальным весом обладала практически непревзойденная репутация и авторитет Аристотеля как ученого. Ведь именно он и не кто иной заложил основы западной интеллектуальной культуры. Аристотель буквально сказал все обо всем – будь то исследование всех природных явлений или фундамент этики, метафизики, политики и искусства. Мало того – Аристотель в некотором смысле научил нас, как именно следует думать, поскольку первым начал исследовать формальную логику. Сегодня с революционной и, можно сказать, совершенной системой логических выводов – силлогизмов – Аристотеля знаком, наверное, каждый школьник.
1. Всякий грек – человек.
2. Всякий человек смертен.
3. Следовательно, всякий грек смертен.
(Подробнее о таких логических конструкциях мы поговорим в главе 7.)
Третья причина невероятной жизнестойкости ошибочной теории Аристотеля заключается в том, что христианская церковь включила ее в свою систему догматов. А это надежно защищало предположения Аристотеля от любых попыток их оспорить.
Несмотря на значительный вклад в систематизацию дедуктивной логики, Аристотеля чтят не за достижения в математике. Пожалуй, достойно удивления, что человек, который, в сущности, основал науку, поскольку догадался, что к ней нужен систематический подход, так мало думал о математике (гораздо меньше Платона) и был настолько не силен в физике. Хотя Аристотель признавал важность численных и геометрических соотношений в науках, математику он по-прежнему считал абстрактной дисциплиной, никак не связанной с физической реальностью. Следовательно, хотя интеллектуальная мощь Аристотеля не подлежит сомнению, в мой список «математиков-волшебников» он не входит.
«Волшебниками» я буду называть тех уникумов, которые способны вытаскивать кроликов из буквально пустых шляп, тех, кто открыл связи между математикой и природой, которые раньше никому не приходили в голову, тех, кто способен наблюдать сложные природные феномены и вычленять из них кристально чистые математические законы. В иных случаях эти мыслители высшего порядка продвигали математику вперед даже благодаря своим наблюдениям и экспериментам. Вопрос о непостижимой эффективности математики при объяснении природных явлений и не возник бы, если бы не подобные волшебники. Загадка могущества математики прямо и непосредственно порождена чудесными озарениями этих исследователей.
Чтобы воздать должное всем великолепным физикам и математикам, благодаря которым сформировалась наша картина мироздания, одной книги не хватит. В этой и следующей главе я расскажу лишь о четырех титанах минувших веков – о научных звездах самой что ни на есть первой величины, которых без малейших сомнений можно назвать волшебниками. Первый волшебник в моем списке запомнился человечеству довольно странным поступком: он пробежал по улицам родного города в чем мать родила.
Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю
Когда историк математики Эрик Темпл Белл был вынужден принять решение, кого включить в число трех своих любимых математиков, то пришел к следующему выводу.
В любой список трех «величайших» математиков в истории обязательно вошел бы Архимед. Остальные два имени, которые обычно ставят в один ряд с Архимедом, – это Ньютон (1642–1727) и Гаусс (1777–1855). Если же принять в расчет относительное богатство – или бедность – математики и естествознания в соответствующие исторические периоды, когда жили эти титаны, и оценить их достижения в контексте того времени, многие, пожалуй, отдадут пальму первенства Архимеду.
Архимед (287–212 гг. до н. э.; на рис. 10 приведен бюст, который считают портретом Архимеда, но на самом деле это, вероятно, бюст какого-то спартанского царя) и в самом деле был Ньютоном и Гауссом своего времени – и отличался таким блестящим умом, живым воображением и поразительной интуицией, что и современники, и последующие поколения произносили его имя с почтением и благоговением. И хотя Архимед больше известен инженерными изобретениями, прежде всего он был математиком, и как математик он опередил свое время на века. К сожалению, о детстве и юности Архимеда и о его семье нам почти ничего не известно. Первую его биографию написал некто Гераклид, до нас она не дошла, и то немногое, что нам известно о его жизни и гибели, восходит к сочинениям римского историка Плутарха[21]. А Плутарх (ок. 46–120) больше интересовался победами римского военачальника Марцелла, который в 212 году до н. э. завоевал город Сиракузы, где жил Архимед (Plutarch ок. 75). К счастью для истории математики, Архимед во время осады Сиракуз доставил Марцеллу столько хлопот, что три величайших историка того времени – Плутарх, Полибий и Тит Ливий – не могли его не упомянуть.
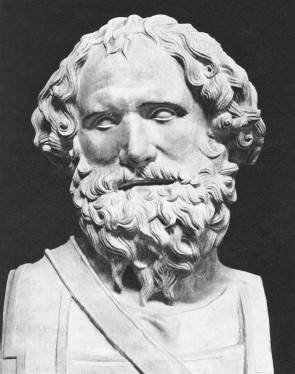
Рис. 10
Архимед родился в Сиракузах – в то время это была греческая колония на Сицилии[22]. По его собственным словам, он был сын астронома Фидия, о котором почти ничего не известно, кроме того, что он оценил соотношение диаметров Солнца и Луны. Вероятно, Архимед был в каком-то родстве и с царем Гиероном II, который и сам был незаконнорожденным сыном одного аристократа (от рабыни-наложницы). Какие бы узы ни связывали Архимеда с царским родом, и сам Гиерон, и его сын Гелон относились к ученому с большим уважением. В юности Архимед прожил некоторое время в Александрии (свидетельства об этом обсуждаются в Dijksterhuis 1957), где изучал математику, а затем вернулся в Сиракузы и посвятил свою жизнь научным изысканиям в разных областях знания.
Архимед был математиком из математиков. Согласно Плутарху, он, «считая сооружение машин и вообще всякое искусство, сопричастное повседневным нуждам, низменным и грубым, все свое рвение обратил на такие занятия, в которых красота и совершенство пребывают не смешанными с потребностями жизни» (здесь и далее пер. С. Маркиша). Увлечение абстрактной математикой и поглощенность ею выходили далеко за рамки восторга, с которым относились к этой науке другие ученые. Вернемся к Плутарху.
И нельзя не верить рассказам, будто он был тайно очарован некоей сиреной, не покидавшей его ни на миг, а потому забывал о пище и об уходе за телом, и его нередко силой приходилось тащить мыться и умащаться, но и в бане он продолжал чертить геометрические фигуры на золе очага и даже на собственном теле, натертом маслом, проводил пальцем какие-то линии – поистине вдохновленный Музами, весь во власти великого наслаждения.
При всем презрении к прикладной математике и пренебрежении, с каким сам Архимед относился к собственным инженерным идеям, поразительные изобретения стяжали ему даже большую славу, чем математический гений.
Самая известная легенда об Архимеде лишь дополняет образ типичного рассеянного математика. Эту забавную историю первым рассказал римский архитектор Витрувий в I веке до н. э. Царь Гиерон пожелал посвятить бессмертным богам золотой венец. Когда венец доставили царю, вес его равнялся весу золота, выделенного на его создание. Тем не менее царь заподозрил, что некоторое количество золота заменили серебром того же веса. Поскольку сам он не мог обосновать свои подозрения, то обратился за советом к великому математику Архимеду. Легенда гласит, что в один прекрасный день Архимед улегся в ванну, поглощенный размышлениями, как же разоблачить мошенничество с венцом. И вот, погрузившись в воду, он вдруг понял, что его тело вытесняет определенный объем воды – вода выплеснулась за край ванны. И у него мгновенно созрело решение[23]. Архимед вне себя от радости выскочил из ванны и нагим пробежал по улицам города с криком: «Эврика, эврика!» («Я нашел, я нашел!»)
Другое известное высказывание Архимеда – «Дайте мне точку опоры, и я сдвину Землю» – в наши дни в той или иной форме цитируется более чем на 150 000 веб-страниц, согласно поисковику «Google». Это смелое заявление, похожее на девиз крупной корпорации, приводили и Томас Джефферсон, и Марк Твен, и Джон Кеннеди, оно встречается даже в поэме лорда Байрона[24]. Архимед много занимался исследованием задачи о перемещении тела заданного веса с помощью заданной силы, и его крылатая фраза, очевидно, знаменует кульминацию этих изысканий. Плутарх рассказывает, что царь Гиерон потребовал, чтобы Архимед продемонстрировал свою способность манипулировать тяжелым грузом при помощи малой силы, и тогда Архимед, задействовав составной блок, спустил на воду судно с полным грузом. Плутарх восхищенно добавляет, что корабль шел «так медленно и ровно, точно… плыл по морю». Эту же легенду с незначительными вариациями мы встречаем и в других источниках. Конечно, Архимед едва ли сумел и в самом деле передвинуть целый корабль при помощи доступных в то время механических устройств, однако легенды не оставляют места для сомнений, что ученый и вправду устроил эффектную демонстрацию какого-то изобретения, позволявшего перемещать тяжелые грузы.
Архимеду принадлежит множество других мирных изобретений – например, гидравлический винт для подъема воды и планетарий, где показывалось движение небесных тел, – однако в древности он больше всего славился своей ролью в обороне Сиракуз от римских завоевателей.
Историки всегда любили войны. Именно поэтому события, связанные с осадой Сиракуз римскими войсками в 214–212 гг. до н. э. подробнейшим образом описаны в трудах целого ряда историков. Римский военачальник Марк Клавдий Марцелл (ок. 268–208 гг. до н. э.), к тому времени стяжавший себе изрядную славу, предвкушал скорую победу. Однако он, очевидно, не принял в расчет упрямства царя Гиерона, которому к тому же помогал гений математики и инженерного дела. Плутарх живо и ярко описывает, какой хаос посеяли в рядах римских воинов боевые машины Архимеда.
Но тут Архимед пустил в ход свои машины, и в неприятеля, наступающего с суши, понеслись всевозможных размеров стрелы и огромные каменные глыбы, летевшие с невероятным шумом и чудовищной скоростью, – они сокрушали всё и всех на своем пути и приводили в расстройство боевые ряды, – а на вражеские суда вдруг стали опускаться укрепленные на стенах брусья и либо топили их силою толчка, либо, схватив железными руками или клювами вроде журавлиных, вытаскивали носом вверх из воды, а потом, кормою вперед, пускали ко дну либо, наконец, приведенные в круговое движение скрытыми внутри оттяжными канатами, увлекали за собою корабль и, раскрутив его, швыряли на скалы и утесы у подножия стены, а моряки погибали мучительной смертью. Нередко взору открывалось ужасное зрелище: поднятый высоко над морем корабль раскачивался в разные стороны до тех пор, пока все до последнего человека не оказывались сброшенными за борт или разнесенными в клочья, а опустевшее судно разбивалось о стену или снова падало на воду, когда железные челюсти разжимались.
Архимедовы изобретения вселяли такой ужас, что «римляне… едва заметив на стене веревку или кусок дерева… поднимают отчаянный крик и пускаются наутек в полной уверенности, будто Архимед наводит на них какую-то машину». Эти механизмы произвели сильнейшее впечатление и на самого Марцелла, который сказал своим военным инженерам: «Не довольно ли нам воевать с этим Бриареем [сторуким великаном, сыном Урана и Геи] от геометрии, который вычерпывает из моря наши суда, а потом с позором швыряет их прочь и превзошел сказочных сторуких великанов – столько снарядов он в нас мечет!»
Согласно другой популярной легенде, которая впервые изложена в трудах великого греческого врача Галена (ок. 129–200), Архимед при помощи системы зеркал фокусировал солнечные лучи и жег римские корабли.[25]

Рис. 11
Эту фантастическую историю пересказывают и византийский зодчий VI века Анфимий из Тралл, и сразу несколько историков XII века, хотя неясно, возможно ли такое на практике. И все же собрание полулегенд-полусказок об Архимеде дает нам достаточно свидетельств того, с каким благоговением к этому «мудрецу» относились поколения потомков.
Как я уже отмечал, сам Архимед, высокочтимый «Бриарей от геометрии», не слишком ценил свои военные игрушки и в основном считал их отступлениями от главного – геометрической науки. К несчастью, эта надменность в конце концов стоила Архимеду жизни. Когда римляне все же захватили Сиракузы, Архимед был так поглощен геометрическими чертежами на подносе с песком, что даже не заметил, что кругом кипит бой. Согласно некоторым историкам, когда римский воин приказал Архимеду следовать за ним к Марцеллу, старый геометр возмущенно ответил: «Не трогай мои чертежи!» Этот ответ привел воина в такую ярость, что он нарушил приказ командира, выхватил меч и убил величайшего математика древности[26]. На рис. 11 приведена сделанная в XVIII веке предполагаемая репродукция мозаики, обнаруженной в Геркулануме, на которой запечатлены последние мгновения жизни «наставника».
Гибель Архимеда в некотором смысле знаменовала конец необычайно плодотворной эпохи в истории математики. Вот что отметил английский математик и философ Альфред Норт Уайтхед.
Гибель Архимеда от рук римского солдата – это символ перемен первой величины в масштабе всего мира. Римляне – великий народ, однако их проклятием стала выхолощенность, прислужница практичности. Они не были мечтателями – и не могли потому встать на иную точку зрения, что могло бы дать им более фундаментальную власть над силами природы. Ни один римлянин не поплатился жизнью за то, что был поглощен созерцанием математического чертежа.
К счастью, несмотря на скудость сведений о жизни Архимеда, до нас дошли многие (правда, не все) его поразительные сочинения. Архимед имел обыкновение писать о своих математических открытиях в письмах нескольким друзьям-математикам или уважаемым людям. В список его корреспондентов, помимо всех прочих, входили и астроном Конон Самосский, математик Эратосфен Киренский и царевич Гелон. После смерти Конона Архимед послал несколько писем его ученику Досифею Пелузийскому. Труды Архимеда касаются самых разных вопросов математики и физики[27]. Вот лишь немногие из его великих достижений. Он разработал общий метод вычисления площадей самых разных плоских фигур и объема пространств, ограниченных самыми разными кривыми поверхностями. В их число входили площадь круга, сегментов параболы и спирали и объемы сегментов цилиндров, конусов и других тел, полученных путем вращения парабол, эллипсов и гипербол. Он доказал, что число p, отношение длины окружности к ее диаметру, должно быть больше 310/71 и меньше 31/7. В те времена, когда еще не существовало методов описания очень больших чисел, Архимед изобрел систему, позволявшую не просто записывать числа любой величины, но и манипулировать ими. В физике Архимед открыл законы, управляющие плаванием тел, таким образом заложив основы современной гидростатики. Кроме того, он определил центры тяжести многих объемных тел и сформулировал законы механики рычагов. Архимед проводил астрономические наблюдения, чтобы определять продолжительность года и расстояния до планет.
Оригинальность мышления и внимание к мелочам характерны для трудов многих греческих математиков. И, тем не менее, методы рассуждений и поиска решения, которые разработал Архимед, выделяют его из рядов всех ученых того времени. Приведу лишь три показательных примера, дающие возможность оценить масштабы изобретательности Архимеда. Один на первый взгляд кажется всего лишь забавным курьезом, однако при более пристальном рассмотрении показывает всю глубину пытливого ума Архимеда. Остальные два примера показывают, насколько методы Архимеда опережали время – вот почему я считаю, что именно они возвышают Архимеда до положения «волшебника».
Судя по всему, Архимед очень увлекался большими числами. Однако очень большие числа неудобно записывать обычным способом, они слишком громоздкие (попробуйте хотя бы выписать чек на 8,4 триллиона долларов, национальный долг США на июнь 2006 года, и втиснуть это число в строчку, выделенную под сумму). Поэтому Архимед разработал систему, позволявшую записывать числа длиной до 80 000 триллионов знаков. Затем он применил эту систему в оригинальном трактате под названием «Псаммит» («Исчисление песчинок»), где доказал, что общее количество песчинок в мире не бесконечно.
Даже введение в трактат столь гениально, что я приведу здесь отрывок из него (все сочинение посвящено Гелону, сыну царя Гиерона II) (Heath 1897).
Государь Гелон!
Есть люди, думающие, что число песчинок бесконечно. Я не говорю о песке в окрестности Сиракуз и других местах Сицилии, но о всем его количестве как в странах населенных, так и необитаемых.
Другие думают, что хотя число это и не бесконечно, но большего представить себе невозможно.
Если бы эти последние вообразили массу песку в объеме земного шара, причем им были бы наполнены все моря и пропасти до вершин высочайших гор, то, конечно, они еще меньше могли бы поверить, что легко назвать число, его превосходящее.
Я, напротив, постараюсь доказать с геометрической точностью, которая убедит тебя, что между числами, упоминаемыми мной в книге, написанной Зевксиппу [к сожалению, она утрачена], есть числа, превышающие число песчинок, которые можно вместить не только в пространстве, равном объему Земли, наполненной указанным выше способом, но и целого мира.
Ты знаешь, что, по представлению некоторых астрономов, мир имеет вид шара, центр которого совпадает с центром Земли, а радиус равен длине прямой, соединяющей центры Земли и Солнца.
Но Аристарх Самосский в своих «Предложениях», написанных им против астрономов, отвергая это представление, приходит к заключению, что мир гораздо больших размеров, чем только что указано.
Он полагает, что неподвижные звезды и солнце не меняют своего места в пространстве, что Земля движется по окружности около Солнца, находящегося в ее центре, и что центр шара неподвижных звезд совпадает с центром Солнца, а размер этого шара таков, что окружность, описываемая, по его предположению, Землей, находится к расстоянию неподвижных звезд в таком же отношении, в каком центр шара находится к его поверхности (здесь и далее пер. Г. Попова).
Из этого введения тут же следует два вывода: (1) Архимед был готов оспорить даже самые популярные представления (вроде бесконечности числа песчинок) и (2) он с уважением относился к гелиоцентрической модели астронома Аристарха (правда, далее в трактате он уточнил одну из гипотез Аристарха). Во Вселенной Аристарха Земля и планеты вращались вокруг неподвижного Солнца, находящегося в ее центре (вспомним, что эту модель предложили за 1800 лет до Коперника!). После этих предварительных замечаний Архимед вплотную приступает к решению задачи о песчинках и делает для этого несколько последовательных логических шагов. Сначала он оценивает, сколько песчинок нужно положить в ряд, чтобы получился диаметр макового зернышка. Затем подсчитывает, сколько нужно маковых зернышек, чтобы выложить отрезок, равный толщине пальца, сколько пальцев составляют стадий (около 178 метров), а затем подсчитывает количество песчинок на десять миллиардов стадиев. По ходу дела Архимед изобретает систему обозначений и индексов, которые в сочетании позволяют ему классифицировать эти исполинские числа. Поскольку Архимед предположил, что сфера неподвижных звезд менее чем в десять миллионов раз больше сферы, в которую вписана орбита Солнца (как она видится с Земли), то обнаружил, что количество песчинок во Вселенной, набитой песком, меньше 1063 (единицы с 63 нулями). В заключение трактата он почтительно обращается к Гелону.
Государь! Сказанное мною покажется, конечно, невероятным многим из тех, кто не изучал математики, но будет достоверно, потому что доказано, для тех, кто ею занимался, если внимательно рассмотреть все сказанное мною о расстояниях и величине Земли, Солнца, Луны и всей Вселенной. Впрочем, я со своей стороны нахожу, что было бы полезно, если бы и другие расследовали этот предмет еще обстоятельнее.
Красота «Исчисления песчинок» заключается в той легкости, с какой Архимед переходит от повседневных предметов (маковых зернышек, песчинок, пальцев) к абстрактным числам и системе математических обозначений – а затем обратно к размерам Солнечной системы и Вселенной в целом. Очевидно, что Архимед обладал столь гибким умом, что безо всяких затруднений применял свою математику для открытия неизвестных свойств Вселенной, а свойства космоса – для развития арифметических концепций.
Вторая причина, по которой Архимед достоин звания волшебника, – метод, при помощи которого он формулировал и доказывал свои выдающиеся геометрические теоремы. До ХХ столетия об этом методе не было известно почти ничего, как и о мыслительном процессе Архимеда в целом. Свои соображения он излагает так сжато, что не оставляет практически никаких зацепок. А затем, в 1906 году, было сделано эпохальное открытие, позволившее разобраться, как был устроен разум этого гения. История открытия так похожа на исторические детективы итальянского писателя Умберто Эко, что я просто обязан вкратце изложить этот сюжет.[28]
В какой-то момент в Х веке (вероятно, в 975 году) некий безымянный писец переписал в Константинополе (ныне Стамбул) три важнейшие работы Архимеда – «Метод механических теорем», «Стомахион» и «О плавающих телах». Вероятно, это был результат общего интереса к греческой математике, который вспыхнул во многом благодаря византийскому ученому Льву Математику, жившему в IX веке. Однако в 1204 году участники Четвертого крестового похода соблазнились обещаниями награды и разграбили Константинополь. В последующие годы страсть к математике угасла, а раскол между западной католической церковью и восточной православной стал окончательным и бесповоротным. В какой-то момент до 1229 года манускрипт с работами Архимеда подвергся катастрофической переработке: рукопись разделили на отдельные листы пергамента и смыли все написанное, чтобы использовать его для христианской литургической книги. Писец по имени Иоанн Мирон завершил работу над литургической книгой 14 апреля 1229 года (Netz and Noel 2007). К счастью, в результате отмывания оригинальный текст не исчез бесследно. На рис. 12 приведена страница из манускрипта: горизонтальные линии – это текст молитв, а еле заметные вертикальные – математические трактаты Архимеда. К XVII веку палимпсест – переписанный документ – попал каким-то образом в Святую Землю, в монастырь Св. Саввы близ Вифлеема. В начале XIX века в библиотеке монастыря хранилось не меньше тысячи манускриптов. И все же по не вполне понятным причинам палимпсест Архимеда вернули в Константинополь. Затем, в 1840-е годы, подворье Иерусалимского храма Гроба Господня в Константинополе посетил знаменитый немецкий библеист Константин Тишендорф (1815–1874), первооткрыватель одного из самых ранних списков Библии, – и увидел там этот палимпсест. Судя по всему, Тишендофу показалось, что еле заметный математический текст представляет определенный интерес, поскольку он оторвал и выкрал один лист манускрипта. В 1879 году наследники Тишендорфа продали эту страницу библиотеке Кембриджского университета.
В 1899 году греческий ученый А. Пападопулос-Керамеус составил каталог всех манускриптов, хранившихся в подворье, и рукопись Архимеда значится в его каталоге как Ms. 355. Пападопулос-Керамеус сумел прочитать несколько строчек математического текста и привел их в каталоге, понимая, вероятно, что это может быть очень важное открытие. Это был поворотный момент в саге о манускрипте. Математический текст в каталоге привлек внимание датского филолога Йохана Людвига Гейберга (1854–1928). Гейберг понял, что текст принадлежит Архимеду, и в 1906 году приехал в Стамбул, изучил и сфотографировал палимпсест, а год спустя объявил о сенсационном открытии: в рукописи содержались два неизвестных ранее трактата Архимеда и один дошедший до нас лишь в латинском переводе. Но хотя Гейберг сумел прочитать и впоследствии опубликовал отрывки из манускрипта в своей книге о трудах Архимеда, остались большие пробелы. К несчастью, в какой-то момент после 1908 года манускрипт исчез из Стамбула при загадочных обстоятельствах – а когда всплыл снова, оказалось, что им владеет некое парижское семейство, которое утверждает, что приобрело его еще в 20-е годы. Палимпсест хранили в неподходящих условиях, и он был местами непоправимо поврежден плесенью, а три страницы, которые ранее перевел Гейберг, и вовсе пропали. Мало того, после 1929 года кто-то нарисовал на четырех страницах четыре миниатюры в византийском стиле. Впоследствии это французское семейство продало манускрипт владельцам аукциона «Кристи». Вопрос о праве собственности на манускрипт разбирался в 1998 году в нью-йоркском суде. Греческий православный патриархат Иерусалима заявил, что рукопись в 20-е годы похитили из одного из его монастырей, однако судья вынесла решение в пользу аукциона «Кристи». Вскоре после этого, 29 октября 1998 года, манускрипт был продан на аукционе «Кристи»; покупатель, пожелавший остаться неизвестным, заплатил за него 2 миллиона долларов. Новый владелец поместил манускрипт в Художественный музей Уолтерса в Балтиморе, где рукопись подвергли интенсивной консервации и тщательному исследованию. В арсенале современных ученых появились инструменты по распознаванию изображений, недоступные исследователям прошлого.

Рис. 12

Рис. 13
Ультрафиолетовый свет, многозональная съемка и даже направленные рентгеновские лучи (ими манускрипт облучали на Стэнфордском линейном ускорителе) уже позволили расшифровать части рукописи, которые раньше были не видны. Сейчас, когда я пишу эти строки, тщательное научное изучение рукописи Архимеда идет полным ходом. Мне выпала честь познакомиться с группой криминалистов, которые изучают палимпсест, и на рис. 13 я стою рядом с экспериментальной установкой, в которой каждую страницу палимпсеста облучают в разных диапазонах.[29]
Драма вокруг палимпсеста по своим масштабам вполне соответствует значению документа, который наконец-то позволил нам изучить научный метод великого геометра.
Когда читаешь любой древнегреческий геометрический трактат, невольно восхищаешься лаконичностью стиля и точностью формулировок и доказательств теорем, которым уже более двух тысяч лет.
Но чего в этих книгах точно не найдешь – это объяснений, каким образом эти теоремы пришли в голову автору. Выдающийся трактат Архимеда «Метод механических теорем» заполняет этот загадочный пробел – там рассказано, как сам Архимед убеждался в истинности некоторых теорем еще до того, как придумывал, как их доказать. Приведу отрывок из его послания математику Эратосфену Киренскому (ок. 276–194 гг. до н. э.) во введении к трактату (Dijksterhuis 1957).
В этой книге я шлю тебе доказательства этих теорем. Поскольку, как я уже упоминал, я знаю, что ты человек усердный, прекрасный учитель философии и очень интересуешься любыми математическими исследованиями, какие только ни попадутся тебе, я решил, что будет полезно описать и передать тебе в этой же книге некий особый метод, который даст тебе возможность ставить определенные математические вопросы при помощи механики (курсив мой. – М. Л.). Я уверен, что этот же метод не менее полезен при поиске доказательств тех же теорем. В некоторых случаях мне сначала становилось понятно, что происходит, благодаря механическому методу, а затем уже это было доказано геометрически, поскольку изучение этих случаев вышеуказанным методом не позволяет вывести настоящее доказательство. Ведь гораздо проще предоставить доказательство, когда мы уже получили определенные знания посредством указанного метода, чем найти его безо всяких знаний.
Архимед затрагивает здесь один из важнейших принципов научного и математического исследования в целом: зачастую гораздо труднее формулировать вопросы и теоремы, которые стоит исследовать, чем искать ответы на известные вопросы и доказательства известных теорем. Так как же Архимед находил новые теоремы? Опираясь на тончайшее понимание механики, равновесия и принципов рычага, он мысленно взвешивал тела и фигуры, чьи площади и объемы пытался найти, и сравнивал их вес с весом уже известных тел и фигур. А когда ему удавалось таким образом найти неизвестную площадь или объем, было уже гораздо легче геометрически доказать истинность ответа. Именно поэтому «Метод» начинается с ряда утверждений относительно центров тяжести и лишь затем переходит к геометрическим предположениям и их доказательствам.
Метод Архимеда не имеет себе равных по двум причинам. Во-первых, Архимед, в сущности, ввел понятие мысленного эксперимента в строгих научных исследованиях. Название этому инструменту, воображаемому опыту, проводимому вместо реального, – Gedankenexperiment, то есть «опыт, производимый в мыслях» (нем.) – дал физик Ханс Кристиан Эрстед, живший в XIX веке. В физике, где эта идея оказалась крайне плодотворной, мысленные эксперименты применяются либо для того, чтобы обеспечить понимание процессов еще до экспериментов реальных, либо в случаях, когда реальные эксперименты невозможны. Во-вторых – и это самое главное – Архимед освободил математику от несколько искусственных ограничений, которые наложили на нее Евклид и Платон. По мнению этих ученых мужей, математикой можно заниматься одним и только одним способом. Надо начинать с аксиом, а затем выстраивать несокрушимую последовательность логических шагов при помощи строго определенных инструментов. Однако вольнолюбивый Архимед решил для постановки и решения новых задач задействовать весь мыслимый арсенал. И не остановился перед тем, чтобы ради развития математики изучать и использовать связи между абстрактными математическими объектами (платоновскими формами) и физической реальностью (реальными телами или плоскими фигурами). И последний пример, подкрепляющий статус Архимеда-волшебника, – его предсказание интегрального и дифференциального исчисления, отрасли математики, которую формально разработал Ньютон (и независимо от него немецкий математик Лейбниц) лишь к концу XVII века[30]
Основная идея процесса интегрирования довольно проста (если ее понятно объяснить, конечно). Предположим, вам нужно найти площадь сегмента эллипса. Можете разделить эту площадь на много маленьких прямоугольничков одинаковой ширины и сложить площади этих прямоугольничков (рис. 14). Очевидно, что чем больше прямоугольничков мы сделаем, тем ближе сумма их площадей будет к истинной площади сегмента. Иначе говоря, на самом деле площадь сегмента равна пределу, к которому стремится сумма прямоугольничков, если их число увеличивается до бесконечности. Поиск этого предела и называется интегрированием. Архимед применял вариант вышеописанного метода для поиска объема и площади поверхности сферы, конуса, эллипсоидов и параболоидов (тел, которые получаются, если вращать эллипсы или параболы вокруг оси).
Среди основных задач дифференциального исчисления – поиск угла наклона касательной к данной кривой в данной точке, то есть той линии, которая касается кривой только в этой точке. Архимед решил эту задачу для частного случая спирали, тем самым предвосхитив далекое будущее – работы Ньютона и Лейбница. Сегодня области дифференциального и интегрального исчисления и их дочерние отрасли закладывают основу большинства математических моделей – будь то физика, инженерное дело, экономика или динамика популяций.
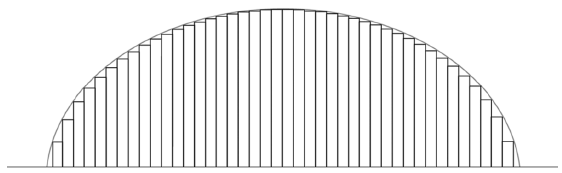
Рис. 14
Архимед изменил мир математики, перевернул представления об отношениях математики с мирозданием. Поскольку у него были как теоретические, так и практические интересы – поразительное сочетание! – он самой своей деятельностью предоставил первые не мифологические, а эмпирические доказательства того, что структура мироздания, очевидно, основана на математике. Идея, что математика – это язык Вселенной, а следовательно, Бог – математик, родилась именно в трудах Архимеда. И все же одного Архимед не сделал – он никогда не говорил об ограниченности применения своих математических моделей в реальных физических обстоятельствах. Например, теоретические рассуждения о рычагах в его трактатах предполагают, что опоры бесконечно твердые, а сами рычаги ничего не весят. Тем самым Архимед в некотором смысле открыл дорогу толкованию математических моделей «с соблюдением внешних приличий». То есть получалось, что математические модели отражают лишь то, что наблюдают люди, а не описывают подлинную физическую реальность. Разницу между математическим моделированием и физическим объяснением применительно к движению небесных тел первым подробно описал греческий математик Гемин (ок. 10 г. до н. э. – 60 г. н. э.) [Heath 1921]. Он провел грань между астрономами (или математиками), которые, по его мнению, лишь предлагали модели, которые повторяли бы наблюдаемое в небесах движение, и физиками, которые должны были искать объяснения реальному движению. Именно этому разграничению предстояло достигнуть пика во времена Галилея, о чем мы еще поговорим в этой главе.
Сам Архимед, как ни странно, считал своим важнейшим достижением открытие, что объем сферы, вписанной в цилиндр (рис. 15), всегда составляет ровно 2/3 объема цилиндра, если его высота равна его диаметру. Архимед так гордился этим результатом, что потребовал, чтобы его высекли на его надгробии (Plutarch ca. 75 AD). Примерно через 137 лет после смерти Архимеда знаменитый римский оратор Марк Туллий Цицерон (ок. 106–43 гг. до н. э.) обнаружил могилу великого математика. Вот как сам Цицерон описывал это событие – довольно трогательно[31]:
Когда я был квестором, я отыскал в Сиракузах его [Архимеда] могилу, со всех сторон заросшую терновником, словно изгородью, потому что сиракузяне совсем забыли о ней, словно ее и нет. Я знал несколько стишков, сочиненных для его надгробного памятника, где упоминается, что на вершине его поставлены шар и цилиндр. И вот, осматривая местность близ Акрагантских ворот, где очень много гробниц и могил, я приметил маленькую колонну, чуть-чуть возвышавшуюся из зарослей, на которой были очертания шара и цилиндра. Тотчас я сказал сиракузянам – со мной были первейшие граждане города, – что этого-то, видимо, я и ищу. Они послали косарей и расчистили место. Когда доступ к нему открылся, мы подошли к основанию памятника. Там была и надпись, но концы ее строчек стерлись от времени почти наполовину. Вот до какой степени славнейший, а некогда и ученейший греческий город позабыл памятник умнейшему из своих граждан: понадобился человек из Арпина, чтобы напомнить о нем (пер. М. Гаспарова).
Описывая величие Архимеда, Цицерон отнюдь не преувеличивал. Более того, я преднамеренно задал такие высокие стандарты для получения титула «волшебника», что для того, чтобы перейти от титана Архимеда к следующему кандидату, мы должны будем перепрыгнуть на целых восемнадцать столетий вперед и лишь тогда найдем фигуру подобной величины. В отличие от Архимеда, который заявил, что сдвинет Землю, этот волшебник утверждал, что Земля уже движется.

Рис. 15
Галилео Галилей (рис. 16) родился в Пизе 15 февраля 1564 года[32]. Его отец Винченцо был музыкантом, а мать Джулия Амманнати отличалась исключительно острым умом, правда, была женщина не очень добрая и не выносила глупости. В 1581 году Галилей по совету отца поступил в Пизанский университет на факультет изящных искусств, чтобы изучать медицину. Однако сразу после поступления интерес к медицине угас, сменившись страстью к математике. Поэтому во время летних каникул в 1583 году Галилей уговорил придворного математика Тосканы Остилио Риччи (1540–1603) побеседовать с его отцом и убедить его, что призвание Галилея – математика. И в ближайшем же будущем вопрос удалось уладить – восторженный юноша был совершенно очарован трудами Архимеда: «Тот, кто прочтет его труды, – писал Галилей, – увидит яснее ясного, насколько все остальные умы проигрывают Архимеду и как мало остается надежды открыть что-то подобное тому, что открыл он»[33].

Рис. 16
В то время Галилей и не подозревал, что и сам обладает редчайшим интеллектом, ничем не уступающим уму его греческого наставника. Вдохновленный легендой об Архимеде и золотом венце, Галилей в 1586 году опубликовал небольшой трактат под названием «La Bilancetta» («Маленькое равновесие») о гидростатических весах собственного изобретения. Впоследствии он воздал дань наследию Архимеда и в литературоведческой лекции, которую прочитал во Флорентийской академии; тема лекции была несколько необычной – местоположение и размеры Дантова ада по данным «Божественной комедии».
В 1589 году Галилей был назначен заведующим кафедрой математики в Пизанском университете, отчасти благодаря настойчивым рекомендациям Христофора Клавия (1538–1612), авторитетного римского астронома и математика, которого Галилей посетил в 1587 году. Звезда молодого математика явно находилась на подъеме. Следующие три года Галилей посвятил изложению своих первых идей о теории движения. Эти сочинения, несомненно, вдохновленные трудами Архимеда, содержат поразительную смесь интересных идей и ошибочных утверждений. Например, Галилею первому пришло в голову, что проверять теории относительно падающих тел можно при помощи наклонной плоскости, которая замедляет движение, – однако он ошибочно утверждает, что если сбросить тело с башни, то «древесина в начале движения падает быстрее свинца»[34]
Направление интересов Галилея и общий ход его мыслительного процесса на этом этапе жизни были несколько неправильно истолкованы его первым биографом Винченцо Вивиани (1622–1703). Вивиани нарисовал популярный образ дотошного упорного экспериментатора, который извлекал новые идеи исключительно из внимательного наблюдения над природными явлениями[35]. На самом деле до 1592 года, когда Галилей перебрался в Падую, и направление интересов, и методология у него были чисто математическими. Он полагался в основном на мысленные эксперименты и на архимедово описание мира в терминах геометрических фигур, которые подчиняются математическим законам. В те годы главная претензия к Аристотелю у Галилея сводилась к тому, что Аристотель «не подозревал не только о глубоких и достаточно сложных открытиях геометрии, но и о самых элементарных принципах этой науки»[36]. Также Галилей считал, что Аристотель слишком полагался на чувственный опыт, «поскольку он на первый взгляд дает некоторое подобие истины». Сам же Галилей, напротив, советовал «всегда приводить не примеры, а умозаключения (ибо мы ищем причины следствий, а опыт их не выявляет»).
В 1591 году у Галилея умер отец, и молодой человек, понимая, что теперь он должен содержать семью, принял предложение о работе в Падуе, где ему предложили жалованье втрое больше. Следующие восемнадцать лет были самыми счастливыми в жизни Галилея. Помимо всего прочего, в Падуе он познакомился с Мариной Гамба, с которой у него завязались длительные и прочные отношения; он так и не женился на Марине, однако она родила ему троих детей – Виргинию, Ливию и Винченцо[37]. Четвертого августа 1597 года Галилей написал личное письмо великому немецкому астроному Иоганну Кеплеру с признанием, что он «уже давно» придерживается идей Коперника, и добавил, что гелиоцентрическая модель Коперника дала ему возможность объяснить целый ряд природных явлений, которые геоцентрическая доктрина не объясняла. Однако Галилей сокрушался по поводу того, что Коперника «высмеяли и зашикали» и тот удалился со сцены. Это письмо знаменовало судьбоносный рубеж – отход Галилея от аристотелевой астрономии; с тех пор раскол становился все глубже. Началось формирование современной астрофизики.
Вечером 9 октября 1604 года астрономы в Вероне, Риме и Падуе в изумлении обнаружили новую звезду, которая вскоре засияла так ярко, что затмила все остальные звезды в небе. Метеоролог Ян Бруновский, имперский чиновник из Праги, также видел ее 10 октября и в сильнейшем волнении тут же сообщил о ней Кеплеру. Из-за пасмурной погоды Кеплер смог пронаблюдать звезду только 17 октября, однако, начав наблюдения, тщательно записывал все, что видел, примерно в течение года, а затем, в 1606 году, выпустил книгу о «новой звезде». Сегодня мы знаем, что небесный спектакль, разыгравшийся в 1604 году, знаменовал вовсе не рождение новой звезды, а гибель старой в результате взрыва. Это событие, которое сейчас называется «сверхновой Кеплера», вызвало в Падуе настоящую сенсацию. Галилею удалось пронаблюдать новую звезду своими глазами в конце октября 1604 года, а в декабре и январе он прочитал три публичные лекции, на которые пришло очень много слушателей. Галилей призывал ставить знания выше суеверий и продемонстрировал, что отсутствие наблюдаемого сдвига (параллакса) в положении новой звезды (на фоне неподвижных звезд) доказывало, что новая звезда находилась дальше Луны. Значение этого наблюдения трудно преувеличить. В мире Аристотеля любые изменения в небесах были ограничены ближней стороной Луны, а сфера неподвижных звезд, расположенная гораздо дальше, считалась незыблемой и неизменной.
Впрочем, незыблемость этой неизменной сферы была нарушена еще в 1572 году, когда датский астроном Тихо Браге (1546–1601) пронаблюдал еще один звездный взрыв – теперь это называется «сверхновая Тихо».
Событие 1604 года вбило очередной гвоздь в крышку гроба аристотелевой космологии. Однако подлинный прорыв в понимании Вселенной опирался не на область теоретических умозаключений и не на наблюдения, сделанные невооруженным глазом. Скорее это был результат простых экспериментов с выпуклыми и вогнутыми стеклянными линзами: если правильно подобрать две линзы и держать их на расстоянии около 33 сантиметров друг от друга, далекие предметы покажутся гораздо ближе. К 1608 году подобные подзорные трубы появились по всей Европе, и на соответствующий патент претендовали одновременно один голландский и два фламандских изготовителя очков. Слухи о чудесном инструменте достигли ушей венецианского богослова Паоло Сарпи, который рассказал о нем Галилею примерно в мае 1609 года. Сарпи не терпелось удостовериться, что слухи не пустые, и он навел справки о подзорной трубе в письме своему другу, парижанину Жаку Бадоверу. Галилей, по своим собственным словам, «страстно мечтал об этой прелестной вещице». Впоследствии он описал эти события в трактате «Звездный вестник», который вышел в марте 1610 года[38].
Месяцев десять тому назад до наших ушей дошел слух, что некоторый нидерландец приготовил подзорную трубу, при помощи которой зримые предметы, хотя бы удаленные на большое расстояние от глаз наблюдателя, были отчетливо видны как бы вблизи; об его удивительном действии рассказывали некоторые сведущие; им одни верили, другие же их отвергали. Через несколько дней после этого я получил письменное подтверждение от благородного француза Якова Бальдовера из Парижа; это было поводом, что я целиком отдался исследованию причин, а также придумыванию средств, которые позволили бы мне стать изобретателем подобного прибора; немного погодя, углубившись в теорию преломления, я этого добился. (Здесь и далее пер. И. Веселовского.)
Здесь Галилей применяет совершенно такой же творчески-практический метод умозаключений, что и Архимед: как только он узнал, что телескоп в принципе можно построить, у него ушло совсем немного времени на то, чтобы взять и создать этот прибор самостоятельно. Более того, в период с августа 1609 по март 1610 года Галилей с его выдающейся изобретательностью сумел превратить телескоп из устройства, которое увеличивает предметы в восемь раз, в прибор, который сокращает видимое расстояние до них в двадцать раз. Это само по себе значительное техническое достижение, однако величие Галилея должно было проявиться не в практическом «ноу-хау», а в том, как именно он стал применять свою увеличительную трубу (которую он назвал «perspicillum»). Галилей не стал ни высматривать далекие корабли из венецианской гавани, ни разглядывать падуанские крыши, а нацелил телескоп в небеса. Последующие события не имели прецедента в истории науки. Как пишет историк Ноэл Свердлов[39]: «За два месяца – декабрь и январь [1609 и 1610 года соответственно] он совершил столько открытий, перевернувших мир, что ни до него, ни после такое никому не удавалось». В честь четырехсотлетней годовщины первых наблюдений Галилея 2009 год был даже назван Международным годом астрономии.
Чем же Галилей заслужил славу корифея науки? Вот лишь несколько из его поразительных достижений.
Направив телескоп на Луну и внимательно изучив так называемый терминатор – линию, разделяющую темную и освещенную части лунного диска – Галилей обнаружил, что поверхность этого небесного тела неровная, на ней есть горы, кратеры и обширные равнины[40]. Он смотрел, как на затянутой тьмой стороне диска возникают яркие пятна света и как эти точки расширяются и распространяются – в точности как свет восходящего солнца на вершинах гор. Он даже определил высоту одной горы, исходя из геометрии освещения, и оказалось, что она больше шести километров. Но и это не все. Галилей увидел, что темная часть Луны (в первой и четвертой четверти) тоже слабо освещена – и сделал вывод, что все дело в отраженном свете с Земли. Галилей утверждал, что не только Земля освещается полной Луной, но и лунная поверхность залита отраженным светом с Земли.
Многие из этих открытий не стали полной неожиданностью, однако данные Галилея были так убедительны, что вывели научные диспуты на абсолютно новый уровень. До Галилея земное и небесное, мирское и божественное были четко разделены. Разница была отнюдь не только научной и философской. На мнимой непохожести Земли и небес был построен мощный корпус мифологии, религии, романтической поэзии и эстетических принципов. А теперь Галилей утверждал нечто совершенно немыслимое. В пику аристотелевой доктрине Галилей рассматривал Землю и небесное тело – Луну – на одинаковых основаниях: у обеих, оказывается, плотная неровная поверхность и обе отражают солнечный свет.
Галилей двинулся и дальше Луны и начал наблюдать планеты – это название дали «странницам» ночного неба древние греки. Седьмого января 1610 года Галилей направил телескоп на Юпитер и с удивлением обнаружил три новые звезды, которые пересекали диск планеты по прямой линии – две с запада на восток, одна с востока на запад. В последующие ночи положение этих звезд относительно Юпитера изменилось. Тринадцатого января Галилей заметил четвертую такую звезду. Не прошло и недели после этого открытия, как Галилей пришел к поразительному выводу: четыре новые звезды – это спутники, которые вращаются вокруг Юпитера по орбитам, совсем как Луна вокруг Земли.
Способность сразу распознавать судьбоносные открытия – характерная черта всех тех, кто оказал значительное влияние на историю науки. Но у многих знаменитых ученых есть и другая особенность – умение доступно рассказывать о своих открытиях. Галилей был мастером и в том и в другом. Он опасался, что кто-то другой тоже может открыть спутники Юпитера, и поспешил обнародовать свои результаты: трактат «Звездный вестник» вышел в свет в Венеции уже к весне 1610 года. В ту пору жизни Галилей еще увлекался политической игрой и посвятил книгу великому герцогу Тосканскому Козимо II Медичи, а спутники назвал «звездами Медичи». Два года спустя, проделав, по собственным словам, «атлантов труд», Галилей вычислил орбитальные периоды спутников, то есть время, за которое каждый из них совершает полный оборот вокруг Юпитера, с точностью до нескольких минут. «Звездный вестник» мгновенно стал бестселлером: первый тираж в пятьсот экземпляров был тут же распродан, и Галилей прославился по всей Европе.
Значимость открытия спутников Юпитера трудно преувеличить. Мало того, что со времен наблюдений древнегреческих астрономов это были первые небесные тела, пополнившие состав Солнечной системы, – само существование этих спутников мгновенно отмело один из самых веских доводов против учения Коперника[41]. Сторонники Аристотеля утверждали, что Земля никак не может вращаться вокруг Солнца, поскольку вокруг нее самой уже вращается Луна. Разве может во Вселенной быть два независимых центра вращения – и Солнце, и Земля? Открытие Галилея однозначно показало, что у планеты могут быть спутники, в то время как сама планета вращается вокруг Солнца.
Другое важное открытие, которое Галилей сделал в 1610 году, – это фазы Венеры. Согласно геоцентрической модели, Венера должна двигаться по маленькому кругу (эпициклу), наложенному на ее орбиту вокруг Земли. Центр эпицикла, как предполагалось, лежит на линии, соединяющей Землю и Солнце (как на рис. 17, а, масштаб не соблюден). В таком случае можно было бы ожидать, что с Земли Венера всегда будет выглядеть как полумесяц несколько варьирующейся ширины. Однако по модели Коперника Венера меняет облик от маленького яркого диска, когда планета находится по ту сторону от Солнца (при взгляде с Земли), до большого и почти темного диска, когда Венера проходит от Солнца с той же стороны, что и Земля (рис. 17, b). В промежутках между этими точками Венера должна миновать всю последовательность фаз, подобных фазам Луны. Галилей написал об этом важном различии в предсказаниях двух моделей своему бывшему студенту Бенедетто Кастелли (1578–1643) и провел важнейшие наблюдения в октябре-декабре 1610 года. Вердикт был очевиден. Наблюдения окончательно подтвердили правильность прогноза Коперника, и было доказано, что Венера и в самом деле вращается вокруг Солнца. Одиннадцатого декабря шутник Галилей послал Кеплеру загадочную анаграмму «Haec immatura a me iam frustra leguntur oy» («Я это уже изучаю слишком рано, но тщетно»)[42]. Кеплер безуспешно пытался расшифровать послание и в конце концов признал свое поражение[43]. В следующем письме – от 1 января 1611 года – Галилей наконец переставляет буквы в анаграмме, и получается «Cynthiae figuras aemulatur mater amorum» («Мать любви [Венера] подражает фигурам Кинфии [Луны]»).
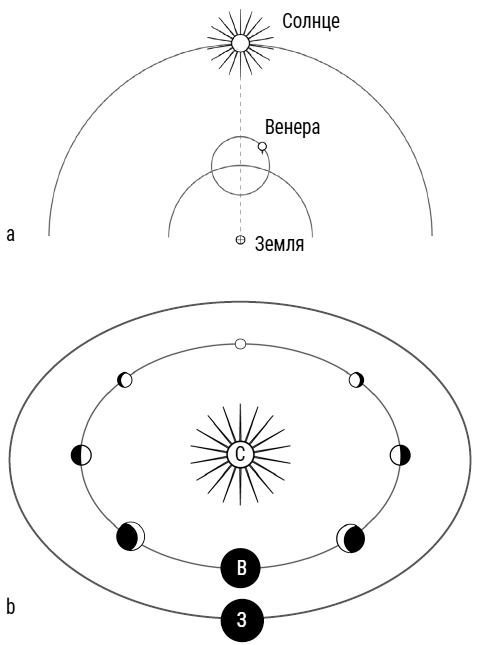
Рис. 17
Все вышеописанные открытия касались либо планет в Солнечной системе – небесных тел, которые вращаются вокруг Солнца и отражают его свет, – либо спутников, которые вращаются вокруг этих планет. Однако Галилей сделал и два очень важных открытия, которые касаются звезд – небесных тел наподобие Солнца, которые испускают собственный свет. Сначала он наблюдал само Солнце. По аристотелевой модели Солнце символизирует сверхъестественное совершенство и незыблемость. Представьте себе, каким потрясением было узнать, что поверхность Солнца далека от совершенства. Она покрыта пятнами, темными участками, которые то появляются, то исчезают, поскольку Солнце вращается вокруг своей оси. На рис. 18 приведены зарисовки солнечных пятен, сделанные собственноручно Галилеем. Коллега Галилея Федерико Цези (1585–1630) писал об этих рисунках, что они «приводят в восторг как изображенными на них чудесами, так и точностью исполнения». На самом деле Галилей не первым увидел пятна на Солнце и даже не первым о них написал. Один памфлет на эту тему – «Три письма о пятнах на Солнце», написанный ученым-иезуитом Кристофом Шайнером (1573–1650) – привел Галилея в такое негодование, что он твердо решил опубликовать подробный ответ. Шайнер утверждал, что пятна никак не могут быть прямо на поверхности Солнца[44]. Основывался он отчасти на том, что пятна были, по его мнению, слишком темные (он считал, что они темнее темных частей лунного диска), а отчасти на том, что они не всегда появлялись на одних и тех же местах. Поэтому Шайнер полагал, что это мелкие планеты, которые вращаются вокруг Солнца. В своем трактате «Istoria e Dimostrazioni Intorno Alle Macchie Solari» («История и демонстрация солнечных пятен») Галилей последовательно опровергает все доводы Шайнера. С дотошностью, остроумием и сарказмом, который заставил бы аплодировать стоя самого Оскара Уайльда, Галилей показал, что пятна на самом деле вообще не темные, а только кажутся темными на фоне яркой поверхности Солнца. Кроме того, работа Галилея не оставила никаких сомнений в том, что пятна находятся непосредственно на поверхности Солнца (к тому, как именно он это доказал, я еще вернусь в этой главе).
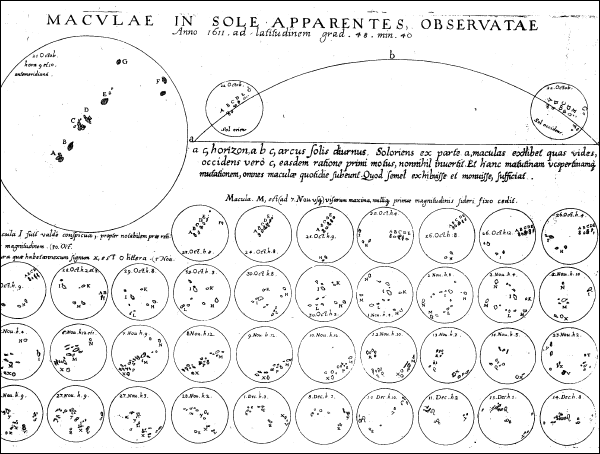
Рис. 18
Наблюдения Галилея над другими звездами были, несомненно, первыми вылазками человека в космос, лежащий за пределами Солнечной системы. Когда Галилей пытался наблюдать звезды в телескоп, то обнаружил, что изображение звезд, в отличие от Луны и планет, практически не удается увеличить. Вывод был очевиден: расстояние до звезд гораздо больше, чем до планет. Это само по себе было неожиданно, но самым фантастическим оказалось даже не это, а собственно количество относительно неярких звезд, которые можно было разглядеть в телескоп. Только на небольшом участке в окрестностях созвездия Орион Галилей насчитал целых пятьсот до того неизвестных звезд. А когда он обратил свой телескоп на Млечный Путь – полосу тусклого света, пересекающую ночное небо, – его ждал еще больший сюрприз. Даже этот яркий мазок на небе, на первый взгляд ровно окрашенный, распался на бесчисленное множество звезд, о которых никто до тех пор даже не подозревал. Вселенная внезапно расширилась. Вот как Галилей писал об этом суховатым ученым языком.
Третьим предметом нашего наблюдения была сущность – или материя – Млечного Пути. При помощи зрительной трубы ее можно настолько ощутительно наблюдать, что все споры, которые в течение стольких веков мучили философов, уничтожаются наглядным свидетельством, и мы избавимся от многословных диспутов. Действительно, Галаксия является не чем иным, как собранием многочисленных звезд, расположенных группами. В какую бы его область ни направить зрительную трубу, сейчас же взгляду представляется громадное множество звезд, многие из которых кажутся достаточно большими и хорошо заметными. Множество же более мелких не поддается исследованию.
Некоторые современники Галилея отнеслись к его открытиям с искренним восторгом. Галилею удалось воспламенить воображение и ученых, и людей, далеких от науки, по всей Европе. Шотландский поэт Томас Сегетт ликовал.
Колумб подарил человечеству земли,
которые покоряли кровопролитием,
Галилей – новые миры, которые ничем никому не грозят.
Что лучше?[45]
Сэр Генри Воттон, английский дипломат в Венеции, раздобыл экземпляр «Звездного вестника» в первый же день продаж (Curzon 2004). Он немедленно отправил книгу английскому королю Якову I, приложив письмо, где, в частности, говорилось следующее.
Настоящим сообщаю Его Величеству престраннейшее известие (я так называю его с полным правом), какое только доводилось ему получать из моей части света; заключается оно в прилагаемой книге (вышедшей не далее как сегодня), сочинил которую профессор математики из Падуи; заручившись помощью некоего оптического инструмента, он… открыл четыре новые планеты, которые вертятся вокруг сферы Юпитера, а также множество других неизвестных неподвижных звезд.
Обо всех достижениях Галилея можно написать целые тома – и они и в самом деле написаны, – однако это выходит за рамки нашей книги. Здесь же я расскажу лишь о том, как эти поразительные открытия повлияли на мировоззрение самого Галилея. В частности, посмотрим, какой ему виделась связь между математикой и огромным ширящимся космосом.
Философ науки Александр Койре (1892–1964) как-то заметил, что суть переворота, который Галилей произвел в научном мышлении, можно выразить в одной фразе: он открыл, что математика – это грамматика науки. Последователи Аристотеля довольствовались качественными описаниями природных явлений, и даже эти качественные описания обосновывали авторитетом Аристотеля, а Галилей настаивал, что ученые должны прислушиваться к самой природе, а ключ к расшифровке языка Вселенной – математические соотношения и геометрические модели. Насколько резко различаются эти подходы, видно на примере сочинений выдающихся приверженцев обеих сторон. Вот как пишет последователь Аристотеля Джорджио Корезио: «Поэтому заключим, что если человек не желает трудиться во тьме, пусть советуется с Аристотелем, великолепным толкователем природы» (Coresio 1612. Цитируется также в Shea 1972). К этому другой сторонник Аристотеля, пизанский философ Винченцо ди Грациа, добавляет следующее[46].
Прежде чем обсуждать доказательства Галилея, необходимо, пожалуй, доказать, насколько далеки от истины все те, кто желает доказывать факты, связанные с природой, средствами математических рассуждений, – если я не ошибаюсь, Галилей принадлежит именно к ним. Все науки и все искусства основаны на собственных принципах, у них есть свои причины избирать средства для доказательства тех или иных особых качеств предмета их изучения. Следовательно, нам нельзя применять принципы одной науки для доказательства свойств другой (курсив мой. – М. Л.). Поэтому всякий, кто полагает, будто может доказывать свойства природных явлений математическими средствами, попросту безумен, ведь это совсем разные науки. Естествоиспытатель изучает природные тела, которые обладают движением в своем естественном, обычном состоянии, а математик отрешен от всякого движения.
А Галилея представления, подобные идее герметической выделенности отдельных отраслей науки, приводили в настоящее бешенство. В черновике к трактату о гидростатике «Рассуждение о плавающих телах» он писал о математике как о мощном двигателе, который позволит человечеству раскрыть подлинные тайны природы (цит. у Shea 1972).
Ожидаю жесточайшего отпора со стороны одного из моих противников – так и слышу, как он кричит мне в ухо, что одно дело – исследовать что-то с точки зрения физики и совсем другое – с точки зрения математики, что геометры должны заниматься своими фантазиями и не совать нос в философские материи, где выводы делаются иначе, чем в математике. Как будто на свете может быть не одна истина, а несколько, как будто геометрия в наши дни – препятствие на пути к подлинной философии, как будто невозможно одновременно быть и философом, и геометром, и если человек знает геометрию, из этого прямо следует, что он не знает физику и не может строить умозаключений относительно физических материй, не может подходить к ним физически! Подобные выводы столь же глупы, как и рассуждения одного врача, который в припадке хандры заявил, будто великий доктор Аквапенденте [итальянский анатом Иероним Фабриций (1537–1619) из Аквапенденте], будучи знаменитым хирургом и знатоком анатомии, должен довольствоваться своими скальпелями и притираниями и не пытаться лечить больных терапевтически, словно познания в хирургии противоположны познаниям в терапии, словно одно исключает второе.
Простой пример того, как подобная разница в подходах к данным наблюдений способна полностью изменить толкование природного явления, – это открытие солнечных пятен. Как я уже упоминал, астроном-иезуит Кристоф Шайнер наблюдал эти пятна тщательно и профессионально, однако его фундаментальной ошибкой стала убежденность в аристотелевском представлении об идеальных небесах, которая целиком и полностью повлияла на его рассуждения. Впоследствии, когда Шайнер обнаружил, что пятна не возвращаются на прежние места в прежнем порядке, он тут же заявил, что способен «освободить Солнце от увечий-пятен». Твердая уверенность в незыблемости небес ограничила его воображение и помешала даже задуматься о том, что пятна могут меняться, пусть и по непонятной пока причине[47]. Поэтому он решил, что пятна – это наверняка звезды, которые вращаются вокруг Солнца, как же иначе! А Галилей повел наступление на вопрос о расстоянии пятен от поверхности Солнца совершенно иначе. Он выявил три наблюдаемых явления, нуждавшихся в объяснении: во-первых, когда пятна оказывались ближе к краю солнечного диска, они казались ýже, чем когда они были ближе к центру. Во-вторых, промежутки между пятнами увеличивались по мере приближения пятен к центру диска. Наконец, ближе к центру пятна двигались быстрее, чем ближе к краю. Галилей при помощи одного-единственного геометрического построения сумел показать, что гипотеза, что пятна находятся на поверхности Солнца и перемещаются вместе с ней, соответствует всем наблюдаемым фактам. Подробное объяснение, которое предложил Галилей, было основано на феномене зрительного сокращения изображения на сфере – то, что фигуры на сферической поверхности ближе к краям кажутся ýже и ближе друг к другу (на рис. 19 показано, как это проявляется на примере окружностей, начерченных на сферической поверхности).
Доказательство, которое предложил Галилей, оказало колоссальное воздействие на становление научного метода. Он показал, что данные наблюдений становятся осмысленными описаниями реальности только тогда, когда удается вписать их в соответствующую математическую теорию. Но если не удается истолковать их в широком теоретическом контексте, те же самые данные способны привести к ошибочным выводам.

Рис. 19
Галилей никогда не упускал возможности от души поспорить. Самое красноречивое изложение его представлений о природе математики и ее роли в естественных науках появляется в его еще одной острой публикации – трактате «Пробирных дел мастер» (Galilei 1623). Этот блестящий, мастерски написанный трактат стяжал такую славу, что папа Урбан VIII, садясь за трапезу, приказывал читать себе вслух выдержки оттуда. Парадоксально, но факт: главный тезис «Пробирных дел мастера» был откровенно ошибочным. Галилей пытался доказать, что кометы – это на самом деле оптический обман, результат особенностей отражения света на ближней стороне Луны.
История написания «Пробирных дел мастера» напоминает либретто итальянской оперы. Осенью 1618 года на небе появилось три кометы подряд. Особенно примечательной была третья – она оставалась видимой почти три месяца. В 1619 году Орацио Грасси, математик из Римской иезуитской коллегии, анонимно опубликовал памфлет о своих наблюдениях этих комет. Грасси по следам великого датского астронома Тихо Браге сделал вывод, что кометы находятся где-то между Солнцем и Луной. Памфлет прошел бы незамеченным, если бы Галилей не решил поспорить, поскольку ему сказали, что некоторые иезуиты сочли работу Грасси ударом по сторонникам Коперника. Ответил Галилей в виде лекций, которые по большей части написал он сам, а прочитал его ученик Марио Гвидуччи[48]. В печатной версии лекций «Беседы о кометах» Галилей нападает непосредственно на Грасси и Тихо Браге. На сей раз была очередь Грасси оскорбиться. Под псевдонимом Лотарио Сарси, притворившись собственным учеником, Грасси опубликовал едкий ответ, в котором критиковал Галилея прямо и недвусмысленно (ответ назывался «Астрономические и философские весы, на которых взвешиваются представления Галилео Галилея о кометах, а также соображения, которые представил во Флорентийской академии Марио Гвидуччи»). Защищая свое применение методов Тихо Браге для определения расстояний, Грасси под именем своего ученика утверждал следующее.
Предположим, мой наставник следовал методам Тихо. Разве это преступление? Кому еще надо было следовать? Птолемею [александрийскому астроному, основоположнику гелиоцентрической системы]? Шеям его последователей грозит теперь обнаженный меч Марса, который стал еще ближе. Копернику? Но всякий набожный человек скорее призовет отвернуться от него, высмеет и отринет его гипотезу, недавно осужденную. Следовательно, единственным, кого мы с радостью сделаем своим проводником среди неведомого коловращения звезд, может быть только Тихо.
Этот отрывок – прекрасная иллюстрация того, по какой тонкой грани вынуждены были ходить иезуитские математики в начале XVII века. С одной стороны, Грасси критиковал Галилея совершенно обоснованно и необыкновенно проницательно. С другой, поскольку Грасси был вынужден всеми силами отмежевываться от Коперника, он, в сущности, надел на себя смирительную рубашку, которая мешала всем его рассуждениям.
Друзья Галилея так испугались, что нападки Грасси могут подорвать авторитет Галилея, что убедили ученого ответить. Это и привело к публикации «Пробирных дел мастера» в 1623 году (подзаголовок пояснял, что это документ, «в котором с помощью особо чувствительных и точных весов будут взвешены доводы, содержащиеся в “Астрономических и философских весах” Лотарио Сарси из Сигуэнсы» (здесь и далее пер. Ю. Данилова).
Как я уже отмечал, в трактате «Пробирных дел мастер» Галилей яснее и красноречивее всего сформулировал свои представления об отношениях между математикой и Вселенной. Приведу этот замечательный отрывок.
Сдается мне, что я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора, словно наш разум непременно должен быть обручен с чьими-то рассуждениями, ибо в противном случае он пуст и бесплоден. Он [Сарси], по-видимому, полагает, что философия – книга чьих-то вымыслов, такая же, как «Илиада» или «Неистовый Орланд» – книги, для которых менее всего значит, истинно ли то, что в них написано. В действительности же, синьор Сарси, все обстоит не так. Философия написана в величественной книге (я имею в виду Вселенную), которая постоянно открыта нашему взору, но понять ее может лишь тот, кто сначала научиться постигать ее язык и толковать знаки, которыми она написана. Написана же она на языке математики, и знаки ее – треугольники, круги и другие геометрические фигуры, без которых человек не смог бы понять в ней ни единого слова; без них он был бы обречен блуждать в потемках по лабиринту (курсив мой. – М. Л.).
Потрясающе, правда? Галилей считал, что знает ответ на вопрос, почему математика так хорошо объясняет природу, за несколько сотен лет до того, как этот вопрос был задан! Для него математика – просто язык Вселенной. Хочешь понять Вселенную, считал Галилей, – изучи этот язык. А значит, Бог точно математик.
Полный диапазон идей, высказанных в сочинениях Галилея, рисует еще более подробную картину его представлений о математике. Во-первых, мы должны понять, что для Галилея математика, в сущности, сводилась к геометрии. Он не слишком интересовался выражением величин в абсолютных числах. Природные явления Галилей описывал в основном в терминах пропорционального соотношения тех или иных величин, относительных количеств. В этом Галилей опять же проявил себя как верный ученик Архимеда, чьи принципы рычага и метод сопоставительной геометрии Галилей применял очень широко и в полной мере. Второе, что интересно отметить, – это разграничение между ролью геометрии и логики, которое он особенно четко провел в своей последней книге. Сама эта книга – «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» – написана в форме живых диалогов трех собеседников Сальвиати, Сагредо и Симпличио, чьи роли совершенно ясно разграничены. Сальвиати, в сущности, выразитель идей самого Галилея. Аристократ Сагредо, любитель философии, – человек, чей разум уже избавился от иллюзий аристотелевского здравого смысла, а следовательно, его можно убедить доводами новой математической науки. Симпличио же, которого в предыдущих работах Галилей описывал как бездумного приверженца Аристотеля, подавленного его авторитетом, предстает здесь как ученый широких взглядов. На второй день диспута у Сагредо с Симпличио происходит интересный разговор.
Сагредо. Что мы с вами скажем на это, синьор Симпличио? Не должны ли мы признать, что геометрия является самым могущественным средством для изощрения наших умственных способностей и дает нам возможность правильно мыслить и рассуждать? Не прав ли был Платон, требуя от своих учеников прежде всего основательного знакомства с математикой? (Здесь и далее пер. С. Долгова.)
Симпличио, по всей видимости, соглашается и приводит сравнение с логикой.
Симпличио. Действительно, я начинаю сознавать, что логика, представляющая прекрасное средство для правильного построения наших рассуждений, не может направлять мысль с изобретательностью и остротой геометрии.
Тогда Сагредо ставит вопрос острее.
Сагредо. Мне кажется, что логика учит нас познавать, правильно ли сделаны выводы из готовых уже рассуждений и доказательств; но чтобы она могла научить нас находить и строить такие рассуждения и доказательства – этому я не верю.
Что хотел сказать Галилей, очевидно: он был убежден, что геометрия – инструмент открытия новых истин. А логика была для него, напротив, средством для критики и оценки уже сделанных открытий. В главе 7 мы рассмотрим иную точку зрения, согласно которой вся математика происходит из логики.
Как же Галилей пришел к мысли, что математика – это язык природы? Ведь философские выводы подобного масштаба не возникают на пустом месте. И в самом деле, корни этой концепции можно проследить до сочинений Архимеда. Греческий наставник первым применил математику для объяснения природных явлений. А затем природа математики, пройдя извилистый путь – через руки средневековых арифметиков и итальянских придворных математиков, – завоевала наконец статус темы, достойной обсуждения. В конце концов некоторые иезуитские математики-современники Галилея, в частности Христофор Клавий, также признали, что математика, вероятно, занимает какую-то промежуточную позицию между метафизикой – философскими принципами природы бытия – и физической реальностью. В предисловии («Prolegomena») к своим «Схолиям к “Началам” Евклида» Клавий писал так.
Поскольку математические дисциплины изучают предметы, которые считаются обособленными от любой мыслимой материи, пусть ими и пронизаны материальные предметы, очевидно, что они занимают промежуточное место между метафизикой и естественными науками, если мы задумаемся об их субъекте.
Галилей не мог удовольствоваться ролью математики как простого посредника или проводника. Он сделал еще один смелый шаг – приравнял математику к родному языку Господа Бога. Однако это отождествление подняло еще одну серьезную проблему – и она оказала самое серьезное влияние на жизнь Галилея.
Согласно Галилею, Бог, создавая природу, говорил на языке математики. Согласно догматам католической церкви, Бог был «автором» Библии. Как же полагалось поступать в тех случаях, когда математически обоснованные научные объяснения явно противоречат Писанию? На Тридентском соборе 1546 года богословы дали на этот вопрос совершенно недвусмысленный ответ: «Никто не смеет толковать Священное Писание, полагаясь на собственные суждения и искажая его в соответствии с собственными представлениями, в противоположность тому смыслу, в каком понимает его Святая Матерь Церковь, которой одной пристало судить о том, каким подлинным смыслом и значением оно обладало или обладает». Соответственно, когда в 1616 году богословов попросили высказать свое мнение о гелиоцентрической космологической модели Коперника, они заключили, что это «официальная ересь, поскольку она явно во многих местах противоречит смыслу Священного Писания». Иначе говоря, на самом деле суть возражений церкви против того, что Галилей был сторонником Коперника, сводилась не столько к тому, что он сместил Землю из центра мироздания, сколько к тому, что он посягнул на единоличное право церкви толковать Писание[49]. В обстановке, когда католическая церковь и без того чувствовала себя в осаде из-за яростных споров с протестантскими теологами, Галилей и церковь неминуемо должны были столкнуться.
К концу 1613 года события стали развиваться лавинообразно. Бывший ученик Галилея Бенедетто Кастелли представил недавние астрономические открытия великому герцогу Тосканскому и его свите. Нетрудно догадаться, что от него потребовали объяснить очевидное расхождение между космологией Коперника и некоторыми библейскими текстами – например, истории о том, как Господь остановил Солнце и Луну, чтобы Иисус Навин и израильтяне окончательно победили своих врагов в долине Аиалонской. И хотя Кастелли утверждал, что «бился как настоящий воин», защищая учение Коперника, вести об этом споре несколько встревожили Галилея и он счел нужным выразить собственные представления о противоречиях между наукой и Священным Писанием. В длинном письме Кастелли, датированном 21 декабря 1613 года, Галилей пишет следующее[50].
Однако же в Священном Писании, дабы приблизить его к пониманию большинства, приходилось говорить многое такое, что на первый взгляд отличается от буквального значения. Напротив, природа неумолима и неизменна, ей все равно, доступны ли для человеческого понимания ее тайные причины и рабочие приемы, и ради этого она никогда не отклоняется от предписанных законов. Поэтому мне представляется, что никакое природное явление, которое показывает нам опыт или которое с необходимостью следует из полученных данных, не следует подвергать сомнению из-за отрывков из Писания, которые содержат тысячи слов, допускающих различное толкование, ибо каждая фраза Писания не подчиняется таким жестким законам, как каждое явление природы.
Такое толкование смысла библейских стихов с очевидностью противоречило воззрениям более прямолинейных богословов. Например, доминиканец Доминго Баньес в 1584 году писал: «Дух Святой не просто вдохновил все, что содержится в Священном Писании, он продиктовал и предложил каждое слово, которым оно написано»[51]. Галилея это, как видно, не убеждало. В своем письме Кастелли он добавил:
Я склонен думать, что авторитет Священного Писания должен убеждать людей в тех истинах, которые необходимы для их спасения, в том, что, будучи неизмеримо выше человеческого понимания, не может быть разъяснено никаким исследованием, никакими другими средствами, кроме как явлением Духа Святого. Но чтобы тот самый Бог, который даровал нам чувства, разум и понимание, не позволял нам ими пользоваться и желал познакомить нас какими-то иными способами с теми знаниями, которые мы вполне можем приобрести самостоятельно при помощи всех этих качеств, – вот в такое я, пожалуй, вовсе не обязан верить, особенно применительно к тем наукам, о которых в Священном Писании сказано лишь отрывочно и с противоречивыми выводами, а ведь именно так обстоит дело с астрономией, о которой там говорится так мало, что даже не все планеты перечислены.
Копия письма Галилея попала в Конгрегацию доктрины веры, где всегда рассматривались вопросы чистоты вероучения, а там – в руки влиятельного кардинала Роберто Беллармина (1542–1621). Поначалу кардинал Беллармин относился к учению Коперника вполне терпимо, поскольку полагал, что гелиоцентрическая модель в целом – это «возможность сохранить лицо по примеру тех, кто предложил гипотезу об эпициклах, но сам никогда не верил в их существование». Беллармин, как и многие его предшественники, также считал математические модели, выдвигаемые астрономами, просто уловками с целью описать то, что люди наблюдают, не привязываясь к физической реальности. Подобные измышления с целью «сохранить лицо», утверждал кардинал, не доказывают, что Земля на самом деле движется. Поэтому Беллармин не видел в книге Коперника «De Revolutionibus» никакой особой угрозы, хотя спешил добавить, что заявление, что Земля будто бы движется, не просто «раздражает всех схоластов, философов и богословов», но и «вредит Вере, поскольку предполагает, что Священное Писание – ложь».
Подробности остальной части этой трагической истории выходят за рамки темы нашей книги, поэтому я опишу их лишь кратко. Конгрегация Списка запрещенных книг в 1616 году запретила книгу Коперника. Дальнейшие попытки Галилея ссылаться на всевозможные отрывки из самого почитаемого раннего богослова – блаженного Августина – в поддержку своего толкования отношений между естественными науками и Писанием особой симпатии не снискали[52]. Несмотря на красноречивые послания, основной мыслью которых было отсутствие всякого несоответствия (кроме самого поверхностного) между теорией Коперника и библейскими текстами, богословы того времени считали, что Галилей своими доводами вторгается в сферу их компетенции. Впрочем, у тех же богословов хватало цинизма безо всякого стеснения высказывать мнения по научным вопросам.
Галилей понимал, что над ним сгущаются тучи, однако был убежден, что здравый смысл возобладает, а ведь когда речь заходит о вопросах религии и веры, полагаться на здравый смысл – самое гибельное заблуждение. В феврале 1632 года Галилей выпустил свой «Диалог о двух важнейших системах мира» (на рис. 20 приведен титульный лист первого издания). В этом полемическом тексте Галилей подробнейшим образом изложил свои идеи как идеи последователя Коперника. Более того, он заявил, что если люди будут заниматься естественными науками с опорой на язык механического равновесия и математики, то познают божественный разум. Иначе говоря, если человек находит решение задачи при помощи геометрических пропорций, то полученное при этом понимание и следующие из него открытия божественны. Реакция церкви была решительной и молниеносной. Уже в августе того же 1632 года «Диалог» был запрещен и изъят из продажи. В сентябре Галилея вызвали в Рим, чтобы защищаться от обвинений в ереси. Двенадцатого апреля 1633 года начался процесс, и 22 июня 1633 года был вынесен вердикт, что Галилей находится «под сильным подозрением в ереси (здесь и далее выдержки из материалов процесса в пер. И. Григулевича)». Судьи обвинили Галилея в том, что он «считает за истину и распространяет в народе лжеучение, по которому Солнце находится в центре мира неподвижно, а Земля движется вокруг оси суточным вращением».
Приговор был суровым.

Рис. 20
Мы постановили книгу под заглавием «Диалог» Галилео Галилея запретить, а тебя самого заключить в тюрьму при Св. Судилище на неопределенное время. Для спасительного же покаяния твоего предписываем, чтобы ты в продолжении 3 лет раз в неделю прочитывал 7 покаянных псалмов. Право уменьшать, изменять и отменять, вполне или отчасти, что-либо из вышеуказанных наказаний и исправлений оставляем за собою (de Santillana 1955).
Галилею было уже почти семьдесят лет, и он не смог сопротивляться подобному давлению. Дух его был сломлен, и Галилей написал письмо с отречением, в котором соглашался со всем: «…дабы я покинул ложное мнение, полагающее… будто Солнце есть центр Вселенной и неподвижно, Земля же не центр и движется». В заключение он говорит так.
Посему, желая изгнать из мыслей ваших, высокопочтенные господа кардиналы, равно как и из ума всякого истинного христианина, это подозрение, законно против меня возбужденное, от чистого сердца и с непритворной верою отрекаюсь, проклинаю, возненавидев вышеуказанную ересь, заблуждение или секту, не согласную со Cв. Церковью.
Клянусь впредь никогда не говорить и не рассуждать, ни устно, ни письменно, о чем бы то ни было, могущем восстановить против меня такое подозрение (de Santillana 1955).
Последняя книга Галилея – «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» – вышла в июле 1638 года. Рукопись контрабандой вывезли из Италии и опубликовали в Голландии, в Лейдене. Содержание этой книги в полной мере соответствует смыслу легендарных слов «Eppur si muove» – «И все-таки она вертится». Эта мятежная фраза, которую, по преданию, Галилей пробормотал на суде, на самом деле, возможно, никогда не была произнесена.
Тридцать первого октября 1992 года католическая церковь решила наконец «реабилитировать» Галилея. Папа Иоанн Павел II признал, что Галилей все это время был прав, однако не желал прямо критиковать Инквизицию и потому выразился так.
Как ни парадоксально, Галилей, человек искренне верующий, оказался в этом вопросе [очевидные расхождения между наукой и Писанием] гораздо дальновиднее, чем его противники-богословы. Большинство теологов не понимали, что существует формальная грань между самим Священным Писанием и его толкованием, и это привело к тому, что они неоправданно переносили в поле религиозной доктрины вопрос, который на самом деле принадлежит сфере научного исследования.
Журналисты всего мира так и набросились на эту сенсацию, словно на лакомый кусок. Газета «Лос-Анджелес Таймс» провозгласила: «Теперь Земля официально вращается вокруг Солнца – даже для Ватикана». Однако не всех происходящее забавляло. Некоторым казалось, что это mea culpa церковь произнесла очень уж тихо и очень уж поздно. Испанский исследователь трудов Галилея Антонио Бельтран Мари отмечал следующее (Beltrán Mari 1994. См. также Frova and Marenzana 1998).
То обстоятельство, что Папа Римский до сих пор полагает, будто наделен авторитетом заявлять что бы то ни было о Галилее и его научных воззрениях показывает, что с точки зрения Папы ничего не изменилось. Он ведет себя совершенно так же, как и судьи на процессе Галилея, ошибку которых теперь признает.
На самом же деле следует признать, что Иоанн Павел II оказался в безвыходной ситуации. Какое бы решение он ни принял – то ли игнорировать эту проблему и оставить историю с осуждением Галилея до лучших времен, то ли признать наконец, что церковь совершила ошибку, – его все равно раскритиковали бы. И все же в наше время, когда библейский креационизм пытаются представить альтернативной «научной» теорией (под неубедительно завуалированной личиной «разумного замысла»), приятно сознавать, что Галилей уже вступил в эту битву почти 400 лет назад – и победил!
Волшебники: скептик и титан
В одном из семи скетчей, вошедших в фильм «Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить», Вуди Аллен играет придворного шута, который потешает средневекового короля и его свиту. Шут воспылал страстью к королеве и дает ей афродизиак, рассчитывая ее соблазнить. Королева отвечает шуту взаимностью – но увы: на ней пояс верности с огромным висячим замком. Очутившись в этой неловкой ситуации в спальне королевы, шут нервно бормочет: «Надо быстренько что-то придумать, пока не наступило Возрождение и мы все не начали писать картины!»
Шутки шутками, а эта гипербола – вполне понятное описание того, что делалось в Европе в XV и XVI веках. Эпоха Возрождения и в самом деле породила такое изобилие шедевров живописи, скульптуры и архитектуры, что и в наши дни эти поразительные произведения искусства составляют львиную долю нашей культуры. Что же касается науки, то именно в эпоху Возрождения произошла гелиоцентрическая революция в астрономии, вождями которой были Коперник, Кеплер и особенно Галилей. Новые представления о Вселенной, которое обеспечили наблюдения Галилея при помощи телескопа и открытия, которые он сделал на основе опытов по механике, возможно, послужили основным стимулом для математических открытий следующего века. Появились первые признаки крушения аристотелевской философии и сомнений в теологической идеологии церкви, и философы начали искать новый фундамент для чертогов человеческих познаний. Математика с ее определенным (на первый взгляд) корпусом незыблемых истин, казалось, была самым подходящим кандидатом на роль новой отправной точки.
Тем, кто взял на себя достаточно честолюбивую задачу открыть формулу, которая так или иначе упорядочит все рациональное мышление и объединит все познания и в науке, и в этике, стал юный французский офицер и аристократ Рене Декарт.
Декарта[53] (рис. 21) принято считать и первым великим современным философом, и первым современным биологом. Если к этим внушительным титулам добавить еще то обстоятельство, что английский философ-эмпирик Джон Стюарт Милл (1806–1873) назвал одно из достижений Декарта в математике «величайшим шагом, сделанным в прогрессе точных наук за всю их историю» (Цит. по Sedgwick and Tyler 1917), начинаешь понимать, каким неизмеримо мощным интеллектом обладал Декарт.

Рис. 21
Рене Декарт родился 31 марта 1596 года во французском городе Лаэ. В честь своего самого знаменитого уроженца город в 1801 году был переименован в Лаэ-Декарт, а с 1967 года называется просто Декарт. В восемь лет Декарт поступил в иезуитскую коллегию Ла Флеш, где изучал латынь, древнегреческий язык, математику, физику и схоластическую философию до 1612 года. Поскольку Декарт был довольно слабого здоровья, ему позволялось вставать позже других, хотя его соученики поднимались ни свет ни заря – в пять часов утра. Став взрослым, он по-прежнему посвящал раннее утро размышлениям в постели и однажды признался французскому математику Блезу Паскалю, что для него единственный способ сохранять здоровье и творческие силы – это никогда не вставать, пока не захочется. Вскоре мы убедимся, что это утверждение оказалось пророческим до трагизма.
После коллегии Ла Флеш Декарт окончил университет города Пуатье и получил степень бакалавра права, однако юриспруденцией никогда не занимался. Декарт обладал пытливым умом и мечтал повидать мир, поэтому решил пойти на службу в армию принца Морица Оранского, которая тогда стояла в городе Бреда в Соединенных Провинциях (в Нидерландах). Именно в городе Бреда произошла случайная встреча, которая оказала сильнейшее воздействие на интеллектуальное развитие Декарта. Легенда гласит, что Декарт гулял по улицам и вдруг увидел доску, на которой была написана какая-то трудная математическая задача. Декарт попросил первого встречного перевести текст с голландского либо на латынь, либо на французский. Несколько часов спустя Декарт сумел решить задачу, тем самым доказав самому себе, что и вправду обладает определенными способностями к математике. А прохожий-переводчик оказался не кем иным, как голландским математиком и физиком Исааком Бекманом (1588–1637), влияние которого на физико-математические изыскания Декарта ощущалось еще много лет[54]. Следующие девять лет Декарт провел в метаниях между бурной парижской жизнью и службой в нескольких армиях. В Европе, терзаемой религиозными и политическими распрями, в самом начале Тридцатилетней войны Декарту было довольно просто находить себе битвы и присоединяться к батальонам на марше, будь то в Праге, Германии или Трансильвании. Однако в этот же период, по собственному выражению, он «с головой погрузился в изучение математики».
Десятого ноября 1619 года Декарту приснилось три сна, которые не просто оказали колоссальное воздействие на всю его оставшуюся жизнь, но и, возможно, знаменовали зарю современного мира[55]. Впоследствии, описывая эти события, Декарт писал в записных книжках: «Я был полон восторга и открыл основы изумительной науки». О чем же были эти судьбоносные сны?
На самом деле два из трех снов были страшные. В первом сне Декарт попал в сильнейшую бурю, и ветер развернул его, заставив крутануться на левой пятке. Кроме того, Декарта очень пугало непреходящее ощущение, что при каждом шаге он может упасть. Появился какой-то старик и попытался подарить ему заморскую дыню. Второй сон тоже был кошмаром. Декарт оказался запертым в комнате, кругом били зловещие молнии и летали искры. Третий сон представлял собой резкий контраст с первыми двумя – это была картина спокойного сосредоточенного размышления. Декарт осматривал комнату и видел, как на столе то появляются, то исчезают книги. В числе прочего там появился поэтический сборник под названием «Corpus Poetarum» и энциклопедия. Декарт открыл сборник наугад и увидел первую строку стихотворения римского поэта Авсония, жившего в IV веке. Строка гласила: «Quod vitae sectabor iter?» – «Какую дорогу в жизни мне избрать?» Словно бы из ниоткуда появился загадочный незнакомец и процитировал другую фразу – «Est et non» («Да и нет» или «Существует или нет»). Декарт хотел показать ему строку Авсония, но тут видение развеялось.
Как часто бывает со снами, подлинная их ценность состоит не в непосредственном содержании, которое бывает причудливым и запутанным, а в интерпретации, которую предпочитает дать им сам сновидец. В случае Декарта три загадочных сна привели к потрясающим последствиям. Декарт решил, что энциклопедия символизирует коллективное научное знание, а поэтический сборник – философию, откровение и энтузиазм. «Да и нет» – одну из знаменитых противоположностей Пифагора – он истолковал как истинное и ложное. (Что касается дыни, то неудивительно, что некоторые психоаналитические интерпретации предполагают эротические ассоциации с ней.) Декарт был совершенно уверен, что сны подталкивают его в направлении унификации всего корпуса человеческих знаний посредством логических рассуждений. В 1621 году он подал в отставку, однако продолжил путешествовать и изучать математику в течение еще пяти лет. Все, с кем он в то время встречался, в том числе влиятельный духовный лидер кардинал Пьер де Берюль (1575–1629), приходили в восхищение от остроты и ясности его ума. Многие уговаривали Декарта обнародовать его соображения. Будь на месте Декарта другой молодой человек, подобные мудрые отеческие советы оказали бы на него такое же воздействие, как лаконичная профориентация «Пластмассы!» на героя Дастина Хоффмана из фильма «Выпускник», однако Декарт был непохож на других. Поскольку он уже поставил перед собой цель искать истину, убедить его оказалось легко. Он переехал в Голландию, где в то время была относительно спокойная обстановка, способствующая интеллектуальным занятиям, и в течение следующих 20 лет выпускал одну гениальную книгу за другой.
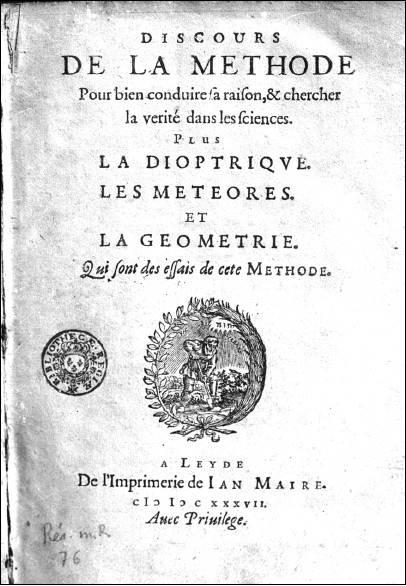
Рис. 22
Первый свой шедевр об основах науки – «Рассуждение о методе, чтобы хорошо направлять свой разум и отыскивать истину в науках» – Декарт опубликовал в 1637 году (на рис. 22 приведен титульный лист первого издания). К этому трактату он написал три поразительных приложения – об оптике, метеорологии и геометрии. Затем вышла работа по философии – «Размышления о первой философии» (1641) и по физике – «Первоначала философии» (1644). К этому времени Декарт уже прославился по всей Европе, и среди его почитателей и корреспондентов была, например, принцесса-изгнанница Елизавета Богемская (1618–1680). В 1649 году Декарт получил приглашение обучать философии саму королеву Кристину Шведскую (1626–1689) – фигуру весьма колоритную. У Декарта всегда была слабость к особам голубой крови, и он согласился. Более того, его письмо к королеве было так полно восхищенных слов, подобающих придворному XVII века, что сегодня его невозможно читать без усмешки: «Осмелюсь возразить Ее Величеству, что она не в силах отдать мне приказание столь трудное, чтобы я не был всегда готов сделать все возможное, дабы исполнить его, и что будь я даже шведом или финном по рождению, я не мог бы проявить большего рвения и лучше подходить для служения Вам». Двадцатитрехлетняя королева, отличавшаяся стальным характером, потребовала, чтобы Декарт наставлял ее в философии ни свет ни заря – в пять часов утра. В стране, где было так холодно, что, как писал Декарт другу, даже мысли замерзали, это оказалось смертельно[56]. «Я здесь не в своей стихии, – писал Декарт, – и желаю только отдыха и покоя, а эти блага не могут подарить тебе даже самые могущественные короли на свете, если ты сам не в состоянии их себе обеспечить». Декарт всего несколько месяцев сражался с суровой шведской зимой темными утренними часами, чего умудрялся избегать всю жизнь, а потом подхватил воспаление легких. И умер в возрасте пятидесяти трех лет 11 февраля 1650 года в четыре часа утра, словно хотел уклониться от очередной побудки. Человек, чьи труды знаменовали начало современной эпохи, пал жертвой собственного снобизма и капризов юной королевы.

Рис. 23
Декарт был похоронен в Швеции, однако в 1667 году его останки частично перевезли во Францию. Там их несколько раз переносили с места на место[57], но в конце концов похоронили 26 февраля 1819 года в одной часовне собора Сен-Жермен-де-Пре. На рис. 23 мое фото рядом с простой черной мемориальной доской, установленной в честь Декарта. Череп, считавшийся черепом Декарта, переходил в Швеции из рук в руки, пока его не приобрел химик по фамилии Берцелиус, который перевез его во Францию. Теперь череп хранится в Музее естественных наук – филиале Музея человека в Париже. Его часто выставляют в витрине напротив черепа неандертальца.
Когда на человека вешают ярлык «современный», то обычно имеют в виду, что он из тех, кто способен спокойно общаться со своими собратьями по профессии, живущими в ХХ, а теперь уже и в XXI веке. Подлинно современным человеком Декарта делает то, что он осмелился подвергнуть сомнению все философские и научные утверждения, сделанные до него[58]. Как-то раз он отметил, что образование лишь усилило его растерянность и заставило осознать собственное невежество. В своем прославленном «Рассуждении о методе» Декарт писал: «О философии скажу одно: …в течение многих веков она разрабатывается превосходнейшими умами и, несмотря на это, в ней доныне нет положения, которое не служило бы предметом споров и, следовательно, не было бы сомнительным (здесь и далее цитаты из “Рассуждения о методе” даны в пер. Г. Слюсарева и А. Юшкевича)». Хотя судьба многих философских идей самого Декарта свидетельствует о таких же существенных недочетах в его предпосылках, на которые указывали более поздние философы, освежающий скептицизм, с которым он относился даже к самым основным понятиям, делает его, конечно, современным до мозга костей. Однако главное для нашей книги даже не это: Декарт понимал, что методы и процесс рассуждений в математике приводит именно к той определенности, которой так не хватало схоластической философии прежних времен[59]. Он недвусмысленно провозглашал следующее:
Те длинные цепи выводов, сплошь простых и легких, которыми геометры обычно пользуются, чтобы дойти до своих наиболее трудных доказательств, дали мне возможность представить себе, что и все вещи, которые могут стать для людей предметом знания, находятся между собой в такой же последовательности (курсив мой. – М. Л.). Таким образом, если воздерживаться от того, чтобы принимать за истинное что-либо, что таковым не является, и всегда соблюдать порядок, в каком следует выводить одно из другого, то не может существовать истин ни столь отдаленных, чтобы они были недостижимы, ни столь сокровенных, чтобы нельзя было их раскрыть.
В некотором смысле это смелое заявление идет даже дальше воззрений Галилея. Не только физическая Вселенная написана на языке математики – логике математики следует все человеческое знание. По словам Декарта: «Я убежден, что она [математика] превосходит любое другое знание, переданное нам людьми, так как она служит источником всех других знаний» (Пер. М. Гранцева). Поэтому одной из целей Декарта стало продемонстрировать, что мир физики, который для него был реальностью, подлежащей математическому описанию, можно изобразить, не полагаясь на чувственное восприятие, которое так часто нас подводит. Он настаивает, что разум должен тщательно просеивать все то, что видит глаз, и обращать восприятие в идеи. В конце концов, утверждал Декарт, «сон никогда не может быть отличен от бодрствования с помощью верных признаков» (Здесь и далее цитаты из «Размышлений о первой философии» даны в переводе С. Шейнман-Топштейн). Однако Декарт задавался и таким вопросом: если все, что мы воспринимаем как реальность, на самом деле только сон, откуда мы знаем, что и Земля, и небо – не своего рода «сонный обман», который наслал на наши чувства некий «злобный демон, наделенный беспредельным могуществом»? Или, как выразился однажды Вуди Аллен: «Вдруг все лишь иллюзия и ничего на самом деле не существует? В таком случае я, конечно, переплатил за ковер».
Этот шквал болезненных сомнений и привел Декарта к формулировке его самого знаменитого принципа: «Cogito ergo sum» – «Я мыслю, следовательно, существую»[60]. Иначе говоря, за любыми мыслями обязательно стоит сознание. Как ни парадоксально, в самом акте сомнений сомневаться нельзя! На этом довольно шатком основании Декарт попытался построить полный алгоритм поиска надежных знаний. Декарт вплотную занимался всем, что его интересовало, – философией, оптикой, механикой, медициной, эмбриологией, метеорологией – и везде оставил свой значительный след. И все же, несмотря на убежденность в способности человека строить причинно-следственные связи, Декарт не считал, что фундаментальные открытия можно совершать при помощи одной лишь логики. В сущности, он пришел к тому же выводу, что и Галилей: «Я заметил, что в логике ее силлогизмы и большинство других правил служат больше для объяснения другим того, что нам известно, или… учат тому, чтобы говорить, не задумываясь о том, чего не знаешь, вместо того чтобы познавать это». Декарт пошел другим путем и, поставив перед собой поистине героическую цель заново изобрести или заложить основы целых научных дисциплин, попытался применить принципы, которые он получил при помощи математического метода, чтобы точно знать, что он на верном пути. Эти строгие законы он описал в своих «Правилах для руководства ума». Начинать надо с истин, в которых нет никаких сомнений (подобно аксиомам в евклидовой геометрии), трудные задачи следует разбивать на более простые, переходить от зачаточного к сложному и дважды проверять всю процедуру, дабы убедиться, что не было упущено ни одного возможного решения. Нет нужды говорить, что даже столь тщательно выстроенный и строгий процесс не обеспечил выводам Декарта полную безошибочность. Более того, хотя Декарт прославился в основном колоссальными прорывами в философии, именно его достижения в математике сохраняют актуальность и по сей день. Расскажу об одной его идее, простой, как все гениальное. Это ее Джон Стюарт Милл назвал «величайшим шагом, сделанным в прогрессе точных наук за всю их историю».

Рис. 24
Взгляните на фрагмент карты Манхэттена на рис. 24. Если вы стоите на углу Тридцать четвертой улицы и Восьмой авеню, а у вас назначено свидание на углу Пятьдесят девятой улицы и Пятой авеню, найти дорогу не составит труда, верно? Именно в этом и заключалась идея новой геометрии по Декарту. Он снабдил свое «Рассуждение о методе» приложением «Геометрия» объемом в 106 страниц[61]. Трудно поверить, что эта поразительно простая концепция совершила настоящую революцию в математике. Начал Декарт с почти что тривиального факта: как показывает карта Манхэттена, пара чисел однозначно определяет положение точки на плоскости (например, точка А на рис. 25, а). Затем, опираясь на этот факт, Декарт разработал мощную теорию кривых – аналитическую геометрию. В честь Декарта пара перпендикулярных прямых, которая дает нам систему отсчета, получила название «Декартова система координат». По традиции горизонтальную линию называют «ось х», вертикальную – «ось у», а точку их пересечения – «начало координат». Например, точка, обозначенная А на рис. 25, а, имеет координаты х = 3 и у = 5, что принято обозначать упорядоченной парой чисел (3, 5) (обратите внимание, что начало координат обозначается (0, 0)). А теперь предположим, что мы хотим как-то охарактеризовать все точки на плоскости, которые находятся на расстоянии ровно 5 единиц от начала координат. Разумеется, это и есть геометрическое определение окружности с центром в начале координат и с радиусом в 5 единиц (рис. 25, b). Если вы возьмете точку (3, 4) на этой окружности, то окажется, что ее координаты удовлетворяют равенству 32 + 42 = 52. Более того, легко показать (при помощи теоремы Пифагора), что координаты (x, y) любой точки этой окружности удовлетворяют равенству х 2 + у 2 = 52. Но и этого мало: точки на окружности – это единственные точки на плоскости, для которых верно уравнение х 2 + у2 = 52. Это значит, что алгебраическое уравнение х 2 + у2 = 52 характеризует окружность точно и однозначно. Иначе говоря, Декарт открыл[62] способ выразить геометрическую кривую алгебраическим уравнением или численно – и наоборот. Наверное, когда речь идет просто об окружности, кажется, будто в этом нет ничего особенно интересного, однако все на свете графики – будь то недельные колебания фондовой биржи, температура на Северном полюсе за последние сто лет или темп расширения Вселенной – основаны на гениальной идее Декарта. Алгебра и геометрия внезапно перестали быть двумя независимыми отраслями математики и превратились в два представления одних и тех же истин. Уравнение, описывающее кривую, неявно содержит все мыслимые свойства этой кривой, в том числе, например, все теоремы евклидовой геометрии. Но и это еще не все. Декарт показал, что если начертить в одной и той же системе координат разные кривые, то точки их пересечения задаются общими решениями соответствующих алгебраических уравнений. Таким образом Декарт сумел задействовать мощности алгебры, чтобы исправить неприятные недостатки классической геометрии. Например, Евклид определял точку как сущность, не имеющую ни частей, ни величины. Это довольно темное определение навсегда кануло в забвение, когда Декарт определил точку на плоскости просто как упорядоченную пару чисел (x, y). Но даже эти открытия – всего лишь верхушка айсберга. Если две переменные величины x и y можно соотнести таким образом, чтобы каждому значению х соответствовало одно и только одно значение у, они составляют так называемую функцию, а функции воистину вездесущи. Когда вы отслеживаете уменьшение веса во время диеты, рост вашего ребенка в дни рождения или зависимость расхода топлива от скорости вождения, все эти данные можно выразить в виде функций.

Рис. 25
Функции – это хлеб насущный современных физиков, статистиков и экономистов. Если много повторяющихся научных экспериментов или наблюдений дают одни и те же функциональные соотношения, то они иногда получают почетное звание законов природы – математических правил поведения, которым, оказывается, подчиняются все природные явления. Например, закон всемирного тяготения Ньютона, к которому мы еще вернемся в этой главе, гласит, что если расстояние между двумя точечными массами удвоить, то сила притяжении между ними всегда уменьшается в четыре раза. Таким образом, идеи Декарта открыли дверь систематической «математизации» практически всего чего угодно – вот она, самая суть идеи, что Бог – математик. С чисто математической точки зрения, установив эквивалентность двух отраслей математики, алгебры и геометрии, которые, как полагали раньше, вообще не связаны друг с другом, Декарт расширил горизонты математики и проложил дорогу современному анализу, который позволяет математикам безо всякого труда переходить от одной математической субдисциплины к другой. Таким образом, математика не просто получила возможность описывать широкий диапазон явлений, но и сама по себе стала шире, богаче и всеохватнее. Как выразился великий математик Жозеф-Луи Лагранж (1736–1813): «Пока алгебра и геометрия следовали разными путями, прогресс их был медленным, а область применения ограниченной. Однако когда эти две науки объединились, то напитались свежими соками друг от друга и с тех пор бодро шагают к совершенству».
Несмотря на все важнейшие достижения Декарта в математике, сфера его научных интересов математикой не ограничивалась. Он говорил, что наука – будто дерево: корни ее – метафизика, ствол – физика, а три основные ветви – механика, медицина и мораль. Выбор ветвей может поначалу показаться неожиданным, но на самом деле ветви прекрасно символизируют три главные области, в которых Декарт хотел применить свои новые идеи: Вселенная, человеческий организм и человеческое поведение. Первые четыре года своего пребывания в Голландии – с 1629 по 1633 – Декарт писал трактат по физике и космологии «Мир» («Le Monde»)[63]. Однако, когда книга была уже готова к печати, Декарт получил крайне неприятные известия. В письме к своему другу и критику естествоиспытателю Марену Мерсенну (1588–1648) он жаловался.
Я собирался послать вам мой «Мир» в подарок на Новый год, и еще две недели назад я был полон решимости отправить вам хотя бы часть, если всю книгу не удастся напечатать вовремя. Однако вынужден сказать, что за это время я взял на себя труд поинтересоваться в Лейдене и Амстердаме, можно ли там достать «Диалог о двух системах мира» Галилея, поскольку я вроде бы слышал, что его напечатали в Италии в минувшем году. Мне сообщили, что его и вправду напечатали, однако весь тираж немедленно сожгли в Риме, а самого Галилея отдали под суд и заключили в тюрьму. Я пришел в такой ужас, что едва не решил сжечь все свои бумаги или по крайней мере сделать так, чтобы их никто не увидел. Ведь я не мог даже помыслить, чтобы Галилей – итальянец и, насколько я понимаю, в добрых отношениях с Папой – был обвинен в преступлении по какой бы то ни было причине, кроме того, что он попытался, а так, несомненно, и было, заявить, что Земля движется. Я знаю, что эту точку зрения уже осудили некоторые кардиналы, но, кажется, слышал, что о ней все равно публично рассуждают в Риме. Должен признать, что если это представление ложно, значит, ложны и все основные принципы моей философии (курсив мой. – М. Л.), ведь его можно легко вывести из них. И оно так тесно вплетено в каждую фразу моего трактата, что я не могу убрать его, не нанеся ущерба всей работе. Однако я ни за что на свете не хотел бы публиковать книгу, в которой даже одно-единственное слово вызвало бы неодобрение церкви, поэтому предпочел отозвать трактат из печати, лишь бы не выпускать его в изуродованном виде.
От идеи публиковать «Мир» Декарт и вправду отказался (правда, незавершенная рукопись все же увидела свет в 1664 году), однако большинство результатов включил в свои «Первоначала философии», которые вышли в 1644 году. В этом систематическом рассуждении Декарт сформулировал свои законы природы и теорию вихрей. Два из этих законов сильно напоминают знаменитые Первый и Второй законы Ньютона, но остальные, в сущности, неверны[64]. Согласно теории вихрей, Солнце находится в эпицентре смерча, возникшего в вечной вселенской материи. Планеты вращаются в этом вихре, словно листья в речном водовороте. В свою очередь, планеты формируют свои вторичные вихри, которые движут спутниками. Хотя теория вихрей Декарта – это полнейшее заблуждение (на что беспощадно указывал впоследствии Ньютон), она все равно вызвала интерес, поскольку это была первая серьезная попытка сформулировать теорию Вселенной в целом, основанную на тех же законах, что действуют на поверхности Земли. Иначе говоря, для Декарта не было разницы между явлениями земными и небесными: Земля для него была частью Вселенной, подчиняющейся единым физическим законам.
К сожалению, Декарт нарушил собственные принципы и не заложил в основу своей подробной теории ни непротиворечивой математической модели, ни наблюдательных данных. Тем не менее сценарий Декарта, по которому Солнце и планеты так или иначе возмущали однородную материю Вселенной вокруг них, содержал некоторые элементы, которые значительно позднее стали краеугольным камнем теории гравитации Эйнштейна. Согласно эйнштейновой общей теории относительности, гравитация – это не какая-то загадочная сила, которая действует на огромных пространствах космоса. Правильнее сказать, что массивные тела вроде Солнца искажают пространство вокруг себя: примерно так же батут провиснет, если положить на него увесистый шар для боулинга. А планеты просто движутся в этом искаженном пространстве по кратчайшим возможным траекториям.
Я преднамеренно исключил из этого крайне сжатого изложения идей Декарта практически все его фундаментальные философские идеи, поскольку это увело бы нас слишком далеко от природы математики (о его представлениях о Боге мы еще поговорим в этой главе). Однако я не могу устоять перед искушением процитировать здесь забавное замечание английского математика Уолтера Уильяма Роуза Болла (1850–1925), сделанное в 1908 году:
Что касается его [Декарта] философских теорий, достаточно сказать, что он разбирал те же вопросы, которые обсуждались последние две тысячи лет – и, вероятно, с тем же жаром будут обсуждаться еще две тысячи лет. Едва ли стоит упоминать, что сами эти вопросы очень важны и интересны, однако на них так и не было дано никаких ответов по существу, которые можно было бы строго доказать либо опровергнуть: удается разве что сделать то или иное объяснение более или менее вероятным, и всякий раз, когда философ вроде Декарта полагал, что он наконец-то дал окончательный ответ на какой-то вопрос, у его последователей оставалась возможность указать на логические несообразности в его аргументации. Я где-то читал, что философия всегда занималась в основном взаимоотношениями Бога, Человека и Природы. Первыми философами были древние греки, которые в основном занимались отношениями Бога и Природы, а с Человеком разбирались отдельно. Христианская церковь была так поглощена отношениями Бога и Человека, что полностью пренебрегала Природой. Наконец, современные философы озабочены главным образом отношениями Человека и Природы. Насколько точно подобное историческое обобщение представлений, превалировавших в различные эпохи, я сейчас обсуждать не хочу, однако та часть этого утверждения, которая относится к современной философии, обозначает все недостатки сочинений Декарта.
Свой трактат о геометрии Декарт завершает следующими словами: «И я надеюсь, что наши потомки будут благодарны мне не только за то, что я здесь разъяснил, но и за то, что мною было добровольно опущено, с целью предоставить им самим удовольствие найти это» (рис. 26). Он и представить себе не мог, что человек, которому в год его, Декарта, смерти сравнялось всего восемь лет, продвинет его представления о математике как о сердце науки далеко вперед. Этот непревзойденный гений, пожалуй, имел возможность получить «удовольствие найти это» столько раз, сколько не выпадало на долю больше никому за всю историю человечества.
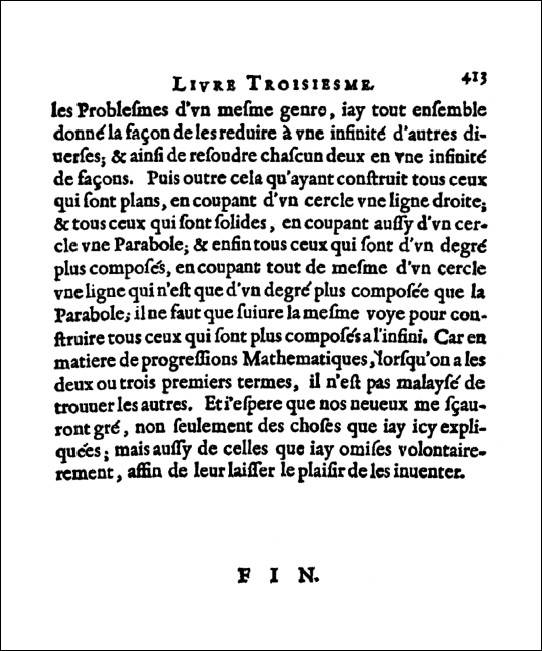
Рис. 26
Великому английскому поэту XVIII века Александеру Поупу (1688–1744) в год смерти Ньютона исполнилось тридцать девять лет (на рис. 27 изображена могила Ньютона в Вестминстерском аббатстве)[65]. Поуп попытался подвести итог достижениям Ньютона в своей известной эпиграмме.
Был этот мир извечной тьмой окутан.
«Да будет свет!» – И вот явился Ньютон.
Спустя почти сто лет после смерти Ньютона лорд Байрон (1788–1824) вписал в свою эпическую поэму «Дон Жуан» следующие строки.
Впервые от Адамовых времен
О яблоке разумное сужденье
С паденьем и с законом тайных сил
Ум смертного логично согласил.

Рис. 27
В глазах последующих поколений ученых Ньютон и в самом деле был и остается фигурой мифологического масштаба, пусть даже и опровергавшей эти самые мифы. Знаменитые слова Ньютона «Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов» зачастую приводят как образец смирения и великодушия, с которыми ученые должны судить о величайших своих открытиях. Но на самом деле Ньютон, вероятно, вложил в эту фразу завуалированный сарказм – она содержится в ответе на письмо человека, которого он считал своим заклятым научным врагом: это был плодовитый физик и биолог Роберт Гук (1635–1703)[66]. Гук не раз и не два обвинял Ньютона в том, что тот крадет у него идеи – сначала по теории света, затем по теории всемирного тяготения. Двадцатого января 1676 года Гук избрал более миролюбивый тон и в личном письме к Ньютону объявил: «И ваши рассуждения, и мои [касательно теории света], думается мне, направлены на одно и то же, то есть на открытие истины, и я полагаю, что оба мы вполне способны вытерпеть возражения». Ньютон решил сыграть в его игры. В своем ответе на письмо Гука, датированном 5 февраля 1676 года, он писал[67]: «Декарт сделал хороший шаг вперед [речь идет о декартовой теории света]. Вы сделали несколько важных дополнений, в особенности – подвергнув философскому осмыслению цвета тонких пластин. Если я и видел дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах гигантов». Поскольку Гук был далеко не гигантом, а, наоборот, коротышкой и к тому же сильно сутулился, самая знаменитая цитата из Ньютона вполне могла означать попросту, что Гуку он решительно ничем не обязан! К тому же Ньютон никогда не упускал случая поддеть Гука, утверждал, что его теория не оставила камня на камне «от всего, что он [Гук] говорил», и отказывался публиковать собственную книгу о свете – «Оптику» – до смерти Гука. Все это свидетельствует о том, что такое толкование его высказывания имеет полное право на существование. Однако когда дело дошло до теории всемирного тяготения, вражда между учеными достигла кульминации[68]. Когда Ньютон услышал, что Гук претендует на авторство закона всемирного тяготения, его обуяла такая жажда мщения, что он педантично искоренил любые упоминания о Гуке из последней части своей книги по этому вопросу. Двадцатого июня 1668 года Ньютон так писал своему другу астроному Эдмонду Галлею (1656–1742).
Ему [Гуку] лучше было бы отказаться от этого дела, потому что он неспособен сделать его. Ведь по его словам совершенно ясно, что он не понимал, что с этим делать. Разве это не чудовищно? Математики, которые все выясняют, согласуют и вообще делают все дело, должны довольствоваться тем, что они всего лишь сухие вычислители и поденщики, а этот, который не делает ничего, только притворяется и сует свой нос куда попало, получит славу за все изобретения как своих последователей, так и всех, кто был до него.
Ньютон совершенно недвусмысленно указал, почему он считал, что у Гука нет никаких заслуг: Гук не умел формулировать свои идеи на языке математики. И в самом деле, то качество, которое, собственно, и выделяет теории Ньютона из общего ряда, та присущая им особенность, которая и превращает их в нерушимые законы природы, – это и есть тот самый факт, что все они выражены на кристально ясном, самосогласованном языке математических уравнений. А теоретические идеи Гука, напротив, при всей своей – во многих случаях – изобретательности, выглядели всего лишь как собрание подозрений, домыслов и натяжек[69].
Кстати, в феврале 2006 года были обнаружены рукописные протоколы заседаний Королевского общества с 1661 по 1682 год, которые долгое время считались утраченными. Рукописи, содержащие более 520 страниц, начертанных рукой самого Гука, были обнаружены в одном доме в Гемпшире, где, видимо, последние полвека хранились в буфете. В протоколах за декабрь 1679 года речь идет о переписке между Гуком и Ньютоном, где они обсуждали эксперимент, который подтверждал бы, что Земля вращается.
Ньютон – вернемся к его научной стратегии – опирался на концепцию Декарта, гласящую, что Вселенную можно описать математически, и превратил ее в рабочую реальность. В предисловии к своему фундаментальному труду «Математические начала натуральной философии» («Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» или просто «Principia») он провозгласил следующее[70].
…Сочинение это нами предлагается как математические основания физики. Вся трудность физики, как будет видно, состоит в том, чтобы по явлениям движения распознать силы природы, а затем по этим силам объяснить остальные явления. Для этой цели предназначены общие предложения, изложенные в книгах первой и второй. В третьей же книге мы даем пример вышеупомянутого приложения, объясняя систему мира, ибо здесь из небесных явлений, при помощи предложений, доказанных в предыдущих книгах, математически выводятся силы тяготения тел к Солнцу и отдельным планетам. Затем по этим силам, также при помощи математических предложений, выводятся движения планет, комет, Луны и моря (здесь и далее пер. А. Крылова).
Как только мы поймем, что Ньютон в своих «Началах» и в самом деле выполнил все обещания, которые дал в предисловии, остается только ахнуть от восхищения. Очевиден также намек на превосходство сочинения Ньютона над трудами Декарта: Ньютон решил назвать свою книгу «Математические начала» в пику «Первоначалам философии» Декарта. Того же метода математических рассуждений Ньютон придерживается и в своем трактате, в большей степени основанном на экспериментальных данных – в книге о свете «Оптика» (Newton 1730). Он открывает книгу следующим предуведомлением: «Мое намерение в этой книге – не объяснять свойства света гипотезами, но изложить и доказать их рассуждением и опытами. Для этого я предпосылаю следующие определения и аксиомы (здесь и далее пер. С. Вавилова)». И далее излагает свои мысли так, словно пишет книгу о евклидовой геометрии – дает краткие описания и утверждения. Затем, в конце книги, Ньютон еще раз подчеркивает: «Как в математике, так и в натуральной философии исследование трудных предметов методом анализа всегда должно предшествовать методу соединения».
Мастерство, с которым Ньютон владел математическим аппаратом, иначе как чудесным не назовешь. Этот гений, по странному историческому совпадению родившийся в год смерти Галилея, сформулировал фундаментальные законы механики, расшифровал законы, описывающие движение планет, заложил теоретическую основу явлений света и цвета, а также основы интегрального и дифференциального исчисления. Одних этих достижений было бы достаточно, чтобы отвести Ньютону почетное место в галерее самых выдающихся ученых. Однако на первое место на пьедестале почета волшебников – на месте, отведенном для величайшего ученого всех времен и народов – его поставили именно труды по гравитации. Эти труды заполнили пропасть между Землей и небесами, позволили свести воедино астрономию и физику и поместили всю Вселенную под один математический «зонтик». Как же появился на свет этот шедевр – «Начала»?
Я задумался о том, что тяготение простирается до самой Луны
Уильям Стьюкли (1687–1765), врач и антиквар, друг Ньютона (несмотря на почти сорокалетнюю разницу в возрасте), впоследствии стал первым биографом великого ученого. В своих «Мемуарах о жизни сэра Исаака Ньютона» («Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life» он рассказал нам одну из самых знаменитых легенд в истории науки[71].
Пятнадцатого апреля 1726 года я навестил сэра Исаака в его квартире в доме Орбелла в Кенсингтоне, и мы с ним пообедали и провели целый день вдвоем… После обеда, поскольку погода стояла теплая, мы вышли в сад попить чаю в тени яблонь – только он и я. Помимо всего прочего, он рассказал мне, что идея всемирного тяготения пришла ему в голову точно в таких же обстоятельствах, только значительно раньше [в 1666 году, когда Ньютон приехал из Кембриджа домой из-за эпидемии]. Это было связано с падением яблока, когда Ньютон сидел в задумчивости. И он подумал: почему яблоко всегда падает перпендикулярно земле? Почему оно летит не вбок и не вверх, но всегда только к центру Земли? Несомненно, причина в том, что Земля его притягивает. Должно быть, в веществе заключена какая-то притягательная сила, причем сумма притягательной силы вещества Земли сосредоточена, как видно, в центре Земли, а не с какой-то ее стороны. Именно поэтому яблоко падает перпендикулярно, то есть к центру. Таким образом, если вещество притягивает вещество, это должно быть пропорционально его количеству. Поэтому и яблоко притягивает Землю, как и Земля – яблоко. То есть существует сила, которую мы зовем тяготением, которая распространяется через всю Вселенную… Таково было рождение этих поразительных открытий, благодаря чему он выстроил философию на прочном фундаменте, к вящему изумлению всей Европы.
Когда произошла легендарная история с яблоком – именно в 1666 году или нет, – в сущности, неважно; главное – эта легенда сильно недооценивает гениальность и уникальную глубину аналитического мышления Ньютона[72].
Хотя нет никаких сомнений, что первую свою рукопись о теории гравитации Ньютон написал до 1669 года, ему не нужно было своими глазами увидеть падение яблока, чтобы понять, что Земля притягивает тела вблизи своей поверхности. Да и формулировка закона всемирного тяготения не могла опираться исключительно на зрелище падающего яблока. Более того, многое указывает, что некоторые важнейшие понятия, без которых Ньютон не мог заявить о существовании универсальной силы тяготения, сложились лишь к 1684–85 годам. Идеи такого масштаба в анналах науки столь редки, что даже человек феноменального интеллекта – такой как Ньютон – мог прийти к ней лишь посредством длинной цепочки интеллектуальных шагов.
Все началось, вероятно, еще в юности Ньютона, при крайне неудачном знакомстве с «Началами» Евклида, объемистым трактатом по геометрии[73]. По признанию самого Ньютона, сначала он «читал только формулировки теорем», поскольку, по его мнению, они были до того очевидны, что он «не понимал, кому может быть интересно писать для них доказательства». Первой теоремой в трактате, которая заставила его задуматься и написать несколько строчек рассуждений, была теорема о том, что «в прямоугольном треугольнике квадрат гипотенузы равен квадратам двух других сторон» – теорема Пифагора. Как ни странно, хотя Ньютон во время обучения в Колледже Св. Троицы в Кембридже читал книги по математике, многие работы, доступные в его время, прошли мимо него. Очевидно, они ему были просто не нужны!
Пожалуй, самое сильное влияние на направление математической и научной мысли Ньютона оказала именно «Геометрия» Декарта. Ньютон прочитал ее в 1664 году и перечитывал несколько раз, пока «постепенно не овладел всем ее содержанием». Идея функций и их свободных переменных обеспечивала гибкость, которая и открыла перед Ньютоном поистине безграничные возможности. Аналитическая геометрия не только проложила Ньютону путь к дифференциальному и интегральному исчислению, а тем самым и к изучению свойств функций, их графиков и касательных к ним – она воспламенила у Ньютона исследовательский дух. Позади остались занудные построения при помощи циркуля и линейки – на смену им пришли произвольные кривые, выраженные алгебраически. Затем, в 1665–66 годах, на Лондон обрушилась страшная эпидемия чумы. Когда количество жертв за неделю достигло нескольких тысяч человек, колледжи Кембриджа пришлось закрыть. Ньютон был вынужден оставить занятия и вернуться домой в далекую деревушку Вулсторп. Там, в сельской тиши, Ньютон предпринял первую попытку доказать, что сила, которая удерживает Луну на орбите вокруг Земли, и тяготение Земли – та самая сила, из-за которой падают яблоки, – на самом деле одно и то же. Ньютон описал свои первые подступы к закону всемирного тяготения в заметке, написанной около 1714 года[74].
И вот в том же [1666] году я задумался о силе тяготения, которая простирается до самой орбиты Луны, и, обнаружив, как рассчитать силу, с которой шар, вращающийся внутри сферы, давит на поверхность сферы, по закону Кеплера, согласно которому квадраты периодов вращения планет относятся как кубы их расстояний от центров орбит, я вывел, что силы, удерживающие планеты на орбитах, должны быть обратно пропорциональны квадратам их расстояний от центров, вокруг которых они вращаются, и таким образом сравнил силу, требуемую для удержания Луны на орбите, с силой тяготения на поверхности Земли, и ответы оказались почти одинаковыми. А было это в два чумные года, 1665 и 1666, ведь именно тогда я был в том возрасте, который более всего способствует изобретательности, и математика и философия увлекали меня особенно сильно.
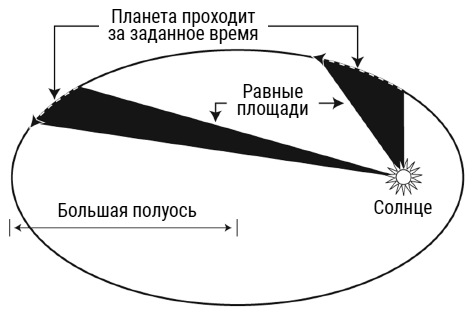
Рис. 28
Здесь Ньютон ссылается на свой важный вывод (из законов движения планет Кеплера), что гравитационное притяжение двух сферических тел меняется обратно пропорционально расстоянию между ними. Иначе говоря, если бы расстояние между Землей и Луной утроилось, сила тяготения, которая действовала бы на Луну, оказалась бы в девять раз (три в квадрате) меньше.
По не вполне понятным причинам Ньютон, в сущности, отложил сколько-нибудь серьезные исследования гравитации до 1679 года[75]. Затем он получил два письма от своего злейшего врага Роберта Гука, которые оживили в нем затухший было интерес к динамике в целом и к движению планет в частности. А пробудившееся любопытство привело к колоссальным результатам: опираясь на свои недавно сформулированные законы механики, Ньютон доказал второй закон движения планет Кеплера. Точнее, он показал, что при движении планеты по эллиптической орбите вокруг Солнца линия, соединяющая планету с Солнцем, заметает за равные промежутки времени равные площади (рис. 28). Кроме того, Ньютон доказал, что «для тела, вращающегося по эллипсу… притяжение, направленное к фокусу эллипса… обратно пропорционально квадрату расстояния». Все это были важные вехи на пути к «Началам».
«Начала»
Весной или летом 1684 года Ньютона в Кембридже навестил Галлей. Он уже некоторое время обсуждал законы движения планет Кеплера с Гуком и со знаменитым архитектором Кристофером Реном (1632–1723). Во время этих бесед за чашкой кофе в кофейне и Гук, и Рен заявили, что уже несколько лет назад независимо вывели закон всемирного тяготения, обратно пропорционального квадрату расстояния, однако ни тот ни другой так и не смог представить полное математическое доказательство. Галлей решил задать Ньютону наболевший вопрос: знает ли он, какой была бы орбита планеты, подвергавшейся воздействию силы, которая меняется обратно пропорционально квадрату расстояния? К его изумлению, Ньютон ответил, что уже несколько лет назад доказал, что орбита эта – эллипс. Эта история рассказана в заметке математика Абрахама де Муавра (1667–1754), страничка которой приведена на рис. 29[76].
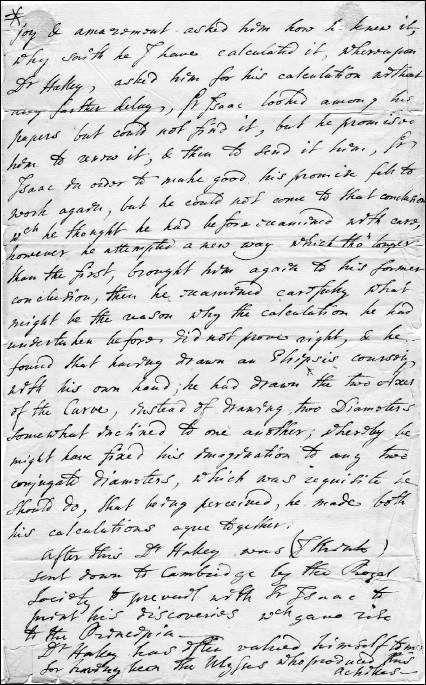
Рис. 29
В 1684 году доктор Галлей приехал навестить его [Ньютона] в Кембридже, и когда они провели вместе некоторое время, доктор спросил его, какова, по его мнению, та кривая, которую описывали бы планеты, если предположить, что сила притяжения к Солнцу обратно пропорциональна квадрату расстояния до него. Сэр Исаак тут же ответил, что это будет эллипс, и доктор, вне себя от радости и изумления, спросил, откуда он это знает; что же, говорит Ньютон, я это вычислил; на это доктор Галлей попросил его, не откладывая, показать ему выкладки, и сэр Исаак поискал в своих бумагах, не нашел их, однако пообещал заново записать и послать доктору.
Галлей еще раз приехал к Ньютону в ноябре 1684 года. Между этими визитами Ньютон лихорадочно трудился. Де Муавр кратко описывает этот период.
Дабы исполнить свое обещание, сэр Исаак уселся за работу, однако никак не мог прийти к тому же выводу, который, как он полагал, ему удалось ранее получить со всей строгостью, однако он попробовал пойти другим путем, который, хотя и оказался длиннее прежнего, привел его еще раз к тому же выводу, а затем тщательно исследовал, по каким же причинам те вычисления, которые он проделал до этого, оказались неверными, и… добился, чтобы оба доказательства привели к одному и тому же результату.
Этот суховатый отчет не дает даже самого отдаленного представления о том, чего на самом деле достиг Ньютон за несколько месяцев между двумя визитами Галлея. Он написал целый трактат «De Motu Corporum in Gyrum» («О движении тел по орбитам»), где доказал почти все законы о движении тел по круглым и эллиптическим орбитам и все законы Кеплера и даже решил задачу о движении частицы в сопротивляющейся среде (например, в воздухе). Галлей был потрясен. К вящей своей радости, он в конце концов уговорил Ньютона опубликовать все эти поразительные открытия, и тогда наконец и сложились все условия для написания «Начал».
Поначалу Ньютон полагал, что эта книга будет всего лишь углубленной и расширенной редакцией трактата «О движении». Однако, приступив к работе, он обнаружил, что некоторые темы нуждаются в дальнейшем обдумывании. Особенно его беспокоили два вопроса. Один состоял в следующем. Ньютон первоначально сформулировал закон всемирного тяготения так, словно и Солнце, и Земля, и остальные планеты были математическими материальными точками, не имеющими измерений. Разумеется, он понимал, что на самом деле это не так, поэтому считал, что применительно к Солнечной системе его результаты лишь приблизительны. Некоторые исследователи даже полагают, что он в очередной раз отложил работу над законом всемирного тяготения после 1679 года именно потому, что такое положение дел его не устраивало[77]. Что же касается силы, действующей на яблоко, тут все было еще хуже. Ведь очевидно, что те части Земли, которые находятся прямо под яблоком, гораздо ближе к нему, чем те части, которые находятся по ту сторону земного шара. Как же вычислить результирующую силу притяжения? Астроном Герберт Холл Тернер (1861–1930) описывал мысленные терзания Ньютона в статье, напечатанной в лондонской «Times» 19 марта 1927 года.
В то время ему уже приходило в голову общее представление о том, что тяготение меняется обратно пропорционально расстоянию, однако он видел существенные препятствия обобщению этого закона, о которых умы меньшего масштаба и не подозревали. Главное из них ему удалось преодолеть лишь в 1685 году… Дело в том, что нужно было увязать силу притяжения Земли, действующую на тело, расположенное далеко, скажем, на расстоянии Луны, с силой притяжения, которая действует на яблоко вблизи земной поверхности. В первом случае различные частицы, составляющие Землю (чтобы сделать свой закон универсальным, Ньютон хотел распространить его на каждую из них в отдельности), находятся от Луны на примерно одинаковом расстоянии – и с точки зрения величины, и с точки зрения направления, – однако их расстояния до яблока и в том и в другом отношении сильно разнятся. Как же сложить или свести в единую результирующую силу все отдельные силы притяжения в последнем случае? И в каком таком «центре гравитации» они могут быть сосредоточены – да и существует ли он?
Окончательный прорыв произошел весной 1685 года. Ньютон сумел доказать необходимую теорему: для двух сферических тел «сила, с которой одна сфера притягивает другую, обратно пропорциональна квадрату расстояния между их центрами». То есть сферические тела с гравитационной точки зрения ведут себя так, словно это точечные массы, сосредоточенные в их центрах. Значение этой теоремы и ее красивого доказательства подчеркивал математик Джеймс Уитбред Ли Глейшер (1848–1928). В обращении к участникам празднования двухсотлетия «Начал» Ньютона (в 1887 году) Глейшер сказал такие слова (Glaisher 1888).
Лишь когда Ньютон доказал эту великолепную теорему – а мы с его собственных слов знаем, что он никак не ожидал столь красивого результата, пока не получил его после математических выкладок – перед ним открылась вся механика Вселенной… Насколько же иначе стали видеться Ньютону его построения, когда он обнаружил, что его результаты для Солнечной системы, которые он предполагал лишь приблизительно верными, оказались на самом деле абсолютно точными! Можно представить себе, как этот внезапный переход от приблизительности к точности вдохновил Ньютона на еще более усердный интеллектуальный труд. Теперь в его власти было с абсолютной точностью применять математический анализ к решению актуальных астрономических задач.
Другой вопрос, который, очевидно, не давал Ньютону покоя еще тогда, когда он писал первые черновики трактата «О движении», – то обстоятельство, что он пренебрегал силой, с которой планеты притягивают Солнце. Иначе говоря, в первоначальной формулировке Ньютон свел Солнце просто к неподвижному центру сил такого рода, какой, по словам Ньютона, «едва ли существует» в реальном мире. Эта конструкция противоречила третьему закону самого же Ньютона, согласно которому «сила действия равна силе противодействия». Каждая планета притягивает Солнце с точно такой силой, с какой Солнце притягивает планету. Поэтому Ньютон добавил: «Если имеются два тела [например, Земля и Солнце], ни притягиваемое, ни притягивающее тело не могут быть в состоянии покоя». Эта незначительная на первый взгляд поправка на самом деле стала важным недостающим звеном в цепи рассуждений, которые привели к формулировке закона всемирного тяготения. Мы можем попробовать проследить логику Ньютона. Если Солнце притягивает Землю, то Земля должна тоже притягивать Солнце с той же силой. То есть Земля не просто вращается вокруг Солнца – скорее они оба вращаются вокруг общего центра тяжести. Но это еще не все. Все другие планеты также притягивают Солнце, и каждая планета, само собой, ощущает не только притяжение Солнца, но и притяжение всех других планет. Такую же логику можно применить к Юпитеру с его спутниками, к Земле и Луне и даже к яблоку и Земле. Вывод гениально прост: существует одна и только одна гравитационная сила, и действует она между двумя любыми массами в любой точке Вселенной. Именно это и было нужно Ньютону. «Начала» – 510 страниц убористого латинского текста – вышли в свет в июле 1687 года.
Ньютон провел наблюдения и опыты с погрешностью всего в четыре процента и из них вывел математическую формулу тяготения, которая оказалась точной с погрешностью в одну миллионную и даже меньше. Он впервые объединил объяснения природных явлений с мощным инструментом предсказания результатов наблюдений. Физика и математика оказались связаны навек – а развод науки и философии стал неизбежен.
В 1713 году вышло второе издание «Начал», которое основательно переработали и сам Ньютон, и в особенности математик Роджер Котс (1682–1716). На рис. 30 приведен его фронтиспис. Ньютон, который никогда не отличался добротой и приветливостью, даже не поблагодарил Котса за отличную работу в предисловии к книге. И все же, когда Котс в тридцать три года скончался от лихорадки, Ньютон выразил некоторую признательность: «Если бы он прожил дольше, мы бы наверняка что-нибудь узнали».
Любопытно, что некоторые самые примечательные соображения Ньютона о Боге появились лишь в его размышлениях о «Началах» уже после подготовки второго издания. В письме к Котсу 28 марта 1713 года, менее чем за три месяца до завершения работы над вторым изданием «Начал», Ньютон пишет: «Рассуждения о Боге на основании [природных] явлений относятся, несомненно, к области натурфилософии». Более того, Ньютон изложил свои идеи о Творце, который «вечен и бесконечен, всемогущ и всеведущ» в «Общем поучении», которое присовокупил к «Началам» в качестве завершающего штриха.
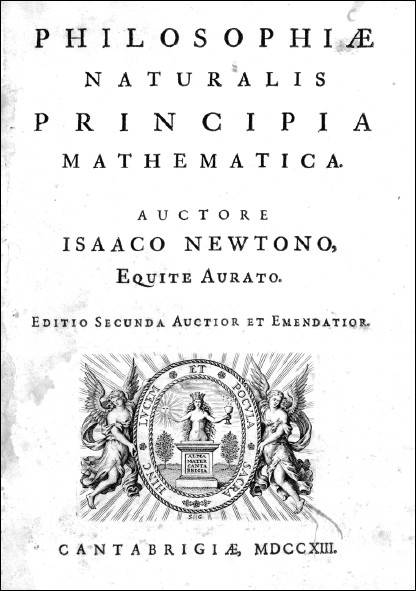
Рис. 30
Однако осталась ли прежней роль Бога во Вселенной, которая становилась все более и более математической? Или Бог тоже все больше и больше становился математиком? Ведь до формулировки закона всемирного тяготения регулировка движения планет считалась безусловной прерогативой Господа. Как же Ньютон и Декарт видели такой сдвиг в сторону научного объяснения природных явлений?
Бог-математик Ньютона и Декарта
И Ньютон, и Декарт, как и подавляющее большинство их современников, были людьми религиозными. Французский философ-энциклопедист Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778), более известный под псевдонимом Вольтер, который довольно часто и много писал о Ньютоне, сказал, как известно, что «Если бы Бога не было, Его пришлось бы выдумать».
Для Ньютона доказательством существования Бога было само существование мира и математическая правильность наблюдаемой Вселенной[78]. Первым к подобного рода причинному рассуждению прибег теолог Фома Аквинский (ок. 1225–1274), и оно подпадает под общефилософские категории космологического аргумента и телеологического аргумента. Коротко говоря, космологический аргумент – это утверждение, что поскольку физический мир так или иначе возник, должна быть какая-то Первопричина, то есть Бог-Творец. Телеологический аргумент, он же «аргумент от устройства мира», – это попытка вывести существование Бога из разумности системы мироздания. Вот как Ньютон изложил в «Началах» свои соображения по этому поводу: «Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа. Если и неподвижные звезды представляют центры подобных же систем, то все они, будучи построены по одинаковому намерению, подчинены и власти единого». Весомость космологического, телеологического и других аргументов в качестве доказательства существования Бога много сотен лет служила предметом философских споров[79]. Лично у меня сложилось впечатление, что теисты не нуждаются в подобных аргументах, так как уже убеждены в своей правоте, а на атеистов они все равно не действуют.
Ньютон на основании универсальности своих законов добавил еще одну поправку. С его точки зрения, то, что все мироздание управляется одними и теми же законами и при этом стабильно, служило очередным доказательством Божественного руководства, особенно если учесть, что «свет неподвижных звезд – той же природы (курсив мой. – М. Л.), как и свет Солнца, и все системы испускают свет друг на друга, а чтобы системы неподвижных звезд от своего тяготения не падали друг на друга, он их расположил в таких огромных одна от другой расстояниях».
В своей книге «Оптика» Ньютон ясно и недвусмысленно заявил, что не считает, будто существование Вселенной можно объяснить только законами природы как таковыми, поскольку Бог есть создатель и хранитель всех атомов, составляющих вещество Вселенной: «Ибо тот, кто создал их [атомы], расположил их в порядке. И если он сделал так, то не должно философии искать другое происхождение мира или полагать, что мир мог возникнуть из хаоса только по законам природы». Иначе говоря, для Ньютона Бог, помимо всего прочего, был математиком – и вовсе не в переносном смысле, но практически буквально: Бог-Творец создал физический мир, который подчиняется математическим законам.
Декарт был настроен более философски, чем Ньютон, поэтому вопрос о доказательстве существования Бога очень его занимал. Для него путь от уверенности в собственном существовании («Я мыслю, следовательно, я существую») к способности выстроить непротиворечивую систему объективной науки должен был пройти через этап неопровержимого доказательства существования совершенного высшего существа – Бога. Этот Бог, как считал Декарт, и есть в конечном итоге первоисточник всей истины и единственная гарантия верности человеческих умозаключений. Это рассуждение, подозрительное тем, что замкнуто само на себя (его даже называют «картезианским порочным кругом»), критиковали уже современники Декарта, в особенности французский философ, теолог и математик Антуан Арно (1612–1694). Арно задал вопрос, сокрушительный в своей простоте: если нам нужно доказывать существование Бога, чтобы гарантировать верность человеческого мыслительного процесса, как нам верить этому доказательству, которое само по себе есть плод человеческого разума? Несколько отчаянных попыток вырваться из этого порочного круга сделал Декарт, но многие философы, его последователи, не считали, что его старания привели к успеху. Таким же сомнительным было и «дополнительное доказательство» существования Бога. Оно подпадает под общефилософскую категорию онтологического аргумента. Философ и богослов Св. Ансельм Кентерберийский (1033–1109) первым предложил подобного рода логическое рассуждение в 1078 году, и с тех пор оно то и дело всплывало в разных обличьях. Ход рассуждений примерно таков. Бог по определению настолько совершенен, что это величайшее мыслимое существо. Однако если Бога нет, тогда можно помыслить и об еще более великом существе – о таком, которое мало того что наделено всеми совершенствами Бога, но еще и существует. Это противоречит определению Бога как величайшего мыслимого существа, а следовательно, Бог существует. По словам Декарта, «отделять существование Бога от его сущности столь же немыслимо, как отделять от сущности треугольника свойство равенства трех его углов двум прямым углам».
Подобные логические маневры особенно никого не убеждали, и многие философы утверждали, что для того, чтобы доказать существование чего-то, что находится в стороне от физического мира, а особенно чего-то столь огромного, как Бог, одной логики недостаточно (см. Dennett 2006, Dawkins 2006, Paulos 2008).
Как ни странно, Декарта обвинили в тайном атеизме, и в 1667 году его труды попали в составленный католической церковью Список запрещенных книг. В свете того, что Декарт напирал на идею Бога как единственной гарантии истины, это обвинение было более чем нелепо.
Оставим в стороне чисто философские вопросы и обратимся к самому интересному в свете темы нашей книги представлению Декарта – о том, что Бог создал все «вечные истины». В частности, Декарт заявлял, что «математические истины, которые вы называете вечными, заложены Богом и полностью зависят от Него – не меньше, чем остальные Его создания». Итак, картезианский Бог был более чем математиком – в том смысле, что он создал и математику, и физический мир, полностью основанный на математике. Согласно этой точке зрения, которая превалировала в конце XVII века, люди, очевидно, всего лишь открыли математику, но не изобрели ее.
А главное – труды Галилея, Декарта и Ньютона глубочайшим образом изменили отношения между математикой и физикой. Во-первых, стремительное развитие физики стало мощнейшим стимулом для математических исследований. Во-вторых, законы Ньютона сделали даже самые отвлеченные отрасли математики – в частности, математический анализ, – сутью физических объяснений. И, наконец, самое важное – грань между физикой и математикой стерлась до полного исчезновения, и математические открытия и огромные области физических исследований практически слились воедино. Все эти достижения вызвали у математиков прилив энтузиазма, какого, возможно, они не знали еще со времен древних греков. Математики поняли, что именно им предстоит покорить весь мир, а это подарило им безграничные возможности для открытий.
Статистики и пробабилисты: наука о неопределенности
Мир не стоит на месте. Все, что нас окружает, либо движется, либо постоянно меняется. Даже твердая Земля под ногами на самом деле вертится вокруг своей оси, вращается вокруг Солнца и – вместе с Солнцем – движется вокруг центра нашей галактики Млечный Путь. Воздух, которым мы дышим, состоит из триллионов молекул, которые движутся – хаотически, без остановки. А одновременно кругом растут растения, распадаются радиоактивные материалы, температура атмосферы растет и падает в зависимости от времени суток и времени года, а ожидаемая продолжительность жизни просто возрастает. Однако эта космическая неугомонность сама по себе не отменяет математику. Ньютон и Лейбниц разработали отрасль математики под названием математический анализ[80] именно затем, чтобы можно было строго анализировать и строить точные модели и движения, и перемен. К настоящему времени этот невероятный научный инструмент достиг такой мощности и универсальности, что его можно применять для решения самых разных задач – от движения космического челнока до распространения инфекционной болезни. Подобно тому как кино передает движение, разбивая его на последовательность неподвижных кадров, математический анализ измеряет перемены с таким маленьким шагом, что это позволяет определять количества, существующие лишь мимолетно, например мгновенную скорость, ускорение или темп изменения.
Математики так называемой эпохи Рационализма (конец XVII–XVIII вв.), следуя по стопам титанов Ньютона и Лейбница, расширили и дополнили математический анализ и разработали еще более мощную отрасль дифференциальных уравнений, которая находит еще более широкое практическое применение. Это новое орудие позволило ученым строить подробные математические теории самых разных явлений – от музыки, порожденной струнами скрипки, до передачи тепла, от движения волчка до течения жидкостей и газов. Некоторое время именно дифференциальные уравнения были излюбленным инструментом прогресса в физике.
Одними из первопроходцев в исследовании новых горизонтов, которые открывали дифференциальные уравнения, были члены знаменитой семьи Бернулли[81].
Между серединой XVII и серединой XVIII веков эта семья подарила миру целых восемь выдающихся математиков. Не меньше, чем математическими достижениями, эти одаренные личности прославились и внутрисемейными распрями (описанными в Hellman 2006). Скандалы между разными Бернулли всегда были связаны с соперничеством за первенство в математике, но при этом задачи, о которых они спорили, казалось бы, не играют в наши дни такой уж важной роли. Однако решение этих хитрых головоломок зачастую прокладывало дорогу гораздо более серьезным математическим открытиям.
В целом нет никаких сомнений, что семейство Бернулли играло важную роль в становлении математики как языка самых разнообразных физических процессов.
Примером того, как сложно было устроено мышление двух самых блистательных Бернулли – братьев Якоба (1654–1705) и Иоганна (1667–1748) – может служить следующая история. Якоб Бернулли был одним из основателей теории вероятностей, и мы еще вернемся к нему в этой главе. Однако к 1690 году Якоб с головой погрузился в изучение задачи, которую за двести лет до него сформулировал и исследовал еще величайший деятель эпохи Возрождения Леонардо да Винчи: какую форму примет гибкая, но нерастяжимая цепочка, закрепленная за концы (как на рис. 31)? Леонардо в своих записных книжках несколько раз рисовал такие цепочки. Считается, что эту задачу задавал и Декарту его друг Исаак Бекман, однако не осталось никаких свидетельств, что Декарт пытался ее решить. Впоследствии эта задача получила название «задача о цепной линии»[82]. Галилей считал, что это должна быть парабола, однако французский иезуит Игнас-Гастон Пардис (1636–1673) доказал, что это не так. Правда, сам Пардис тоже не сумел математически вывести правильную форму цепочки.
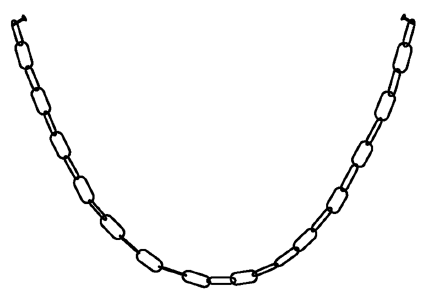
Рис. 31
Прошел всего год с тех пор, как Якоб Бернулли поставил задачу, когда его младший брат Иоганн решил ее (при помощи дифференциального уравнения). Решили ее и Лейбниц, и голландский математик и физик Христиан Гюйгенс (1629–1695), однако решение Гюйгенса было получено не очень ясным геометрическим методом. То, что Иоганн сумел решить задачу, которая поставила в тупик его брата и учителя, было для младшего Бернулли неисчерпаемым источником самодовольства – даже спустя тринадцать лет после смерти Якоба. Иоганн не мог скрыть торжества в письме, адресованном 29 сентября 1718 года французскому математику Пьеру Ремону де Монмору (1678–1719) (цит. по Truesdell 1960).
Вы говорите, что задачу поставил мой брат; так и есть, однако следует ли из этого, что он получил ее решение? Отнюдь нет. Когда он предложил мне рассмотреть задачу (ибо я первым задумался над ней), никто из нас, ни тот ни другой, не сумел ее решить, мы отчаялись и считали, что она не имеет решения, пока господин Лейбниц не опубликовал в Лейпцигском журнале за 1690 год, стр. 360, заметку, что решил задачу, однако решения не представил, словно бы давал время другим ученым, и именно это побудило нас – и брата, и меня – заново взяться за нее.
Сначала Иоганн бессовестно приписывает себе даже саму постановку задачи, а затем с нескрываемым злорадством продолжает.
Старания моего брата ни к чему не привели, мне же повезло больше, ибо я обладаю мастерством (я говорю не хвастаясь, к чему скрывать истину?), позволяющим найти полное решение… Да, безусловно, это потребовало от меня усердных занятий, лишивших меня остатка ночного сна… однако наутро, преисполнившись радости, я бросился к брату, который все так же безуспешно бился над своим гордиевым узлом, но у него ничего не получалось, поскольку он вслед за Галилеем считал, будто цепная линия – это парабола. «Стой! Стой! – говорю я ему. – Не терзай себя больше попытками доказать, что цепная линия тождественна параболе, поскольку это совершенно неверно»… Но затем вы поражаете меня выводом, что мой брат будто бы нашел метод решения задачи… неужели вы и вправду думаете, спрашиваю я вас, что если бы мой брат решил упомянутую задачу, он был бы столь многим мне обязан, что даже не заявил, что входит в число решивших задачу, уступив мне славу и дав в одиночестве выйти на сцену в качестве первого решившего вместе с господами Гюйгенсом и Лейбницем?
Если вам нужны были доказательства, что математики тоже люди, вот они. Однако семейные распри отнюдь не мешали различным Бернулли получать великолепные математические результаты. В первые же годы после эпизода с цепной линией Якоб, Иоганн и Даниил Бернулли (1700–1782) не только решили похожие задачи о провисающих веревках, но и внесли уточнения в теорию дифференциальных уравнений в целом и решили задачу о движении снарядов в сопротивляющейся среде.
История о цепной линии открывает перед нами еще одну сторону могущества математики: математические решения есть даже у тривиальных на первый взгляд физических задач. Кстати, форма цепной линии и в наши дни приводит в восторг миллионы посетителей знаменитых Ворот Запада в Сент-Луисе, в штате Миссури. Это сооружение, ставшее символом города и штата, финско-американский архитектор Ээро Сааринен (1910–1961) и германо-американский инженер-строитель Ханскарл Бандель (1925–1993) спроектировали в форме, близкой к очертаниям перевернутой цепной линии.
Ошеломляющие успехи физики в открытии математических законов, которые управляют поведением мироздания в целом, заставили задаться неизбежным вопросом, не лежат ли подобные принципы также в основе биологических, общественных или экономических процессов. Математикам стало интересно, служит ли математика языком только природы – или человеческой природы тоже? И если подлинно универсальных принципов все же не существует, можно ли при помощи математического инструментария хотя бы моделировать, а следовательно, и объяснять общественное поведение? Поначалу многие математики были убеждены, что «законы», основанные на той или иной версии математического анализа, позволят точно предсказать все события в будущем, и большие, и малые. Такое мнение разделял, например, великий физик и математик Пьер-Симон Лаплас (1749–1827). Пять томов «Mécanique céleste» («Небесной механики») Лапласа предлагают первое полное, хотя и приближенное, решение задачи о движении планет и спутников Солнечной системы. Кроме того, именно Лаплас ответил на вопрос, который ставил в тупик самого Ньютона: почему Солнечная система так стабильна? Ньютон полагал, что планеты из-за взаимного притяжения должны неминуемо упасть на Солнце или разлететься в свободное пространство – и поэтому нужна длань Господня, чтобы Солнечная система осталась целой и невредимой. Лаплас придерживался несколько иных представлений. Он не полагался на вмешательство самого Господа, а просто доказал математически, что Солнечная система стабильна на протяжении периодов времени гораздо более длительных, чем предсказывал Ньютон.
Чтобы решить эту сложную задачу, Лаплас ввел новый математический инструмент – так называемую теорию возмущений, позволявшую вычислить совокупный эффект множества мелких возмущений орбиты каждой планеты. И наконец, в довершение всего, Лаплас предложил одну из первых моделей зарождения Солнечной системы как таковой – согласно его небулярной теории, Солнечная система образовалась из сгустившегося газового облака.
Если учесть все эти поразительные достижения, не приходится удивляться, что в своем «Опыте философии теории вероятностей» Лаплас отважно провозгласил следующее (Laplace 1814, перевод на английский Truscot and Emory 1902).
Любые события, даже те, которые по незначительности своей не должны, казалось бы, подчиняться великим законам природы, все равно определяются ими с той же необходимостью, что и обращение Солнца. Поскольку раньше было неизвестно, что за узы объединяют такие события с системой мироздания в целом, мы на свой страх и риск считали, что они зависят от конечных причин… Следовательно, мы должны считать нынешнее состояние Вселенной результатом ее состояния в прошлом и причиной грядущего. Нужно учесть, что если некий разум сможет охватить все силы, движущие природой, и взаимное расположение всех сущностей, которые ее составляют, и этот разум окажется достаточно велик, чтобы подвергнуть эти данные анализу, он в тот же миг сумеет рассчитать по одной и той же формуле все движения как величайших тел во Вселенной, так и легчайшего атома, и для него не останется ничего неопределенного, и перед взором его предстанет не только прошлое, но и будущее. Человеческий интеллект при всем совершенстве, которое он сумел придать астрономии, лишь бледное подобие такого разума.
Если вам интересно, уточню, что когда Лаплас говорил об этом гипотетическом «высшем разуме», то имел в виду совсем не Бога. В отличие от Ньютона и Декарта, Лаплас был человек неверующий. Когда он подарил экземпляр «Небесной механики» Наполеону Бонапарту, тот, слышавший, что в этом труде нет ни одного упоминания о Боге, заметил: «Месье Лаплас, говорят, вы написали эту объемистую монографию об устройстве Вселенной, но ни разу не упомянули ее творца». На что Лаплас тут же ответил: «Я не нуждаюсь в подобной гипотезе». Это замечание позабавило Наполеона, и он пересказал его математику Жозефу-Луи Лагранжу; тот воскликнул: «Ах! Это прекрасная гипотеза, она многое объясняет». Но на этом история не кончается. Услышав, что сказал Лагранж, Лаплас сухо заметил: «Эта гипотеза, сир, на самом деле вообще все объясняет, но не позволяет ничего предсказать. Я же как ученый обязан обеспечивать вас трудами, позволяющими делать предсказания».
Наступил ХХ век, и достижения квантовой механики, теории субатомного мира, показали, что ожидать полностью детерминистской Вселенной было бы слишком оптимистично. Современная физика, по сути дела, доказала, что предсказать результат каждого эксперимента невозможно в принципе. Скорее, теория предсказывает вероятности разных результатов. Положение в общественных науках, очевидно, еще сложнее из-за огромного количества взаимосвязанных элементов, многие из которых в лучшем случае крайне неопределенны. Ученые XVII века довольно скоро обнаружили, что если речь идет об общественных процессах, то поиск точных универсальных законов наподобие закона всемирного тяготения Ньютона изначально обречен на провал. Некоторое время казалось, что если ввести в уравнение все сложности человеческой натуры, то нельзя делать вообще никаких прогнозов. Если задействовано множество индивидуумов в масштабах всего населения, положение становится еще более безнадежным. Однако некоторые гениальные мыслители не стали отчаиваться, а разработали новый арсенал новаторских математических инструментов – статистику и теорию вероятностей.
Английский писатель Даниэль Дефо (1660–1731), прославившийся благодаря приключенческому роману о Робинзоне Крузо, был автором также и демонологического сочинения «The Political History of the Devil» («Политическая история дьявола»). В нем Дефо, которому повсюду мерещились дьявольские козни, писал: «Неизбежны лишь смерть и налоги». Бенджамин Франклин (1706–1790) придерживался, похоже, той же точки зрения на неизбежность. В письме, которое он написал в возрасте восьмидесяти трех лет французскому физику Жану-Батисту Леруа, он утверждал: «Наша Конституция – это настоящее дело. Все говорит о том, что она проживет еще долго, однако в этом мире ни в чем нельзя быть уверенным, кроме смерти и налогов».
И в самом деле, течение нашей жизни представляется непредсказуемым – на нас влияют и стихийные бедствия, и человеческие ошибки, и просто случайности, и счастливые, и наоборот. Мы постоянно приговариваем «Всякое бывает» – именно для того, чтобы выразить свою беззащитность перед неожиданным и неспособность влиять на волю случая. Несмотря на эти препятствия, а может быть, и благодаря им математики, социологи, психологи и биологи еще в XVII веке всерьез взялись за методическое изучение неопределенностей. После того как появилась отрасль статистической механики и ученые столкнулись с тем, что самые основы физики – в виде квантовой механики – основаны на неопределенности, физики ХХ и XXI веков с энтузиазмом бросились в гущу схватки. Оружие ученых в борьбе с отсутствием точного детерминизма – способность вычислить шансы на тот или иной результат. Точно предсказать результат невозможно, поэтому приходится довольствоваться расчетом вероятности разных исходов. Инструменты, которые создали, чтобы добиваться успехов в исследованиях на основании простых догадок и умозаключений, – статистика и теория вероятности – не просто заложили фундамент современной науки, но и позволяют изучать самые разные виды общественной деятельности от экономики до спорта.
На теорию вероятности и статистику мы опираемся практически каждый раз, когда надо принять какое-то решение, – иногда бессознательно. Например, вы, скорее всего, не знаете, что в 2004 году в США в автомобильных катастрофах погибло 42 636 человек. Однако если бы это число составляло, скажем, три миллиона, вам бы это наверняка было известно. Более того, эти знания, вероятно, заставили бы вас трижды подумать, прежде чем сесть за руль поутру. Почему же точные данные о жертвах автокатастроф придают нам некоторую уверенность, когда мы решаем сесть в машину и отправиться в путь? Как мы вскоре увидим, главная составляющая их надежности – то, что они основаны на очень больших числах. Количество жертв в городке Фрайо-таун в Техасе, где население в 1969 году составляло всего 49 человек, было бы для нас не таким веским аргументом.
Теория вероятности и статистика – самые главные козыри в рукаве экономистов, политтехнологов, генетиков, страховых компаний и всех тех, кто пытается сделать осмысленные выводы на основании огромных объемов данных. Когда мы говорим, что математика пронизывает все другие дисциплины, даже те, которые раньше не входили в сферу влияния точных наук, то имеем в виду, что дорогу ей проложили именно теория вероятности и статистика. Как же возникли эти столь плодородные ответвления математики?
Слово «статистика» происходит от итальянского «stato» (государство) и «statista» (государственный деятель) и первоначально относилось лишь к сбору фактов правительственными чиновниками. Автором первой существенной работы по статистике в современном смысле был человек довольно неожиданный – лондонский лавочник, живший в XVII веке. Джон Граунт (1620–1674) сызмальства учился продавать пуговицы, иголки и ткани[83]. Поскольку работа оставляла Граунту довольно много свободного времени, он самостоятельно выучил латынь и французский и заинтересовался «Бюллетенями о смертности» – еженедельными сводками о количестве смертей по церковным приходам, которые публиковались в Лондоне с 1604 года. Сам процесс издания этих отчетов был организован в основном для раннего распознавания и предупреждения опустошительных эпидемий. На основании этих грубых данных Граунт стал делать любопытные наблюдения, которые затем и выпустил в свет в виде маленькой – 85 страниц – книжки под названием «Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index, and Made upon the Bills of Mortality» («Естественные и политические наблюдения, упомянутые в предлагаемом перечне и сделанные на основе бюллетеней о смертности»). На рис. 32 приведен пример таблицы из книги Граунта, где перечислено целых 63 разновидности недугов и несчастных случаев в алфавитном порядке. В посвящении президенту Королевского научного общества Граунт указывает, что поскольку в его книге упоминаются «воздух, страны, времена года, плодородие, здоровье, болезни, долголетие и связь между полом и возрастом человека», на самом деле это трактат о естествознании. И в самом деле, Граунт отнюдь не ограничился тем, что собрал и представил данные. Например, он исследовал среднее количество крещений и похорон лиц мужского и женского пола в Лондоне и в сельском приходе Ромси в Гемпшире и впервые показал, что соотношение числа мальчиков и девочек при рождении постоянно. Точнее, он обнаружил, что в Лондоне на четырнадцать мальчиков рождается тринадцать девочек, а в Ромси – пятнадцать девочек на шестнадцать мальчиков. Оказалось, что Граунт обладал незаурядным научным мышлением: он высказал пожелание, чтобы «путешественники разузнали, так ли обстоят дела в других странах». Кроме того, он отметил, что «для человечества большое благо, что переизбыток лиц мужского пола служит естественной преградой для полигамии, ведь иначе женщины не смогли бы жить с ними в парах и расходовать средства наравне со своими мужьями, как сейчас, однако же дела обстоят именно так». Сегодня установлено, что соотношение между мальчиками и девочками при рождении составляет примерно 1,05. Традиционно этот избыток объясняют тем, что мать-природа предпочитает порождать мальчиков, поскольку эмбрионы и младенцы мужского пола несколько слабее и не так выносливы, как девочки. Кстати, по не вполне понятным причинам и в США, и в Японии с 1970 годов мальчиков стало рождаться немного меньше.
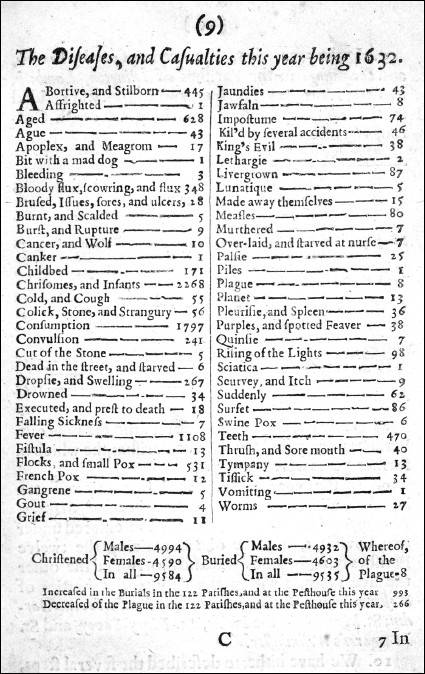
Рис. 32
Граунт предпринял и еще одну новаторскую попытку – попытался составить «таблицу жизни», распределение возрастов в популяции на основании количества смертей от каждой причины. Очевидно, что эти данные имели большое политическое значение, поскольку из них следовало, сколько в стране мужчин, способных носить оружие, в возрасте от шестнадцати до пятидесяти шести лет. Строго говоря, вывести распределение возрастов Граунт не мог – не хватало информации. И вот тогда-то он и продемонстрировал находчивость и умение найти творческий подход. Вот как он описывает свои методы оценки детской смертности.
Первое наше наблюдение над смертностью и ее причинами должно быть таким: за двадцать лет от всех болезней и несчастных случаев умерли 229 250 человек, из них 71 124 умерли от молочницы, колик, прорезывания зубов, рахита и глистов; в результате преждевременных родов, после крещения, во младенчестве, от увеличения печени, от удушья в постели; то есть около 1/3 всех умерли от этих недугов, которые, как мы полагаем, случаются у детей в возрасте до четырех-пяти лет. Умирали также от оспы, ветряной оспы и кори и от глистов без колик, всего 12 210, и мы предполагаем, что около 1/2 от этого числа, вероятно, были дети моложе шести лет. Если же предположить, что 16 из упомянутых 229 тысяч умерли от невиданной и страшной погибели – чумы – мы обнаружим, что около тридцати шести процентов всех зачатых скончались в возрасте до шести лет.
Иначе говоря, Граунт оценил, что смертность в возрасте до шести лет должна составлять (71 124 + 6 105) ÷ (229 250–16 000) = 0,36. При помощи подобных рассуждений и обоснованных догадок Граунт оценил и смертность в преклонном возрасте. Наконец, он заполнил пробел между шестью и семьюдесятью шестью годами при помощи математического допущения о поведении процента смертности в зависимости от возраста. Хотя выводы Граунта не всегда здравы, его исследование положило начало статистике в привычном для нас виде. Его наблюдения над процентными показателями тех или иных событий, которые раньше считались исключительно волей случая или судьбы (например, над смертностью от различных болезней) показали, что эти события, напротив, отличаются строгой регулярностью, – и, таким образом, Граунт ввел в общественные науки чисто научный количественный подход.
Последователи Граунта отчасти переняли его методологию, однако выработали и более точное математическое понимание применения статистики. Как ни удивительно, самые серьезные поправки в «таблицу жизни» Граунта внес астроном Эдмонд Галлей, тот самый, который уговорил Ньютона опубликовать «Начала». Почему всех так волнуют «таблицы жизни»? Отчасти потому, что это был и есть фундамент страхования жизни. Страховые компании (а также брачные авантюристы, которые женятся ради денег!) очень интересуются вопросами наподобие «Если человек дожил до шестидесяти, какова вероятность, что он доживет до восьмидесяти?»
Чтобы построить свою «Таблицу жизни», Галлей изучил подробные записи, которые велись в городе Вроцлав в Силезии с конца XVI века. Вроцлавский пастор доктор Каспар Нойманн при помощи этих списков боролся с бытовавшими в его приходе суевериями, что-де здоровье очень слабеет в определенные фазы Луны или в возрасте, который делится на семь или на девять. В результате статья Галлея под довольно длинным названием «An Estimate of the Degrees of the Mortality of Mankind, drawn from curious Tables of the Births and Funerals at the City of Breslaw; with an Attempt to ascertain the Price of Annuities upon Lives» («Оценка степени смертности людей на основании любопытных таблиц рождений и похорон в городе Вроцлав, с попыткой установить стоимость пожизненной ренты»)[84] легла в основу математики страхования жизни. Чтобы у вас сложилось впечатление о том, как страховые компании оценивают свои шансы, рассмотрим таблицу Галлея. В частности, из таблицы видно, что из 710 человек, которые были живы в возрасте шести лет, 346 дожили до пятидесяти. Следовательно, соотношение 346/710 или 0,49 вполне можно считать приблизительной вероятностью, что ребенок, доживший до шести лет, доживет и до пятидесяти. Подобным же образом из 242 шестидесятилетних 41 доживет до восьмидесяти. А значит, вероятность прожить с шестидесяти до восьмидесяти можно оценить как 41/242, то есть около 0,17. Логика подобных умозаключений очень проста. Она опирается на опыт прошлого, чтобы рассчитать вероятность разнообразных событий в будущем. Если выборка, на основании которой делается прогноз, достаточно велика (а таблица Галлея основана на населении приблизительно 34 000 человек) и сделаны определенные допущения (например, что смертность не меняется со временем), то на полученные вероятности вполне можно опираться. Вот как эту же задачу описывал Якоб Бернулли[85].
Таблица жизни Галлея

Какой же смертный, я вас спрашиваю, в состоянии оценить количество недугов, происходящих ото всех возможных причин, которые поражают тело человека в каждую из множества его частей и в любом возрасте, и сказать, с какой вероятностью смертельным окажется то или иное заболевание… и на этом основании делать предсказания о соотношении жизни и смерти в грядущих поколениях?
Заключив, что это и подобные предсказания «зависят от условий, которые полностью скрыты от нас, и постоянно обманывают наши чувства бесконечной сложностью своих взаимодействий», Бернулли также предлагает статистический (вероятностный) подход.
Впрочем, есть и другой способ, который приведет нас к искомому и даст возможность по крайней мере a posteriori оценить то, что мы не можем определить a priori, то есть оценить это по результатам, наблюдаемым во множестве других случаев. В этой связи следует предположить, что при сходных условиях то, что событие состоится (или не состоится) в будущем, будет следовать той же закономерности, которая наблюдалась для похожих событий в прошлом. Например, если мы наблюдали, что из 300 человек одного возраста и той же конституции, как некто Тициус, 200 умерли в течение десяти лет, а остальные остались жить, мы можем с разумной уверенностью заключить, что шансов, что Тициус вынужден будет уплатить долг природе в течение ближайшей декады, вдвое больше, чем шансов, что он проживет дольше этого времени.
Свои математические выкладки, касающиеся смертности, Галлей завершил интересным замечанием более философского толка. Особенно трогателен один абзац.
Помимо применений, описанных выше, вероятно, было бы, пожалуй, позволительно выводить из тех же самых Таблиц, сколь несправедливо мы ропщем на быстротечность жизни и думаем, будто нас обделили, если мы не достигли старости, поскольку из Таблиц явствует, что половина тех, кто появляется на свет, умирает до достижения семнадцати лет: 1238 к тому времени сокращается до 616. Так что вместо того, чтобы сетовать на так называемую безвременную смерть, мы должны со смирением и равнодушием покориться распаду – неизбежному свойству бренного вещества, из которого мы состоим, и нашей хрупкой и прекрасной структуры и состава, и быть искренне благодарными за то, что пережили – причем зачастую на много лет – тот период, до которого не доживает половина всего рода человеческого.
Хотя положение в большей части современного мира по сравнению с печальной статистикой Галлея заметно улучшилось, к сожалению, так обстоят дела не во всех странах. Например, в Замбии уровень смертности детей до пяти лет в 2006 году достиг чудовищной цифры в 182 смерти на 1000 живых новорожденных. И ожидаемая продолжительность жизни в Замбии так низка, что сердце сжимается: всего тридцать семь лет.
Однако статистика занимается не только смертями. Она проникает во все аспекты человеческой жизни – от чисто физических черт до плодов интеллектуального труда. То, что статистика, потенциально способна порождать «законы» для общественных наук, первым понял бельгийский ученый-энциклопедист Ламбер-Адольф-Жак Кетле (1796–1874). Именно ему мы и обязаны введением общестатистического понятия «среднего человека».
Адольф Кетле родился 22 февраля 1796 года в древнем бельгийском городе Генте[86]. Его отец, городской чиновник, умер, когда Адольфу было всего семь лет. Кетле был вынужден сам зарабатывать себе на жизнь и уже в 17 лет стал преподавать математику. В свободные от учительских обязанностей время он сочинял стихи, написал либретто оперы, поучаствовал в создании двух пьес и перевел несколько художественных произведений. При всем при том его любимым предметом осталась математика, и он первым закончил Гентский университет со степенью доктора наук. В 1820 году Кетле был избран членом Королевской академии наук в Брюсселе и вскоре стал принимать активнейшее участие в ее деятельности. Следующие несколько лет были посвящены в основном преподаванию и публикации нескольких трактатов по математике, физике и астрономии.
Первую лекцию по истории науки Кетле обычно начинал следующим глубоким наблюдением: «Чем сильнее развиваются науки, тем дальше они вступают в сферу влияния математики, которая становится словно бы центром, к которому они стягиваются. О том, какого совершенства достигла та или иная наука, можно судить по тому, с какой легкостью ее результаты можно получить путем вычисления».
В декабре 1823 года Кетле за государственный счет направили в Париж, в основном для изучения наблюдательных методов астрономии. Однако оказалось, что трехмесячный визит в тогдашнюю математическую столицу мира направил Кетле в совершенно другую сторону – к изучению теории вероятности. А пламенный интерес к этой теме разжег у Кетле не кто-нибудь, а сам Лаплас. Впоследствии Кетле так писал о своем опыте работы в статистике и теории вероятности (Quetelet 1828).
Случай – это таинственное слово, которое так часто употребляют не к месту – нужно понимать лишь как прикрытие для невежества, это фантом, захвативший абсолютную власть над заурядным умом, привыкшим рассматривать события исключительно в изолированном виде, но рассыпающийся в прах перед философом, чей кругозор охватывает длинную череду событий и чья проницательность не отвлекается на мелкие отклонения, которые исчезают, стоит ему встать на нужную точку зрения и распознать законы природы.
Трудно переоценить значение этого вывода. В сущности, Кетле отрицает роль случая и заменяет его смелым, хотя и не вполне доказанным, предположением, что причины есть даже у общественных феноменов и что закономерности, проявляющиеся в статистических результатах, можно использовать для выявления законов, лежащих в основе общественного порядка.
В попытке проверить свой статистический подход Кетле отважился на масштабное начинание – стал собирать коллекцию из тысяч измерений различных параметров человеческого тела. Например, он изучал распределение обхвата груди 5738 шотландских солдат и рост 100 000 французских призывников, отдельно прослеживая частоту, с которой встречается каждая человеческая черта. Иначе говоря, он графически выразил, сколько призывников имеют рост, скажем, от пяти футов до пяти футов двух дюймов, сколько – от пяти футов двух дюймов до пяти футов четырех дюймов и т. д. В дальнейшем он построил подобные кривые даже и для «моральных», по его выражению, черт, для которых удалось набрать достаточно данных. В число этих качеств входили самоубийства, браки и склонность к правонарушениям. К своему изумлению, Кетле обнаружил, что все человеческие характеристики следовали так называемому нормальному распределению частоты в виде колокольчика (рис. 33). Эту линию также не вполне заслуженно называют гауссианой в честь «князя математики» Карла Фридриха Гаусса. Что бы ни измерял Кетле – рост, вес, длину конечностей и даже интеллектуальные качества, определяемые лучшими на тот момент психологическими тестами, – у него раз за разом получалась одна и та же кривая. Для Кетле она была не в новинку: математики и физики знали ее, еще начиная с середины XVIII века, и Кетле был с ней знаком еще по астрономическим наблюдениям, так что некоторой неожиданностью для него стала лишь связь этой кривой с чертами и качествами человека. Раньше эту кривую называли кривой ошибок, поскольку она появлялась при исследовании всякого рода ошибок и погрешностей в измерениях.

Рис. 33
Представьте себе, например, что вам хочется очень точно измерить температуру жидкости в сосуде. Можно взять точнейший термометр и на протяжении часа сделать тысячу последовательных измерений. Окажется, что из-за случайных ошибок, а может быть, и некоторых колебаний температуры не все результаты будут одинаковы. Скорее, все результаты скопятся вокруг какого-то центрального значения, но иногда температура окажется чуть выше, иногда чуть ниже. Если записать, сколько раз среди измерений встретилось то или иное значение, получится та самая кривая в виде колокольчика, которая, как выяснил Кетле, также описывает черты и качества человека. Более того, чем больше измерений той или иной физической величины будет проделано, тем точнее полученное распределение частот приблизится к нормальной кривой. Непосредственный вывод, который напрашивается из этого при ответе на вопрос о непостижимой эффективности математики, сам по себе поразителен: оказывается, строгим математическим законам подчиняются даже человеческие ошибки!
Кетле сделал и более смелые выводы. Он решил, что если черты и качества человека описываются кривой ошибок, значит, «средний человек» – это тип, который природа стремится породить[87]. По мысли Кетле, подобно тому, как при производстве гвоздей погрешности изготовления приводят к некоему распределению колебаний длины гвоздя возле средней (правильной) длины, ошибки природы распределены вокруг некоего предпочтительного биологического типа. Кетле объявил, что представители одного народа стремятся к какому-то среднему показателю, «словно результаты измерений одного и того же человека при помощи инструментов, грубость которых объясняла бы разброс отклонений».
Очевидно, это было все же слишком смелое обобщение. Конечно, Кетле открыл, что биологические характеристики, и физические, и психологические, распределяются по нормальной кривой частот, и это было необычайно важное открытие, однако нельзя ни считать его доказательством намерений матери-природы, ни рассматривать отдельные вариации просто как ошибки. Скажем, Кетле обнаружил, что средний рост французских призывников составляет пять футов четыре дюйма. Однако на левом конце кривой он обнаружил человека ростом в один фут пять дюймов. Очевидно, нельзя списывать это на ошибку в четыре фута, допущенную при измерении роста в пять футов четыре дюйма.
Даже если пренебречь идеей «законов», которые определяют создание людей по одному шаблону, уже одно то, что распределение самых разных свойств – от веса до IQ – следует одной и той же нормальной кривой, само по себе примечательно. Но этого мало – даже распределение среднего уровня успешных подач в высшей бейсбольной лиге и то более или менее нормально, равно как и доходность фондовых индексов (которые составляются из множества отдельных фондов). Более того, если распределение отклоняется от нормальной кривой, его, как правило, надо основательно проверить. Например, если распределение оценок по английскому языку в какой-то школе отличается от нормального, это наводит на мысль о проверке принятых там правил выставления оценок. Однако это не означает, что все распределения нормальны. Распределение длин слов, которые Шекспир употреблял в своих пьесах, не нормально. Слов из трех-четырех букв у него гораздо больше, чем слов из одиннадцати-двенадцати букв. Среднегодовой доход на семью в США тоже распределяется не в соответствии с нормальной кривой. Например, в 2006 году самые богатые 6,37 % домохозяйств получали примерно треть всего дохода. Это наталкивает на интересный вопрос: если и физические, и интеллектуальные качества людей (определяющие, надо думать, потенциальные способности получать доход) подчиняются нормальному распределению, почему с доходом все иначе? Ответы на подобные социально-экономические вопросы, к сожалению, выходят за рамки этой книги. С нашей нынешней – несколько ограниченной – точки зрения удивляться следует уже тому, что, похоже, все физически измеримые особенности людей, растений и животных (той или иной разновидности) распределяются по одной-единственной математической функции.
Исторически человеческие характеристики служили основой не только для изучения статистических частотных распределений, но и для формулировки математического понятия корреляции. Корреляция – это степень, в которой изменения значения одной переменной приводят к изменениям другой. Например, чем выше женщина, тем больше у нее должен быть размер обуви. Подобным же образом психологи обнаружили корреляцию между интеллектом родителей и школьной успеваемостью детей.
Понятие корреляции особенно полезно в ситуациях, когда между двумя переменными нет точной функциональной взаимозависимости. Например, представим себе, что одна переменная – максимальная дневная температура на юге Аризоны, а другая – количество лесных пожаров в том регионе. Невозможно предсказать, какое количество лесных пожаров возникает при данной температуре, поскольку количество пожаров зависит и от других переменных, в частности, от влажности воздуха и от количества костров, которые разжигают люди. Иначе говоря, любому значению температуры соответствует разное количество лесных пожаров и наоборот. И все же математическое понятие коэффициента корреляции позволяет нам количественно измерить прочность отношений между двумя подобными переменными.
Коэффициент корреляции ввел в арсенал математиков викторианский географ, метеоролог, антрополог и статистик сэр Фрэнсис Гальтон (1822–1911)[88]. Гальтон – кстати, двоюродный брат Чарльза Дарвина – не был профессиональным математиком. Он был человек сугубо практического склада и обычно предоставлял другим математикам доводить свои новаторские понятия до совершенства; особенно ему помогал в этом статистик Карл Пирсон (1857–1936). Вот как Гальтон объяснял понятие корреляции.
Длина локтя коррелирует с телосложением, поскольку длинный локоть обычно предполагает высокий рост. Если корреляция между ними очень тесная, то очень длинный локоть обычно предполагает очень высокий рост, однако если бы она была не очень тесная, то очень длинный локоть в среднем связывался бы всего лишь с высоким, но не с очень высоким ростом, тогда как если бы она была нулевая, то очень длинный локоть не был бы связан ни с какими особенностями роста, а следовательно, в среднем, был бы связан с заурядным ростом.
В дальнейшем Пирсон дал точное математическое определение коэффициента корреляции. Этот коэффициент определяется таким образом, что когда корреляция очень высока – то есть когда колебания одной переменной очень точно следуют за взлетами и падениями другой, – коэффициент приобретает значение 1. Если же две величины антикоррелированы, то есть одна величина возрастает, когда другая уменьшается, и наоборот, коэффициент равен –1. Если две переменные ведут себя так, будто другой и вовсе не существует, коэффициент корреляции равен 0 (например, поведение иных правительств, к сожалению, демонстрирует практически нулевую корреляцию с пожеланиями народа, который они якобы представляют).
От выявления и вычисления корреляций в наши дни зависят и медицинские исследования, и экономические прогнозы. Например, связь между курением и раком легких и загаром и раком кожи изначально была выявлена благодаря обнаружению и вычислению корреляций. Биржевые аналитики постоянно пытаются найти и вычислить корреляции между поведением рынка и другими переменными – и любое подобное открытие приносит фантастические прибыли.
Как быстро выяснили некоторые первые статистики, и сбор статистических данных, и их интерпретация – дело непростое, и заниматься им надо с предельной осторожностью. Рыбак, который пользуется сетью с ячеей в десять дюймов, рискует сделать вывод, будто все рыбы в море больше десяти дюймов – просто потому, что более мелкая рыба к нему в сети не попадается. Это пример эффекта селекции, иначе называемого ошибкой отбора – предвзятости, которая влияет на результаты и вызвана либо используемым для сбора данных аппаратом, либо методами их анализа. Еще одна трудность – размер выборки. Например, современные опросы общественного мнения обычно охватывают не более нескольких тысяч человек. Откуда опрашивающие знают, что мнения, высказанные теми, кто попал в эту выборку, точно отражают мнения сотен миллионов человек? Кроме того, следует понимать, что корреляция не обязательно предполагает причинно-следственные связи. Иногда количество проданных тостеров растет одновременно с количеством проданных билетов на концерты классической музыки, но из этого не следует, что появление в доме нового тостера способствует улучшению музыкального вкуса. Скорее, и то и другое вызвано повышением уровня жизни.
Невзирая на все эти существенные оговорки, статистика превратилась в современном обществе в весьма действенный инструмент – именно она, в сущности, и делает социальные науки науками. Но почему она вообще дает осмысленные результаты? Ответ на этот вопрос дает математика вероятности, которая определяет самые разные стороны современной жизни. Когда инженеры решают, какими предохранительными устройствами снабдить пилотируемую исследовательскую капсулу для астронавтов, физики-ядерщики анализируют результаты экспериментов на ускорителе, психологи оценивают развитие детей по результатам тестов на IQ, фармацевтические компании оценивают действенность новых лекарств, а генетики изучают человеческую наследственность – все это непременно опирается на математическую теорию вероятности.
Серьезные исследования вероятности начались довольно скромно – с попыток игроков понять, как делать ставки в зависимости от шансов на успех[89]. В частности, в середине XVII века один французский аристократ по имени шевалье де Мере, известный игрок, задал целый ряд вопросов об игре знаменитому французскому математику и философу Блезу Паскалю (1623–1662). Паскаль в 1654 году вступил в оживленную переписку по поводу этих вопросов с другим французским математиком того времени Пьером Ферма (1601–1665). По сути дела, в ходе этой переписки и родилась теория вероятности.
Рассмотрим интереснейший пример, который Паскаль исследует в письме, датированном 29 июля 1654 года (Todhunter 1865, Hald 1990). Представьте себе двух аристократов, которые играют в кости, бросая один-единственный кубик. Каждый игрок положил на стол по 32 золотых пистоля. Первый игрок загадал число 1, второй – число 5. Каждый раз, когда на кубике выпадает загаданное игроком число, он получает одно очко. Побеждает тот, кто первым наберет три очка. Однако предположим, что с начала игры число 1 выпадало уже дважды, то есть игрок, загадавший его, получил уже два очка, а число 5 – лишь один раз, то есть его противник получил всего лишь одно очко. Если игра по какой-то причине в этот момент прерывается, как разделить между игроками 64 пистоля? Паскаль и Ферма нашли математически логичный ответ. Если бы игрок, набравший два очка, выиграл при следующем броске, то получил бы все 64 пистоля. Если бы при следующем броске выиграл второй игрок, то у каждого стало бы по два очка, и каждый, следовательно, получил бы по 32 пистоля. Поэтому, если игроки расходятся, не совершив следующего броска, первый игрок мог бы по справедливости сказать: «Я точно получу 32 пистоля, даже если проиграю этот бросок, а что касается остальных 32 пистолей, то их получу либо я, либо вы, наши шансы равны. Так что давайте поделим эти 32 пистоля поровну, а мне отдадим еще и те 32 пистоля, в которых я уверен». Иначе говоря, первый игрок должен получить 48 пистолей, а второй – 16 пистолей. Просто не верится, что из этих тривиальных на вид рассуждений родилась глубочайшая научная дисциплина! Однако именно по этой причине математика и обладает непостижимой и необъяснимой эффективностью, именно поэтому она так загадочна.
Суть теории вероятности можно уяснить из следующих простых фактов[90]. Никто не может точно предсказать, какой стороной вверх упадет подброшенная монетка. Даже если десять раз подряд выпадала решка, это ни на йоту не поможет нам точно предсказать, что выпадет в следующий раз. Однако мы можем совершенно точно предсказать, что если бросить монетку десять миллионов раз, то с очень небольшими отклонениями в половине случаев выпадет орел, а в половине – решка. Более того, в конце XIX статистик Карл Пирсон, набравшись терпения, подбросил монетку 24 000 раз. Решка выпала в 12 012 случаев. В некотором смысле теория вероятности к этому и сводится. Теория вероятности снабжает нас точной информацией о том, как будет выглядеть совокупность результатов большого количества экспериментов, но никогда не предсказывает результат какого-то одного конкретного эксперимента[91]. Если эксперимент может дать n возможных результатов, причем шансы получить каждый из них равны, то вероятность каждого результата равна 1/n. Если бросить кость, не жульничая, то вероятность получить число 4 равна 1/6, поскольку у игральной кости шесть сторон и шансы на то, что выпадет та или иная из них, равны. Представьте себе, что вы бросили кость семь раз подряд и каждый раз получали 4 – какова вероятность получить 4 в результате следующего броска? Теория вероятности дает на это четкий и ясный ответ: вероятность по-прежнему равна 1/6, потому что кость ничего не помнит и все разговоры о «счастливой звезде» и о том, что следующий бросок возместит прежний перекос, не более чем мифы. А правда состоит в том, что если бросить кость миллион раз, результаты выровняются по средним значениям, и 4 будет выпадать почти точно в 1/6 части случаев.
Рассмотрим несколько более сложную ситуацию. Предположим, вы одновременно бросаете три монеты. Какова вероятность получить две решки и одного орла? Ответ мы получим, если переберем все возможные варианты. Обозначим орлов О, а решки Р и получим восемь возможных вариантов: РРР, РРО, РОР, РОО, ОРР, ОРО, ООР и ООО. Легко убедиться, что варианту «две решки, один орел» соответствует три комбинации. Следовательно, вероятность этого события 3/8. А в общем виде, если из n результатов с равными шансами m соответствуют событию, которое вас интересует, то вероятность такого составляет m/n. Обратите внимание, что это значит, что вероятность принимает значения от 0 до 1. Если интересующее вас событие не может произойти, то m = 0 (никакой результат ему не соответствует) и вероятность равна нулю. Если же событие произойдет совершенно точно, значит, ему соответствуют все n результатов (m = n) и вероятность попросту составляет n/n = 1. Результаты броска трех монет свидетельствуют и еще об одной существенной особенности теории вероятностей: если у вас есть несколько событий, полностью независимых друг от друга, то вероятность, что произойдут они все, – это произведение отдельных вероятностей. Например, вероятность получить три орла равна 1/8, что равно произведению трех вероятностей получить орла на каждой из трех монет: 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1/8.
Ладно, подумаете вы, но где можно применять эти фундаментальные понятия теории вероятностей? Разве что в казино или во время других азартных игр? Представьте себе, эти незначительные на первый взгляд законы теории вероятностей лежат в основе современных генетических исследований – изучения наследования биологических характеристик.
Теорию вероятности свел с генетикой один моравский священник[92]. Грегор Мендель (1822–1884) родился в деревне близ границы между Моравией и Силезией (нынешняя деревня Хинчице в Чешской республике). Приняв постриг в августинском монастыре Св. Фомы в Брно, Мендель изучал зоологию, ботанику, физику и химию в Венском университете. Вернувшись в Брно, он начал деятельно экспериментировать с душистым горошком при всевозможной поддержке настоятеля монастыря.
Объектом исследования Мендель выбрал именно душистый горошек, поскольку его легко выращивать, а также потому, что у растения есть и мужские, и женские органы размножения. Следовательно, растения душистого горошка могут размножаться и самоопылением, и скрещиванием с другим растением. При скрещивании растений, которые дают только зеленые зерна, с растениями, которые дают только желтые зерна, Мендель получил на первый взгляд какие-то странные результаты (рис. 34). У растений первого поколения зерна были только желтые. Однако во втором поколении соотношение желтых и зеленых зерен всегда составляло 3:1! Это неожиданное открытие дало Менделю возможность сделать три вывода, ставшие важнейшими вехами становления генетики.
1. Наследование той или иной черты предполагает передачу неких «факторов» (сегодня мы зовем их генами) от родителей потомству.
2. Каждый потомок наследует от каждого родителя по одному такому «фактору» (для каждой отдельной черты).
3. Отдельная черта может не проявиться у потомка, однако передаться следующему поколению.
Но как же объяснить количественные результаты опытов Менделя? Мендель утверждал, что у каждого растения-родителя должно быть два идентичных «фактора» (сегодня мы назвали бы их аллелями – вариантами гена), либо два желтых, либо два зеленых (как на рис. 35). При скрещивании каждый потомок наследует две разные аллели, по одной от каждого родителя (согласно вышеприведенному правилу 2). То есть каждое зерно потомка содержит желтую аллель и зеленую аллель. Почему же тогда в этом поколении все зерна желтые? Мендель объяснил, что желтый – доминирующий цвет и он маскирует присутствие в этом поколении зеленой аллели (правило 3). Однако (опять же в соответствии с правилом 3) доминантный желтый не мешает рецессивному зеленому передаваться следующему поколению. В следующем туре скрещивания каждое растение, содержащее одну желтую и одну зеленую аллель, опыляется другим растением, содержащим ту же комбинацию аллелей. Поскольку потомство содержит по одной аллели от каждого родителя, зерна следующего поколения могут содержать следующие комбинации (рис. 35): зеленая – зеленая, зеленая – желтая, желтая – зеленая или желтая – желтая. Все зерна с желтой аллелью становятся желтыми, потому что желтый цвет – доминантный.

Рис. 34

Рис. 35
Следовательно, поскольку у всех комбинаций равные шансы на возникновение, отношение желтых зерен к зеленым должно составлять 3:1.
Вы, возможно, заметили, что весь эксперимент Менделя, в сущности, ничем не отличается от эксперимента по бросанию двух монет. Назовем зеленые аллели орлами, а желтые – решками и зададимся вопросом, какая доля зерен будет желтой (с учетом того, что доминантная желтая аллель определяет цвет зерен), – и это будет то же самое, что спрашивать о вероятности получить по крайней мере одну решку при бросании двух монет. Очевидно, вероятность равна ¾, поскольку решка есть в трех из возможных четырех результатов (решка – решка, решка – орел, орел – решка, орел – орел). Это значит, что соотношение количества бросков, где получается по крайней мере одна решка, к количеству бросков, где нет ни одной решки, в конечном итоге приблизится к 3:1, как в экспериментах Менделя.
Хотя Мендель опубликовал статью «Опыты по гибридизации растений» в 1865 году (и выступил с докладами на двух научных конференциях), его открытия остались незамеченными – и были обнаружены лишь в начале ХХ века[93]. Точность полученных результатов вызывала некоторые сомнения, но, тем не менее, Менделя считают основоположником математического подхода к современной генетике (см., например, Fisher 1936). Авторитетный английский статистик Рональд Эйлмер Фишер (1890–1962) по следам Менделя заложил фундамент популяционной генетики, отрасли математики, которая занимается распределением генов в популяции и расчетами изменения частотности генов со времени[94]. Сегодня генетики опираются на статистические выборки в сочетании с исследованиями ДНК для прогнозирования возможных характеристик еще не рожденного потомства.
Но все же – как связаны статистика и вероятность?
Стремясь разобраться в эволюции Вселенной, ученые обычно подходят к этой проблеме с обеих сторон. Одни начинают с тончайших колебаний ткани мироздания в первичной Вселенной, другие изучают все подробности нынешнего состояния Вселенной. Первые разрабатывают масштабные компьютерные модели, которые показывают, как Вселенная развивалась с течением времени. Вторые занимаются детективной работой – пытаются дедуктивно вычислить прошлое Вселенной по множеству характеристик ее нынешнего состояния. Примерно таковы и отношения между теорией вероятности и статистикой. В теории вероятности заданы переменные и первоначальное состояние, и ее цель – предсказать наиболее вероятный конечный результат. В статистике известен результат, но не определены причины, которые к нему привели.
Рассмотрим простой пример того, как эти две области встречаются, так сказать, посередине и дополняют друг друга. Начнем с того факта, что статистические исследования показывают, что измерения самых разных физических величин и даже человеческих черт распределяются согласно кривой нормального распределения. Но на самом деле кривая нормального распределения – это не какая-то одна кривая, а целое семейство кривых, описываемых одной и той же общей функцией, и все они полностью характеризуются всего двумя математическими величинами. Первая из них – среднее значение – это центральное значение, относительно которого распределение симметрично. Эта величина зависит, разумеется, от того, какую именно переменную измеряют (рост, вес, IQ и так далее). Среднее значение одной и той же переменной может быть разным в разных популяциях. Например, средний рост шведов, скорее всего, отличается от среднего роста перуанцев. Вторая величина, определяющая кривую нормального распределения, называется стандартным отклонением. Это мера того, насколько тесно данные сосредоточены вокруг среднего значения. На рис. 36 у кривой нормального распределения (а) самое большое стандартное отклонение, поскольку значения рассеяны шире. Однако тут мы сталкиваемся с интересным фактом. Если с помощью интегрирования сосчитать площадь под кривой, легко математически доказать, что независимо от среднего значения и величины стандартного отклонения, 68,2 % измерений лежат в области, ограниченной одним стандартным отклонением по обе стороны от среднего значения (рис. 37). Иначе говоря, если среднее значение IQ в определенной (крупной) популяции равно 100, а стандартное отклонение равно 15, то 68,2 % людей в этой популяции обладают IQ между 85 и 115. Более того, для всех кривых нормального распределения 95,4 % всех случаев лежат в пределах двух стандартных отклонений от среднего, а 99,7 % данных попадают в пределы трех стандартных отклонений по обе стороны от среднего (рис. 37). Из этого следует, что в вышеприведенном примере 95,4 % популяции обладают IQ между 70 и 130, а 99,7 % – между 55 и 145.
Теперь предположим, что мы хотим предсказать, какова вероятность, что у случайно выбранного человека из этой популяции IQ окажется между 85 и 100. Рис. 37 подсказывает нам, что эта вероятность – 0,341 (или 34,1 %), поскольку по законам теории вероятности вероятность – это количество желаемых результатов, деленное на общее количество возможностей. А если нам интересно выяснить, какова вероятность, что кто-то (случайно выбранный) из этой популяции обладает IQ выше 130, то взгляд на рис. 37 покажет, что эта вероятность равна примерно 0,022, то есть 2,2 %. Примерно так же, опираясь на свойства нормального распределения и на метод интегрального исчисления (для вычисления площади под кривой), можно вычислить вероятность, что значение IQ попадет в тот или иной заданный диапазон. Иными словами, ответы нам дают теория вероятности и ее половинка-помощница статистика – в сочетании.
Как я уже не раз подчеркивал, вероятность и статистика обретают смысл, если имеешь дело с большим количеством событий, но не с отдельными событиями. Этой фундаментальной оговоркой, известной как закон больших чисел, мы обязаны Якобу Бернулли, который сформулировал ее в виде теоремы в своей книге «Ars Conjectandi» («Искусство предположений»; на рис. 38 приведен титульный лист)[95]. В переводе на обыденный язык теорема гласит, что если вероятность, что событие случится, равна p, то p – это самое вероятное соотношение количества случаев, когда это событие происходит, к общему числу попыток. Если же общее число попыток приближается к бесконечности, то доля успешных попыток становится в точности равна p. Вот как Бернулли формулирует закон больших чисел в «Искусстве предположений»: «Еще предстоит выяснить, увеличиваем ли мы при увеличении числа наблюдений и вероятность, что регистрируемое соотношение желаемых случаев к нежелательным приблизится к подлинному значению, и тогда эта вероятность в конце концов превзойдет всякую желаемую точность». Затем он пояснил это на конкретном примере[96].

Рис. 36
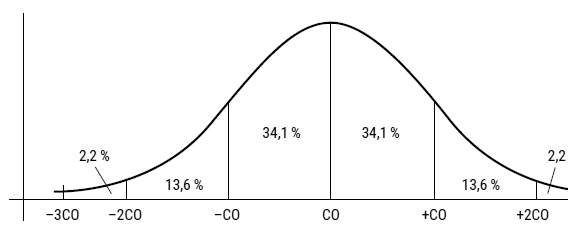
Рис. 37
У нас есть урна с 3000 белых и 2000 черных камешков, и мы хотим эмпирически определить соотношение количества белых и черных камешков – а мы его не знаем, – доставая из урны по одному камешку и записывая, когда нам попадается белый камешек, а когда черный (напоминаю, что при этом процессе должно соблюдаться важное требование: каждый камешек, отметив его цвет, следует положить обратно в урну и лишь затем доставать следующий, чтобы количество камешков оставалось постоянным). А теперь мы спрашиваем, возможно ли, увеличив число попыток, добиться, чтобы стало в 10, 100, 1000 раз вероятнее (а в конечном итоге прийти к «совершенной уверенности»), что соотношение количества извлечений белого камешка к количеству извлечений черного камешка приобретет точно такое же значение (3:2), что и подлинное соотношение черных и белых камешков в урне, а не какое-то другое значение? Если ответ отрицательный, то я признаю, что наша попытка оценить посредством наблюдения соотношение результатов в каждом конкретном случае (например, соотношение количества белых и черных камешков) обречена на провал. Но если это так, то мы наконец-то можем при помощи этого метода приблизиться к совершенной уверенности [в следующей главе «Искусства предположений» Якоб Бернулли доказывает, что так и есть] … и мы можем определять количество случаев a posteriori почти с той же огромной точностью, как если бы оно было известно нам a priori.
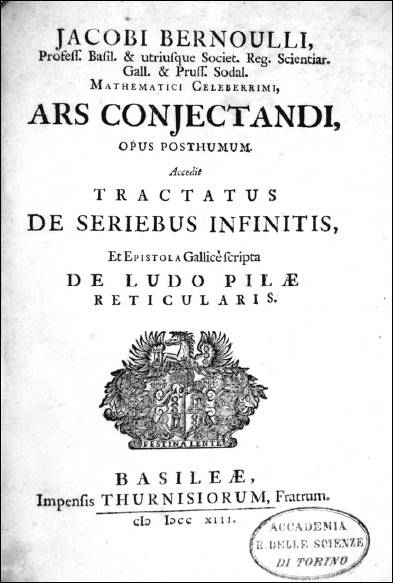
Рис. 38
Оттачиванию этой теоремы Бернулли посвятил двадцать лет, и она стала с тех пор одним из столпов статистики. В заключение он отметил, что убежден в существовании законов, которые управляют всем, – даже в тех областях, которые на первый взгляд представляются случайными.
Если бы удалось непрерывно пронаблюдать все события с этой минуты и на протяжении вечности (посредством чего вероятность превратилась бы в конечном итоге в уверенность), оказалось бы, что все в мире, даже то, что кажется нам совершенно случайным, происходит по определенным причинам и в определенном соответствии с законом, и что мы, следовательно, вынуждены предположить наличие определенной необходимости – если угодно, предопределения. Насколько я знаю, именно это имел в виду Платон, когда выдвигал доктрину вселенской цикличности и утверждал, что по истечении бесчисленных веков все вернется к первоначальному состоянию.
Мораль этой истории о науке неопределенности очень проста: можно применить математику даже к относительно «ненаучным» областям нашей жизни, в том числе и к тем, которые, как нам кажется, управляются чистой случайностью. Поэтому при попытках объяснить «непостижимую эффективность» математики мы не можем ограничиваться в дискуссии одними лишь законами физики. Рано или поздно нам все равно придется разбираться, что делает математику столь вездесущей.
Невероятное могущество математики не ускользнуло и от знаменитого драматурга и эссеиста Джорджа Бернарда Шоу (1856–1950). Несмотря на то, что прославился он отнюдь не математическими достижениями, Шоу написал очень глубокую статью о статистике и теории вероятности под названием «Напасть игры и благодать страховки» («The Vice of Gambling and the Virtue of Insurance»)[97]. В этой статье Шоу признает, что в его глазах страховка «основана на фактах, которые невозможно объяснить, и на рисках, которые способны вычислить лишь профессиональные математики». Однако далее он делает следующее проницательное замечание.
А теперь представьте себе деловую беседу между купцом, который жаждет торговать за границей, но отчаянно боится потерпеть кораблекрушение или быть сожранным дикарями, и шкипером, который жаждет заполучить грузы и пассажиров. Капитан уверяет купца, что его товары в полнейшей безопасности, как и он сам, буде он пожелает их сопровождать. Однако купец, голова у которого забита приключениями Ионы, Св. Павла, Одиссея и Робинзона Крузо, на это не отваживается. Разговор у них пойдет примерно так.
Капитан: В путь! Спорим на целую гору фунтов, что если ты поплывешь со мною, то в этот же день через год будешь жив и здоров!
Купец: Но если я приму эти условия, то должен буду поспорить с тобой на ту же сумму, что в течение года погибну.
Капитан: Почему бы и нет, если ты все равно наверняка проиграешь?
Купец: Но если я потону, то и ты потонешь, и что тогда станется с нашим спором?
Капитан: И то верно. Тогда я найду тебе какого-нибудь сухопутного жителя, который заключит этот спор с твоей женой и домочадцами.
Купец: Это меняет дело, но как же груз?
Капитан: Ха! Можем включить и его в условия спора. Или пусть у нас будет два пари – одно на твою жизнь, другое на груз. Уверяю тебя, все будет цело. Ничего не случится, а ты насмотришься на заграничные диковины!
Купец: Но если путешествие окончится благополучно и для меня, и для моих товаров, мне придется выплатить тебе сумму, на которую мы спорим. Если я не потону, то разорюсь.
Капитан: И это тоже истинная правда. Но здесь для меня гораздо меньше выгоды, чем ты думаешь. Если ты утонешь, то я тем более утону, ведь я буду последним, кто покинет тонущее судно. И все же позволь убедить тебя набраться отваги и отправиться в путь. Я ставлю десять к одному. Тебя это не соблазняет?
Купец: А, ну, в таком случае…
Капитан открыл страхование – как ювелиры открыли банковское дело.
Для тех, кто вслед за Шоу жалуется, что за все время обучения «не было сказано ни слова о смысле или практическом применении математики», этот юмористический рассказ об «истории» математики страхования будет очень полезен.
До сих пор, если не считать статьи Шоу, мы изучали развитие разных отраслей математики более или менее с точки зрения практикующих математиков. Для них, как и для многих философов-рационалистов вроде Спинозы, платонизм был очевиден. Не было никаких сомнений, что математические истины существуют в своем собственном мире и что человеческий разум способен получить доступ к этим сущностям безо всяких наблюдений – исключительно путем логических рассуждений. Первые признаки потенциальных расхождений между восприятием евклидовой геометрии как собрания вселенских истин и другими областями математики обнаружил ирландский философ Джордж Беркли, епископ Клойнский (1685–1753). В памфлете под названием «Аналитик, или Рассуждение, адресованное неверующему математику» («The Analyst; Or a Discourse Addressed to An Infidel Mathematician») – этим математиком, как полагают, был Эдмонд Галлей – Беркли критикует самые основы интегрального и дифференциального исчисления в том виде, в каком их предлагают Ньютон в «Началах» и Лейбниц[98]. В частности, Беркли показал, что «флюксии» – производные в ньютоновском понимании, то есть мгновенные скорости изменений, определены совсем не строго, а это, с точки зрения Беркли, было основанием усомниться во всей научной дисциплине.
Метод флюксий является тем общим ключом, с помощью которого новейшие математики открывают секреты геометрии и, следовательно, природы. И поскольку именно он позволил им столь замечательно превзойти древних в открытии теорем и решении задач, его развитие и применение стало главным, если не единственным занятием всех тех, кто в наше время считается глубоким, основательным геометром. Но является ли этот метод ясным или же туманным, последовательным или противоречивым, убедительным или необоснованным? Я исследую это с величайшей беспристрастностью и представляю мое исследование на ваш суд и на суд каждого непредубежденного читателя. (Пер. Е. Лагутина.)
Несомненно, Беркли верно выявил суть проблемы – и в самом деле, непротиворечивая теория математического анализа сформировалась лишь к концу 1960 годов. Однако в XIX веке математике предстояло пережить еще более значительный кризис.
Геометры: шок будущего
В своей знаменитой книге «Шок будущего» (Toffler 1970) Элвин Тоффлер определяет заглавный термин как «разрушительный стресс и дезориентацию, которые вызывают у индивидов слишком большие перемены, происходящие за слишком короткое время» (пер. Е. Рудневой). Именно такой шок ожидал математиков, физиков и философов в XIX веке. В сущности, вера в то, что математика предлагает вечные незыблемые истины, вера, державшаяся тысячелетиями, рассыпалась в прах. Этот внезапный интеллектуальный переворот был вызван появлением новых типов геометрий – так называемых неевклидовых геометрий. Хотя большинство неспециалистов о них, наверное, и не слышали, масштаб этой революции в мышлении, которую вызвало появление этих новых отраслей математики, сравнивают с теорией эволюции Дарвина.
Чтобы вполне оценить природу этого колоссального мировоззренческого переворота, придется сделать краткий экскурс в историю математики.
До начала ХIX века, если какую-то отрасль знаний и считали апофеозом истинности и несомненности, это была евклидова геометрия, та самая традиционная геометрия, которой учат в школе. Поэтому не приходится удивляться, что великий голландско-еврейский философ Барух Спиноза (1632–1677) назвал свой труд, где предпринял смелую попытку объединить науку, религию, этику и логику «Этика, доказанная в геометрическом порядке». Более того, несмотря на четкие различия между идеальным платоновским миром математических форм и физической реальностью, большинство ученых считали объекты евклидовой геометрии просто дистиллированными абстрактными соответствиями реальных физических предметов. Даже убежденные эмпирики вроде Дэвида Юма (1711–1776), который настаивал, что самые основы науки гораздо более сомнительны, чем можно заподозрить, были убеждены, что евклидова геометрия надежна, как Гибралтарская скала. В «Трактате о человеческом разумении» («An Enquiry Concerning Human Understanding») Юм определяет «истины» двух типов (Hume 1748).
Все объекты, доступные человеческому разуму или исследованию, по природе своей могут быть разделены на два вида, а именно: на отношения между идеями и факты. К первому виду относятся… вообще всякое суждение, достоверность которого или интуитивна, или демонстративна. …К такого рода суждениям можно прийти благодаря одной только мыслительной деятельности, независимо от того, что существует где бы то ни было во Вселенной. Пусть в природе никогда бы не существовало ни одного круга или треугольника, и все-таки истины, доказанные Евклидом, навсегда сохранили бы свою достоверность и очевидность.
Факты, составляющие второй вид объектов человеческого разума, удостоверяются иным способом, и, как бы велика ни была для нас очевидность их истины, она иного рода, чем предыдущая. Противоположность всякого факта всегда возможна, потому что она никогда не может заключать в себе противоречия… Суждение «Солнце завтра не взойдет» столь же ясно и столь же мало заключает в себе противоречие, как и утверждение, что оно взойдет, поэтому мы напрасно старались бы обосновать его ложность демонстративным путем (пер. С. Церетели).
Иначе говоря, хотя Юм, как и все эмпирики, полагал, что любое знание коренится в наблюдении, геометрия и ее «истины» по-прежнему занимали в его представлении привилегированное положение.
Величайший немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804) не во всем был согласен с Юмом, однако тоже превозносил евклидову геометрию, приписывая ей и абсолютную точность, и бесспорную достоверность. В своем знаменитом труде «Критика чистого разума» Кант сделал попытку в некотором смысле обратить отношения между сознанием и физическим миром. Кант отошел от представления о том, что физическая реальность накладывает отпечаток на сознание, остающееся, в сущности, пассивным, Кант наделил сознание активной функцией «конструирования» или «переработки» воспринимаемой Вселенной. Он направил внимание вовнутрь и задался вопросом не о том, что мы можем познать, но о том, как именно мы можем познать то, что можем познать[99]. Он объяснил, что хотя наши глаза регистрируют частички света, эти частички не формируют образ в нашем сознании, пока мозг не переработает и не упорядочит информацию. Ключевая роль в этом процессе переработки приписывалась интуитивному или синтетическому априорному представлению о пространстве, которое, в свою очередь, как полагал Кант, основано на евклидовой геометрии. Кант был убежден, что евклидова геометрия – это единственный путь к переработке и концептуализации пространства, и это интуитивное универсальное знание о пространстве и лежит в основе нашего восприятия мира природы. Вот как об этом пишет сам Кант (Kant 1781).
Пространство не есть эмпирическое понятие, выводимое из внешнего опыта… Пространство есть необходимое априорное представление, лежащее в основе всех внешних созерцаний… На этой априорной необходимости основывается аподиктическая достоверность всех геометрических основоположений и возможность их априорных построений. Если бы это представление о пространстве было a posteriori приобретенным понятием, почерпнутым из общего внешнего опыта, то первые основоположения математического определения были бы только восприятием. Следовательно, на них была бы печать случайности, свойственной восприятию, и суждение, что между двумя точками возможна лишь одна прямая линия, не было бы необходимым; всякий раз этому учил бы нас опыт (пер. Н. Лосского).
Проще говоря, по Канту, если мы воспринимаем какой-то предмет, этот предмет непременно пространственный и евклидовский.
Идеи Юма и Канта выдвинули на первый план два разных, но одинаково важных аспекта, традиционно приписываемых евклидовой геометрии. Первое – утверждение, что евклидова геометрия дает единственно возможное точное описание физического пространства. Второе – отождествление евклидовой геометрии с жесткой, не подлежащей сомнению и непогрешимой дедуктивной структурой. В совокупности эти два предполагаемых качества предоставляли математикам, физикам и философам неоспоримые доказательства, что существуют незыблемые и конкретные истины, описывающие вселенную. До XIX века подобные утверждения воспринимались как данность. Но верны ли они на самом деле?
Основы евклидовой геометрии заложил греческий математик Евклид Александрийский примерно в 300 году до нашей эры. Он создал монументальный тринадцатитомный труд под названием «Начала», где попытался воздвигнуть геометрию на хорошо определенной логической основе. Начал он с девяти аксиом, которые, как предполагалось, несомненно истинны, и четырех постулатов, а затем на основе этих аксиом и постулатов исключительно логическими рассуждениями доказал огромное количество теорем.
Первые четыре постулата Евклида крайне просты и на удивление лаконичны[100]. Первый из них, к примеру, гласит, что «от всякой точки до всякой точки можно провести прямую линию» (здесь и далее цитаты из «Начал» Евклида даны в пер. Д. Мордухай-Болтовского). Четвертый – что «все прямые углы равны между собой». А вот пятый постулат – «постулат о параллельности» – сформулирован уже сложнее и значительно менее очевиден: «Если прямая, падающая на две прямые, образует внутренние и по одну сторону углы, меньшие двух прямых, то эти две прямые, продолженные неограниченно, встретятся с той стороны, где углы меньше двух прямых». На рис. 39 приведен чертеж, иллюстрирующий этот постулат. В истинности этого утверждения никто не сомневался, однако ему явно не хватает краткости и убедительности остальных постулатов. Все указывает на то, что пятый постулат не очень нравился и самому Евклиду: он не прибегает к нему при доказательстве первых двадцати восьми теорем в «Началах»[101]. Эквивалентный вариант «пятого постулата», который чаще всего цитируется в наши дни, впервые появился в комментариях греческого математика Прокла в V веке, однако широко известен как «аксиома Плейфэра» в честь шотландского математика Джона Плейфэра (1748–1819). Он гласит: «если дана линия и точка, лежащая вне ее, через эту точку возможно провести одну и только одну линию, параллельную данной» (см. рис. 40). Два варианта постулата эквивалентны в том смысле, что аксиома Плейфэра (вместе с другими аксиомами) требует первоначального пятого постулата Евклида или наоборот.
С течением веков недовольство пятым постулатом росло, и это привело к целому ряду неудачных попыток все-таки доказать его на основании остальных постулатов и аксиом или заменить его каким-то более очевидным постулатом. Когда эти попытки провалились, другие геометры попытались ответить на интересный вопрос из серии «А что, если»: а что, если пятый постулат на самом деле неверен? Размышления в этом направлении порождали неприятные сомнения в том, так ли уж самоочевидны евклидовы аксиомы – может быть, они просто основаны на повседневном опыте?[102] А окончательный – и крайне неожиданный – вердикт был вынесен в XIX веке: можно создать новые виды геометрий, если произвольно выбрать постулат, отличающийся от пятого постулата Евклида. Более того, эти «неевклидовы» геометрии в принципе способны описывать физическое пространство с той же точностью, что и евклидова!

Рис. 39
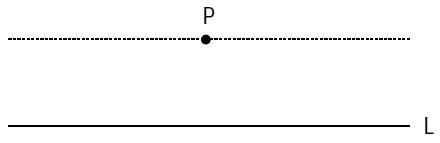
Рис. 40
Позвольте мне сделать здесь небольшую паузу, чтобы уяснить значение выражения «произвольно выбрать». В течение тысячелетий евклидова геометрия считалась уникальной и неизбежной – единственно верным описанием пространства. А когда стало ясно, что можно выбирать постулаты произвольно и получать при этом не менее логичное описание пространства, вся концепция перевернулась с ног на голову. Надежная, тщательно выстроенная дедуктивная схема вдруг стала больше похожа на игру, в которой постулаты играли роль правил и не более того. Возьмешь другие постулаты – сыграешь в другую игру. Это открытие имело поистине сокрушительные последствия для понимания природы математики.
Почву для решительной атаки на евклидову геометрию подготовили сразу несколько математиков, обладавших широким мировоззрением. Особенно выделялись среди них иезуит Джироламо Саккери (1667–1733), исследовавший то, к каким последствиям может привести замена пятого постулата каким-то другим утверждением, и немецкие математики Георг Клюгель (1739–1812) и Иоганн Генрих Ламберт (1728–1777), которые первыми поняли, что могут существовать и другие геометрии, альтернативные евклидовой. И все же нужен был кто-то, кто забил бы последний гвоздь в крышку гроба представлений о том, что единственное возможное описание пространства – это евклидова геометрия. Заслуга принадлежит троим математикам – из России, Венгрии и Германии.
Первым, кто опубликовал целый трактат о новом типе геометрии – геометрии, выстроенной на поверхности в форме выгнутого седла (рис. 41, а) – был русский математик Николай Иванович Лобачевский (1792–1856; рис. 42). В геометрии такого рода (получившей название гиперболической геометрии) пятый постулат Евклида заменен утверждением, что если даны линия на плоскости и точка, лежащая на этой плоскости вне данной прямой, через эту точку параллельно данной прямой можно провести не менее двух прямых. Другое важное отличие геометрии Лобачевского от Евклидовой заключалось в том, что если у Евклида сумма углов треугольника всегда равна 180° (рис. 41, b), то у Лобачевского она всегда меньше 180°. Поскольку работа Лобачевского была напечатана в никому не известном журнале «Казанский вестник», она прошла практически незамеченной, пока в конце 1830 годов не стали появляться переводы на французский и немецкий. Молодой венгерский математик Янош Бойяи (1802–1860), ничего не знавший о работе Лобачевского, разработал похожую геометрию в 1820-е годы[103]. Полный юношеского энтузиазма, Янош писал в 1823 году своему отцу Фаркашу Бойяи (рис. 43): «Я открыл такое великолепие, что сам потрясен… я из ничего создал совершенно новый мир». К 1825 году Янош уже был готов показать старшему Бойяи первые черновики новой геометрии. Рукопись называлась «Наука о пространстве, абсолютно истинная»[104]. Несмотря на восторг молодого человека, его отец сильно сомневался в том, что в идеях Яноша есть здравое зерно. Тем не менее он решил опубликовать новую геометрию в виде приложения к собственному двухтомному трактату об основах геометрии, алгебры и анализа (которому дал завлекательное, по своему мнению, название «Рассуждение о началах математики для прилежной молодежи»). Экземпляр книги Фаркаш послал в июне 1831 года своему другу Карлу Фридриху Гауссу (1777–1855; рис. 44) – не просто самому выдающемуся математику того времени, но человеку, которого наряду с Архимедом и Ньютоном считают одним из трех величайших математиков всех времен. Однако из-за свирепствовавшей тогда холеры книга затерялась, и Фаркаш был вынужден послать второй экземпляр. Шестого марта 1832 года Гаусс написал ему ответ, и высказанные там замечания не оправдали надежд юного Яноша.

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43

Рис. 44
Если я начну с того, что скажу, что не могу похвалить эту работу, вы, разумеется, несколько удивитесь. Однако я не могу сказать иначе. Хвалить ее значило бы хвалить самого себя. Ведь все содержание работы, направление мысли, которое избрал ваш сын, результаты, к которым он пришел, практически полностью совпадают с моими размышлениями, которые отчасти занимают меня последние тридцать-тридцать пять лет. Вот почему я был в некотором замешательстве. Что касается моих собственных трудов, которые я до сей поры почти не поверял бумаге, в мои намерения не входит публиковать их при моей жизни.
Позвольте подчеркнуть, что Гаусс, очевидно, боялся, что последователи Канта, которых он называл «беотийцами» (для древних греков это было синонимом дураков), сочтут это философской ересью. Гаусс продолжал.
С другой стороны, я собирался когда-нибудь все это записать, чтобы эти идеи, по крайней мере, не умерли со мной. Поэтому для меня стало приятной неожиданностью, что мне можно не трудиться, и я очень рад, что опередил меня – причем так поразительно – не кто-нибудь, а сын моего старого друга.
Фаркаш был вполне удовлетворен похвалой Гаусса – он считал, что она «очень приятна», – зато Янош совершенно опустил руки. Почти десять лет он отказывался верить, что Гаусс по праву претендует на первенство, и его отношения с отцом, который, как он считал, поспешил рассказывать Гауссу о его результатах, сильно осложнились. Когда же Янош наконец обнаружил, что Гаусс и в самом деле начал работать над этой задачей еще в 1799 году, то очень озлобился – и все его последующие труды по математике, а он оставил по себе около двадцати тысяч рукописных страниц, по сравнению с юношескими достижениями были весьма посредственны.
Однако в том, что Гаусс и в самом деле много размышлял над неевклидовыми геометриями, сомневаться не приходится[105]. В дневниковой записи за сентябрь 1799 года он писал: «In principiis geometriae egregios progressus fecimus» («Мы сделали энергичные шаги вперед в области основ геометрии»). В дальнейшем, в 1813 году, он отметил: «В теории параллельных прямых мы сейчас зашли не дальше Евклида. Это partie honteuse [позорная часть] математики, которая рано или поздно должна принять совсем другую форму». Спустя еще несколько лет, 28 апреля 1817 года, он утверждает: «Я все больше и больше прихожу к убеждению, что невозможно доказать, что наша [евклидова] геометрия единственна и неизбежна». Наконец – и в противоположность воззрениям Канта – Гаусс заключил, что евклидову геометрию нельзя считать вселенской истиной и что скорее «придется поставить [евклидову] геометрию не на одну ступень с арифметикой, положение которой априорно, а приблизительно на уровень механики». Подобные выводы сделал независимо и Фердинанд Швейкарт (1780–1859), профессор юриспруденции, о чем он позднее и сообщил Гауссу – примерно в 1818–19 годах. Поскольку ни Гаусс, ни Швейкарт своих результатов не публиковали, традиционно считают, что приоритет принадлежит либо Лобачевскому, либо Бойяи, хотя ни того ни другого нельзя, конечно, считать единственными «творцами» неевклидовых геометрий.
Гиперболическая геометрия поразила мир математики, будто молния, и нанесла сокрушительный удар по восприятию евклидовой геометрии как единственного безошибочного описания пространства. До работ Гаусса-Лобачевского-Бойяи евклидова геометрия и представляла собой, в сущности, мир природы. А когда стало ясно, что можно взять другой, произвольный набор аксиом и построить на нем другой тип геометрии, поначалу это вызвало подозрение, что математика все же плод человеческой изобретательности, а не открытие истин, существующих независимо от человеческого сознания. В то же время коллапс непосредственной связи между евклидовой геометрией и реальным физическим пространством выявил фатальные на первый взгляд недостатки самой идеи математики как языка Вселенной.
Новый удар по привилегированному положению евклидовой геометрии был нанесен, когда один из учеников Гаусса Бернхард Риман показал, что гиперболическая геометрия – не единственно возможная неевклидова геометрия. В блестящей речи, прочитанной в Геттингене 10 июня 1854 года (на рис. 45 показана первая страница опубликованной лекции) Риман представил свои представления «О гипотезе, лежащей в основе геометрии»[106]. Начинает он с того, что «геометрия предполагает концепцию пространства, а также задает основные принципы построений в пространстве. Она дает лишь номинальные определения этого, в то время как их сущностные характеристики появляются в виде аксиом». Однако Риман отмечает, что «отношения между этими исходными предпосылками остаются неясными, мы не видим, необходима ли связь между ними, и если да, то в какой степени, или даже возможна ли она a priori. Среди возможных геометрических теорий Риман говорил и об эллиптической геометрии – той, какую можно наблюдать на поверхности сферы (рис. 41, с). Отметим, что в такой геометрии кратчайшее расстояние между двумя точками – не прямая линия, а скорее сегмент окружности большого круга, центр которого совпадает с центром сферы. Этим обстоятельством пользуются авиакомпании: полеты из США в Европу следуют не по прямой линии на карте, а скорее по большой окружности, идущей на север. Легко убедиться, что две любые большие окружности пересекаются в диаметрально противоположных точках. Например, два земных меридиана, которые на экваторе кажутся параллельными, на полюсах пересекаются. Таким образом, в отличие от евклидовой геометрии, где через точку вне прямой можно провести лишь одну параллельную этой прямой линию, и гиперболической геометрии, где можно провести как минимум две параллели, в эллиптической геометрии на сфере параллельных линий нет вообще.
Риман сделал и следующий шаг в разработке неевклидовых концепций и представил геометрии в искривленных пространствах с тремя и четырьмя измерениями и даже больше. Одно из важнейших понятий, разработанных Риманом, – это понятие кривизны, скорости искривления кривой или поверхности. Например, поверхность яйца быстрее всего закругляется у заостренного конца. Риман дал и точное математическое определение кривизны в пространстве с любым количеством измерений. При этом он скрепил узы между алгеброй и геометрией, то есть продолжил дело Декарта. В трудах Римана уравнениям с любым числом переменных нашлись геометрические соответствия – и новые понятия из области новых геометрий стали партнерами алгебраических уравнений.

Рис. 45
Высокое положение евклидовой геометрии – не единственная жертва открытий, которые распахнули перед геометрией в XIX веке совершенно новые горизонты. Представления Канта о пространстве долго не продержались. Вспомним, что Кант утверждал, что данные органов чувств организуются исключительно по шаблонам, которые задал Евклид, еще до того, как регистрируются в нашем сознании. Геометры XIX столетия быстро выработали у себя интуитивное понимание неевклидовых геометрий и научились исследовать мир с этой точки зрения. Оказалось, что евклидово восприятие пространства все-таки не интуитивно, ему учатся. Все эти поразительные открытия натолкнули великого французского математика Анри Пуанкаре (1854–1912) на вывод, что аксиомы геометрии – это «не синтетические интуитивные априорные догадки и не экспериментальные факты. Это договоренности (курсив мой. – М. Л.). Какую именно договоренность из всех возможных мы выбираем, зависит от экспериментальных фактов, но это свободный выбор». Иначе говоря, Пуанкаре считал аксиомы и постулаты всего лишь «замаскированными определениями».
Представления Пуанкаре были вдохновлены не только неевклидовыми геометриями, о которых мы только что говорили, но и бурным ростом других новых геометрий, который к концу XIX века, похоже, совершенно вышел из-под контроля (Poincaré 1891). Скажем, в проективной геометрии (проекции получаются, например, если спроецировать на экран изображение на кинопленке) можно буквально менять местами роли точек и линий, так что теоремы о точках и линиях (в этом порядке) становятся теоремами о линиях и точках. В дифференциальной геометрии математики применяют дифференциальное исчисление для изучения локальных геометрических свойств различных математических пространств, например поверхности сферы или тора. По крайней мере, на первый взгляд все эти геометрии и им подобные казались порождением математического вдохновения и воображения, а не точными описаниями физического пространства. Ну и как прикажете в таких условиях отстаивать представление о Боге-математике? Ведь если «Бог всегда остается геометром (пер. Л. Сумм)» (эту фразу приписывал Платону историк Плутарх), которая из множества геометрий соответствует божественным практикам?
Недостатки классической евклидовой геометрии становились все очевиднее, и это вынудило математиков всерьез задуматься об основах математики в целом и об отношениях математики и логики в частности. К этой важной теме мы вернемся в главе 7. Здесь же позвольте лишь отметить, что поколебалось представление о самоочевидности аксиом и постулатов как таковых. А следовательно, именно революция в геометрии, вероятно, оказала самое сильное влияние на представление о природе математики – невзирая на то, что в XIX веке был достигнут значительный прогресс и в алгебре, и в анализе.
О людях, пространстве и числах
Однако математики не могли подступиться к всеохватной теме оснований математики, пока не были решены некоторые «мелкие» вопросы, требовавшие немедленного вмешательства. Во-первых, разработка и публикация неевклидовых геометрий сама по себе не означала, что это были законные отпрыски математики. Над математикой довлел непреодолимый страх перед логической непоследовательностью – перед тем, что если довести эти геометрии до логического конца, это приведет к неразрешимым противоречиям. К 1870 годам итальянец Эудженио Бельтрами (1835–1900) и немец Феликс Клейн (1849–1925) показали, что неевклидовы геометрии последовательны в той же мере, что и евклидова. Однако это не решало более масштабный вопрос о прочности оснований евклидовой геометрии. Кроме того, вставал и важный вопрос о релевантности. Большинство математиков считали новые геометрии в лучшем случае забавными курьезами. Исторически сложилось так, что своим огромным авторитетом евклидова геометрия была обязана именно тому, что считалась описанием реального пространства, а неевклидовы, как поначалу казалось, вообще не имели отношения к физической реальности. Поэтому в глазах большинства математиков неевклидовы геометрии были не более чем бедными родственницами евклидовой. Анри Пуанкаре оказался немного гибче прочих, но даже он утверждал, что если бы люди попали в мир, где общепринята какая-нибудь неевклидова геометрия, – и тогда было бы «ясно, что мы не сочли бы более удобным перейти» с евклидовой геометрии на неевклидову. Поэтому назрели два вопроса: (1) можно ли воздвигнуть геометрию в частности и другие математические дисциплины в целом на прочном аксиоматическом логическом основании и (2) каковы отношения между математикой и физическим миром и есть ли они вообще?
Некоторые математики предпочли прагматический подход к логическим основам геометрии. То, что они считали абсолютными истинами, как выяснилось, зиждется скорее на житейском опыте, чем на строгих доказательствах, поэтому они от огорчения обратились к арифметике – математике чисел. Оказалось, что нужными инструментами для восстановления оснований геометрии на базе чисел обладает аналитическая геометрия Декарта, в которой точки на плоскости определялись упорядоченными парами чисел, а окружности – парами, удовлетворяющими определенному уравнению (см. главу 4) и так далее. Считают, что тенденцию к этому сдвигу описал немецкий математик Якоб Якоби (1804–1851), когда переиначил фразу Платона «Бог всегда остается геометром» – и у него получилось «Бог всегда остается арифметиком». Однако все эти усилия, можно сказать, ни к чему не привели – только переместили проблему в другую область математики. Великий немецкий математик Давид Гильберт (1862–1943) все же сумел показать, что евклидова геометрия непротиворечива в той же степени, что и арифметика, – а непротиворечивость последней к тому времени была уже бесспорно установлена.
Теперь отношения математики с физическим миром понимали по-новому. Долгие века интерпретация математики как инструмента для чтения мироздания постоянно получала ярчайшие подтверждения. Галилей, Декарт, Ньютон, все Бернулли, Паскаль, Лагранж, Кетле и другие ученые подвели под естественные науки математический фундамент, и это считалось явным свидетельством того, что природа обладает математической структурой. Резонно спросить: если математика не служит языком мироздания, почему же ей удается так замечательно описывать все на свете – от основных законов природы до человеческих черт?
Разумеется, математики отдавали себе отчет, что математика имеет дело лишь с довольно-таки абстрактными платоновскими формами, однако полагали, что это разумная идеализация реальных физических предметов и явлений. В сущности, ощущение, что книга природы написана на языке математики, укоренилось так глубоко, что многие математики наотрез отказывались даже рассматривать математические структуры и понятия, если те не были прямо связаны с физическим миром. Так обстояло дело, например, с колоритным персонажем по имени Джероламо Кардано (1501–1576). Кардано был состоявшимся математиком, известным врачом и прожженным игроком. В 1545 году он опубликовал одну из самых влиятельных книг в истории алгебры – «Ars Magna» («Великое искусство»). В этом всеобъемлющем трактате Кардано подробнейшим образом изучил решения алгебраических уравнений, от простого квадратного уравнения, где неизвестное появляется во второй степени (x 2), до кубических уравнений (x 3) и уравнений четвертой степени (x 4), чего до него никто не делал. Однако в классической математике количества часто интерпретировались как элементы геометрии. Например, значение неизвестной x определялось как отрезок данной длины, значение x 2 – как площадь квадрата, третья степень – x 3 – рассматривалась как объем куба со стороной данной длины. Поэтому в первой главе «Ars Magna» Кардано поясняет следующее (Cardano 1545).
Подробным образом мы рассмотрим лишь кубические уравнения, а об остальных лишь упомянем вскользь, хотя и в общем виде. Ведь поскольку positio [первая степень] относится к линии, quadratum [квадрат] к поверхности, а cubum [the cube] к объемному телу, с нашей стороны было бы очень глупо идти дальше этой точки. Природа такого не позволяет. Таким образом, будет показано, как решать все до куба включительно, но все остальное, что мы добавим, как по необходимости, так и из любопытства, будет лишь намечено и не более того.
Иначе говоря, Кардано утверждает, что поскольку физический мир в том виде, в каком мы его воспринимаем органами чувств, содержит всего три измерения, со стороны математиков было бы глупо заниматься более высокими измерениями или уравнениями более высокого порядка.
Похожие мнения высказывал английский математик Джон Валлис (1616–1703), по чьей работе «Arithmetica Infinitorum» («Арифметика бесконечных чисел») Ньютон учился методам анализа. В другой важной книге – «Treatise of Algebra» («Трактат по алгебре») – Валлис прежде всего делает следующую оговорку: «Природа, строго говоря, не допускает более трех (локальных) измерений»[107]. Затем Валлис уточнил.
Линия, пересеченная с другой линией, задаст плоскость или поверхность; если поверхность пересечется с линией, получится тело. Но если это тело пересечется с линией или эта плоскость с плоскостью, что тогда получится? Плоскостная плоскость? Это какой-то уродец, возможный даже в меньшей степени, чем химера [огнедышащее чудовище из греческой мифологии, помесь змея, льва и козла] либо кентавр [в греческой мифологии – существо с телом и ногами коня и торсом и головой человека]. Ведь длина, ширина и толщина полностью описывают пространство. Никакое воображение не способно представить себе четвертое локальное измерение помимо этих трех.
Опять же логика Валлиса понятна: нет никакого смысла даже воображать геометрию, которая не описывает реальное пространство.
В конце концов мнения начали меняться[108]. Впервые представления о том, что потенциальным четвертым измерением может оказаться время, появились у математиков XVIII века. В статье, которая так и называлась – «Dimension» («Измерение») – опубликованной в 1754 году[109], физик Жан Д’Аламбер (1717–1783) писал так.
Выше я указывал, что невозможно представить себе более трех измерений. Один талантливый человек, мой знакомый, полагает, что можно, однако, взирать на продолжительность как на четвертое измерение и что произведение времени на объем в некотором смысле четырехмерно. С этим представлением можно поспорить, однако мне представляется, что в нем помимо чистой новизны есть и здравое зерно.
Великий математик Жозеф Лагранж в 1797 году пошел еще на шаг дальше и сделал еще более смелое заявление (Lagrange 1797).
Поскольку положение точки в пространстве зависит от трех прямоугольных координат, эти координаты в задачах по механике понимаются как функции t [времени]. Таким образом, мы можем считать механику геометрией четырех измерений, а механический анализ – продолжением анализа геометрического.
Эти смелые идеи открыли дорогу расширению математики в области, которые раньше представлялись немыслимыми – в геометрии с любым количеством измерений, – и при этом вопрос о том, имеют ли эти геометрии какое бы то ни было отношение к физическому пространству, полностью игнорировался.
Может быть, Кант и заблуждался, когда полагал, что наше восприятие пространства следует исключительно евклидовым образцам, однако не приходится сомневаться, что мы в состоянии воспринимать естественно и интуитивно не более трех измерений. Мы можем относительно легко представить себе, как выглядел бы трехмерный мир в двумерной платоновской Вселенной теней, но выйти за пределы трех измерений способно лишь подлинно математическое воображение.
Некоторые революционные труды по разработке n-мерной геометрии – геометрии в произвольном числе измерений – принадлежат перу Германа Гюнтера Грассмана (1809–1877). Грассман, у которого было одиннадцать братьев и сестер и который и сам стал отцом одиннадцати сыновей и дочерей, был школьным учителем, не получившим университетского математического образования[110]. При жизни он больше прославился трудами по лингвистике (по большей части изучением санскрита и готского), нежели достижениями в математике. Один его биограф писал: «Похоже, Грассману суждено, чтобы его время от времени открывали заново – всякий раз так, словно бы он был практически полностью забыт». И все же именно Грассману принадлежит заслуга создания абстрактной науки о «пространствах», в которой привычная геометрия – всего лишь частный случай. Свои новаторские идеи (коренившиеся в отрасли математики под названием линейная алгебра) Грассман опубликовал в 1844 году в книге, которую специалисты знают как «Ausdehnungslehre» («Теория расширений», полное название – «Теория линейных расширений. Новая отрасль математики»). В предисловии к этой книге Грассман писал: «Геометрию ни в коем случае нельзя считать… отраслью математики; ведь геометрия изучает нечто, уже имеющееся в природе, а именно пространство. Кроме того, я обнаружил, что должна существовать отрасль математики, которая исключительно абстрактным способом выводит законы, подобные законам геометрии».
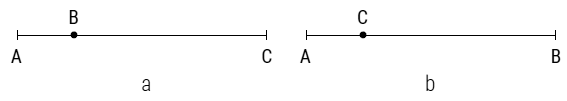
Рис. 46
Это радикально новое представление о природе математики. В глазах Грассмана традиционная геометрия, наследие древних греков, имеет дело с физическим пространством и поэтому не может считаться настоящей отраслью абстрактной математики. Для Грассмана математика была скорее абстрактной конструкцией человеческого разума, которая не обязательно находит себе применение в реальном мире.
Изучать тривиальную на первый взгляд цепочку логических рассуждений, которая вывела Грассмана на путь к теории геометрической алгебры, или, лучше сказать, аналитической геометрии, необычайно интересно[111]. Начал он с простой формулы АВ + ВС = АС, которая появляется в любом учебнике по геометрии при разговоре о длинах отрезков (рис. 46, а). Но тут Грассман заметил одну интересную подробность. Он обнаружил, что эта формула остается верной независимо от порядка точек А, В и С, если не просто толковать АВ, ВС и АС как длины, а приписывать им «направление», например, ВА = —АВ. Скажем, если С лежит между А и В (как на рис. 46, b), то АВ = АС + СВ, но поскольку СВ = —ВС, обнаруживаем, что АВ = АС – ВС и первоначальная формула АВ + ВС = АС восстанавливается, если просто прибавить к обеим частям ВС.
Это само по себе довольно занятно, однако расширение Грассмана таило в себе и новые сюрпризы. Обратите внимание, что если бы мы имели дело не с геометрией, а с алгеброй, то выражение вроде АВ обычно означало бы произведение А × В. В таком случае предположение Грассмана, что ВА = —АВ, нарушает один из священных законов арифметики – что от перемены мест множителей произведение не меняется. Грассман вполне отдавал себе отчет в такой неприятной вероятности и изобрел новую непротиворечивую алгебру – так называемую внешнюю алгебру, – которая позволяла существовать нескольким операциям умножения и одновременно могла иметь дело с геометрией с любым числом измерений.
К 1860 годам n-мерные геометрии плодились, как грибы после дождя[112]. Мало того, что революционная лекция Римана сделала из пространств любой кривизны и с произвольным количеством измерений фундаментальную область исследований, в развитие этой области внесли существенный вклад и другие математики, например англичане Артур Кэли и Джеймс Сильвестр, а также швейцарец Людвиг Шлефли.
У математиков появилось ощущение свободы от многовековых оков, привязывавших их к понятиям числа и пространства. Исторически сложилось, что к этим оковам было принято относиться столь серьезно, что уже в XVIII веке весьма плодовитый швейцарско-российский математик Леонард Эйлер (1707–1783) заметил, что «математика в целом – наука о количестве или наука, которая изучает способы измерить количество». Ветер перемен повеял только в XIX веке.
Все началось с введения абстрактных геометрических пространств и понятия бесконечности (и в геометрии, и в теории множеств), которые до неузнаваемости размыли представление о «количестве» и «измерении». Затем стали стремительно множиться исследования математических абстракций, и это помогло математике еще сильнее дистанцироваться от физической реальности, вдохнув при этом жизнь и «существование» в сами абстракции.
Вот какой «декларацией независимости» описал новообретенную свободу математики Георг Кантор (1845–1918), создатель теории множеств[113]: «Математика совершенно свободна в своем развитии и связана лишь самоочевидными ограничениями – ее понятия должны соответствовать друг другу логически и при этом состоять в регулируемых определениями строгих отношениях с общепринятыми понятиями, которые были введены раньше и находятся в распоряжении исследователя». К этому алгебраист Рихард Дедекинд (1831–1916) шесть лет спустя добавил[114]: «Полагаю, что понятие числа полностью независимо от идей или представлений о пространстве и времени… Числа – вольное творение человеческого разума». То есть и Кантор, и Дедекинд считали математику абстрактным концептуальным исследованием, которое ограничивается исключительно необходимостью соблюдать непротиворечивость безо всяких притязаний как на вычисления, так и на язык физической реальности. Как подытожил Кантор, «Суть математики целиком и полностью в ее свободе».
К концу XIX века большинство математиков уже придерживалось представлений Кантора и Дедекинда о свободе математики. Цель математики изменилась – теперь это был не поиск истин о природе, а конструирование абстрактных структур, систем аксиом и исследование всех логических следствий из этих аксиом.
Казалось бы, это должно было положить конец всем мучительным раздумьям над вопросом, изобретаем мы математику или же открываем. Если математика – не более чем игра, пусть и сколь угодно сложная, в которую играют по произвольно выдуманным правилам, нет никакого смысла верить в реальность математических концепций. Или все же есть?
Как ни странно, разрыв с физической реальностью вызвал у некоторых математиков прямо противоположные чувства. Вместо того чтобы раз и навсегда решить, что математика есть изобретение человека, они вернулись к первоначальной платоновской идее о математике как о независимом мире истин, чье существование столь же реально, сколь и существование физической Вселенной. Попытки связать математику с физикой эти «неоплатоники» прозвали прикладной математикой – в противоположность чистой математике, которая, как предполагалось, индифферентна ко всему физическому. Вот как об этом написал французский математик Шарль Эрмит (1822–1901) в письме голландскому математику Томасу Иоаннесу Стилтьесу (1856–1894) 13 мая 1894 года[115].
Мой дорогой друг, я очень рад, что вы склонны превратить себя в натуралиста, чтобы наблюдать явления мира арифметики. Доктрина у вас та же, что и у меня, я полагаю, что числа и аналитические функции – не произвольные продукты нашего сознания, я думаю, что они существуют вне нас и обладают всеми необходимыми свойствами предметов и явлений объективной реальности и мы находим или открываем их и изучаем их точно так же, как физики, химики и зоологи.
Английский математик Г. Г. Харди, сам приверженец чистой математики, был одним из самых откровенных сторонников современного платонизма. В красноречивом обращении к Британской ассоциации содействия науки 7 сентября 1922 года он объявил следующее[116].
Математики построили очень много разных геометрических систем – и евклидовых, и неевклидовых, для одного, двух, трех и любого другого количества измерений. Все эти системы совершенно и одинаково истинны. Они воплощают результаты наблюдений математиков над их реальностью – реальностью куда более насыщенной и куда более строгой, нежели сомнительная и неуловимая реальность физики… Поэтому функция математика – просто наблюдать факты его собственной суровой и сложной системы реальности, этот неимоверно прекрасный комплекс логических соотношений, который составляет субъект его науки, как будто он – исследователь, взирающий на далекий горный хребет, и регистрировать результаты своих наблюдений на серии карт, каждая из которых – это отрасль чистой математики.
Очевидно, несмотря на то, что все свидетельства того времени указывали на произвольную природу математики, особо упорные платоники не собирались так просто сдаваться. Напротив – они считали, что возможность углубиться, по словам Харди, в «свою реальность», гораздо интереснее, чем и дальше исследовать связи с реальностью физической. Однако независимо от представлений о метафизической реальности математики одно стало очевидно. Даже необузданная на первый взгляд свобода математики предполагала одно несокрушимое и неизменное ограничение – требование логической непротиворечивости. Математики и философы сильнее прежнего понимали, что перерезать пуповину между математикой и логикой ни в коем случае нельзя. Это породило другую идею: можно ли выстроить всю математику на едином логическом фундаменте? И если да, не в этом ли тайна ее эффективности? И наоборот – можно ли применять математические методы при изучении логических рассуждений в целом? Ведь тогда математика станет не только языком природы, но и языком человеческой мысли…
Логики: размышления о рассуждениях
Вывеска на деревенской цирюльне гласит[117]: «Брею тех и только тех жителей деревни, кто не бреется сам». Казалось бы, резонно. Очевидно, что те, кто бреется сам, не нуждаются в услугах цирюльника, поэтому вполне естественно, что цирюльник бреет всех остальных. Но задайтесь другим вопросом – кто бреет цирюльника? Если он бреет сам себя, то, согласно вывеске, должен быть среди тех, кого не бреет. С другой стороны, если он сам себя не бреет, то должен, опять же согласно вывеске, быть среди тех, кого бреет! Так бреет или нет? История знает примеры, когда серьезные семейные склоки случались и по куда менее значительным вопросам. Об этом парадоксе первым написал Бертран Рассел (1872–1970), один из величайших логиков и философов ХХ века, – лишь для того чтобы показать, насколько часто логическая интуиция подводит человека. Парадоксы, они же антиномии, отражают ситуации, в которых вполне приемлемые на первый взгляд суждения приводят к неприемлемым следствиям. В вышеприведенном примере деревенский цирюльник и бреет, и не бреет себя самого. Можно ли разрешить этот парадокс? Одно из простейших решений парадокса – строго в том виде, в каком он приведен выше, – очень просто: цирюльник – женщина! С другой стороны, если бы нам сразу сказали, что цирюльник обязательно мужчина, то абсурдный вывод был бы результатом того, что мы приняли первоначальные суждения. Иначе говоря, такой цирюльник существовать не может. Но какое все это имеет отношение к математике? Оказывается, математика с логикой состоят в ближайшем родстве. Вот как описал эти узы сам Рассел[118].
Исторически математика и логика были совершенно различными дисциплинами. Математика была связана с наукой, а логика с греками. Но обе стали развитыми дисциплинами только в последнее время: логика стала более математической, а математика стала более логической. Как следствие этого, сейчас [в 1919 году] невозможно провести между двумя дисциплинами разделительную линию. На самом деле обе представляют собой нечто единое. Они отличаются так же, как мальчик и мужчина: логика есть юность математики, а математика есть зрелость логики. (Здесь и далее цитаты из «Введения в философию математики» Б. Рассела даны в пер. В. Целищева.)
Здесь Рассел утверждает, что, в сущности, математику можно свести к логике. Иначе говоря, основные понятия математики, даже такие объекты, как, например, числа, можно на самом деле определить в терминах фундаментальных законов рассуждения. Более того, впоследствии Рассел утверждал, что можно сочетать такие определения с логическими принципами – и породить математические теоремы. Первоначально такое представление о природе математики (так называемый логицизм) пользовалось благосклонностью как тех, кто считал математику не более чем сложной игрой, целиком и полностью изобретенной людьми (то есть формалистов), так и обеспокоенных платоников. Первые поначалу обрадовались, когда увидели, как собрание не связанных друг с другом на первый взгляд «игр» объединяется в одну «праматерь всех игр». Последние увидели луч надежды в идее, что вся математика, вероятно, коренится в одном источнике, в котором можно не сомневаться. В глазах платоников это повышало шансы на существование единого метафизического источника. Нечего и говорить, что единый корень математики мог, по крайней мере, в принципе, подсказать, в чем причина ее могущества.
Для полноты картины отмечу, что была еще одна школа мысли под названием интуиционизм, которая всячески противостояла и логицизму, и формализму. Вдохновителем этой школы был голландский математик Лёйтзен Э. Я. Брауэр (1881–1966), отличавшийся некоторым фанатизмом[119]. Брауэр был убежден, что натуральные числа выведены из интуитивных представлений человека о времени и дискретных моментах нашего опыта. С его точки зрения вопрос о том, что математика есть результат человеческой мысли, решался однозначно, поэтому он не видел никакой необходимости в универсальных логических законах наподобие тех, которые представлял себе Рассел. Однако Брауэр пошел гораздо дальше и объявил, что единственные осмысленные математические сущности – это те, которые можно эксплицитно построить на основе натуральных чисел посредством конечного числа шагов. Поэтому он отвергал огромные области математики, для которых были невозможны конструктивные доказательства. Брауэр отвергал и другое логическое понятие – принцип исключенного третьего, согласно которому любое утверждение либо истинно, либо ложно. По Брауэру, напротив, допускались утверждения, которые пребывают в каком-то третьем, лимбическом состоянии, в котором они «остаются нерешенными». Из-за подобных ограничений интуиционистская школа мысли оказалась несколько маргинальной. Тем не менее интуиционистские идеи предвосхищали некоторые открытия в когнитивной психологии, касавшиеся вопроса о том, как люди приобретают математические знания (об этом мы поговорим в главе 9), а кроме того, повлияли на рассуждения некоторых современных философов математики, в частности Майкла Даммита. Даммит придерживался в основном лингвистического подхода и настаивал, что «значение математического утверждения определяет его применение и в то же время полностью определяется этим применением».[120]
Но как же возникло такое тесное партнерство между математикой и логикой? И жизнеспособна ли вообще программа логицизма? Позволю себе дать краткий обзор основных вех за последние четыре столетия.
Традиционно предметом логики были отношения между понятиями и суждениями и процессы, которые позволяли выделить из этих отношений обоснованные следствия.[121] Приведу простой пример: силлогизмы общего вида «всякий икс – игрек; некоторые зеты – иксы; следовательно, некоторые зеты – игреки» построены таким образом, что автоматически обеспечивают истинность заключения, если верны посылки. Например, «Любой биограф – писатель; некоторые политики – биографы; следовательно, некоторые политики – писатели» приводит к истинному заключению. С другой стороны, силлогизмы общего вида «всякий икс – игрек; некоторые зеты – игреки; следовательно, некоторые зеты – иксы» ложны, поскольку можно привести примеры, когда заключение, несмотря на истинность посылок, окажется ложным. Например, «Любой человек – млекопитающее, некоторые рогатые животные – млекопитающие; следовательно, некоторые рогатые животные – люди».
Если соблюдаются некоторые правила, истинность вывода не зависит от темы утверждений. Рассмотрим следующий силлогизм.
– Убийца миллиардера – либо дворецкий, либо его собственная дочь.
– Дочь не убивала миллиардера.
– Следовательно, убийца – дворецкий.
Он позволяет получить истинный вывод. Обоснованность этого вывода никак не зависит ни от нашего мнения о дворецком, ни от отношений миллионера с дочерью. Обоснованность обеспечена тем, что посылки общего вида «если или p, или q, но при этом не q, следовательно, p» приводят к логически истинному утверждению.
Вероятно, вы заметили, что в первых двух примерах иксы, игреки и зеты играли роли, очень похожие на роли переменных в математических уравнениях: они отмечают места, куда можно вставлять выражения, точно так же, как вместо переменных в алгебре можно подставлять их численные значения. Подобным же образом истинность силлогизма «если или p, или q, но при этом не q, следовательно, p» напоминает аксиомы евклидовой геометрии. И все же нужно было провести в размышлениях о логике почти два тысячелетия, прежде чем математики отнеслись к этой аналогии с должной серьезностью.
Первым, кто сделал попытку свести эти две дисциплины – логику и математику – в одну «универсальную математику», был немецкий математик и философ-рационалист Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646–1716). Лейбниц получил юридическое образование и математикой, физикой и философией занимался по большей части в свободное время. При жизни он был известен в основном тем, что независимо и почти одновременно с Ньютоном вывел основы дифференциального и интегрального исчисления (что привело к жарким спорам за право первенства). В статье, которую Лейбниц практически целиком продумал еще в шестнадцать лет, он исследовал универсальный логический язык – так называемую «универсальную характеристику» (characteristica universalis), – по его мнению, идеальный инструмент мышления. План Лейбница состоял в том, чтобы выражать простые идеи и понятия символами, а более сложные – сочетаниями основных символов. Лейбниц рассчитывал, что сможет буквально вычислить истинность любого утверждения и любой научной дисциплины при помощи одних лишь алгебраических операций. Он предсказывал, что при наличии адекватных логических вычислительных методов философские споры будут решаться подсчетом. К сожалению, в полной мере разработать свою алгебру логики Лейбниц так и не сумел. Помимо общего принципа «алфавита мыслей», ему принадлежат две заслуги: он четко сформулировал, когда надо считать, что две вещи равны, и признал очевидный на первый взгляд факт, что никакое утверждение не может быть одновременно истинным и ложным. Поэтому при всей своей занимательности идеи Лейбница прошли по большей части незамеченными.
К середине XIX века логика снова вошла в моду, и внезапно вспыхнувший интерес к ней привел к созданию значительных научных трудов. Первые работы такого рода опубликовал Огастес де Морган (1806–1871), а затем – Джордж Буль (1815–1864), Готлоб Фреге (1848–1925) и Джузеппе Пеано (1858–1932).
Де Морган был необычайно плодовитым автором, опубликовавшим буквально тысячи статей и книг на самые разные темы, касающиеся математики, истории математики и философии[122]. Были среди них и довольно экзотические работы – альманах полнолуний (за тысячи лет) и сборник занимательных задач по математике. Когда его как-то раз спросили, сколько ему лет, он ответил: «Мне было х лет в х 2 году». Можете сами убедиться, что единственное число, квадрат которого попадает в промежуток от 1806 до 1871 года (годы рождения и смерти де Моргана), – это 43. Однако самые оригинальные достижения де Моргана лежат, пожалуй, в области логики, где он, во-первых, значительно расширил диапазон аристотелевских силлогизмов, а во-вторых, упражнялся в алгебраическом подходе к рассуждениям. Де Морган взирал на логику глазами алгебраиста, а на алгебру – глазами логика. Вот как он описывал свои пророческие воззрения в одной статье: «Именно в алгебре нам следует искать самое привычное применение логических форм… алгебраист обретался в высших сферах силлогизма, постоянного построения соотношений, еще до того, как признали, что подобные сферы существуют».
Одно из важнейших достижений де Моргана в логике – так называемая квантификация предиката. Это несколько помпезное название дано понятию, которое, можно сказать, странным образом ускользало от глаз части логиков классического периода. Последователи Аристотеля вполне справедливо заметили, что из посылок вроде «некоторые зеты – иксы» и «некоторые зеты – игреки» невозможно сделать никаких строгих выводов об отношениях между иксами и игреками. Например, из фраз «некоторые люди любят хлеб» и «некоторые люди любят яблоки» нельзя заключить ничего определенного относительно отношений между любителями яблок и любителями хлеба. До XIX века логики также предполагали, что для того, чтобы из силлогизма следовали какие-то определенные отношения между иксами и игреками, средний термин (зет из вышеприведенного примера) должен быть «универсальным» в одной из посылок. То есть фраза должна включать «все зеты». Де Морган доказал, что это предположение ошибочно. В своей книге «Formal Logic» («Формальная логика»), опубликованной в 1847 году, он указал, что из посылок наподобие «большинство зетов – иксы» и «большинство зетов – игреки» с необходимостью следует, что «некоторые иксы – игреки». Например, фразы «большинство людей любят хлеб» и «большинство людей любят яблоки» заставляют сделать неопровержимый вывод, что «некоторые люди любят и хлеб, и яблоки».
На этом де Морган не остановился и облек свой новый силлогизм в точную количественную форму. Представьте себе, что общее число зетов – z, число зетов, которые одновременно еще и иксы, – х, а число зетов, которые одновременно еще и игреки – у. Пусть в вышеприведенном примере будет всего 100 человек (z = 100), из которых 57 любят хлеб (x = 57) и 69 любят яблоки (y = 69). Тогда, как заметил де Морган, должно быть как минимум (x + y – z) иксов, которые еще и игреки. Как минимум 26 человек (57 + 69 – 100 = 26) любят одновременно и хлеб, и яблоки.
К сожалению, из-за этого хитроумного метода квантификации предиката де Морган оказался вовлечен в неприятный публичный спор. Шотландский философ Уильям Гамильтон (1788–1856) – не путайте с ирландским математиком Уильямом Роуэном Гамильтоном – обвинил де Моргана в плагиате, поскольку Гамильтон за несколько лет до де Моргана обнародовал в чем-то схожие, но гораздо менее проработанные идеи.
В нападках Гамильтона не было ничего удивительного, если учесть, как он относился к математикам и математике. Как-то раз он заявил: «Излишне прилежное изучение математики совершенно лишает мозг интеллектуальной энергии, необходимой для жизни и философии». Лавина едких писем, которые последовали за обвинением Гамильтона, привела к одному положительному результату – хотя этого уж наверняка никто не имел в виду: она подтолкнула к изучению логики алгебраиста Джорджа Буля. Впоследствии в статье «The Mathematical Analysis of Logic» («Математический анализ логики») Буль делился воспоминаниями (Boole 1847).
Весной нынешнего года мое внимание привлек спор, произошедший между сэром У. Гамильтоном и профессором де Морганом, и интерес, который он вызвал, вдохновил меня возобновить уже почти забытые исследования, которые я начал было в прошлом. Мне показалось, что хотя логику можно рассматривать с точки зрения идеи количества, она обладает и другой, более глубокой системой отношений. Если правомерно рассматривать ее извне, в том виде, в каком она посредством числа связана с понятиями пространства и времени, то правомерно и рассматривать ее изнутри, как основанную на фактах иного порядка, которые находят обиталище в устройстве разума.
Эти скромные слова знаменовали зарождение работы, которая совершила переворот в символической логике.
Джордж Буль (рис. 47) родился 2 ноября 1815 года в промышленном английском городе Линкольн[123]. Его отец Джон Буль был в Линкольне сапожником, однако очень интересовался математикой и с большим мастерством изготавливал самые разные оптические инструменты. Мать Буля Мэри Энн Джойс работала горничной. Поскольку отец относился к своему ремеслу довольно прохладно, семья была небогатой. До семи лет Джордж ходил в частную школу, а затем – в начальную, где его учителем был некто Джон Уолтер Ривс. В детстве Буль интересовался в основном латынью, которой его учил местный книготорговец, и древнегреческим, который выучил сам. В четырнадцать лет он даже перевел стихотворение Мелеагра – греческого поэта I века до н. э. Гордый отец опубликовал перевод в «Линкольн Геральд», на что один местный учитель напечатал заметку, где выражал сомнение, что такой перевод мог сделать подросток. Бедность семьи вынудила Джорджа Буля в шестнадцать лет начать работать помощником учителя. В последующие годы он посвятил свободное время изучению французского, итальянского и немецкого. Знание современных языков оказалось ему очень кстати, поскольку позволило обратить внимание на работы великих математиков – Сильвестра Лакруа, Лапласа, Лагранжа, Якоби и других. Но и тогда Булю не удалось получить систематическое математическое образование, и он продолжал заниматься самостоятельно – продолжая зарабатывать преподаванием на жизнь и на поддержку родителей, братьев и сестер. Тем не менее математические таланты этого самородка стали понемногу проявляться, и он начал печатать статьи в «Кембриджском математическом журнале».
В 1842 году Буль вступил в регулярную переписку с де Морганом, которому отправлял на отзыв свои статьи по математике. Поскольку у Буля уже складывалась репутация независимого, оригинально мыслящего математика и к тому же он заручился рекомендацией де Моргана, в 1849 году ему предложили место преподавателя математики в Королевском колледже в Ирландии, в городе Корк. Там он и трудился до конца своих дней. В 1855 году Буль женился на Мэри Эверест (в честь ее дяди, географа Джорджа Эвереста, была названа гора), которая была моложе его на семнадцать лет, и у них было пять дочерей. Скончался Буль безвременно в возрасте всего сорока девяти лет. В 1864 году холодным зимним днем он по дороге в колледж попал под ледяной ливень, но настоял на том, чтобы все-таки прочитать все лекции, хотя одежда у него промокла до нитки. А дома жена, по всей видимости, лишь усугубила его состояние, поскольку пыталась «лечить подобное подобным» и ведрами лила воду в его постель. Буль заболел воспалением легких и 8 декабря 1864 года умер. Бертран Рассел искренне восхищался этим гениальным самоучкой: «Чистую математику открыл Буль в работе, которую назвал “Законы мышления” (1854)… На самом деле его книга посвящена формальной логике, а это – то же самое, что математика». Интересно, что и Мэри Буль (1832–1916), и все пять их дочерей сумели прославиться в самых разных областях, от химии до педагогики, что для того времени было весьма необычно.

Рис. 47
«Математический анализ логики» Буль опубликовал в 1847 году, а трактат «Законы мышления», полное название которого звучит как «Исследование законов мышления, на которых основаны математические теории логики и вероятностей» («An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities») – в 1854 году. Это подлинные шедевры, благодаря которым был сделан огромный шаг вперед в прослеживании параллелей между логическими и арифметическими операциями. Буль буквально превратил логику в разновидность алгебры (которая получила название булева алгебра) и расширил логический анализ до вероятностных рассуждений. Вот что говорил сам Буль (Boole 1854).
Цель следующего трактата [ «Законов мышления»] – исследовать фундаментальные законы тех операций разума, посредством которых выполняется рассуждение, выразить их на символическом языке исчисления и на этом фундаменте основать логику как науку и выстроить ее метод, чтобы сделать сам этот метод основой обобщенного метода для применения к математической доктрине вероятностей и, наконец, собрать, возможно, из различных элементов истины, которые будут выявлены в ходе этих исследований, какие-то сведения о природе и устройстве человеческого сознания.
Булево исчисление можно толковать как применительно к отношениям между классами (собраниями предметов или членов), так и в логике утверждений. Например, если x и y – классы, то отношение x = y означает, что члены у этих двух классов одни и те же, даже если они определены по-разному. Скажем, если все ученики какой-то школы ниже двух метров ростом, то два класса, определенные как x = «все ученики этой школы» и y = «все ученики этой школы, которые ниже двух метров ростом» равны. Если x и y – суждения, то x = y означает, что два утверждения эквивалентны (то есть одно истинно тогда и только тогда, когда второе тоже истинно). Например, утверждения x = «Джон Бэрримор – брат Этель Берримор» и y = «Этель Бэрримор – сестра Джона Бэрримора» эквивалентны (равны). Обозначение «x · y» отражает общую часть двух классов x и y (члены которой принадлежат одновременно x и y) или конъюнкцию (пересечение) суждений x и y (то есть «x и y»). Например, если x – класс всех деревенских дурачков, а y — класс всех существ с черными волосами, то x · y — класс черноволосых деревенских дурачков. Для утверждений x и y конъюнкция x · y (или слово «и») означает, что должны быть верны оба утверждения. Например, если Управление дорожного движения говорит, что «вы должны пройти проверку периферического зрения и сдать экзамен на права», это значит, что нужно исполнить оба требования. По Булю, если два класса не имеют общих членов, то символ «x + y» отражает класс, состоящий из всех членов как класса х, так и класса у. В этом случае утверждение «x + y» соответствует «или x, или y, но не то и другое сразу». Например, если x – это утверждение «колышки квадратные», а у – утверждение «колышки круглые», то x + y означает «колышки или круглые, или квадратные». Подобным же образом «x – y» отражает класс тех членов х, которые при этом не члены у, или утверждение «х, но не у». Буль обозначил универсальный класс (содержащий все возможные рассматриваемые члены) как 1, а пустой или нулевой класс (в котором вообще нет членов) как 0. Обратите внимание, что нулевой класс (множество) определенно не то же самое, что число 0: число 0 – это количество членов в нулевом классе. А еще обратите внимание, что нулевой класс – не то же самое, что ничего, потому что класс без ничего – все равно класс. Например, если все газеты в Албании печатаются на албанском, то класс всех албаноязычных газет в Албании по идее Буля обозначается 1, а класс всех испаноязычных газет в Албании – 0. С точки зрения утверждений 1 означает стандартную истину (например, «люди смертны»), а 0, соответственно, – стандартную ложь (например, «люди бессмертны»).
Исходя из этих договоренностей, Буль сумел сформулировать набор аксиом, определяющий алгебру логики. Например, можете сами убедиться, что при помощи вышеприведенных определений очевидно истинное суждение «Все или х, или не х» в булевой алгебре может быть записано как x + (1 – x) = 1, что верно и в обычной алгебре. Подобным же образом и утверждение об общей части между любым классом и нулевым классом выражается как 0 · x = 0, что также означает, что конъюнкция любого утверждения с ложным утверждением ложна. Например, конъюнкция «сахар сладкий и люди бессмертны» порождает ложное утверждение, несмотря на то, что первая часть истинна. Обратите внимание, что опять же это «равенство» в булевой алгебре остается истинным, даже если воспринимать его как нормальное алгебраическое выражение.
Чтобы показать все возможности своих методов, Буль попытался применить логические символы ко всему, что казалось ему важным. В частности, он проанализировал даже доводы философов Сэмюэля Кларка и Баруха Спинозы в пользу существования Бога и относительно его качеств. Однако пришел он при этом к довольно-таки пессимистическому выводу: «Думаю, после изучения доводов Кларка и Спинозы невозможно не прийти к глубочайшему убеждению о тщетности всех попыток доказать – целиком и полностью a priori – существование Беспредельного Существа и судить о Его качествах и Его отношениях со Вселенной». Несмотря на резонность вывода Буля, не все, очевидно, были так уж убеждены в тщетности подобных попыток, поскольку обновленные версии онтологических доводов в пользу существования Бога появляются и по сию пору[124].
В целом Буль сумел математически обуздать логические связки «и», «или», «если… то» и «не», которые сейчас лежат в самой основе компьютерных операций и самых разных коммутационных схем. Поэтому многие считают его одним из «провозвестников», приблизивших эру цифровых технологий. И все же булева алгебра была новой и неслыханной, а потому несовершенной. Во-первых, у Буля получалось писать несколько нестрого и не вполне понятно, поскольку он прибегал к системе обозначений, слишком похожей на обычную алгебру. Во-вторых, Буль путал утверждения («Аристотель смертен»), предикаты («х смертен») и утверждения с квантором всеобщности («х смертен для любого х»). Наконец, впоследствии Фреге и Рассел утверждали, что алгебра коренится в логике. Поэтому можно возразить, что следует строить алгебру на логике, а не наоборот.
Однако в книге Буля содержалась одна идея, которой предстояло стать очень плодотворной. Речь идет о понимании тесной связи логики с понятием классов или множеств. Вспомним, что булева алгебра в равной степени применима к классам и к логическим утверждениям. В самом деле, когда все члены одного множества X – еще и члены другого множества Y (X — подмножество Y), это можно выразить в виде логической импликации в виде «если X, то Y». Например, то, что все кони – подмножество множества всех четвероногих животных, можно написать в виде логического утверждения «Если X – конь, то он четвероногое животное».
В дальнейшем усовершенствованием и расширением булевой алгебры логики занимались многие ученые, однако полностью исследовал подобие между логикой и множествами и вывел всю эту концепцию на принципиально новый уровень Готлоб Фреге (рис. 48).

Рис. 48
Фридрих Людвиг Готлоб Фреге родился в Германии, в городе Висмаре, где и его отец, и мать в разное время были директорами старшей школы для девочек. Он изучал математику, физику, химию и философию, сначала в Йенском университете, потом еще два года в Геттингенском университете. Получив образование, он в 1874 году начал читать в Йене лекции и на протяжении всей своей профессиональной карьеры преподавал там математику. Несмотря на солидную педагогическую нагрузку, Фреге в 1879 году сумел напечатать свою первую революционную работу по логике[125]. Небольшая книга называлась «Исчисление понятий, или Подражающий арифметике формальный язык чистого мышления» (в научном обиходе ее обычно называют «Begriffsschrift»). В ней Фреге разработал оригинальный логический язык, который затем развил в двухтомном труде «Основные законы арифметики» («Grundgesetze der Arithmetic»). Задачи, которые ставил перед собой Фреге, были, с одной стороны, очень узкими, но с другой – необычайно честолюбивыми. Первоначально он сосредоточился на арифметике и хотел показать, что даже такие знакомые понятия, как натуральные числа 1, 2, 3…, можно свести к логическим конструкциям. Таким образом, Фреге полагал, что можно доказать все истины арифметики при помощи нескольких логических аксиом. Иными словами, по Фреге даже утверждения вроде 1 + 1 = 2 – не эмпирические истины, основанные на наблюдении: они выводятся из логических аксиом. Книга «Begriffsschrift» Фреге оказала такое влияние, что современный гарвардский логик Уиллард Ван Орман Куайн (1908–2000) однажды написал: «Логика – наука очень старая, а с 1879 года еще и великая».
Стержневым понятием философии Фреге было представление о том, что истина не зависит от человеческого суждения. В «Основных законах арифметики» он пишет (Frege 1893, 1903): «Быть истинным – не то же самое, что считаться истинным в глазах одного человека или даже всех, и одно ни в коем случае не сводится к другому. Нет никакого противоречия в том, что истинно что-то, что все считают ложным. Под “законами логики” я подразумеваю не психологические законы, по которым люди считают что-то истинным, а законы истины… они [законы истины] – краевые камни, заложенные в фундамент вечности, и наше мышление может перелиться через них, но не сдвинуть их с места».
Логические аксиомы Фреге имеют общий вид «для всех… если… то». Например, одна из аксиом выглядит так: «для всех p, если не (не-р), то р»[126]. В целом эта аксиома гласит, что если утверждение, противоречащее рассматриваемому, ложно, то само утверждение истинно. Например, если утверждение, что вам не надо останавливать машину на красный сигнал светофора, ложно, то вам совершенно точно надо останавливать машину на красный сигнал светофора. Чтобы в полной мере развить логический «язык», Фреге дополнил набор аксиом очень важным новым инструментом. Он заменил традиционный «субъектно-предикатный» стиль классической логики понятиями, позаимствованными у математической теории функций. Позволю себе краткое объяснение. Когда математическое выражение записывают как f (x) = 3x + 1, это означает, что f – это функция переменной x, а значение этой функции можно получить, умножив значение переменной на 3 и прибавив к результату 1. Фреге определил свои так называемые концепты как функции. Например, предположим, что вы хотите обсудить концепт «ест мясо». Этот концепт будет символически описан функцией F (x), и значение этой функции будет «истина», если x – лев, и «ложь», если x – олень. Если речь идет о числах, то концепт (функция) «меньше 7» пометит все числа, равные и больше 7, как «ложь», а все числа меньше 7 – как «истину». Фреге называл объекты, для которых тот или иной концепт принимал значение «истина», «подпадающими под» этот концепт.
Как я уже отметил, Фреге был убежден, что любое утверждение, имеющее отношение к натуральным числам, можно познать и вывести исключительно на основе логических определений и законов. Подобным же образом он начал свое описание темы натуральных чисел, не требуя никакого априорного понимания идеи «числа». Например, на логическом языке Фреге два концепта равномощны (то есть с ними ассоциируется одно и то же число), если есть взаимно однозначное соответствие между объектами, «подпадающими под» один концепт, и объектами, «подпадающими под» другой. То есть крышки от мусорных баков равномощны самим мусорным бакам (если у каждого бака есть крышка), и это определение не требует никакого упоминания о числах. Затем Фреге предлагает интереснейшее логическое определение числа 0. Представьте себе концепт F, который по определению «не тождествен самому себе». Поскольку любой объект должен быть тождествен самому себе, то под концепт F не подпадают никакие объекты. Иначе говоря, F (x) – ложь для любого объекта x. Привычное всем нам число нуль Фреге определил как «мощность концепта F». Затем он определил все натуральные числа в терминах сущностей, которые назвал объемами (Frege 1884). Объем концепта – это класс всех объектов, подпадающих под этот концепт. Человеку, далекому от логики как науки, переварить такое определение, пожалуй, сложновато, но на самом деле все очень просто. Например, объем концепта «женщина» – это класс всех женщин. Обратите внимание, что объем класса «женщина» сам по себе не женщина.
Вероятно, вам интересно, как это абстрактное логическое определение помогает определить, скажем, число 4. По Фреге, число 4 – это объем (или класс) всех концептов, под которые подпадают четыре объекта. Так что к этому классу, а следовательно, к числу 4, принадлежит и концепт «быть лапкой песика по имени Снупи», и концепт «прабабушка Готлоба Фреге».
Программа Фреге произвела настоящую сенсацию, однако были у нее и серьезные недостатки. С одной стороны, идея применять концепты – самую суть мышления – к построению арифметики была просто гениальной. С другой – Фреге не разглядел в собственной системе понятий весьма существенные противоречия. В частности, доказано, что одна из его аксиом, так называемый «Основной закон V», ведет к противоречию и поэтому безнадежно ошибочна. Сам по себе закон довольно невинен: он гласит, что объем концепта F идентичен объему концепта G тогда и только тогда, когда под концепты F и G подпадают одни и те же объекты. Однако 16 июня 1902 года разорвалась бомба: Бертран Рассел (рис. 49) написал Фреге письмо, где привел некий парадокс, доказывавший, что Основной закон V приводит к противоречию. Судьба распорядилась так, что письмо Рассела пришло как раз тогда, когда второй том «Основных законов арифметики» готовился к печати. Потрясенный Фреге поспешил сделать к рукописи откровенное примечание: «Едва ли для ученого что-то может быть неприятнее, чем обнаружить, что самые основы его рассуждений рухнули, когда работа уже завершена. Именно в такое положение поставило меня письмо мистера Бертрана Рассела, когда книга была уже практически в печати». Самому же Расселу Фреге, как человек благородный, написал: «Открытое Вами противоречие стало для меня величайшей неожиданностью – и вынужден признаться, что я даже испугался, поскольку оно сотрясло самые основы, на которых я намеревался выстроить арифметику».
Как странно, однако, что один-единственный парадокс оказал такое разрушительное воздействие на целую программу, целью которой было заложить основы математики, но, как отметил Уиллард Ван Орман Куайн, «Не раз и не два в истории случалось так, что открытие парадокса становилось поводом для основательной реконструкции самого фундамента мысли». Именно такой повод и предоставил парадокс Рассела.

Рис. 49
Теорию множеств создал практически в одиночку немецкий математик Георг Кантор. Вскоре стало понятно, что множества играют в математике настолько фундаментальную роль и настолько тесно переплетены с логикой, что любые попытки выстроить математику на основе логики с необходимостью предполагали, что ее будут строить на аксиоматической основе теории множеств.

Рис. 50
Класс или множество – это просто набор объектов. Объекты не обязательно должны быть как-то связаны. Вполне можно говорить об одном классе, в который входят все объекты из следующего списка: телесериалы, которые шли в 2003 году, белый конь Наполеона и понятие истинной любви. Элементы, принадлежащие к определенному классу, называются членами этого класса.
Большинство классов объектов, с которыми вы, скорее всего, сталкиваетесь, не члены самих себя. Например, класс всех снежинок сам по себе не снежинка, класс всех антикварных карманных часов – не антикварные карманные часы и так далее. Однако бывают и такие классы, которые приходятся членами сами себе. Например, класс «все, что не антикварные карманные часы» – член самого себя, поскольку этот класс совершенно точно не антикварные карманные часы. Подобным же образом класс всех классов – член самого себя, поскольку он, очевидно, класс. А как насчет класса «всех тех классов, которые не члены самих себя»[127]?
Назовем этот класс R. Так принадлежит R к самому себе (к классу R) или нет? Очевидно, что R не может принадлежать R, поскольку в таком случае он нарушал бы определение членства в R. Но если R не принадлежит сам к себе, то, по определению, он должен быть членом R. Поэтому, как и в случае с деревенским цирюльником, мы обнаруживаем, что класс R одновременно и принадлежит, и не принадлежит R, а это логическое противоречие. Именно об этом парадоксе Рассел и написал Фреге. Поскольку эта антиномия подрывала сам процесс, по которому могли определяться классы или множества, программе Фреге был нанесен смертельный удар. Хотя Фреге и сделал несколько отчаянных попыток исправить свою систему аксиом, к успехам это не привело. Напрашивался катастрофический вывод: оказывается, формальная логика вовсе не надежнее математики, а напротив, гораздо больше подвержена фатальным противоречиям.
Примерно в то же время, когда Фреге разрабатывал свою программу логицизма, итальянский математик и логик Джузеппе Пеано разработал несколько иной подход. Пеано хотел основать арифметику на аксиоматическом фундаменте. Поэтому он отталкивался от формулировки набора простых лаконичных аксиом. Например, первые три его аксиомы гласили (пер. В. Целищева).
1. Ноль есть число.
2. Последующий элемент каждого числа есть число.
3. Никакие два числа не имеют одного и того же последующего элемента.
Сложность в том, что хотя система аксиом Пеано и в самом деле позволяет воспроизвести известные законы арифметики (если ввести дополнительные определения), на ее основе невозможно дать однозначное определение натуральных чисел.
Следующий шаг проделал Бертран Рассел. Рассел считал, что первоначальная идея Фреге – вывести арифметику из логики – это правильный путь. Поставив перед собой нелегкую задачу, Рассел в соавторстве с Альфредом Нортом Уайтхедом (рис. 50) создали невероятный шедевр логической мысли – фундаментальный трехтомный труд «Основания математики» («Principia Mathematica»)[128]. Эта книга стала самым авторитетным трудом в истории логики за исключением разве что «Органона» Аристотеля (на рис. 51 приведен титульный лист первого издания).
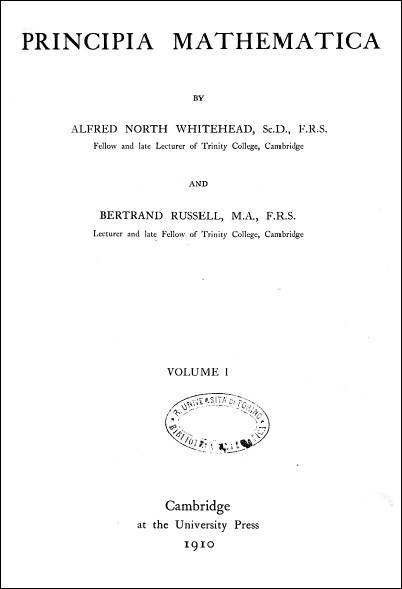
Рис. 51
В «Основаниях» Рассел и Уайтхед отстаивали ту точку зрения, что математика в целом зиждется на проработке и развитии законов логики и между ними нет четкого разграничения[129]. Однако, чтобы добиться самодостаточного описания, им нужно было каким-то образом обуздать антиномии, или парадоксы (вдобавок к парадоксу Рассела нашлись и другие). Это требовало очень хитроумных логических манипуляций. Рассел считал, что эти парадоксы возникают исключительно из-за «порочного круга», когда сущности определяют в терминах класса объектов, который сам содержит определяемую сущность. Вот как он об этом писал: «Если я говорю “Наполеон имел все качества, которые сделали его великим полководцем”, я должен определить “качества” таким образом, который не включал бы то, о чем я сейчас говорю, то есть “обладание всеми качествами великого полководца” не должно быть качеством в предположенном смысле». Чтобы избежать этого парадокса, Рассел предложил «теорию типов», в которой класс (множество) принадлежит к более высокому логическому типу, чем его члены[130]. Например, все отдельные игроки футбольной команды «Далласские ковбои» принадлежали бы к типу 0. Сама команда «Далласские ковбои», класс игроков, принадлежала бы к типу 1. Национальная футбольная лига, класс команд, была бы типа 2, а совокупность лиг, если бы таковая существовала, – типа 3 и так далее. По этой системе сама идея класса, который является членом самого себя, не ложна и не истинна, а просто бессмысленна. Поэтому парадоксы наподобие парадокса Рассела в системе Рассела и Уайтхеда не встречаются.
Нет никаких сомнений, что «Основания» – монументальное достижение в логике, однако едва ли можно считать этот труд долгожданными основами математики. Теорию типов Рассела многие считают несколько искусственным способом избавиться от проблемы парадоксов[131], причем этот способ сам по себе приводит к разным неприятным осложнениям. Например, рациональные числа, то есть простые дроби, принадлежат, как выяснилось, к более высокому типу, чем натуральные числа. Чтобы избежать некоторых таких осложнений, Рассел и Уайтхед ввели дополнительную аксиому, так называемую аксиому сводимости, которая сама по себе вызывает серьезные противоречия и недоверие.
Математики Эрнст Цермело и Абрахам Френкель предложили более изящные способы искоренить парадоксы. Они, в сущности, сумели снабдить теорию множеств самодостаточной системой аксиом и воспроизвести большинство результатов этой теории. На поверхностный взгляд сбылась мечта платоников – по крайней мере, отчасти. Если теория множеств и логика и в самом деле две стороны одной медали, значит, прочный фундамент теории множеств обеспечивает и прочный фундамент логики. А если к тому же почти вся математика выводится из логики, это придает математике своего рода объективную надежность, которую, кроме всего прочего, можно было бы привлечь для объяснения эффективности математики.
К сожалению, ликовали платоники недолго, поскольку их почти сразу же постиг тяжелый случай дежавю.
В 1908 году немецкий математик Эрнст Цермело (1871–1953) прошел по пути, очень похожему на тот, который проложил Евклид около 300 года до н. э.[132]. Евклид сформулировал несколько недоказуемых, но, как предполагалось, самоочевидных постулатов о точках и линиях, а затем на их основании выстроил геометрию. Цермело – который независимо нашел парадокс Рассела еще в 1900 году – предложил способ выстроить теорию множеств на таком же аксиоматическом фундаменте. В его теории парадокс Рассела обходился при помощи тщательного отбора принципов конструирования, исключавших противоречивые идеи вроде «множества всех множеств». Систему Цермело в 1920-е годы развил и дополнил израильский математик Абрахам Френкель (1891–1965), в результате чего была создана так называемая теория множеств Цермело-Френкеля (важные коррективы внес и Джон фон Нейман в 1925 году)[133]. Все складывалось почти идеально, оставалось лишь доказать непротиворечивость, однако очень скоро возникли неприятные подозрения. Была одна аксиома – аксиома выбора, – которая, в точности как знаменитый «пятый постулат» Евклида, не давала математикам спокойно спать. На простом и понятном языке аксиома выбора гласит: если Х – набор (множество) непустых множеств, можно выбрать по одному члену из каждого множества в Х и сформировать из них новое множество Y[134]. Легко убедиться, что это утверждение истинно, если набор X не бесконечен. Например, если у нас сто коробок и в каждой лежит по крайней мере по одному стеклянному шарику, можно запросто взять по шарику из каждой коробки и сформировать новое множество Y, в которое войдут сто стеклянных шариков. В таком случае нам и особой аксиомы не нужно – мы можем доказать, что такой выбор возможен. Это утверждение верно и для бесконечных наборов Х, если только мы можем точно указать, как именно мы делаем выбор. Представьте себе, например, бесконечный набор непустых множеств натуральных чисел. Членами этого набора могут быть множества вроде {2, 6, 7}, {1, 0}, {346, 5, 11, 1257}, {все натуральные числа от 381 до 10 457} и тому подобные. В каждом множестве натуральных чисел всегда есть одно самое маленькое число. Поэтому наш выбор вполне можно однозначно описать следующим образом: «Из каждого множества мы выбираем наименьший элемент». В таком случае опять же можно обойтись без аксиомы выбора. Сложности возникают с бесконечными наборами в тех случаях, когда мы не можем определить способ выбора. В таких случаях процесс выбора никогда не кончается, и существование множества, в котором содержится ровно по одному элементу из каждого члена набора X, становится вопросом веры.
Аксиома выбора с самого начала породила среди математиков серьезные споры. Поскольку она постулирует существование определенных математических объектов, то есть «выборов», не обеспечивая никаких сколько-нибудь осязаемых примеров таких объектов, на это обрушился шквальный огонь, особенно со стороны приверженцев философской школы под названием конструктивизм (родственной интуиционизму). Конструктивисты считали, что все сущее должно быть также эксплицитно конструируемым. Другие математики также старались обойти аксиому выбора и при работе с теорией множеств Цермело-Френкеля ограничивались всеми остальными аксиомами.
Из-за явных недостатков аксиомы выбора математики задались вопросом: неужели нельзя либо доказать, либо опровергнуть эту аксиому через остальные аксиомы. История с пятым постулатом Евклида повторилась буквально. Ответить на этот вопрос отчасти удалось в конце 1930 годов. Это сделал Курт Гёдель (1906–1978), один из самых влиятельных логиков всех времен: он доказал, что аксиома выбора и другая знаменитая поправка, принадлежащая основателю теории множеств Георгу Кантору – континуум-гипотеза – не противоречат другим аксиомам Цермело-Френкеля[135]. То есть получалось, что ни ту ни другую гипотезу нельзя опровергнуть при помощи других стандартных аксиом теории множеств. Дополнительные доказательства получил в 1963 году американский математик Пол Коэн (1934–2007), скончавшийся, увы, в то время, когда я писал эту книгу. Он установил, что аксиома выбора и континуум-гипотеза полностью независимы друг от друга (Cohen 1966). Иначе говоря, аксиому выбора нельзя ни доказать, ни опровергнуть при помощи других аксиом. Подобным же образом и континуум-гипотезу нельзя ни доказать, ни опровергнуть при помощи тех же самых аксиом, даже если включить в них аксиому выбора.
У этого уточнения были колоссальные философские последствия. Как и в случае неевклидовых геометрий в XIX веке, оказалось, что нет никакой одной-единственной, окончательной теории множеств, – на самом деле их как минимум четыре! Если придерживаться разных представлений о бесконечных множествах, можно получить взаимоисключающие теории множеств. Скажем, если решить, что верны и аксиома выбора, и континуум-гипотеза, получишь одну версию, а если решить, что обе неверны, – совсем другую. Еще две теории множеств получатся, если предположить, что одна теория верна, а другая нет.
Да, неевклидов кризис разразился вновь, только теперь все было еще хуже. Фундаментальная роль теории множеств как потенциального фундамента для всей математики лишь усугубляла проблемы платоников. Если и в самом деле можно сформулировать разные теории множеств, просто выбрав другую коллекцию аксиом, разве это не свидетельствует, что математика не более чем человеческое изобретение? Складывалось впечатление, что формалисты победили…
В то время как Фреге был весьма озабочен значением аксиом, главный сторонник формализма, великий немецкий математик Давид Гильберт (рис. 52), ратовал за то, чтобы полностью избегать любого толкования математических формул. Гилберт не интересовался вопросами вроде того, можно ли вывести математику из логических понятий. Нет, для него математика и должна была состоять просто из набора бессмысленных формул – структурированных закономерностей, составленных из произвольных символов[136]. Задачу гарантировать основы математики Гильберт переложил на новую дисциплину – он называл ее «метаматематика». Метаматематика должна была заниматься применением собственно методов математического анализа для доказательства, что весь процесс, который обеспечивала формальная система, – процесс вывода теорем из аксиом по строгим правилам умозаключений – непротиворечив. Иначе говоря, Гильберт считал, что может математически доказать, как устроена математика. Вот как он сам говорил об этом[137].
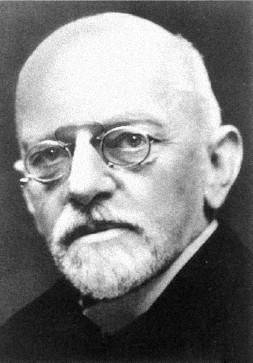
Рис. 52
Мои исследования в области новых оснований математики ставят целью не менее чем исключить раз и навсегда общие сомнения в надежности математических выводов… Все, что до сих пор составляло математику, следует строго формализовать, чтобы собственно математика, математика в строгом смысле слова, стала набором формул… В дополнение к этой формализованной собственно математике у нас есть математика, в некоторой степени новая, метаматематика, которая необходима, чтобы обеспечивать математику, и в которой, в противоположность чисто формальным модусам умозаключений в собственно математике, применяют контекстуальные выводы, но лишь для доказательства непротиворечивости аксиом… таким образом, развитие математической науки в целом происходит по двум путям, которые постоянно чередуются: с одной стороны, мы выводим доказуемые формулы из аксиом посредством формальных выводов, с другой – мы присоединяем к ним новые аксиомы и доказываем их непротиворечивость при помощи контекстуальных выводов.
Программа Гильберта жертвовала смыслом ради того, чтобы обеспечить надежные основы. Поэтому для его последователей-формалистов математика и в самом деле была лишь игрой, однако их целью было строго доказать, что эта игра полностью логически последовательна[138]. При всех достижениях аксиоматизации казалось, что эта формалистическая «доказательно-теоретическая» мечта сбудется буквально со дня на день.
Однако не все были убеждены, что Гильберт избрал верный путь. Людвиг Витгенштейн (1889–1951), которого многие называют величайшим философом ХХ века, считал, что Гильберт напрасно тратит время на метаматематику[139]. «Нельзя устанавливать правило для применения другого правила», – настаивал он. Иными словами, Витгенштейн не считал, что понимание одной «игры» может зависеть от создания другой: «Если у меня возникла неясность относительно природы математики, мне не поможет никакое доказательство» (Waismann 1979).

Рис. 53
И все же никто не мог предугадать, какой вот-вот грянет гром. Двадцатичетырехлетний Курт Гёдель одним ударом вбил кол в самое сердце формализма.
Курт Гёдель (рис. 53) родился 28 апреля 1906 года в моравском городе, который сейчас известен под чешским названием Брно[140]. В то время город назывался Брюнн, находился в Австро-Венгерской империи, и Гёдель рос в семье, где говорили по-немецки. Его отец Рудольф Гёдель управлял текстильной фабрикой, а мать Марианна Гёдель следила, чтобы юный Курт получил должное широкое образование – изучал математику, историю, языки и теологию. Подростком Гёдель почувствовал особый интерес к математике и философии и в восемнадцать лет поступил в Венский университет, где его внимание привлекала в основном математическая логика. Особенно его восхищали «Principia Mathematica» Рассела и Уайтхеда и программа Гильберта, поэтому темой диссертации он выбрал задачу о полноте. Целью этого исследования было, вообще говоря, определить, достаточно ли формального подхода, за который ратовал Гильберт, чтобы вывести все истинные утверждения математики. В 1930 году Гёдель получил докторскую степень, а всего через год опубликовал свои теоремы о неполноте, от которых по философскому и математическому миру прокатилось настоящее цунами[141].
На чисто математическом языке эти теоремы звучали непонятно для непосвященных и не особенно интересно.
1. Любая непротиворечивая формальная система S, в пределах которой можно вывести определенный объем элементарной арифметики, может считаться неполной по отношению к утверждениям элементарной арифметики: существуют утверждения, которые в рамках S невозможно ни доказать, ни опровергнуть.
2. Для любой непротиворечивой формальной системы S, в пределах которой можно вывести определенный объем элементарной арифметики, невозможно доказать непротиворечивость S в рамках самой S.
Казалось бы, в этих словах нет ничего особенно грозного, однако их значение для программы формалистов оказалось весьма существенным.
Говоря несколько упрощенно, теоремы неполноты доказали, что формалистская программа Гильберта, в сущности, была нежизнеспособна с самого начала. Гёдель показал, что всякая формальная система, достаточно масштабная, чтобы вызывать хоть какой-то интерес к себе, по сути своей либо неполна, либо противоречива. То есть в лучшем случае всегда будут какие-то утверждения, которые эта формальная система не сможет ни доказать, ни опровергнуть. В худшем же эта система приведет к противоречиям. Поскольку для любого утверждения T всегда должно быть верно либо T, либо не-T, то, что конечная формальная система не может ни доказать, ни опровергнуть некоторые утверждения, означает, что в рамках этой системы всегда существуют истинные суждения, которые невозможно доказать. Иначе говоря, Гёдель показал, что никакая формальная система, состоящая из конечного множества аксиом и правил, по которым делаются выводы, никогда не сможет охватить всю совокупность математических истин. Остается лишь уповать на то, что общепринятые системы аксиом всего лишь неполны, но не противоречивы.
Сам Гёдель полагал, что независимое платоновское представление о математической истине все же существует. В статье, опубликованной в 1947 году, он писал следующее (Gödel 1947).
Однако у нас все же есть нечто вроде восприятия объектов теории множеств, несмотря на то, как далеки они от чувственного опыта, что и видно из того обстоятельства, что аксиомы навязывают себя нам как истину. Не вижу причин, почему мы должны доверять такого рода восприятию, то есть математической интуиции, меньше, чем чувственному восприятию.
Судьба распорядилась так, что в тот самый момент, когда формалисты уже были готовы устраивать парад победы, пришел Курт Гёдель, ревностный платоник, и испортил им все веселье, обрушив ливень на парад формалистской программы.
Знаменитый математик Джон фон Нейман (1903–1957), читавший в то время курс лекций о работах Гильберта, отменил оставшиеся лекции и посвятил освободившиеся учебные часы изложению открытий Гёделя.
Сложность личности Гёделя ничем не уступает его теоремам[142]. В 1940 году они с женой Аделью бежали из захваченной фашистами Австрии, и Гёдель получил должность в Институте передовых исследований в Принстоне. Там он близко подружился с Эйнштейном, и они часто подолгу гуляли вместе. Когда в 1948 году Гёдель подал прошение на получение гражданства США, именно Эйнштейн вместе с математиком и экономистом из Принстонского университета Оскаром Моргенштерном (1902–1977) сопровождали его на собеседование в Службу иммиграции и натурализации. В целом обстоятельства этого собеседования довольно известны, однако они так красноречиво свидетельствуют об особенностях характера Гёделя, что я приведу их здесь полностью, в точности в том виде, в каком их описал по памяти Оскар Моргенштерн 13 сентября 1971 года. Я глубоко признателен миссис Дороти Моргенштерн Томас, вдове Моргенштерна, и Институту передовых исследований за предоставленную копию этого документа (Morgenstern 1971).
Гёдель должен был получить американское гражданство в 1948 году. Он попросил меня быть свидетелем, а в качестве другого свидетеля пригласил Альберта Эйнштейна, который с радостью согласился. Мы с Эйнштейном иногда встречались и были полны предчувствий по поводу того, что же будет в оставшийся до натурализации промежуток времени и особенно во время самой процедуры.
Гёдель, с которым я, разумеется, довольно часто виделся в месяцы, предшествовавшие этому событию, начал основательно и дотошно к нему готовиться. Поскольку он был человек весьма дотошный, то приступил к знакомству с историей США еще со времен заселения Северной Америки человеческими существами. Это постепенно привело его к изучению истории американских индейцев, различных их племен и т. д. Гёдель много раз звонил мне и просил посоветовать литературу, которую затем прилежно штудировал. По ходу дела возникало множество вопросов и, разумеется, высказывались сомнения, так ли уж точны и правдивы эти истории со всеми изложенными в них подробностями. Затем Гёдель постепенно, через несколько недель, перешел к изучению собственно американской истории, особенно сосредоточившись на вопросах конституционного законодательства. Это также натолкнуло его на изучение истории Принстона, и он пожелал узнать от меня, в частности, где проходила граница между городом и округом. Я, разумеется, пытался объяснить ему, что во всем этом нет совершенно никакой необходимости, но напрасно. Гёдель упорно желал выяснить все факты, которые хотел изучить к экзамену, и я снабжал его соответствующими сведениями, в том числе и о Принстоне. Затем он пожелал узнать, как избирался Городской совет, а как – Совет округа, и кто был мэром, и как функционировал Городской совет. Он считал, что его могут о таком спросить. А если он покажет, что не знает город, в котором живет, это произведет дурное впечатление.
Я пытался убедить его, что таких вопросов никогда не задают, что большинство вопросов и правда чистая формальность и что он с легкостью на них ответит, что самое сложное, что могут спросить, – это какое в нашей стране правительство и как называется высшая судебная инстанция и тому подобное. Так или иначе, он продолжал штудировать Конституцию.
Тут произошел интересный поворот. Гёдель не без волнения сообщил мне, что при изучении Конституции нашел в ней, к своему огорчению, внутренние противоречия и теперь способен доказать, что можно на совершенно законных основаниях стать диктатором и установить фашистский режим, хотя это не входило в намерения тех, кто составлял Конституцию. Я сказал ему, что подобное развитие событий крайне маловероятно, даже если предположить, что он прав, в чем я, конечно, сомневался. Однако он не отступал, поэтому у нас на эту тему было много разговоров. Я пытался уговорить его не поднимать подобные вопросы на экзамене в трентонском суде и рассказал об этом и Эйнштейну – тот ужаснулся, что в голову Гёделю пришла подобная мысль, и тоже сказал ему, что такие вещи не должны его тревожить и их не стоит обсуждать.
Шли месяцы, и вот наконец прислали извещение о дате экзамена в Трентоне. В тот самый день я заехал за Гёделем на машине. Он сел на заднее сиденье, и мы поехали забрать Эйнштейна к нему домой на Мерсер-стрит, а потом покатили в Трентон. По дороге Эйнштейн приобернулся и спросил.
– Ну что, Гёдель, вы как следует подготовились к экзамену?
Разумеется, от этого замечания Гёдель страшно разволновался – Эйнштейн именно этого и добивался и теперь с большим интересом наблюдал за тревогой у Гёделя на лице. Когда мы прибыли в Трентон, нас проводили в большой зал, и хотя обычно свидетелей опрашивают отдельно от кандидата, на сей раз из-за присутствия Эйнштейна было сделано исключение, и нас пригласили сесть вместе – Гёдель посередине. Экзаменатор спросил, считаем ли мы, что из Гёделя получится достойный гражданин, сначала у Эйнштейна, затем у меня. Мы заверили его, что так, безусловно, и есть, что Гёдель человек выдающийся и так далее. Тогда он повернулся к Гёделю и спросил.
– Итак, мистер Гёдель, откуда вы?
Гёдель: Откуда я? Из Австрии.
Экзаменатор: Какое правительство было у вас в Австрии?
Гёдель: Республика, но конституция ее была такова, что в конце концов она превратилась в диктатуру.
Экзаменатор: О! Какой кошмар! В нашей стране такого быть не может.
Гёдель: Нет, может, и я вам это докажу.
То есть изо всех возможных вопросов экзаменатор задал именно тот, который задавать не стоило. Мы с Эйнштейном от этого диалога пришли в ужас, однако у экзаменатора хватило ума быстро успокоить Гёделя словами: «Боже мой, давайте не будем в это углубляться», – и на этом экзамен закончился к величайшему нашему облегчению. Наконец мы вышли и, когда мы направлялись к лифту, к нам подбежал человек с листом бумаги и ручкой, подскочил к Эйнштейну и попросил у него автограф. Эйнштейн покорно расписался. Когда мы спускались в лифте, я повернулся к Эйнштейну и сказал.
– Наверное, очень тяжело, когда вам постоянно так досаждают.
Эйнштейн ответил.
– Между прочим, это просто пережитки каннибализма.
Я растерялся и спросил.
– Как так?
Он сказал.
– Просто раньше требовали твоей крови, а теперь – твоих чернил.
Потом мы вышли, поехали обратно в Принстон, и, когда мы оказались на углу Мерсер-стрит, я спросил Эйнштейна, куда он хочет – в Институт или домой. Он ответил.
– Отвезите меня домой, все равно теперь уже не поработаешь.
А потом процитировал американскую политическую песню (к сожалению, слов я не помню, но, возможно, они сохранились у меня где-то в заметках, и я, конечно, узнаю их, если кто-нибудь подскажет). Тогда мы покатили обратно к дому Эйнштейна, и тогда он снова повернулся к Гёделю и сказал.
– Ну, Гёдель, это был ваш предпоследний экзамен.
Гёдель: Господи, неужели будет еще один?
Он тут же снова перепугался.
И тогда Эйнштейн сказал.
– Гёдель, последний экзамен ждет вас, когда вы сойдете в могилу!
Гёдель: Но в могилу же сами не сходят, Эйнштейн!
На что Эйнштейн ответил.
– Гёдель, это была просто шутка! – и с этими словами ушел.
Я отвез Гёделя домой. Все были очень рады, что это страшное испытание наконец позади, а голова у Гёделя снова стала свободной для занятий проблемами логики и философии.
В дальнейшем у Гёделя постоянно случались периоды серьезного душевного расстройства, и в конце концов он отказался принимать пищу. Умер Гёдель 14 января 1978 года от слабости и истощения.
Вопреки распространенному заблуждению, теоремы о неполноте Гёделя не предполагают, что некоторые истины так и останутся навеки непознанными. Кроме того, из этих теорем не следует, что человеческие способности к познанию так или иначе ограниченны. Нет, теоремы всего лишь показывают слабости и недостатки формальных систем. Поэтому, вероятно, для вас будет неожиданностью узнать, что несмотря на широчайшее влияние теорем на философию математики, их воздействие на эффективность математики как механизма построения теорий свелось к минимуму. Более того, именно в десятилетия непосредственно до и после публикации доказательства Гёделя математика добилась самых выдающихся успехов в создании физических теорий Вселенной. Ее вовсе не отмели за ненадежность – напротив, математика и ее логические выводы оказывалась все более необходимой для понимания устройства мироздания.
Однако это означало, что загадка «необъяснимой эффективности» математики стала еще заковыристее. Задумайтесь об этом. Представьте себе, что было бы, если бы логицисты одержали полную победу. Это означало бы, что математика целиком выросла из логики, буквально из законов мышления. Но как такая дедуктивная наука могла бы столь чудесно объяснять природные явления? Какова связь формальной логики (вероятно, стоит даже сказать «человеческой формальной логики») и космоса? После Гильберта и Гёделя ответ на этот вопрос яснее не стал. Осталась лишь неполная формальная «игра», описанная языком математики[143]. Каким образом модели, построенные на такой «ненадежной» системе, порождают глубочайшие открытия, касающиеся Вселенной и ее механизмов? Прежде чем подступиться к этим вопросам, мне придется их немного заострить, изучив несколько частных случаев, показывающих, сколь тонкая это материя – эффективность математики.
Непостижимая эффективность?
В главе 1 я отмечал, что успех математики в создании физических теорий имеет две стороны – одну я назвал «активной», другую «пассивной». Активная сторона отражает то, что ученые формулируют законы природы в сугубо прикладных математических терминах. То есть они используют математические понятия, соотношения и равенства, иногда – разработанные с прицелом на дальнейшее практическое применение, а иногда – придуманные непосредственно ради конкретной задачи. В таких случаях исследователи обычно полагаются на то, что им представляется, что между свойствами математических понятий и наблюдаемыми феноменами или результатами экспериментов есть определенное сходство. В таких случаях эффективность математики не вызывает особого изумления, поскольку вполне можно сказать, что теории нарочно подогнаны под наблюдения. Однако у активной стороны есть одно удивительное качество – это точность, о которой я еще расскажу в этой главе. «Пассивная» эффективность относится к тем случаям, когда разрабатываются совершенно абстрактные математические теории, безо всякого намерения найти им прикладное применение, однако впоследствии эти теории вдруг превращаются в физические модели с мощными прогностическими способностями.
Ярким примером сочетания активной и пассивной эффективности математики служит теория узлов.
Об узлах даже слагают легенды. Наверняка вы помните древнегреческую легенду о Гордиевом узле. Оракул предсказал жителям Фригии, что их следующим царем будет первый, кто въедет в столицу на повозке, запряженной быками. Так царем стал Гордий – землепашец, который, ни о чем не подозревая, въехал в город именно в тот день. Преисполнившись благодарности, Гордий посвятил богам свою повозку и привязал ее к шесту сложнейшим узлом, который никому не удавалось развязать. Затем было получено пророчество, что тот, кто развяжет узел, станет властелином всей Азии. Судьба распорядилась так, что развязал узел (дело было в 333 году до н. э.) не кто иной, как Александр Македонский, и он и в самом деле впоследствии захватил всю Азию. Однако его решение мы не назвали бы ни изящным, ни даже честным: рассказывают, что он просто разрубил узел мечом!
Однако, чтобы познакомиться с узлами, нам не нужно углубляться в историю Древней Греции. Ребенок, завязывающий шнурки, девушка, заплетающая косу, бабушка, вяжущая свитер, моряк, швартующий судно, – все они прибегают к помощи тех или иных узлов. Узлам дают всякие неожиданные названия – «рыбацкий штык», «кошачья лапа», «мартышкина цепочка», «канадская восьмерка», «тещин узел» и «эшафотный узел»[144]. А в истории морские узлы сыграли такую важную роль, что в XVII веке в Англии им посвятили огромное множество книг. Одну из них, кстати, написал тот самый английский моряк и искатель приключений Джон Смит (1580–1631), который прославился романтическими отношениями с индейской принцессой Покахонтас.
Математическая теория узлов родилась в 1771 году, когда была опубликована статья французского математика Александра Теофила Вандермонда (1735–1796)[145]. Вандермонд первым понял, что узлы можно изучать в рамках геометрии расположения, иначе называемой топологией, которая изучает исключительно соотношения, зависящие от взаимного расположения, не обращая внимания на размеры и вычисления. Следующим математиком, внесшим вклад в формирование теории узлов, был «Князь математики» немецкий ученый Карл Фридрих Гаусс. В заметках Гаусса содержатся рисунки и детальные описания узлов, а также аналитические исследования их качеств. Однако при всей значимости работ Вандермонда, Гаусса и нескольких других ученых XIX века главный толчок в развитии современной математической теории узлов был сделан с неожиданной стороны – при попытке объяснить структуру вещества. Эта идея зародилась в голове прославленного английского физика Уильяма Томсона, который в наши дни известен как лорд Кельвин (1824–1907). Томсон сосредоточил свои усилия на формулировке теории атомов, основного строительного материала вещества[146]. Он предложил весьма оригинальную гипотезу: атомы – это узлы, завязанные из трубочек эфира, загадочной субстанции, которая, как тогда полагали, пронизывает все пространство. Согласно этой модели, разнообразие химических элементов как раз и объясняется богатейшим разнообразием узлов.
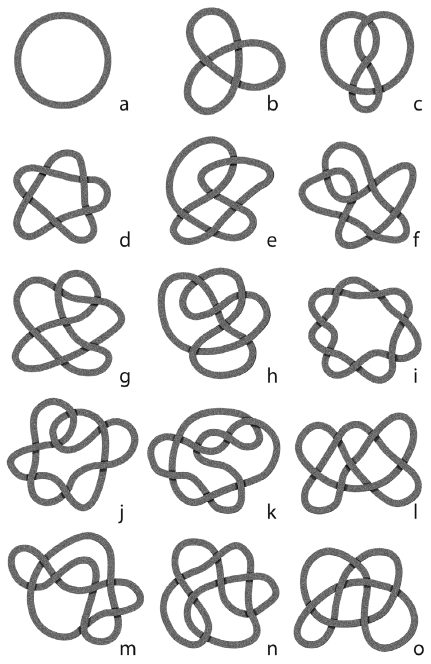
Рис. 54
Если умозаключения Томсона в наши дни и кажутся чистым чудачеством, то лишь потому, что у нас было целое столетие, чтобы принять и экспериментально проверить верную модель атома, в которой электроны вращаются по орбитам вокруг ядер. Однако дело было в Англии в 60-е годы XIX века, и Томсон очень заинтересовался стабильностью сложных колец дыма и их способностью вибрировать – в то время считалось, что эти два качества необходимо учитывать в моделях атомов. Чтобы разработать эквивалент таблицы Менделеева из узлов, Томсон должен был классифицировать узлы, разобраться, какие возможны их виды, и именно необходимость создания такой таблицы и пробудила серьезный интерес к математике узлов.
Как я уже объяснил в главе 1, математический узел выглядит совсем как знакомый каждому узел на шнуре, только концы шнура намертво сращены. Иначе говоря, математический узел изображается замкнутой кривой без свободных концов. Несколько примеров приведено на рис. 54, где трехмерные узлы изображены в виде проекций (теней) на плоскости. Чтобы обозначить положение любых двух участков шнура в пространстве, при пересечении двух участков шнура нижний участок изображается прерванной линией.
Самый простой узел, так называемый тривиальный, или незаузленный узел, – это просто замкнутая кривая без узлов (рис 54, а). Трилистник (рис. 54, b) имеет три пересечения, а восьмерка (рис. 54, с) – четыре. По теории Томсона эти три узла могли, в принципе, служить моделями трех атомов возрастающей сложности – например, атомов водорода, углерода и кислорода соответственно. К тому времени назрела насущнейшая необходимость в создании полной классификации узлов, и за нее взялся друг Томсона, шотландский физик и математик Питер Гатри Тэт (1831–1901).
Когда математики изучают узлы, то задаются примерно теми же вопросами, что и простые смертные, когда смотрят на обычную завязанную веревку или запутанный моток шерсти. Это и правда узел? Эквивалентны ли эти узлы друг другу? Последний вопрос можно переформулировать понятнее: можно ли преобразовать один узел в другой, не разрывая шнуры и не проталкивая один участок шнура сквозь другой, словно сцепленные кольца в руках фокусника? То, насколько это важный вопрос, видно на рис. 55, где показано, как при помощи определенных манипуляций можно получить два совсем разных облика одного узла. В конечном итоге теория узлов ищет способы строго доказать, что те или иные узлы, например трилистник или восьмерка (рис. 54, b и 54, c), и в самом деле разные, игнорируя чисто внешние различия других узлов, например тех двух, которые изображены на рис. 55.
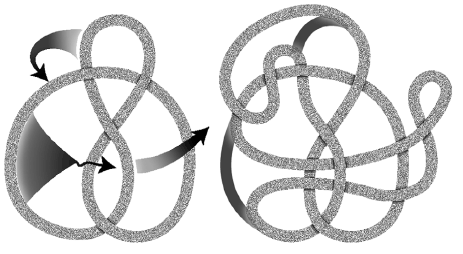
Рис. 55
Свою работу над классификацией Тэт начал отнюдь не с поиска легких путей[147]. Поскольку Тэт не располагал никакими строгими математическими принципами и руководствоваться было нечем, он составлял списки кривых с одним пересечением, двумя пересечениями, тремя и так далее. В сотрудничестве с достопочтенным Томасом Пенингтоном Киркманом (1806–1895), также математиком-любителем, он начал разбирать кривые, чтобы исключить повторы эквивалентных узлов. Задача была отнюдь не тривиальная. Надо понимать, что у каждого пересечения есть два варианта того, какой из участков шнура лежит сверху. Это означает, что если кривая содержит, скажем, семь пересечений, нужно рассмотреть 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 128 узлов. То есть человеческой жизни заведомо не хватит, чтобы подобным интуитивно очевидным образом расклассифицировать узлы более чем с десятью пересечениями. Тем не менее труды Тейлора не остались незамеченными. Великий Джеймс Клерк Максвелл, сформулировавший классическую теорию электричества и магнетизма, отнесся к теории атома Томсона с большим почтением и сказал, что она «удовлетворяет большему числу требований, чем все остальные модели атома, представленные по сей день». Он прекрасно знал, какой вклад сделал в это начинание Тэт, и даже сочинил по этому поводу эпиграмму (Knott 1911).
Clear your coil of kinkings
Into perfect plaiting,
Locking loops and linkings
Interpenetrating.
(Расправь свою перепутаницу в идеальное плетение, зафиксировав взаимопроникающие петли и связи.)
К 1877 году Тэт расклассифицировал альтернирующие узлы вплоть до семи пересечений. Альтернирующие узлы – это такие, где пересечения идут по очереди то сверху, то снизу, как нить в полотне. Тэт сделал и более прагматичное открытие – он сформулировал основные принципы, которые впоследствии получили название гипотез Тэта. Кстати, эти гипотезы оказались столь фундаментальными, что до конца 80-х годов XX века противостояли любым попыткам строго их доказать. В 1885 году Тэт опубликовал таблицы узлов вплоть до десяти пересечений и решил на этом остановиться. Независимо от него профессор из Университета штата Небраска Чарльз Ньютон Литтл (1858–1923) также опубликовал в 1899 году таблицы неальтернирующих узлов до десяти пересечений включительно (Little 1899).
Лорд Кельвин всегда относился к Тэту с теплотой и благодарностью. На церемонии в Питерхаус-колледже в Кембридже, где выставляли портрет Тэта, лорд Кельвин сказал так.
Помнится, Тэт как-то заметил, что наука – единственное, ради чего стоит жить. Сказано было искренне, но сам Тэт доказал, что это не так. Он был великий чтец. Он мог наизусть читать Шекспира, Диккенса, Теккерея. Память у него была чудесная. Все, что он хотя бы раз прочитал с симпатией, он запоминал навсегда.
Увы, к тому времени, как Тэт и Литтл завершили свой подвижнический труд над таблицами узлов, гипотетическая модель атома, предложенная Томсоном, уже оказалась окончательно списана со счетов. Однако интерес к узлам не угасал – с той лишь разницей, как выразился математик Майкл Атья, что «изучение узлов стало эзотерической областью чистой математики».
Область математики, где качества вроде размера, гладкости и – в некотором смысле – даже формы не играют никакой роли, называется топологией. Топология, геометрия резинового листа, изучает те качества, которые остаются неизменными при любом растяжении и деформировании пространства (нельзя только протыкать дыры и отрывать куски)[148]. Узлы по своей природе принадлежат именно к топологии. Кстати, математики различают узлы – отдельные петли с узлами – линки – наборы петель с узлами, перепутанные между собой, – и косы – наборы вертикальных струн, привязанных к горизонтальной планке сверху и снизу.
Если сложность классификации узлов не произвела на вас должного впечатления, задумайтесь вот о каком весьма красноречивом факте. Таблица Чарльза Литтла, опубликованная после шести лет работы в 1899 году, содержала сорок три неальтернирующих узла с десятью пересечениями. Эту таблицу семьдесят пять лет изучали самые разные математики – и все считали, что она совершенно верна. А потом, в 1974 году, юрист и математик из Нью-Йорка Кеннет Перко экспериментировал с веревками на полу собственной гостиной (Perko 1974). И, к своему изумлению, обнаружил, что два узла из таблицы Литтла – на самом деле один и тот же. Теперь мы считаем, что разных неальтернирующих узлов с десятью пересечениями всего сорок два.
В ХХ веке топология достигла блестящих успехов, однако в области теории узлов прогресс шел относительно медленно. В числе главных целей математиков, изучавших узлы, было выявить качества, которые на самом деле отличают узлы друг от друга. Такие качества называются инвариантами узлов – и это величины, которые для любых двух разных проекций одного и того же узла имеют в точности одно и то же значение. Иначе говоря, идеальный инвариант – это буквально «отпечаток пальца» узла, характерное качество узла, которое не меняется ни при каких деформациях. Пожалуй, самый простой инвариант, который сразу приходит в голову, – это минимальное число пересечений при изображении узла. Например, сколько ни пытайся развязать узел-трилистник (рис. 54, b), число пересечений никогда не станет меньше трех. К сожалению, минимальное число пересечений не может служить самым удобным инвариантом по целому ряду причин. Во-первых, как показывает рис. 55, не всегда просто определить, изображен ли узел с минимальным числом пересечений. Во-вторых, и это главное, у двух разных узлов может оказаться одинаковое минимальное число пересечений. Например, на рис. 54 есть целых три разных узла с шестью пересечениями и не менее семи разных узлов с семью пересечениями. Таким образом, минимальное количество пересечений не отличает большинство узлов друг от друга. Наконец, минимальное количество пересечений именно в силу своей чрезвычайной простоты не дает представления о свойствах узлов в целом.
Прорыв в теории узлов произошел в 1928 году, когда американский математик Джеймс Уэдделл Александер (1888–1971) открыл важный инвариант, который стали называть многочленом Александера (Alexander 1928). Вообще говоря, многочлен Александера – это алгебраическое выражение, в котором для маркировки узла используется взаимное расположение пересечений. Если у двух узлов разные многочлены Александера, то узлы тоже совершенно точно разные, и это прекрасно. Плохо другое – два узла с одинаковыми многочленами Александера все равно могут оказаться разными узлами. То есть многочлен Александера – инструмент необычайно полезный, но для различения узлов все же несовершенный.
Последующие сорок лет математики провели в исследованиях системы понятий для многочлена Александера и тщательном изучении свойств узлов. Почему же они так углубились в эту область? Очевидно, не ради какой-то практической пользы. Модель атома Томсона была уже давно позабыта, а другой задачи, которая требовала бы решения на основе теории узлов, в поле зрения не наблюдалось – ни в естественных науках, ни в экономике, ни в архитектуре, ни в других дисциплинах. Математики тратили бесконечные часы на изучение узлов из чистого любопытства! Для них идея узлов и принципы, которые ими управляют, обладали изысканной красотой. Внезапное озарение, полученное благодаря многочлену Александера, было для математиков таким же непреодолимым искушением, как и задача покорить гору Эверест для Джорджа Мэллори, который, как известно, на вопрос, почему ему так хочется взобраться на эту гору, ответил: «Да потому что она есть!».
В конце 1960-х годов плодовитый англо-американский математик Джон Хортон Конвэй описал процедуру постепенного «развязывания» узлов и тем самым вскрыл глубинные отношения между узлами и их многочленами Александера (Conway 1970). В частности, Конвей предложил две простые «хирургические» операции, которые могли послужить основой для определения инварианта узла. Операции Конвея, получившие названия флип и сглаживание, схематически изображены на рис. 56. При флипе (рис. 56, а) для трансформации пересечения верхний участок струны пропускают под нижним (на рисунке также видно, как проделать эту трансформацию с настоящим узлом на веревке). Обратите внимание, что флип, очевидно, меняет самую природу узла. Например, легко убедиться, что узел-трилистник с рис. 54, b в результате флипа станет незаузленным узлом (рис. 54, а). Операция сглаживания по Конвею вовсе убирает пересечение (рис. 56, b) – для этого нужно «разрезать» струну и «склеить» не те концы.
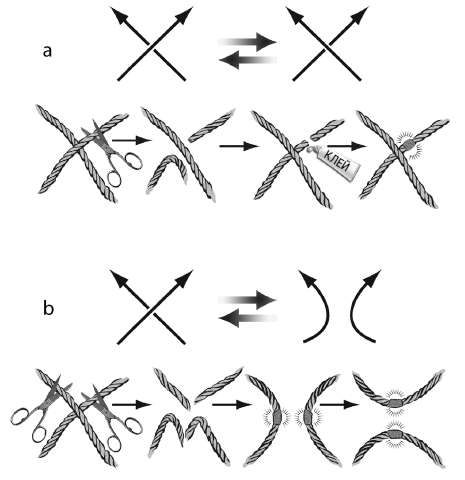
Рис. 56
Благодаря трудам Конвея математики стали по-новому понимать устройство узлов, но все же еще лет двадцать были уверены, что других инвариантов узлов (наподобие многочлена Александера) уже не найдется. Однако в 1984 году положение дел резко изменилось.
Новозеландско-американский математик Вон Джонс вообще не изучал узлы. Он исследовал мир еще более абстрактный – так называемые алгебры фон Неймана. И неожиданно для себя обнаружил, что в алгебрах фон Неймана есть некое соотношение, подозрительно похожее на одно соотношение из теории узлов. Тогда Джонс встретился с Джоан Бирман, специалистом по теории узлов из Колумбийского университета, чтобы обсудить, что с этим можно сделать. Изучение этого соотношения в результате выявило совершенно новый инвариант узлов – так называемый многочлен Джонса (Jones 1985). Математики сразу признали, что многочлен Джонса – куда более тонкий инвариант, чем многочлен Александера. В частности, он позволяет отличать узел от его зеркального отражения (то есть «левый» трилистник на рис. 57 от «правого»), а многочлены Александера для таких узлов тождественны. Однако главное даже не это, а то, что открытие Джонса вызвало у специалистов по теории узлов небывалый прилив энтузиазма. Когда было объявлено об открытии нового инварианта, в мире узлов внезапно вспыхнула бешеная активность, прямо как на фондовой бирже в день, когда Федеральная резервная система ни с того ни с сего понижает процентные ставки.
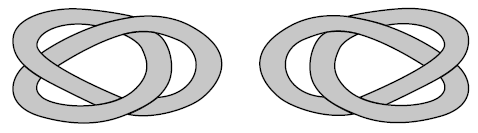
Рис. 57
Однако, невзирая на то, что за прошедшие три десятилетия были обнаружены и другие инварианты, пока не удается составить полную классификацию узлов. Вопрос о том, какой именно узел можно превратить в другой узел, если вертеть его и крутить, не прибегая к помощи ножниц, остается без ответа. Пока что самый удачный инвариант – это творение русско-французского математика Максима Концевича, который получил за него Филдсовскую медаль в 1998 году и Премию Крафорда в 2008 году. Кстати, в 1998 году Джим Хосте из Колледжа Питцера в Клермонте в штате Калифорния и Джеффри Уикс из Кантона в штате Нью-Йорк составили таблицу всех узлов до шестнадцати пересечений включительно. Точно такую же таблицу независимо от них составил Морвен Тистлетвейт из Университета штата Теннесси в Ноксвилле. В каждой из этих таблиц содержится ровно 1 701 936 разных узлов!
Но главная неожиданность таилась не столько в прогрессе теории узлов как таковой, а в том, какой мощный и внезапный толчок она дала самым разным не связанным с ней наукам[149].
Стимулом для создания теории узлов была ошибочная модель атома, однако кончина этой модели не обескуражила математиков. Напротив, они с превеликим энтузиазмом пустились в далекий и опасный путь и стали разбираться в узлах как таковых. Легко представить себе, в какой восторг они пришли, когда теория узлов вдруг оказалась ключом к пониманию фундаментальных процессов, в которых участвуют молекулы жизни. Неужели вам мало такого замечательного примера «пассивной» роли чистой математики в объяснении природных явлений?
Дезоксирибонуклеиновая кислота, она же ДНК, – это генетический материал всех клеток на свете. Она состоит из двух очень длинных цепочек, которые миллионы раз перекручены, так что получается двойная спираль. По всей длине этих цепочек, которые можно представить себе как боковины лестницы, чередуются молекулы сахара и фосфата. Ступеньки этой лестницы состоят из пар оснований, соединенных водородными связями по определенным правилам (аденин создает связи только с тимином, а цитозин – только с гуанином; рис. 58).
Когда клетка делится, первым делом начинается самовоспроизведение – репликация ДНК, чтобы каждой из дочерних клеток досталось по копии. Подобным же образом в процессе транскрипции, при которой генетическая информация из ДНК копируется в РНК, участок двойной спирали ДНК раскручивается, и образцом для копирования служит только одна из двух цепочек. После завершения синтеза РНК цепочки ДНК снова скручиваются в спираль. Однако и репликация, и транскрипция – дело непростое, поскольку ДНК так туго скручена и перепутана (информацию нужно хранить в компактном виде), что без особых технологий распаковки процессы, лежащие в основе самой жизни, не могли бы идти гладко. Кроме того, чтобы процесс репликации дошел до конца, получившиеся молекулы ДНК должны быть без узлов, а родительская ДНК в конце концов должна вернуться к первоначальной конфигурации.
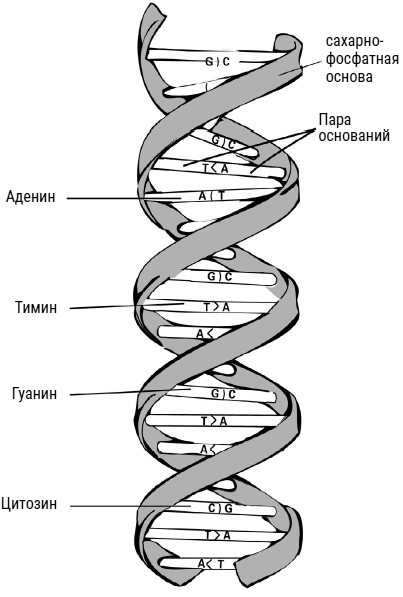
Рис. 58

Рис. 59
Всем этим развязыванием и распутыванием занимаются особые вещества – ферменты[150]. Ферменты умеют пропускать цепочки ДНК друг через друга – для этого они на время разрывают их и связывают освободившиеся концы по-другому. Знакомо, правда? Именно такие хирургические операции предложил Конвей для распутывания математических узлов (как изображено на рис. 56). Иначе говоря, с топологической точки зрения ДНК – сложный узел, и для репликации и транскрипции нужно, чтобы ферменты его развязали. С помощью теории узлов можно понять, насколько трудно распутать ДНК, и таким образом можно изучать свойства ферментов, которые отвечают за распутывание. Мало того, при помощи средств экспериментальной визуализации – электронной микроскопии и электрофореза в полиакриламидном геле – ученые могут наблюдать и измерять изменения в образовании узлов и сцеплений ДНК, вызванные ферментами (на рис. 59 показана электронная микрофотография узла ДНК). Помимо всего прочего, изменение числа пересечений в узле ДНК дает биологам возможность оценить скорость реакций с участием ферментов: на сколько пересечений в минуту может повлиять фермент в той или иной концентрации.
Однако теория узлов нашла неожиданное применение не только в молекулярной биологии. Об узлах речь идет и в теории струн – современной попытке сформулировать универсальную теорию, объясняющую все взаимодействия в природе.
Гравитация – это сила, которая действует на самых больших масштабах. Она удерживает звезды в галактиках, она влияет на расширение Вселенной. Замечательная теория, описывающая гравитацию, – это общая теория относительности Эйнштейна. А в глубинах атомных ядер владычествуют совсем другие силы и совсем другая теория. Сильное ядерное взаимодействие связывает частицы под названием кварки, и из них создаются знакомые многим протоны и нейтроны – главные компоненты видимого вещества. Поведение частиц и сил в субатомном мире регулируется законами квантовой механики. Едины ли законы для кварков и галактик? Физики считают, что законы должны быть едины, хотя пока еще не понятно, почему. Уже несколько десятков лет физики пытаются построить «Теорию Всего» – всеобъемлющее описание законов природы. В частности, они хотели бы ликвидировать разрыв между большим и малым при помощи квантовой теории гравитации – примирить общую теорию относительности с квантовой механикой. На данный момент лучшим кандидатом на звание Теории Всего считается теория струн[151]. Первоначально эта теория была разработана для ядерного взаимодействия как такового, но в 1974 году физики Джон Шварц и Джоэль Шерк привлекли к ней внимание широкой физической общественности уже в ином качестве. Основная идея теории струн довольно проста. Элементарные субатомные частицы, например электроны и кварки – вовсе не точечные сущности, не имеющие структуры. Напротив, элементарные частицы представляют разные виды вибраций одной и той же фундаментальной струны. Согласно этой теории, космос наполнен тоненькими и гибкими, будто резиновыми, петлями. Скрипичную струну можно ущипнуть и получить разные гармонии, точно так же разные вибрации этих переплетенных струн соответствуют разным частицам вещества. Иначе говоря, мир подобен симфонии.
Поскольку струны – это замкнутые петли, движущиеся в пространстве, то с течением времени они заметают области (так называемые мировые листы) цилиндрической формы (рис. 60). Если струна испускает другие струны, цилиндр разветвляется, образуется что-то вроде рогульки. Если взаимодействует сразу много струн, получается сложная система переплетенных изогнутых цилиндров – вроде сплавленных друг с другом пышек.
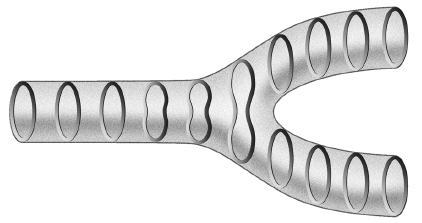
Рис. 60
Изучая сложные топологические структуры подобного рода, специалисты по теории струн Хироси Оогури и Кумран Вафа обнаружили неожиданную связь между количеством таких пышек, сложными геометрическими свойствами узлов и многочленом Джонса (Ooguri and Vafa 2000). Но еще раньше Эдвард Виттен, один из главных игроков на поле теории струн, выявил соотношение между многочленом Джонса и самой основой теории струн – так называемой квантовой теорией поля (Witten 1989). Затем модель Виттена переосмыслил с точки зрения чистой математики Майкл Атья[152]. Так что теория струн и теория узлов живут в идеальном симбиозе. Теория струн, с одной стороны, получила много полезных результатов при помощи теории узлов, а с другой – и сама натолкнула на интересные открытия в этой области.
В гораздо более широком масштабе теория струн ищет объяснения самой сущности вещества – причем движется примерно в том же направлении, что и Томсон, когда придумывал модель атома. Томсон (ошибочно) полагал, что узлы могут дать ответ на вопрос о строении атомов. И вот по интересной прихоти судьбы специалисты по теории струн обнаружили, что узлы и в самом деле позволяют сделать некоторые выводы.
История теории струн – это великолепный пример нежданного могущества математики. Как я уже упоминал, даже «активная» сторона эффективности математики сама по себе, когда ученые генерируют математические теории, необходимые для описания наблюдаемых физических феноменов, иногда – если речь заходит о точности – приносит невероятные сюрпризы. Рассмотрим вкратце одну область физики, где важную роль играют обе стороны математики, и «активная», и «пассивная», – область, примечательную именно тем, какой поразительной точности удалось там добиться.
Галилей и другие итальянские ученые-экспериментаторы вывели законы падения тел, а Ньютон взял эти законы в сочетании с законами движения планет, которые открыл Кеплер, и на основе объединенных данных сформулировал математический закон всемирного тяготения. При этом Ньютону пришлось разработать совершенно новую область математики – интегральное и дифференциальное исчисление, – которое позволило в полной мере воплотить все качества законов движения и тяготения. С учетом погрешности современных Ньютону экспериментов и наблюдений, он сумел проверить собственный закон всемирного тяготения лишь с точностью хуже, чем четыре процента. А впоследствии оказалось, что по точности этот закон превосходит все мыслимые ожидания. К концу 50-х годов ХХ века погрешность экспериментов составляла менее одной десятитысячной доли процента.
Но и это еще не все. Целый ряд недавних спекулятивных теорий, целью которых было объяснить, как так вышло, что наша Вселенная расширяется с ускорением, предположили, что законы гравитации на очень маленьких расстояниях могут вести себя необычно. Вспомним, что по закону всемирного тяготения Ньютона притяжение уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния. То есть если удвоить расстояние между двумя массами, то сила тяготения, действующая на каждую массу, ослабеет в четыре раза. Новые сценарии предсказывали отклонения от этого поведения на расстояниях меньше миллиметра. Эрик Адельбергер, Дэниел Капнер и их коллеги из Университета штата Вашингтон в Сиэтле провели серию остроумных экспериментов, чтобы проверить предсказанные такими сценариями отклонения в зависимости от расстояния (Kapner et al. 2007). Самые свежие результаты, обнародованные в январе 2007 года, показали, что закон обратных квадратов действует даже на расстоянии пятидесяти шести тысячных миллиметра! Выходит, математический закон, сформулированный более трехсот лет назад на основе весьма скудных наблюдательных данных, оказался не просто феноменально точным, но и действует на расстояниях, на которых до самого недавнего времени нельзя было даже проводить подобные измерения!
Остался один важный вопрос, который Ньютон вовсе оставил без ответа: как же действует гравитация? Каким образом Земля, находящаяся от Луны на расстоянии почти 400 000 километров, влияет на движение Луны?
Ньютон об этом недостатке своей теории прекрасно знал и открыто признавал в «Началах».
До сих пор я изъяснил небесные явления и приливы наших морей на основании силы тяготения, но я не указывал причины самого тяготения. Эта сила происходит от некоторой причины, которая проникает до центра Солнца и планет без уменьшения своей способности и которая действует… повсюду на огромные расстояния, убывая пропорционально квадратам расстояний… Причину же этих свойств силы тяготения я до сих пор не мог вывести из явлений, гипотез же я не измышляю (пер. А. Крылова).
Решить эту задачу и восполнить пробел, оставленный Ньютоном, удалось Альберту Эйнштейну (1879–1955). В 1907 году у Эйнштейна появилась весьма серьезная причина интересоваться гравитацией – оказалось, что его специальная теория относительности прямо противоречит закону всемирного тяготения Ньютона[153].
Ньютон полагал, что гравитация действует мгновенно, что планеты сразу же чувствуют силу тяготения Солнца, а яблоко – притяжение Земли. С другой стороны, столпом специальной теории относительности Эйнштейна служит утверждение, что никакой предмет, энергия или информация не могут перемещаться быстрее света. Как же может гравитация действовать мгновенно? Как показывает нижеприведенный пример, последствия этого противоречия могли бы привести к полному краху наших самых фундаментальных представлений, в том числе представления о причинно-следственной связи.
Представьте себе, что Солнце внезапно исчезло. Земля, лишившись силы, которая удерживает ее на орбите, согласно Ньютону должна начать движение по прямой, не считая мелких отклонений, вызванных гравитацией прочих планет. Однако обитатели Земли будут видеть Солнце еще около восьми минут, поскольку именно столько нужно свету, чтобы преодолеть дистанцию от Солнца до Земли. Иначе говоря, движение Земли изменится раньше, чем исчезнет Солнце.
Чтобы разрешить это противоречие и одновременно найти подход к вопросу, на который не ответил Ньютон, Эйнштейн окунулся в поиски новой теории гравитации с жаром на грани одержимости. Задача была неподъемная. Любая новая теория должна была не только обладать всеми поразительными достоинствами ньютоновой, но и объяснять, как гравитация устроена и как она действует, причем так, чтобы это не противоречило специальной теории относительности.
После нескольких фальстартов и долгих блужданий по извилистым тропам, которые в конце концов заводили в тупик, Эйнштейн в 1915 году все же достиг своей цели. Многие считают, что его общая теория относительности – одна из самых красивых теорий в истории науки.
Основой потрясающего открытия Эйнштейна стала идея, что гравитация – всего лишь искажение ткани пространства-времени. По Эйнштейну, планеты, словно мячики для гольфа, чей путь определяется горками и впадинками на неровном поле, следуют по искривленным траекториям в искривленном пространстве, которое соответствует гравитации Солнца. Иначе говоря, в отсутствие вещества или других форм энергии пространство-время (единая ткань из трех пространственных измерений и одного временного) было бы плоским. Вещество и энергия искажают пространство-время точно так же, как тяжелый шар для боулинга заставляет батут провисать. В этой криволинейной геометрии планеты описывают самые что ни на есть прямые траектории, и это и есть проявления гравитации. Когда Эйнштейн решал задачу о том, как «устроена» гравитация, то заложил еще и основу для ответа на вопрос, с какой скоростью она распространяется. А вопрос о распространении сводится к определению, с какой скоростью может изменяться кривизна пространства-времени. Это примерно как подсчитывать скорость распространения ряби по воде. Эйнштейн сумел показать, что согласно общей теории относительности гравитация распространяется в точности со скоростью света – и это ликвидировало противоречия между ньютоновой теорией и специальной теорией относительности. Если Солнце исчезнет, орбита Земли начнет меняться восемь минут спустя, тогда же, когда мы пронаблюдаем исчезновение нашего светила.
То, что Эйнштейн сделал краеугольным камнем своей новой теории мироздания искривленное четырехмерное пространство-время, означало, что ему была срочно нужна математическая теория подобных геометрических сущностей. В полном отчаянии он писал своему бывшему соученику, математику Марселю Гроссману (1878–1936): «Математика, наиболее изящные области которой я раньше считал чистейшей роскошью, вызывает у меня величайшее уважение». Гроссман посоветовал Эйнштейну обратиться к неевклидовой геометрии Римана (о ней мы уже говорили в главе 6) – он считал, что именно этот инструмент, геометрия искривленных пространств с произвольным числом измерений, и необходим Эйнштейну. Вот он, ярчайший пример «пассивной» эффективности математики, которую Эйнштейн не замедлил признать: «В сущности, геометрию можно считать самой древней областью физики, – объяснил он. – Без нее я не смог бы сформулировать теорию относительности».
Кроме того, общую теорию относительности удалось проверить с поразительной точностью. Проделать эти измерения было совсем не просто, поскольку относительные величины искривлений пространства-времени, вызванных объектами вроде Солнца, измеряются десятитысячными долями процента. Первоначально измерения ограничивались наблюдениями в пределах Солнечной системы (например, крошечными отклонениями орбиты Меркурия от расчетов, выполненных согласно законам Ньютона), однако в последнее время стали возможны и более экзотические проверки. Среди лучших экспериментальных доказательств – данные наблюдений над астрономическим объектом под названием двойной пульсар.
Пульсар – это необычайно компактная звезда, излучающая в радиодиапазоне, масса которой несколько больше массы Солнца, а радиус – всего около 10 километров. Плотность такой звезды – ее еще называют нейтронной звездой – так высока, что несколько кубических сантиметров ее вещества обладают массой в миллиард тонн. Многие такие нейтронные звезды очень быстро вращаются и при этом излучают радиоволны из магнитных полюсов. Если магнитная ось пульсара несколько наклонена относительно оси вращения, как на рис. 61, радиолуч с одного или другого полюса пересекает наш луч зрения лишь один раз за оборот, словно луч маяка. В таком случае радиоизлучение будет словно бы пульсировать, отсюда и название. Иногда случается, что два пульсара вращаются вокруг общего центра тяжести по тесным орбитам, образуя систему двойного пульсара.
Двойной пульсар служит превосходной лабораторной установкой для проверки общей теории относительности по двум причинам: (1) радиопульсары – это отменные часы, поскольку частота вращения у них настолько стабильна, что они даже точнее атомных часов, и (2) пульсары так компактны, что их гравитационные поля очень сильны, что приводит к значительным релятивистским эффектам. Эти особенности позволяют астрономам очень точно измерять изменения промежутка времени, которое требуется свету, чтобы добраться до Земли, вызванные орбитальным вращением двух пульсаров в гравитационном поле друг друга.
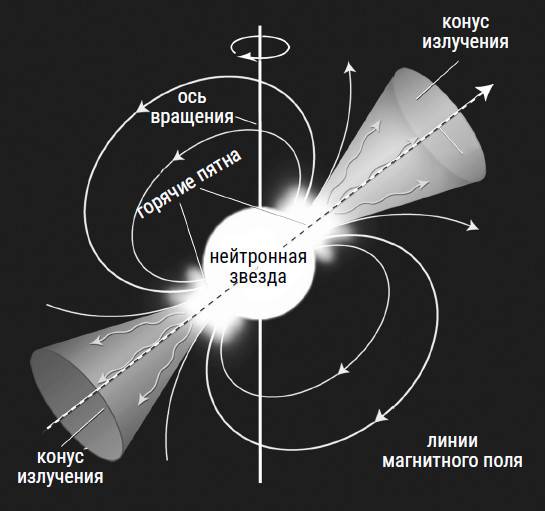
Рис. 61
Недавняя проверка общей теории относительности была основана на измерениях кривой блеска двойного радиопульсара PSR J0737–3039A/B (этот «длинный телефонный номер» указывает небесные координаты объекта), продолжавшихся в течение двух с половиной лет. Два пульсара в этой системе совершают оборот по орбите всего за два часа двадцать семь минут, а система находится на расстоянии около двух тысяч световых лет от Земли (световой год – это расстояние, которое проходит за год свет в вакууме, около 9,5 триллионов километров). Группа астрономов во главе с Майклом Крамером из Манчестерского университета измерила релятивистские отклонения этих пульсаров от ньютоновского закона движения. В октябре 2006 года были опубликованы результаты (Kramer et al. 2006), которые соответствовали предсказаниям общей теории относительности с погрешностью всего в 0,05 %!
Кстати, и специальная, и общая теории относительности играют важную роль в той самой системе GPS (Global Positioning System), которая помогает нам определять свое местоположение на Земле и прокладывать путь из одной точки в другую на машине, на самолете или пешком. GPS определяет текущее положение приемника, измеряя время, за которое до него доходит сигнал с нескольких спутников, и проводя тригонометрические расчеты на основании известного положения каждого спутника. Специальная теория относительности предсказывает, что атомные часы на борту спутников идут медленнее (с отставанием на несколько миллионных секунды в сутки), чем на Земле, из-за их относительного движения. При этом общая теория относительности предсказывает, что часы на спутниках идут быстрее (на несколько стотысячных секунды в сутки), чем часы на Земле, из-за того что высоко над земной поверхностью искривление пространства-времени, вызванное массой Земли, становится меньше. Без этих поправок ошибки в определении местоположения на земном шаре накапливались бы со скоростью около десяти километров в день.
Теория гравитации – лишь один из множества примеров, показывающих, как замечательно и с какой поразительной точностью математические формулы описывают законы природы. В этом случае, как и во многих других, мы получаем из уравнений гораздо больше, чем в них вложили. Как теперь доказано, точность обеих теорий – и Ньютона, и Эйнштейна, – значительно превосходит точность наблюдений, ради объяснения которых эти теории были задуманы.
Возможно, лучший пример того, какой потрясающей точности способна достичь математическая теория, – это квантовая электродинамика, теория, описывающая все явления с участием электрически заряженных частиц и света. В 2006 году группа физиков из Гарвардского университета определила магнитный момент электрона (меру взаимодействия электрона с магнитным полем) с точностью до восьми триллионных (Odom et al. 2006). Само по себе это потрясающее достижение экспериментальной физики. Но если принять во внимание еще и то, что новейшие теоретические расчеты, основанные на квантовой электродинамике, дают такую же точность и эти два результата полностью соответствуют друг другу, становится ясно, что точность просто неимоверна. Услышав о таких успехах, один из основателей квантовой электродинамики физик Фримен Дайсон заметил: «Просто поразительно, как точно Природа отплясывает под мотивчик, который был так небрежно сочинен пятьдесят семь лет назад, и как экспериментаторы и теоретики измеряют и рассчитывают этот ее танец с точностью до триллионных долей».
Однако точность – не единственный повод славить математические теории. Есть еще и предсказательная сила. Приведу всего два простых примера – один из XIX века, другой из ХХ. Первая теория предсказала новое явление, вторая – существование нескольких элементарных частиц.
Джеймс Клерк Максвелл, сформулировавший классическую теорию электромагнетизма, в 1864 году предсказал, что, согласно его теории, переменные электрические или магнитные поля должны генерировать распространяющиеся волны. Эти волны – знакомые всем нам электромагнитные волны, в частности радиоволны, – первым обнаружил немецкий физик Генрих Герц (1857–1894) в результате серии опытов, которые он провел в конце 80-х годов XIX века.
В конце 60-х годов XX века физики Стивен Вайнберг, Шелдон Глэшоу и Абдус Салам разработали теорию, которая объединяет электромагнитное и слабое взаимодействия между элементарными частицами[154]. Теперь эта теория известна под названием теории электрослабого взаимодействия. Она предсказала существование трех частиц (W+-, W— и Z-бозонов), которые раньше никто не наблюдал. В 1983 году существование этих частиц было однозначно подтверждено в ходе экспериментов на ускорителе (где элементарные частицы сталкивают друг с другом при очень высоких энергиях), которые проделали физики Карло Руббиа и Симон ван дер Мер.
Физик Юджин Вигнер, тот самый, который ввел в обращение фразу «непостижимая эффективность математики», предложил называть все эти неожиданные достижения математических теорий «эмпирическим законом эпистемологии» (эпистемология – дисциплина, изучающая происхождение и пределы знаний). Если бы этот «закон» был неверен, резонно утверждает он, ученым «не хватило бы мужества и уверенности», без которых «нельзя было бы успешно исследовать законы природы». Однако Вигнер не предлагал никаких объяснений эмпирическому закону эпистемологии. Для него это был некий «чудесный дар», за который мы должны быть благодарны, хотя и не представляем себе его происхождение. В сущности, для Вигнера этот «дар» и составлял суть вопроса о непостижимой эффективности математики.
Думаю, мы собрали уже достаточно данных, чтобы хотя бы попытаться ответить на вопросы, которыми задались в самом начале. Почему математика так эффективна, почему она настолько прекрасно объясняет происходящее в мире вокруг нас, что даже позволяет добывать новые знания? И открываем мы ее или изобретаем, в конце концов?
О человеческом разуме, математике и Вселенной
Два вопроса – (1) «Существует ли математика независимо от человеческого разума?» и (2) «Почему математические понятия применимы отнюдь не только в том контексте, в каком их первоначально разрабатывают?» – тесно взаимосвязаны. Тем не менее я постараюсь разобрать их не одновременно, а последовательно, чтобы не усложнять дискуссию.
Прежде всего, вы вправе поинтересоваться, чем считают математику современные математики – изобретением или открытием. Вот как описали положение дел математики Филип Дэвис и Реубен Херш в своей чудесной книге «Математический опыт» («The Mathematical Experience», Davis and Hersh 1981).
Большинство авторов, пишущих на эту тему, похоже, согласны, что типичный профессиональный математик – платоник [считает математику открытием] по будням и формалист [считает ее изобретением] по воскресеньям. То есть когда он занимается математикой, то убежден, что имеет дело с объективной реальностью, чьи свойства пытается определить. Но все же, когда ему приходится оценивать эту реальность с философской точки зрения, ему оказывается проще всего притвориться, будто он в нее на самом деле не верит.
Честно говоря, у меня складывается впечатление, что это можно сказать и в наши дни про многих математиков и физиков-теоретиков – изменились разве что требования политкорректности, связанные с демографическим составом математиков, и теперь у меня возникает искушение написать везде не «он», а «он или она». Однако же некоторые математики ХХ века в действительности занимали вполне определенную позицию – ту или иную. Скажем, Г. Г. Харди в своей «Апологии математика» (Hardy 1940) отстаивает чисто платоническую точку зрения.
Для меня и, думаю, для большинства математиков существует другая реальность, которую я буду называть «математической реальностью», и среди математиков или философов нет единого мнения относительно природы математической реальности. Одни полагают, что она существует «в умах» и что мы, в некотором смысле, конструируем ее. Другие считают, что она лежит вне нас и не зависит от нас. Человек, который мог бы дать убедительное описание математической реальности, разрешил бы очень многие из труднейших проблем метафизики. Если бы такой человек мог включить в свое описание и физическую реальность, то он разрешил бы все проблемы метафизики. Мне не следовало бы обсуждать любой из этих вопросов, даже если бы я был достаточно компетентен для этого, но я изложу свою позицию догматически, чтобы избежать малейшего недопонимания. Я убежден в том, что математическая реальность лежит вне нас, что наша функция состоит в том, чтобы открывать или обозревать ее, и что теоремы, которые мы доказываем и великоречиво описываем как наши «творения», по существу представляют собой наши заметки о наблюдениях математической реальности. Эту точку зрения в той или иной форме разделяли многие философы самого высокого ранга, начиная с Платона, и я буду пользоваться языком, естественным для человека, разделяющего эту точку зрения.
Прямо противоположную точку зрения отстаивают математики Эдвард Каснер (1878–1955) и Джеймс Ньюмен (1907–1966) в своей книге «Математика и воображение» («Mathematics and the Imagination», Kasner and Newman 1989).
То, что математика занимает высокое положение, несравнимое с положением любой другой области целенаправленного мышления, неудивительно. Она обеспечила столько достижений естественных наук, она стала столь незаменимой в делах практических и столь легко превращается в шедевр чистой абстракции, что лишь естественно признать ее главенство среди прочих интеллектуальных достижений человека.
Несмотря на это главенство, предлог для первой значительной оценки математики представился лишь недавно – с появлением неевклидовой и четырехмерной геометрии. Мы вовсе не стремимся принизить достижения математического анализа, теории вероятности, арифметики бесконечных величин, топологии и прочих дисциплин, о которых мы говорили. Каждая из них расширила пределы математики и углубила как ее смысл, так и наше понимание физической Вселенной. Однако ни одна из них не способствовала математическому самоанализу, познанию того, как соотносятся разные части математики между собой и с математикой в целом более, чем неевклидова ересь.
Эта ересь была полна критического боевого духа, и благодаря этому мы преодолели представление о том, что математические истины будто бы существуют независимо, отдельно от нашего разума. Нам даже странно, что такое представление вообще бытовало. А все же именно так и думал Пифагор, а также Декарт и сотни прочих великих математиков до XIX века. Сегодня математика избавилась от оков, сбросила кандалы. Какова бы ни была ее сущность, мы понимаем, что она свободна, как разум, и ловка, как воображение. Неевклидова геометрия – это доказательство, что математика, в отличие от музыки сфер, творение самого человека и подчиняется лишь тем ограничениям, какие накладывают на нее законы мышления.
Математическим утверждениям как таковым присущи точность и окончательность – однако здесь картина совсем иная: перед нами разнообразие противоположных мнений, типичное скорее для философских диспутов или политических дебатов. Стоит ли нам удивляться? Вообще-то нет. Вопрос о том, изобретена математика или открыта, – отнюдь не вопрос самой математики.
Идея «открытия» предполагает какое-то прежнее существование в некой Вселенной, или реальной, или метафизической. Понятие «изобретения» задействует человеческий разум, либо индивидуальный, либо коллективный. Поэтому вопрос обращен к целой совокупности дисциплин, в которую входят и физика, и философия, и математика, и психология познания, и антропология – и он совершенно точно не ограничивается одной лишь математикой, по крайней мере, не прямо. А поэтому не исключено, что математика даже не обладает самым подходящим инструментарием для ответа на этот вопрос. Ведь, к примеру, поэты, способные творить словами настоящие чудеса, не обязательно лучшие лингвисты, а величайшие философы обычно не специалисты по нейрофизиологии. Поэтому ответ на вопрос «открыта или изобретена» можно получить (да и то не обязательно) лишь в результате дотошного исследования множества различных данных, полученных в самых разных сферах.
Метафизика, физика, психология познания
Те, кто считает, что математика существует во Вселенной, не зависимой от людей, также распадаются на два враждующих лагеря, поскольку по-разному понимают природу этой Вселенной[155]. Во-первых, есть «истинные» платоники, для которых математика существует в абстрактном вечном мире математических форм. Далее, есть и те, кто считает, что математические структуры – это на самом деле подлинная часть мира природы. Поскольку я уже довольно подробно писал о чистом платонизме и некоторых его философских недостатках, остановимся на второй точке зрения[156].
Пожалуй, крайнюю и самую спекулятивную версию «математики как части физического мира» поддерживает мой коллега-астрофизик Макс Тегмарк из Массачусетского технологического института.
Тегмарк полагает, что «наша Вселенная не просто описывается математикой, она и есть математика (курсив мой. – М. Л.)» (Tegmark 2007 a, b). Свою аргументацию он начинает с утверждения, что существует внешняя физическая реальность, которая не зависит от человека. С этим, пожалуй, не поспоришь. Далее он рассуждает о том, какой могла бы быть природа универсальной теории, описывающей подобную реальность (физики называют ее «теорией всего»). Поскольку физический мир никак не зависит от людей, полагает Тегмарк, его описание должно быть свободно от любой человеческой «нагрузки» (в особенности – от человеческого языка). То есть окончательная теория не может включать в себя понятий вроде «субатомных частиц», «вибрирующих струн», «искривлений пространства-времени» и прочих конструкций, созданных человеческим разумом. На основании этого соображения Тегмарк делает вывод, что единственно возможное описание космоса предполагает исключительно абстрактные понятия и соотношения между ними, а это, как он полагает, и есть рабочее определение математики.
Аргументация Тегмарка в пользу математической реальности, безусловно, очень интересна, и если бы она оказалась верной, это был бы существенный шаг в сторону ответа на вопрос о «непостижимой эффективности» математики. Во Вселенной, которая тождественна математике, едва ли стоит удивляться, что математика идеально соответствует природе. К сожалению, мне не кажется, что доказательства Тегмарка убедительны. Переход от существования внешней реальности, независимой от человека, к выводу, что, по словам Тегмарка, «нужно поверить в так называемую гипотезу математической Вселенной – в то, что наша физическая реальность представляет собой математическую структуру», требует, как мне представляется, некоторой подтасовки. Когда Тегмарк пытается охарактеризовать математику как таковую, то говорит: «Для современного логика математическая структура в этом и заключается – она представляет собой набор абстрактных сущностей, между которыми есть какие-то отношения». Но ведь этот современный логик – человек! Иначе говоря, Тегмарк на самом деле вовсе не доказывает, что наша математика не изобретена людьми, он это попросту предполагает. Более того, французский нейробиолог Жан-Пьер Шанже в ответ на подобное утверждение указал (Changeux and Connes 1995): «Утверждать, будто математические объекты обладают физической реальностью – на том же уровне, что и природные явления, которые мы изучаем в биологии – приводит, по-моему, к досадной эпистемологической проблеме. Как физическое состояние, имеющее место внутри нашего мозга, может отражать другое физическое состояние, внешнее по отношению к нему?»
Большинство прочих попыток поместить математические объекты непосредственно во внешнюю физическую реальность опираются на эффективность математики в описании природы как на доказательство. Тогда получается, что нет никакого другого объяснения для эффективности математики, а это, как я покажу в дальнейшем, не так.
Если математика обитает не в платоновском мире, лишенном пространства и времени, и не в мире физическом, означает ли это, что математика целиком и полностью изобретена человеком? Совсем нет. Более того, в следующем разделе я покажу, что по большей части математика состоит из открытий, а не из изобретений. Однако, прежде чем двинуться дальше, стоит изучить мнения современных специалистов по психологии познания. Зачем? Очень просто: даже если математику целиком открыли, эти открытия все равно делали люди-математики при помощи своего мозга.
В последние годы психология познания достигла потрясающих успехов, поэтому было бы естественно ожидать, что нейробиологи и психологи обратят внимание на математику, в частности на поиски оснований математики в когнитивных способностях человека. Поверхностный обзор выводов, к которым пришло большинство психологов-когнитивистов, поначалу оставляет впечатление, будто перед тобой воплощение афоризма Марка Твена: «Для человека с молотком все на свете – гвозди». Практически все нейрофизиологи и биологи твердо считают, что математика есть человеческое изобретение – разница лишь в том, на какие аспекты познания они делают упор. Однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что, хотя интерпретация когнитивных данных далеко не однозначна, нет никаких сомнений, что усилия когнитивистов – это очередной новаторский этап поисков оснований математики. Приведу небольшую, но характерную подборку высказываний психологов-когнитивистов.
Французский нейробиолог Станислас Дехане, который интересуется в основном восприятием чисел и количеств, в своей книге «Чувство числа» («The Number Sense», Dehaene 1997) пришел к выводу, что «таким образом, числовая интуиция глубоко укоренена в нашем мозге». В сущности, эта позиция близка к позиции интуиционистов, которые хотели свести всю математику к интуитивному пониманию натуральных чисел в чистом виде. Дехане утверждает, что открытия в области психологии арифметики подтверждают, что «число принадлежит к “естественным объектам мысли”, врожденным категориям, согласно которым мы оцениваем мир». По результатам исследования племени мундуруку – изолированного сообщества амазонских аборигенов – Дехане и его коллеги в 2006 году обобщили это утверждение и на геометрию (Dehaene et al. 2006): «Спонтанное понимание геометрических понятий и схем этим изолированным человеческим сообществом – свидетельство того, что основные представления о геометрии, как и базовая арифметика, – это универсальная составляющая человеческого разума». С последними выводами были согласны не все когнитивисты (см., например, Holden 2006). В частности, некоторые ученые указывают на то, что успехи представителей мундуруку, участвовавших в геометрическом исследовании, когда им нужно было найти кривую среди прямых, прямоугольник среди квадратов, эллипс среди кругов и так далее, возможно, объясняются не врожденными знаниями в области геометрии, а лишь способностью зрительно выделять «лишний предмет».
Жан-Пьер Шанже в увлекательном диалоге о природе математики с математиком (платоновского толка) Аланом Конном (Changeux and Connes 1995) приводит следующее утверждение.
Причина, по которой математические объекты не имеют ничего общего с вещественным миром… в их генеративном характере, в способности порождать другие объекты. Здесь следует подчеркнуть, что в мозге существует своего рода «вместилище сознания», некое физическое пространство, предназначенное для моделирования и создания новых объектов… в некотором отношении эти новые математические объекты – как живые существа: подобно живым существам, они подобны физическим объектам, способным очень быстро эволюционировать; но в отличие от живых существ – за исключением вирусов – они эволюционируют в нашем мозге.
Наконец, самое категорическое суждение в споре «изобретение или открытие» сделали специалист по когнитивной лингвистике Джордж Лакофф и физиолог Рафаэль Нуньес в своей довольно спорной книге «Откуда взялась математика» (Lakoff and Núñez 2000). Как я уже отмечал в главе 1, они объявили следующее.
Математика – естественная составляющая человеческого бытия. Она возникает из нашего тела, нашего мозга, нашего повседневного опыта взаимодействия с миром [то есть Лакофф и Нуньес утверждают, что математика возникает из некоего «встроенного разума»] … Математика – это система человеческих понятий, которая находит невероятное применение обычным инструментам человеческого познания… Человеческие существа ответственны за создание математики – и мы продолжаем быть ответственными за ее разработку и расширение. У портрета математики человеческое лицо.
Ученые-когнитивисты основывают свои выводы на данных, накопленных в результате многочисленных экспериментов, и считают эти данные вполне убедительными. В ходе некоторых таких опытов изучалась функциональная визуализация мозговой деятельности во время решения математических задач. Иногда изучались математические познания младенцев или племен охотников-собирателей вроде мундуруку, не получавших никакого образования, а также людей с различными поражениями головного мозга. Большинство исследователей согласны, что некоторые математические способности, похоже, присущи нам от рождения. Например, все люди с первого взгляда различают группы из одного, двух и трех объектов (это называется субитизация). Вероятно, от рождения мы обладаем и некоторыми очень ограниченными арифметическими способностями – умением группировать, распределять попарно и решать очень простые задачи на сложение и вычитание, как, вероятно, и элементарными геометрическими понятиями, хотя второе утверждение более спорно. Нейрофизиологи выявили также особые отделы мозга – к ним относится, в частности, ангулярная извилина в левом полушарии, – отвечающие, судя по всему, за манипуляции с числами и математические выкладки, но при этом не имеющие отношения ни к языку, ни к рабочей памяти (см., например, Ramachandran and Blakeslee 1999).
Согласно Лакоффу и Нуньесу, главный инструмент, позволяющий продвинуться дальше врожденных способностей, – это конструирование концептуальных метафор, мыслительный процесс, переводящий абстрактные понятия в более конкретные. Например, концепция арифметики коренится в одной из самых фундаментальных метафор собирания предметов. С другой стороны, относительно абстрактная булева алгебра классов метафорически связывает классы с числами. Сложный сценарий, разработанный Лакоффом и Нуньесом, предлагает интересную точку зрения на то, почему одни математические понятия людям усвоить проще других. Некоторые исследователи, например нейрофизиолог-когнитивист Розмари Варли из Шеффилдского университета, предполагают, что по крайней мере некоторые математические структуры паразитируют на языковых способностях – то есть математические понятия развиваются благодаря заимствованию ментальных инструментов, которые отвечают за создание языка (Varley et al. 2005; Klessinger et al. 2007).
Когнитивисты подвели весьма солидную базу под ассоциацию нашей математики с человеческим разумом и против платонизма. Но вот что интересно: самый сильный, по моему мнению, довод против платонизма выдвигают не нейробиологи, а сэр Майкл Атья, один из величайших математиков ХХ века. Я уже упоминал вскользь о его аргументации в главе 1, но здесь хотелось бы остановиться на ней поподробнее.
Если бы пришлось выбирать одно-единственное понятие из нашей математики, которое с наибольшей вероятностью существует независимо от человеческого разума, на чем бы вы остановились? Большинство из нас, скорее всего, пришло бы к выводу, что это должны быть натуральные числа. Что может быть естественнее, «натуральнее», чем 1, 2, 3, …? Даже немецкий математик Леопольд Кронекер (1823–1891), склонный к интуиционизму, как известно, провозгласил: «Господь сотворил натуральные числа, все остальное – дело рук человека». Поэтому, если удастся доказать, что даже натуральные числа как понятие берут начало в человеческом разуме, это будет серьезный довод в пользу парадигмы «изобретения». Вот как это формулирует Атья (Atiyah 1995): «Представим себе, что разумом наделено не человечество, а какая-нибудь огромная одинокая медуза в глубинах Тихого океана. Все ее сенсорные данные определялись бы движением, температурой и давлением. Поскольку все это – чистейший континуум, в такой обстановке не может появиться ничего дискретного, и медузе нечего было бы считать». Иначе говоря, Атья убежден, что даже такое фундаментальное понятие, как натуральные числа, и то было создано человеком посредством абстрагирования элементов физического мира (как сказали бы когнитивисты, «посредством закладывания метафор»). Иначе говоря, число 12, например, отражает абстракцию качества, общего для всего, что объединяется по дюжине, точно так же как слово «мысль» отражает самые разные процессы, происходящие у нас в мозге.
Возможно, то, что Атья привлекает для доказательства гипотетическую вселенную медузы, читателю не понравится. Возможно, читатель возразит, что Вселенная только одна, деваться из нее некуда и любое предположение следует изучать в контексте этой Вселенной. Однако это, в сущности, все равно что признать, что понятие натуральных чисел каким-то образом зависит от Вселенной человеческого опыта! Обратите внимание, что именно это и имеют в виду Лакофф и Нуньес, когда говорят, что математика «встроена».
Итак, я только что приводил доводы за то, что понятия нашей математики коренятся в человеческом разуме. Вероятно, вы спросите, почему же я раньше так настаивал, что математика по большей части открыта – именно такой точки зрения придерживаются платоники.
В повседневной жизни разница между открытием и изобретением иногда совершенно очевидна, а иногда несколько размыта. Никто не станет утверждать, будто Шекспир открыл Гамлета, а мадам Кюри изобрела радий. Однако же новые лекарства от некоторых болезней обычно принято называть открытиями, хотя на самом деле они зачастую появляются в результате тщательного синтеза новых химических соединений. Давайте остановимся на вполне конкретном примере из математики, который, думается мне, не только поможет прояснить, чем открытие отличается от изобретения, но и позволит взглянуть по-новому на процесс развития и прогресса математики.
В книге VI фундаментальных «Начал» Евклида мы обнаруживаем определение деления отрезка на две неравные части неким заданным способом (оно же применительно к площади приводится и раньше, в книге II). Согласно Евклиду, если отрезок АВ делится точкой С (рис. 62) таким образом, что соотношение длин сегментов (AC/CB) равно отношению длины всего отрезка к более длинному сегменту (AB/AC), говорят, что отрезок делится «в крайнем и среднем отношении». Иначе говоря, если AC/CB = AB/AC, то каждое из этих отношений называется «крайним и средним отношением». С XIX века это отношение известно широкой публике как золотое сечение[157]. В результате несложных алгебраических вычислений получается, что золотое сечение равно
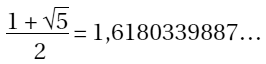
Прежде всего, вы вправе поинтересоваться, почему Евклида вообще заинтересовало определение именно такого деления отрезка и зачем было давать этому соотношению особое название? Ведь разных способов поделить отрезок бесконечно много. Ответ на этот вопрос можно найти в культурно-мистическом наследии Пифагора и Платона. Вспомним, что пифагорейцы были одержимы числами. Они считали, что нечетные числа – это мужское начало и добро, а четные, соответственно, – женское начало и зло. Особое родство они ощущали с числом 5: ведь это союз 2 и 3, первого четного (женского) числа с первым нечетным (мужским). (Число 1 вообще считалось не числом, а генератором остальных чисел.) Поэтому для пифагорейцев число 5 представляло собой воплощение любви и брака, и пентаграмму – пятиконечную звезду – они сделали символом своего братства (рис. 63). И вот тут-то на сцену впервые вышло золотое сечение. Если взять правильную пентаграмму, то отношение боковой стороны любого треугольника к его основанию (a/b на рис. 63) в точности равно золотому сечению. Подобным же образом отношение любой диагонали правильного пятиугольника к его стороне (c/d на рис. 64) также равно золотому сечению. А значит, чтобы построить пятиконечную звезду или пятиугольник при помощи циркуля и линейки (именно так проделывали геометрические построения древние греки), требуется разделить отрезок в золотом сечении.

Рис. 62

Рис. 63
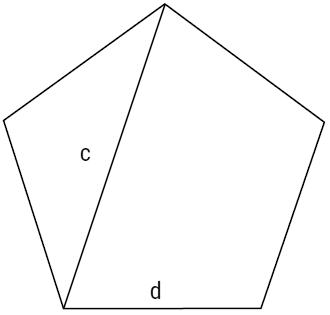
Рис. 64
Платон обогатил мистический смысл золотого сечения дополнительными обертонами. Древние греки полагали, что все во Вселенной состоит из четырех стихий – земли, воды, воздуха и огня. В «Тимее» Платон попытался объяснить структуру вещества на основании пяти правильных многогранников, которые впоследствии были названы в его честь платоновыми телами (рис. 65). Это выпуклые тела – тетраэдр, куб, октаэдр, икосаэдр и додекаэдр – единственные, у которых все грани (у каждого многогранника по отдельности) одинаковы и представляют собой правильные многоугольники, а все вершины лежат на сфере. Каждое из первых четырех тел Платон связывал с определенной стихией: земля ассоциировалась с устойчивым кубом, всепроникающий огонь – с острым тетраэдром, воздух – с октаэдром, а вода – с икосаэдром. А о додекаэдре (рис. 65, d) Платон в «Тимее» писал: «В запасе оставалось еще пятое многогранное построение, его бог определил для Вселенной и прибегнул к нему в качестве образца» (пер. С. Аверинцева). Итак, додекаэдр отражал вселенную в целом. Обратите внимание, что додекаэдр, обладающий двенадцатью пятиугольными гранями, прямо-таки воплощает в себе золотое сечение. И его объем, и площадь поверхности можно выразить в виде простых равенств с участием золотого сечения (так же обстоят дела и с икосаэдром).
То есть исторический опыт показывает, что методом многочисленных проб и ошибок пифагорейцы и их последователи открыли способы строить определенные геометрические фигуры, которые для них воплощали важные понятия вроде любви и космоса. Тогда неудивительно, что и они, и Евклид, задокументировавший эту традицию, изобрели понятие золотого сечения, необходимого для этих построений, и дали ему название. В отличие от любого другого произвольного соотношения, число 1,618… стало предметом пристального изучения с богатой и интересной историей и даже в наши дни то и дело заявляет о себе в самых неожиданных местах. Например, спустя две тысячи лет после Евклида немецкий астроном Иоганн Кеплер открыл, что это число – чудесным образом – имеет отношение к последовательности чисел под названием числа Фибоначчи. Последовательность Фибоначчи – 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233,… – характерна тем, что каждый ее член, начиная с третьего, представляет собой сумму двух предыдущих (2 = 1 + 1; 3 = 1 + 2; 5 = 2 + 3 и так далее). А если поделить любой член последовательности на непосредственно предшествующий (например, 144 ÷ 89; 233 ÷ 144 и так далее), окажется, что отношения колеблются в окрестности золотого сечения, причем чем больше члены последовательности, тем ближе их отношения к золотому сечению. Например, при округлении до шестого знака после запятой у нас получатся следующие числа: 144 ÷ 89 = 1,617978; 233 ÷ 144 = 1,618056; 377 ÷ 233 = 1,618026 и так далее.

Рис. 65
В новое время выяснилось, что числа Фибоначчи и, соответственно, золотое сечение описывают расположение листьев на стеблях некоторых растений – это явление называется филлотаксис – и структуру кристаллов некоторых алюминиевых сплавов.
Почему я считаю определение золотого сечения, которое дал Евклид, изобретением? Потому что изобретательство Евклида выделило это соотношение из общей массы и привлекло к нему внимание математиков. С другой стороны, в Китае, где понятие золотого сечения не было изобретено, в математической литературе нет никаких упоминаний ни о чем похожем. В Индии, где его опять же не изобрели, оно вскользь затронуто лишь в нескольких второстепенных тригонометрических теоремах.
Примеров, которые показывают, что вопрос «Что есть математика – изобретение или открытие?» некорректно сформулирован, можно найти множество. Наша математика – это сочетание изобретений и открытий. Аксиомы евклидовой геометрии как понятия были изобретением, как и, скажем, правила игры в шахматы. Кроме того, аксиомы были дополнены различными изобретенными понятиями – треугольниками, параллелограммами, эллипсами, золотым сечением и тому подобным. А теоремы евклидовой геометрии, напротив, по большей части представляют собой открытия: это пути, связывающие разные понятия. В некоторых случаях доказательства приводили к формулировке новых теорем – математики изучали, что можно доказать, и из этого выводили теоремы. В других, как описано в «Методе» Архимеда, они сначала находили ответ на заинтересовавший их вопрос, а потом уже работали над доказательством.
Понятия – это, как правило, изобретения. Простые числа как понятие были изобретены, однако все теоремы о простых числах – открытия[158]. Математики древнего Вавилона, Египта и Китая не изобрели понятие простых чисел, хотя их математика достигла огромных успехов. Можно ли сказать, что они просто не «открыли» простые числа? Не в большей степени, чем заявить, что в Великобритании не «открыли» единую кодифицированную конституцию. Государство способно выжить и без конституции – и математика способна развиваться без понятия простых чисел. Так и получилось!
А известно ли нам, почему греки изобрели понятия вроде аксиом и простых чисел? Конечно, наверняка сказать нельзя, но можно предположить, что это произошло в ходе неустанных попыток исследовать самые фундаментальные составляющие Вселенной. Простые числа – это строительный материал чисел, точно так же как атомы – это строительный материал вещества. Подобным же образом аксиомы были источником, из которого должны вытекать все геометрические истины. Додекаэдр символизировал Вселенную в целом, а золотое сечение послужило понятием, благодаря которому этот символ был воплощен.
Все это говорит еще об одном интересном аспекте математики: она часть человеческой культуры. Стоило грекам изобрести аксиоматический метод, как все их последователи, европейские математики, тут же взяли с них пример и переняли у них эту систему представлений и практических приемов. Антрополог Лесли А. Уайт (1900–1975) как-то раз лаконично охарактеризовал этот культурный аспект (White 1947): «Если бы Ньютон вырос среди готтентотов [южноафриканское племя], он и считал бы по-готтентотски». Культурная составляющая математики, скорее всего, отвечает и за то, что многие математические открытия (например, инварианты узла) и даже некоторые крупные изобретения (например, математический анализ) были сделаны одновременно несколькими независимыми учеными.
Говорите ли вы по-математически?
В предыдущем разделе я сравнил смысл абстрактного понятия числа со значением слова. Можно ли считать математику своего рода языком? Открытия математической логики, с одной стороны, и лингвистики – с другой, показывают, что в некоторой степени так и есть. Труды Буля, Фреге, Пеано, Рассела, Уайтхеда, Гёделя и их современных последователей, в особенности в областях вроде философской семантики и синтаксиса и в параллельных направлениях лингвистики, показали, что грамматика и логические рассуждения тесно связаны с алгеброй символической логики. Но почему тогда на свете существует более 6500 языков и только одна математика? На самом деле у многих языков при всем их разнообразии общая основа. Скажем, американский лингвист Чарльз Хокетт (1916–2000) в 60-е годы привлек внимание к тому обстоятельству, что все языки обладают встроенными механизмами для создания новых слов и фраз («луноход», «веб-страница», «банкомат» и так далее)[159]. Подобным же образом все человеческие языки допускают отвлеченные понятия («сюрреализм», «отсутствие», «величие»), отрицание («нет», «не бывает»), условные конструкции («Если бы бабушке приделали колесики, она стала бы автобусом»). Пожалуй, важнейшие свойства любых языков – это незамкнутость и свобода стимуляции. Первое – это способность создавать неслыханные ранее высказывания и понимать их[160]. Например, я легко могу создать предложение вроде «Плотину Гувера скотчем не починишь», и, хотя вам, скорее всего, эта фраза раньше не попадалась, вы без труда ее поймете. Свобода стимуляции – это власть выбирать, как реагировать на полученный стимул и реагировать ли на него вообще. Например, на вопрос, который ставит автор-исполнитель Кэрол Кинг в своей песне «Будешь ли ты и завтра любить меня?», можно ответить и «Откуда я знаю, не умру ли я до завтра», и «Конечно», и «Да я и сегодня тебя не люблю», и «Не больше, чем свою собачку», и «Честное слово, это ваша лучшая песня!», и даже «Интересно, кто в этом году выиграет Открытый чемпионат Австралии по теннису». Легко видеть, что многие эти черты (абстракция, отрицание, незамкнутость и способность развиваться) характерны и для математики[161].
Как я уже отмечал, Лакофф и Нуньес подчеркивают роль метафор в математике. Кроме того, когнитивисты настаивают, что все человеческие языки прибегают к метафорам для выражения практически чего угодно. Но и это еще не все: с 1957 года, когда знаменитый лингвист Ноам Хомски опубликовал свою революционную книгу «Синтаксические структуры» (Noam Chomsky, «Syntactic Structures»), многие лингвисты занялись так называемой универсальной грамматикой – общими принципами, которые управляют всеми языками[162]. Иначе говоря, то, что кажется на первый взгляд вавилонским разнообразием языков, на самом деле обладает неожиданным структурным сходством. Вдумайтесь – ведь иначе невозможно было бы составить словари для перевода с одного языка на другой!
Вероятно, вас до сих пор удивляет, что математика такая однородная – и по тематике, и по системе условных обозначений. Особенно интересна первая часть этого вопроса. Большинство математиков согласны, что математика в известном нам виде развилась из основных отраслей геометрии и арифметики, которые разрабатывали и применяли на практике древние вавилоняне, египтяне и греки. Однако так ли уж неизбежно, что математика должна отталкиваться именно от этих дисциплин?
Специалист по информатике Стивен Вольфрам в своей объемной книге «Наука нового типа» (Wolfram 2002) доказывает, что это не обязательно. В частности, Вольфрам демонстрирует, как можно развить математику совершенно нового типа, если начинать с простого набора правил (клеточных автоматов), которые действуют как короткие компьютерные программы. Эти клеточные автоматы можно (по крайней мере, в принципе) сделать основными инструментами моделирования природных явлений – вместо дифференциальных уравнений, которые главенствовали в естественных науках на протяжении трех столетий. Но что же тогда подтолкнуло древние цивилизации к открытию и изобретению именно нашей «марки» математики? Наверняка сказать невозможно, но, вероятно, это связано в основном с особенностями человеческой системы восприятия. Люди без труда замечают и распознают грани, прямые линии, плавные кривые. Скажем, обратите внимание, с какой точностью лично вы можете определить (на глаз), когда линия идеально прямая, и с какой легкостью отличаете правильную окружность от немного эллиптической. Вероятно, эти особенности восприятия оказали сильное влияние на то, как люди видят мир, и поэтому привели к созданию математики, основанной на дискретных объектах (арифметика) и на геометрических фигурах (евклидова геометрия).
Единство системы обозначений, вероятно, стало результатом так называемого «Эффекта “Майкрософт Виндоус”». Операционной системой «Майкрософт» пользуется весь мир, и не потому, что этого нельзя избежать, а просто потому, что она захватила большую часть рынка программного обеспечения и имеет смысл приобретать ее просто ради удобства связи и доступности различных приложений. Подобным же образом западная система условных обозначений некоторым образом навязана математическому миру.
Интересно, что астрономия и астрофизика, возможно, еще не до конца сыграли свою роль в ответе на вопрос об изобретении или открытии. Не так давно поиски планет вне Солнечной системы показали, что около пяти процентов всех звезд обладают по крайней мере одной гигантской планетой вроде Юпитера и что эта доля примерно одинакова по всему Млечному пути. Точный процент планет земного типа пока не известен, но есть вероятность, что в галактике их миллиарды. Даже если лишь очень маленькая, но все же отличающаяся от нуля доля этих «Земель» находится в обитаемой зоне (на орбите, которая проходит от звезды на таком расстоянии, что делает возможным существование на поверхности планеты жидкой воды), вероятность возникновения жизни как таковой и, в частности, разума на таких планетах больше нуля. А если нам удастся открыть разумную жизнь и наладить с ней коммуникацию, можно будет получить бесценные сведения о том, какие формальные методы объяснения устройства космоса разрабатывают другие цивилизации. И тогда мы не просто добьемся невообразимых успехов в понимании происхождения и эволюции жизни, но и получим возможность сравнить свою логику с логическими системами потенциально более развитых существ.
Если же взять куда более спекулятивную ноту, то некоторые космологические сценарии, например так называемая хаотическая теория инфляции, предсказывают возможность существования множественных вселенных. Не исключено, что в иных таких вселенных не только значения фундаментальных физических постоянных (например, силы различных типов взаимодействий или отношения масс субатомных частиц) отличаются от наших, но и вообще правят совсем другие законы природы.
Астрофизик Макс Тегмарк утверждает, что каждой возможной математической структуре должна соответствовать (или, по его словам, соответствует) своя Вселенная[163]. Если это так, то перед нами доведенная до предела версия позиции «Вселенная есть математика»: с математикой идентифицируется даже не один мир, а целый их ансамбль. К сожалению, эти умозаключения не просто радикальны и на данный момент не подлежат экспериментальной проверке, но и противоречат, по крайней мере, в упрощенном виде, так называемому принципу заурядности.[164]. Как я писал в главе 5, если выбрать на улице случайного прохожего, то с вероятностью 95 % его рост попадет в пределы двух стандартных отклонений от среднего роста. Подобную же аргументацию следует применять и к свойствам вселенных. Однако количество возможных математических структур с увеличением сложности стремительно возрастает. Это значит, что самая заурядная структура, близкая к средней, должна быть необычайно сложной. А это не вяжется с относительной простотой нашей математики и наших теорий Вселенной, а значит, не соответствует естественным представлениям о том, что наша Вселенная должна быть типичной.
Вопрос «что есть математика – изобретение или открытие?» сформулирован некорректно, поскольку из такой формулировки следует, что нужно выбрать какой-то один ответ и что эти два варианта взаимоисключающи. Я предлагаю другую версию: математика отчасти открыта, а отчасти изобретена. Люди постоянно изобретают математические понятия и открывают отношения между этими понятиями. Конечно, некоторые эмпирические открытия предшествовали формулировке понятий, однако сами понятия, несомненно, стали стимулом для дальнейших открытий новых теорем. Кроме того, я хочу заметить, что некоторые философы математики, например американец Хилари Патнэм, придерживаются умеренной позиции, так называемого реализма: они верят в объективность математического дискурса (утверждения бывают истинные и ложные, а то, что делает их истинными или ложными, лежит вне сферы влияния человека), однако не убеждены, в отличие от платоников, в существовании «математических объектов» (Putnam 1975). Но ведут ли подобные представления к удовлетворительному ответу на загадку Вигнера – загадку о «непостижимой эффективности» математики?
Позвольте кратко очертить некоторые варианты ответов, предлагаемые современными мыслителями[165].
Вот что пишет Дэвид Гросс, лауреат Нобелевской премии по физике[166].
Существует точка зрения, насколько мне известно, довольно распространенная среди математиков, занимающихся новыми разработками, согласно которой математические структуры, получаемые этими учеными, представляют собой не искусственные творения человеческого разума, а представляются им некоторым образом естественными, как будто они столь же реальны, как и структуры, созданные физиками для описания так называемого реального мира. Иначе говоря, математики не изобретают новую математику, а открывают ее. Если это так, то, пожалуй, некоторые тайны, которые мы исследовали [ «непостижимая эффективность»], уже не так таинственны. Если математика сводится к структурам, представляющим собой реальную часть мира природы, столь же реальную, что и понятия теоретической физики, не приходится удивляться, что она служит эффективным инструментом анализа реального мира.
То есть Гросс опирается здесь на вариант точки зрения «математика есть открытие», который находится где-то между платоновским миром и миром «Вселенная есть математика», но ближе к платоническому мировоззрению. Однако, как мы видели, философски обосновать утверждение «математика есть открытие» трудно. Более того, платонизм не может по-настоящему ответить на вопрос о феноменальной точности, о котором я говорил в главе 8, – и Гросс это признает.
Сэр Майкл Атья, чьи представления о природе математики я в основном разделяю, пишет об этом так (Atiyah 1995; см. также Atiyah 1993).
Если рассматривать мозг в контексте эволюции, то загадочные успехи математики в физических науках можно объяснить – по крайней мере, отчасти. Мозг развивался так, чтобы легче было иметь дело с физическим миром, поэтому, пожалуй, не надо удивляться, что он разработал математику – язык, прекрасно подходящий для этой цели.
Такая аргументация очень похожа на то, что предлагают когнитивисты. Однако Атья при этом признает, что это объяснение едва ли позволяет ответить на самый наболевший вопрос – как математика объясняет относительно скрытые аспекты физического мира. В частности, оно оставляет в стороне вопрос о «пассивной» эффективности математики (о том, что математические понятия находят практическое применение уже после их изобретения, иногда в далеком будущем). Атья отмечает: «Скептик вправе возразить, что борьба за выживание требует от нас только справляться с физическими явлениями на человеческих масштабах, а математическая теория, однако, успешно описывает явления на любых масштабах, от атома до галактики». Единственное, что приходит в голову по этому поводу, – это: «Возможно, объяснение кроется в абстрактно-иерархической природе математики, которая позволяет относительно легко переходить вверх-вниз по шкале масштабов».
Ричард Хэмминг (1915–1998), американский математик и специалист по теории информации, в 1980 году сделал очень подробный и интересный обзор загадки Вигнера (Hamming 1980). Во-первых, по вопросу о природе математики он пришел к выводу, что «математика создана человеком и поэтому приспособлена для того, чтобы человек постоянно и более или менее бесконечно ее изменял». Далее, он предложил четыре возможных объяснения непостижимой эффективности: это (1) эффект отбора, (2) эволюция математических инструментов, (3) ограниченная способность математики к объяснению и (4) эволюция человека.
Вспомним, что эффект отбора – это искажение результатов эксперимента либо из-за использованного аппарата, либо из-за способа сбора данных. Например, если при испытании эффективности диеты исследователь отбрасывает всех, кто прекратил диету досрочно, это исказит результат, поскольку те, кто отказался продолжать испытание, скорее всего, и есть те, на кого эта диета не подействовала. Иначе говоря, Хэмминг предполагает, что по крайней мере в некоторых случаях «изначальное явление возникает из-за применяемого математического инструментария, а не из реального мира… многое из того, что мы видим, зависит от того, какие на нас очки». В качестве примера он с полным правом приводит возможность показать, что любая сила, симметрично исходящая из точки (и сохраняющая энергию) в трехмерном пространстве ведет себя согласно закону обратных квадратов, а следовательно, не стоит удивляться применимости закона всемирного тяготения Ньютона. Точка зрения Хэмминга прекрасно обоснована, однако фантастическую точность некоторых теорий едва ли можно объяснить эффектом отбора.
Второе возможное решение, которое предлагает Хэмминг, опирается на тот факт, что человек отбирает и постоянно улучшает математические методы с целью приспособить их к той или иной ситуации. То есть Хэмминг предполагает, что мы наблюдаем так называемую «эволюцию и естественный отбор» математических идей: люди изобретают много математических понятий, но отбирают самые приспособленные. Я придерживался этих представлений много лет – и считал, что это все объясняет. Подобную интерпретацию предлагает и физик, нобелевский лауреат Стивен Вайнберг в своей книге «Мечты об окончательной теории» (Weinberg 1993). Так может быть, вот он – ответ на загадку Вигнера? Нет никаких сомнений, что подобный отбор и эволюция и в самом деле происходят. Просеяв целый ряд математических формул и приемов, ученые выбирают рабочий арсенал и тут же совершенствуют или меняют его, если это позволяет получить инструментарий получше. Но даже если мы согласимся с этой идеей, откуда вообще взялись математические теории, способные объяснить устройство Вселенной? Третье соображение Хэмминга состоит в том, что наше представление об эффективности математики вполне может оказаться иллюзией, поскольку в мире вокруг нас полным-полно всего такого, чего математика на самом деле не объясняет. В подтверждение я могу, например, отметить, что математик Израиль Гельфанд, как пишут, сказал однажды (Borovik 2006): «Есть только лишь одна вещь, еще более непостижимая, чем непостижимая эффективность математики в физике. И эта вещь – непостижимая неэффективность [курсив мой. – М. Л.] математики в биологии». Не думаю, что это само по себе позволяет дать окончательный ответ на загадку Вигнера. В отличие от героев «Автостопом по Галактике», мы не можем сказать, что ответ на все вопросы жизни, Вселенной и всего на свете – сорок два. Тем не менее есть достаточно большое количество природных явлений, которые математика смогла прояснить настолько, что их удалось объяснить. Более того, диапазон процессов и фактов, которые можно интерпретировать при помощи математики, постоянно расширяется.
Четвертое объяснение Хэмминга очень похоже на то, которое предлагает Атья: «Дарвиновская эволюция в результате естественного отбора дает больше шансов на выживание тем живым существам, разум которых создал лучшие модели реальности – здесь слово “лучшие” означает лучше всего подходящие для выживания и размножения».
Похожих взглядов, но с особым упором на роль логики придерживался и специалист по компьютерным интерфейсам Джеф Раскин (1943–2005), который запустил в компании «Эппл» проект «Макинтош». Раскин полагал так (Raskin 1998)
человеческая логика навязана нам физическим миром и именно поэтому ему соответствует. Математика происходит из логики. Вот почему математика соответствует физическому миру. Здесь нет никакой загадки – хотя нельзя утрачивать способность удивляться и восхищаться природой вещей, даже научившись лучше ее понимать.
Хэмминга даже собственные доводы не настолько убеждали. Вот на что он указывал.
Если взять 4000 лет научной эры, то получится, что миновало – если брать максимальную оценку – 200 поколений. Учитывая, что эволюция человека, которую мы стремимся обнаружить, происходит посредством отбора небольших случайных вариаций, я сомневаюсь, что она способна объяснить непостижимую эффективность математики, разве что лишь самую малую ее часть.
Раскин утверждал, что «основы математики заложены давным-давно в наших предках, возможно, за миллионы поколений до нас». Однако я должен сказать, что мне этот аргумент не кажется таким уж убедительным. Даже если логика была укоренена в мозге наших предков, непонятно, каким образом эта способность могла привести к отвлеченным математическим теориям субатомного мира, например, к квантовой механике с ее невообразимой точностью.
Примечательно, что Хэмминг завершил свою статью допущением, что «всех объяснений, которые я привел, совокупно все равно не хватает, чтобы объяснить то, о чем я веду здесь речь» (то есть непостижимую эффективность математики).
Неужели нам придется в заключение сделать вывод, что эффективность математики так и остается загадкой и с начала книги ничего не изменилось?
Прежде чем опускать руки, давайте попробуем вычленить суть загадки Вигнера, а для этого рассмотрим так называемый научный метод. Сначала ученые узнают различные факты о природе посредством наблюдений и экспериментов. Эти факты прежде всего ложатся в основу каких-то качественных моделей изучаемого явления (например, Земля притягивает яблоки, элементарные частицы при столкновении способны порождать другие частицы, Вселенная расширяется и так далее). Во многих областях естественных наук теории вполне могут даже развиваться, оставаясь нематематическими. Один из лучших примеров прекрасной, многое объясняющей теории такого рода – это дарвинова теория эволюции. Хотя идея естественного отбора не основана ни на каких математических формулах, она достигла замечательных успехов в объяснении происхождения видов. А вот в фундаментальной физике следующим шагом обычно становится попытка построить математическую, количественную теорию (например, общую теорию относительности, квантовую электродинамику, теорию струн и так далее). Наконец, исследователи, опираясь на эти математические модели, предсказывают новые явления, новые частицы и результаты еще не проводившихся экспериментов и наблюдений. Вигнера и Эйнштейна удивлял и восхищал именно невероятный успех последних двух процессов. Как так получается, что физикам раз за разом удается находить математические инструменты, которые не просто объясняют уже существующие результаты экспериментов и наблюдений, но и приводят к совершенно новым озарениям и предсказаниям?
Чтобы ответить на этот вопрос, приведу прекрасный пример, который придумал математик Реубен Херш. Херш предполагал, что, как это делается в многих подобных случаях в математике (и, разумеется, в теоретической физике), нужно разбирать простейший возможный случай[167]. Рассмотрим тривиальный на первый взгляд эксперимент: будем класть черные и белые шарики в непрозрачный кувшин. Представьте себе, что сначала вы кладете четыре белых камешка, а потом семь черных. В какой-то момент в истории человечества люди поняли, что для некоторых целей можно описывать собрание шариков любого цвета абстрактным понятием, которое они изобрели, – натуральным числом. То есть собрание белых камешков можно связать с числом 4 (или IIII, или IV – на этом месте может стоять любой символ, каким пользовались в те времена), а черных – с числом 7. Посредством экспериментов первого типа, о которых я писал выше, люди также открыли, что другое изобретенное ими понятие, арифметическое действие сложения, точно описывает физический акт объединения. Иначе говоря, результат абстрактного процесса, символически обозначаемого как 4 + 7, однозначно предсказывает, каково будет в итоге количество шариков в кувшине.
Что все это значит? Это значит, что люди разработали потрясающий математический инструмент – способ надежно предсказывать результат любых экспериментов подобного рода! И инструмент этот совсем не так тривиален, как может показаться, поскольку он не подходит, к примеру, для капель воды. Если накапать в кувшин четыре капли воды, а потом добавить еще семь, одиннадцать отдельных капель не получится. Более того, чтобы делать прогнозы относительно результатов подобных экспериментов с жидкостями (или газами), людям пришлось изобрести совершенно другие понятия, например вес, и понять, что нужно взвешивать отдельно каждую каплю воды или какой-то объем газа.
Мораль ясна. Математические инструменты выбирались не произвольно, а вполне целенаправленно – исходя из того, насколько точно они способны предсказывать результаты тех или иных экспериментов и наблюдений. Так что, по крайней мере, в этом случае, очень простом, их эффективность, в сущности, гарантирована.
Людям не надо было заранее гадать, какой будет точная математика. Природа щедро дала им возможность определять, что им подходит, а что нет, методом проб и ошибок. Еще им не нужно было во всех случаях обходиться одними и теми же инструментами. Иногда оказывалось, что подходящего математического метода для той или иной задачи не существует, и кому-то приходилось его изобретать (как Ньютон изобрел интегральное и дифференциальное исчисление или современные математики изобрели множество топологических и геометрических приемов в рамках нынешней работы над теорией струн). А иногда метод уже существовал, но предстояло еще открыть, что это готовое решение, которое дожидается подходящей задачи (как в случае, когда Эйнштейн прибег к помощи римановой геометрии или физики-ядерщики – к теории групп). Все дело в том, что пылкое воображение, непоколебимое упорство, неуемное любопытство и пламенная целеустремленность позволили людям найти подходящие математические методы для моделирования огромного количества физических феноменов. Среди прочих качеств математики главным для так называемой «пассивной» эффективности оказалась ее надежность – все, что доказано, остается доказанным практически навечно. Евклидова геометрия в наши дни точно так же точна, как и в 300 году до н. э. Теперь мы понимаем, что без ее аксиом можно обойтись, и что это не абсолютные истины, описывающие пространство, а истины, описывающие определенную вселенную, воспринимаемую человеком, и математическую модель этой Вселенной, изобретенную человеком. Тем не менее, в заданных рамках все теоремы Евклида остаются истинными. Иначе говоря, отдельные ветви математики еще надо встроить в более крупные и обобщенные ветви (в частности, евклидова геометрия – всего лишь одна из возможных версий геометрии), однако корректность в пределах одной ветви сохраняется. И эта неопределенная долговечность позволяла ученым всех эпох искать подходящие математические инструменты в накопившемся арсенале разработанных математических методов и моделей.
Простой пример с шариками в кувшине все же не затрагивает двух составляющих загадки Вигнера. Во-первых, остается неясным, почему в некоторых случаях мы получаем теорию куда большей точности, чем была в нее заложена. В эксперименте с шариками точность «предсказанного» результата (накопление другого количества шариков) не выше, чем точность экспериментов, которые ранее привели к формулировке «теории» (арифметического сложения). С другой стороны, ньютонова теория всемирного тяготения, как оказалось, гораздо точнее, чем результаты наблюдений, которые привели к ее созданию. Почему? Некоторое представление об этом может дать краткий пересмотр истории создания этой теории.
Геоцентрическая модель Птолемея безраздельно правила почти полторы тысячи лет. Ни на какую универсальность она не претендовала, движение каждой планеты рассматривалось отдельно, а о физических его причинах (силе, ускорении) не упоминалось, однако результаты наблюдений она предсказывала достаточно надежно. Николай Коперник (1473–1543) в 1534 году обнародовал гелиоцентрическую модель, а Галилей, так сказать, подвел под нее твердый фундамент. Кроме того, Галилей заложил основу законов движения. Но только Кеплер вывел из наблюдательных данных первые математические, пусть и чисто феноменологические законы движения планет. Кеплер рассчитал орбиту Марса на основании огромного количества данных, которые достались ему в наследство от астронома Тихо Браге[168]. Сотни страниц математических выкладок, которые ему для этого потребовались, он назвал «моей битвой с Марсом». Всем наблюдениям вполне соответствовала круглая орбита – за исключением двух отклонений. Однако Кеплера это решение не устроило, и впоследствии он так описывал ход своих мыслей: «Если бы я считал, что мы можем пренебречь этими восемью минутами [угловыми, это примерно четверть поперечника полной луны], то подправил бы свою гипотезу… соответственным образом. Однако, поскольку отбросить их было невозможно, эти восемь минут и только они подтолкнули меня на путь полной реформы астрономии». Последствия этой дотошности были просто поразительны. Кеплер предположил, что орбиты планет не круглые, а эллиптические, и сформулировал два дополнительных количественных закона, которые действуют для всех планет. Эти законы вкупе с ньютоновыми законами движения и стали основой для закона всемирного тяготения Ньютона. Однако вспомним, что Декарт за это время успел выдвинуть теорию вихрей, согласно которой планеты влекомы вокруг Солнца вихрями кружащихся частиц. Эта теория к особым достижениям не привела – даже до того, как Ньютон доказал, что она противоречива, – поскольку систематических математических моделей для своих вихрей Декарт не разработал.
Чему нас учит этот краткий рассказ? Нет никаких сомнений, что закон всемирного тяготения Ньютона – это плод работы гениального ума. Однако этот гений трудился не в вакууме. Некоторые основы были старательно заложены его предшественниками. Как я отметил в главе 4, даже ученые куда меньшего калибра, чем Ньютон, в частности архитектор Кристофер Рен и физик Роберт Гук, независимо сформулировали закон притяжения, обратно пропорционального квадрату расстояния. Величие Ньютона проявилось в его непревзойденной способности объединить это все в универсальную теорию и в упорстве, с которым он разработал математическое доказательство всех следствий из своей теории. Почему эта модель оказалась такой точной? Отчасти потому, что решала самую фундаментальную задачу – о силе притяжения между двумя телами и их результирующем движении. И больше никаких осложняющих факторов. Ньютон получил полное решение этой задачи – и только ее. Именно поэтому фундаментальная теория оказалась крайне точной, однако следствия из нее должны были постоянно уточняться.
В Солнечной системе тел не два, а больше. Если учитывать влияние других планет (опять же в соответствии с законом обратных квадратов), то орбиты перестают быть простыми эллипсами. Например, оказалось, что орбита Земли медленно меняет положение в пространстве – это движение называется прецессия, именно так перемещается ось вращающегося волчка. Более того, современные исследования показали, что, вопреки ожиданиям Лапласа, орбиты планет в конечном итоге могут даже впасть в хаос (подробнее об этом см. Lecar et al. 2001).
Фундаментальная теория Ньютона впоследствии, разумеется, была включена в общую теорию относительности Эйнштейна. И появлению этой теории также предшествовала череда промахов и фальстартов. Так что предсказать точность той или иной теории невозможно. Не проверишь – не узнаешь, и нужно постоянно делать поправки и уточнения, пока не достигнешь желаемой точности. Те несколько случаев, когда невероятная точность достигалась за один шаг, следует считать настоящими чудесами.
Однако есть и еще одно важное общее обстоятельство, из-за которого поиск фундаментальных законов остается стоящим делом. Речь идет о том, что природа в своей любви к нам управляется именно универсальными, а не местными законами. Атом водорода везде ведет себя совершенно одинаково – и на Земле, и на другом краю Млечного пути, и даже в галактике за десять миллиардов световых лет от нас. Это не зависит от того, куда и когда мы посмотрим. Математики и физики придумали для этого качества особый математический термин: это симметрии, и они отражают устойчивость к переменам в положении, ориентации и моменте, когда запускаешь свои часы. Если бы не эти (и другие) симметрии, у нас не было бы ни малейшей надежды познать структуру мироздания, поскольку эксперименты пришлось бы усердно повторять в каждой точке пространства (если бы в такой Вселенной вообще была возможна жизнь).
Есть и другая особенность мироздания, стоящая за математическими теориями: это так называемая локальность. Она отражает нашу способность строить «картину в целом», словно пазл, начав с описания самых основных взаимодействий между элементарными частицами.
А теперь мы подошли к последнему кусочку паззла Вигнера: каковы, собственно, гарантии, что математическая теория должна существовать? Иначе говоря, откуда взялась, например, общая теория относительности? Неужели не могло оказаться, что математической теории гравитации не существует?
Ответ куда проще, чем вы думаете[169]. Гарантий нет никаких! Существует множество явлений, которые невозможно точно предсказать – даже в принципе. Под эту категорию подпадают, например, самые разные динамические системы, которые впадают в хаос – когда крошечное изменение в начальных условиях приводит к совершенно разным конечным результатам. В частности, такое поведение характерно для рынка ценных бумаг, для перемен погоды в районе Скалистых гор, для шарика, прыгающего на колесе рулетки, для дыма, поднимающегося от сигареты, и, само собой, для орбит планет в Солнечной системе. Не то чтобы математики не пытались разработать оригинальные модели, позволяющие разобраться хотя бы с некоторыми аспектами этих задач, однако никакой детерминистской предсказательной теории создать невозможно. Для работы в областях, для которых нет теории, которая дает больше, чем в нее вложили, созданы целые отрасли теории вероятности и статистики. Подобным же образом понятие вычислительной сложности очерчивает пределы для наших способностей решать задачи при помощи практических алгоритмов, а гёделевские теоремы о неполноте говорят об определенных ограничениях математики – даже внутренних. Так что математика и в самом деле обладает необыкновенной эффективностью в части некоторых описаний, особенно тех, которые относятся к фундаментальной науке, но все же она не может описать нашу Вселенную со всеми ее измерениями. И ученые в какой-то степени определяют, какие задачи исследовать, на основании того, какие задачи уже поддались математическому подходу.
Так что же, выходит, мы разгадали загадку эффективности математики – раз и навсегда? Я старался, как мог, однако сомневаюсь, что все будут полностью согласны с доводами, которые я выдвинул в этой книге. Однако могу процитировать Бертрана Рассела – его книгу «Проблемы философии» (Russell 1912).
Таким образом, мы можем подытожить наше обсуждение ценности философии. Философия должна изучаться не ради определенных ответов на свои вопросы, поскольку, как правило, неизвестны такие истинные ответы, но ради самих вопросов. А эти вопросы расширяют наше понимание того, что возможно, обогащают наше интеллектуальное воображение и убавляют догматическую уверенность, которая служит преградой уму в его размышлениях. Но, прежде всего, дело в том, что ум приобщается к великому через величие Вселенной и становится способным к союзу с нею, что и представляет собой высшее благо (пер. В. Целищева).
Aczel, A. D. 2000. The Mystery of the Aleph: Mathematics, the Kabbalah, and the Search for Infinity (New York: Four Walls Eight Windows).
–. 2004. Chance: A Guide to Gambling, Love, the Stock Market, and Just about Everything Else (New York: Thunder’s Mouth Press).
–. 2005. Descartes’ Secret Notebook (New York: Broadway Books).
Adam, C., and Tannery, P., eds. 1897–1910. Oeuvres des Descartes. Revised edition 1964–76 (Paris: Vrin/CNRS). Самый полный перевод на английский язык: Cottingham, J., Stoothoff, R., and Murdoch, D., eds. 1985. The Philosophical Writing of Descartes (Cambridge: Cambridge University Press).
Adams, C. 1994. The Knot Book: An Elementary Introduction to the Mathematical Theory of Knots (New York: W. H. Freeman).
Alexander, J. W. 1928. Transactions of the American Mathematical Society, 30, 275.
Applegate, D. L., Bixby, R. E., Chvátal, V., and Cook, W. J. 2007. The Traveling Salesman Problem (Princeton: Princeton University Press).
Archibald, R. C. 1914. American Mathematical Society Bulletin, 20, 409.
Aristotle. Ca. 350 гг. до н. э. Metaphysics. In Barnes, J., ed. 1984. The Complete Works of Aristotle (Princeton: Princeton University Press).
–. Ca. 330 BCa. Physics. Перевод R. P. Hardie и R. K. Gaye.
–. Ca. 330 BCb. Physics. Перевод P. H. Wickstead и F. M. Cornford, 1960 (London: Heinemann).
Aronoff, M., and Rees-Miller, J. 2001. The Handbook of Linguistics (Oxford: Blackwell Publishing).
Ashley, C. W. 1944. The Ashley Book of Knots (New York: Doubleday).
Atiyah, M. 1989. Publications Mathématiques de l’Inst. des Hautes Etudes Scientifiques, Paris, 68, 175.
–. 1990. The Geometry and Physics of Knots (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 1993. Proceedings of the American Philosophical Society, 137 (4), 517.
–. 1994. Supplement to Royal Society News, 7, (12), (i).
–. 1995. Times Higher Education Supplement, 29 September.
Baillet, A. 1691. La Vie de M. Des-Cartes (Paris: Daniel Horthemels). Факсимиле публиковались в 1972 (Hildesheim: Olms) и 1987 (New York: Garner) годах.
Balz, A. G. A. 1952. Descartes and the Modern Mind (New Haven: Yale University Press).
Barrow, J. D. 1992. Pi in the Sky: Counting, Thinking, and Being (Oxford: Clarendon Press).
–. 2005. The Infinite Book: A Short Guide to the Boundless, Timeless and Endless (New York: Pantheon).
Beaney, M. 2003. In Griffin, N., ed. The Cambridge Companion to Bertrand Russell (Cambridge: Cambridge University Press).
Bell, E. T. 1937. Men of Mathematics: The Lives and Achievements of the Great Mathematicians
from Zeno to Poincaré (New York: Touchstone).
–. 1940. The Development of Mathematics (New York: McGraw-Hill).
–. 1951. Mathematics: Queen and Servant of Science (New York: McGraw-Hill).
Beltrán Mari, A. 1994. “Introduction.” В кн.: Galilei, G. Diálogo Sobre los Dos Máximos Sistemas del Mundo (Madrid: Alianza Editorial).
Bennett, D. 2004. Logic Made Easy: How to Know When Language Deceives You (New York: W. W. Norton).
Berkeley, G. 1734. “The Analyst: Or a Discourse Addressed to an Infidel Mathematician”, D. R. Wilkins, ed. http:///www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Berkeley/Analyst/Analyst.html.
Berlinski, D. 1996. A Tour of the Calculus (New York: Pantheon Books).
Bernoulli, J. 1713a. The Art of Conjecturing [Ars Conjectandi]. Перевод E. D. Sylla, с предисловием и примечаниями, 2006 (Baltimore: Johns Hopkins University Press).
–. 1713b. Ars Conjectandi (Basel: Tharnisiorum).
Beyssade, M. 1993. “The Cogito.” В кн.: Voss, S., ed. Essays on the Philosophy and Science of René Descartes (Oxford: Oxford University Press).
Black, F., and Scholes, M. 1973. Journal of Political Economy, 81 (3), 637.
Bodanis, D. 2000. E = mc2: A Biography of the World’s Most Famous Equation (New York: Walker).
Bonola, R. 1955. Non-Euclidean Geometry. Translated by H. S. Carshaw. (New York: Dover Publications). Репринт перевода 1912 года (Chicago: Open Court Publishing Company).
Boole, G. 1847. The Mathematical Analysis of Logic, Being an Essay towards a Calculus of Deductive Reasoning. В кн.: Ewald, W. 1996. From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of Mathematics (Oxford: Clarendon Press).
–. 1854. An Investigation of the Laws of Thought on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probabilities (London: Macmillan). Репринт издан в 1958 году (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Boolos, G. 1985. Mind, 94, 331.
–. 1999. Logic, Logic, Logic (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Borovik, A. 2006. Mathematics under the Microscope. http://eprints.ma.man.ac.uk/844/01/covered/MIMS_ep2007_112.pdf
Brewster, D. 1831. The Life of Sir Isaac Newton (London: John Murray, Albemarle Street).
Bukowski, J. 2008. The College Mathematics Journal, 39 (1), 2.
Burger, E. B., and Starbird, M. 2005. Coincidences, Chaos, and All That Math Jazz: Making Light of Weighty Ideas (New York: W. W. Norton).
Burkert, W. 1972. Lore and Science in Ancient Pythagoreanism (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Cajori, F. 1926. The American Mathematical Monthly, 33 (8), 397.
–. 1928. In The History of Science Society. Sir Isaac Newton 1727–1927: A Bicentenary Evaluation of His Work (Baltimore: The Williams & Wilkins Company).
Cardano, G. 1545. Artis Magnae, sive de regulis algebraices. Published in 1968 under the title The Great Art or the Rules of Algebra, в переводе и под редакцией T. R. Witmer (Cambridge, Mass.: MIT Press).
Caspar, M. 1993. Kepler. Translated by C. D. Hellman (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Chandrasekhar, S. 1995. Newton’s “Principia” for the Common Reader (Oxford: Clarendon Press).
Changeux, J. – P., and Connes, A. 1995. Conversations on Mind, Matter, and Mathematics (Princeton: Princeton University Press).
Cherniss, H. 1945. The Riddle of the Early Academy (Berkeley: University of California Press). Reprinted 1980 (New York: Garland).
–. 1951. Review of Metaphysics, 4, 395.
Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures (The Hague: Mouton & Co.).
Cicero. 1st century ВС. Discussion at Tusculam. В кн.: Grant, M. 1971. Cicero: On the Good Life (London: Penguin Classics).
Clark, M. 2002. Paradoxes from A to Z (London: Routledge).
Clarke, D. M. 1992. В кн.: Cottingham, J. (ред.). The Cambridge Companion to Descartes (Cambridge: Cambridge University Press).
Cohen, I. B. 1982. В кн.: Bechler, Z. (ред.) Contemporary Newtonian Research (Dordrecht: Reidel).
–. 2006. The Triumph of Numbers (New York: W. W. Norton & Company).
Cohen, P. J. 1966. Set Theory and the Continuum Hypothesis (New York: W. A. Benjamin).
Cole, J. R. 1992. The Olympian Dreams and Youthful Rebellion of René Descartes (Champaign: University of Illinois Press).
Connor, J. A. 2006. Pascal’s Wager: The Man Who Played Dice with God (New York: HarperCollins).
Conway, J. H. 1970. В кн.: Leech, J. (ред.) Computational Problems in Abstract Algebra (Oxford: Pergamon Press).
Coresio, G. 1612. Operetta intorno al galleggiare de’ corpi solidi. Репринт в кн.: Favaro, A. 1968. Le Opere di Galileo Galilei. Edizione Nazionale (Florence: Barbera).
Cottingham, J. 1986. Descartes (Oxford: Blackwell).
Craig, Sir J. 1946. Newton at the Mint (Cambridge: Cambridge University Press).
Curley, E. 1993. In Voss, S., ed. Essays on the Philosophy and Science of René Descartes (Oxford: Oxford University Press).
Curzon, G. 2004. Wotton and His Words: Spying, Science and Venetian Intrigues (Philadelphia: Xlibris Corporation).
Davies, P. 2001. How to Build a Time Machine (New York: Allen Lane).
Davis, P. J., and Hersh, R. 1981. The Mathematical Experience (Boston: Birkhaüser). Переработанное и дополненное издание – 1998 (Boston: Mariner Books).
Dawkins, R. 2006. The God Delusion (New York: Houghton Mifflin Company).
Dawson, J. 1997. Logical Dilemmas: The Life and Work of Kurt Gödel (Natick, Mass.: A. K. Peters).
Dehaene, S. 1997. The Number Sense (Oxford: Oxford University Press).
Dehaene, S., Izard, V., Pica, P., and Spelke, E. 2006. Science, 311, 381.
DeLong, H. 1970. A Profile of Mathematical Logic (Reading, Mass.: Addison-Wesley). Репринт – 2004 (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Demopoulos, W., and Clark, P. 2005. В кн.: Shapiro, S. (ред.) The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic (Oxford: Oxford University Press).
De Morgan, A. 1885. Newton: His Friend: and His Niece (London: Elliot Stock).
Dennett, D. C. 2006. Breaking the Spell: Religion as a Natural Phenomenon (New York: Viking).
De Santillana, G. 1955. The Crime of Galileo (Chicago: University of Chicago Press).
Descartes, R. 1637a. Discourse on Method, Optics, Geometry, and Meteorology. Перевод P. J. Olscamp, 1965 (Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company).
–. 1637b. The Geometry of René Descartes. Translated by D. E. Smith and M. L. Latham, 1954 (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
–. 1644. Principles of Philosophy, II:64. In Cottingham, J., Stoothoff, R., and Murdoch, D (ред.). 1985. Philosophical Works of Descartes (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 1637–1644. The Philosophy of Descartes: Containing the Method, Meditations, and Other Works. Translated by J. Veitch, 1901 (New York: Tudor Publishing).
Detlefsen, M. 2005. In Shapiro, S., ed. The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic (Oxford: Oxford University Press).
Deutsch, D. 1997. The Fabric of Reality (New York: Allen Lane).
Devlin, K. 1993. The Joy of Sets: Fundamentals of Contemporary Set Theory, 2nd ed. (New York: Springer-Verlag).
–. 2000. The Math Gene: How Mathematical Thinking Evolved and Why Numbers Are like Gossip (New York: Basic Books).
Dijksterhuis, E. J. 1957. Archimedes (New York: The Humanities Press).
Doxiadis, A. K. 2000. Uncle Petros and Goldbach’s Conjecture (New York: Bloomsbury).
Drake, S. 1978. Galileo at Work: His Scientific Biography (Chicago: University of Chicago Press).
–. 1990. Galileo: Pioneer Scientist (Toronto: University of Toronto Press).
Dummett, M. 1978. Truth and Other Enigmas (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Dunham, W. 1994. The Mathematical Universe: An Alphabetical Journey through the Great Proofs, Problems and Personalities (New York: John Wiley & Sons).
Dunnington, G. W. 1955. Carl Friedrich Gauss: Titan of Science (New York: Hafner Publishing).
Du Sautoy, M. 2008. Symmetry: A Journey into the Patterns of Nature (New York: Harper Collins).
Einstein, A. 1934. “Geometrie und Erfuhrung.” In Mein Weltbild (Frankfurt am Main: Ullstein Materialien).
Ewald, W. 1996. From Kant to Hilbert: A Source Book in the Foundations of Mathematics (Oxford: Clarendon Press).
Favaro, A. (ред.). 1890–1909. Le Opere di Galileo Galilei, Edizione Nationale (Florence: Barbera). Текст много раз переиздавался, последний раз – в 1964–1966 годах.
Fearnley-Sander, D. 1979. The American Mathematical Monthly, 86 (10), 809.
–. 1982. The American Mathematical Monthly, 89 (3), 161.
Feldberg, R. 1995. Galileo and the Church: Political Inquisition or Critical Dialogue (Cambridge: Cambridge University Press).
Ferris, T. 1997. The Whole Shebang (New York: Simon & Schuster).
Finkel, B. F. 1898. “Biography: René Descartes.” American Mathematical Monthly, 5 (8–9), 191.
Fisher, R. A. 1936. Annals of Science, 1, 115.
–. 1956. In Newman, J. R., ed. The World of Mathematics (New York: Simon & Schuster).
Fowler, D. 1999. The Mathematics of Plato’s Academy (Oxford: Clarendon Press).
Franzén, T. 2005. Gödel’s Theorem: An Incomplete Guide to Its Use and Abuse (Wellesley, Mass.: K. Peters).
Frege, G. 1879. Begriffsschrift, eine der arithmetischen nachgebildete Formelsprache des reinen Denkens (Halle, Germany: L. Nebert). Перевод S. Bauer-Mengelberg. В кн.: van Heijenoort, J. (ред.). 1967. From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
–. 1884. Der Grundlagen der Arithmetik (Breslau: Koebner). Перевод J. L. Austin, 1974. The Foundations of Arithmetic (Oxford: Basil Blackwell).
–. 1893. Grundgesetze der Arithmetik, bond I (Jena: Verlag Hermann Pohle). Книга была частично переведена в 1964 году и опубликована в Furth, M. (ред.). The Basic Laws of Arithmetic (Berkeley: University of California Press).
–. 1903. Grundgesetze der Arithmetik, bond II (Jena: Verlag Hermann Pohle).
Fritz, K. von. 1945. “The Discovery of Incommensurability by Hipposus of Metapontum.” Annals of Mathematics, 46, 242.
Frova, A., and Marenzana, M. 1998. Thus Spoke Galileo: The Great Scientist’s Ideas and Their Relevance to the Present Day. Перевод J. McManus, 2006 (Oxford: Oxford University Press).
Galilei, G. 1586. The Little Balance. In Galileo and the Scientific Revolution. Перевод L. Fermi и G. Bernardini. (New York: Basic Books). Это перевод Favaro, A. (ред.) 1890–1909. Le Opere di Galileo Galilei (Florence: G. Barbera).
–. Ca. 1600a. On Mechanics. Перевод S. Drake, 1960 (Madison: University of Wisconsin Press).
–. Ca. 1600b. On Motion. Перевод I. E. Drabkin, 1960 (Madison: University of Wisconsin Press).
–. 1610a. Sidereal Nuncius, or The Sidereal Messenger. Перевод A. Van Helden, 1989. (Chicago: University of Chicago Press).
–. 1610b. The Sidereal Messenger [Sidereus Nuncius]. В кн.: Drake, S. 1983. Telescopes, Tides and Tactics (Chicago: University of Chicago Press).
–. 1623. The Assayer [Il Saggiatore]. В кн.: The Controversy on the Comets of 1618. Перевод S. Drake и C. D. O’Malley, 1960 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press).
–. 1632. Dialogue Concerning the Two Chief World Systems. Перевод S. Drake, 1967 (Berkeley: University of California Press).
–. 1638. Discourses on the Two New Sciences. Перевод S. Drake, 1974 (Madison: University of Wisconsin Press).
Garber, D. 1992. В кн.: Cottingham, J. (ред.) The Cambridge Companion to Descartes (Cambridge: Cambridge University Press).
Gardner, M. 2003. Are Universes Thicker than Blackberries? (New York: W. W. Norton).
Gaukroger, S. 1992. В кн.: Cottingham, J. (ред.) The Cambridge Companion to Descartes (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 2002. Descartes’s System of Natural Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Gingerich, O. 1973. “Kepler, Johannes.” In Gillespie, C. C., ed. Dictionary of Scientific Biography, vol. 7 (New York: Scribners).
Girifalco, L. A. 2008. The Universal Force (Oxford: Oxford University Press).
Glaisher, J. W. L. 1888. Bicentenary Address, Cambridge Chronicle, April 20, 1888.
Gleick, J. 1987. Chaos: Making a New Science (New York: Viking).
–. 2003. Isaac Newton (New York: Vintage Books).
Glucker, J. 1978. Antiochus and the Late Academy, hypomnemata 56 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht).
Gödel, K. 1947. В кн. Benaceroff, P., and Putnam, H. (ред.) 1983. Philosophy of Mathematics: Selected Readings, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press).
Godwin, M., and Irvine, A. D. 2003. В кн.: Griffin, N. (ред.) The Cambridge Companion to Bertrand Russell (Cambridge: Cambridge University Press).
Goldstein, R. 2005. Incompleteness: The Proof and Paradox of Kurt Gödel (New York: W. W. Norton).
Gosling, J. C. B. 1973. Plato (London: Routledge & Kegan Paul).
Gott, J. R. 2001. Time Travel in Einstein’s Universe (Boston: Houghton Mifflin).
Grassi, O. 1619. Libra Astronomica ac Philosophica. В кн.: Drake, S., and O’Malley, C. D., пер. 1960.
The Controversy on the Comets of 1618 (Philadelphia: University of Pennsylvania Press).
Graunt, J. 1662. Natural and Political Observations Mentioned in a Following Index, and Made Upon the Bills of Mortality (London: Tho. Roycroft).
Gray, J. J. 2004. János Bolyai, Non-Euclidean Geometry, and the Nature of Space (Cambridge, Mass.: Burndy Library).
Grayling, A. C. 2005. Descartes: The Life and Times of a Genius (New York: Walker & Company).
Greenberg, M. J. 1974. Euclidean and Non-Euclidean Geometries: Development and History, 3rd ed. (New York: W. H. Freeman and Company).
Greene, B. 1999. The Elegant Universe: Superstrings, Hidden Dimensions, and the Quest for the Ultimate Theory (New York: W. W. Norton).
–. 2004. The Fabric of the Cosmos: Space, Time, and the Texture of Reality (New York: Alfred A. Knopf).
Gross, D. 1988. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 85, 8371.
Guthrie, K. S. 1987. The Pythagorean Sourcebook and Library: An Anthology of Ancient Writings which Relate to Pythagoras and Pythagorean Philosophy (Grand Rapids, Mich.: Phanes Press).
Hald, A. 1990. A History of Probability and Statistics and Their Applications Before 1750 (New York: John Wiley & Sons).
Hall, A. R. 1992. Isaac Newton: Adventurer in Thought (Oxford: Blackwell). Допечатка в 1996 году (Cambridge: Cambridge University Press).
Hamilton, E., and Cairns, H. (ред.). 1961. The Collected Dialogues of Plato (New York: Pantheon).
Hamming, R. W. 1980. The American Mathematical Monthly, 87 (2), 81.
Hankins, F. H. 1908. Adolphe Quetelet as Statistician (New York: Columbia University).
Hardy, G. H. 1940. A Mathematician’s Apology (Cambridge: Cambridge University Press).
Havelock, E. 1963. Preface to Plato (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Hawking, S. 2005. God Created the Integers: The Mathematical Breakthroughs that Changed History (Philadelphia: Running Press).
Hawking, S., ed. 2007. A Stubbornly Persistent Illusion: The Essential Scientific Writings of Albert Einstein (Philadelphia: Running Press).
Hawking, S., and Penrose, R. 1996. The Nature of Space and Time (Princeton: Princeton University Press).
Heath, T. L. 1897. The Works of Archimedes (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 1921. A History of Greek Mathematics (Oxford: Clarendon Press). Репринт 1981 года (New York: Dover Publications).
Hedrick, P. W. 2004. Genetics of Populations (Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett).
Heiberg, J. L. (ред.). 1910–1915. Archimedes Opera Omnio cum Commentariis Eutocii (Leipzig); греко-латинская билингва.
Hellman, H. 2006. Great Feuds in Mathematics: Ten of the Liveliest Disputes Ever (Hoboken, N. J.: John Wiley & Sons).
Hermite, C. 1905. Correspondence d’Hermite et de Stieltjes (Paris: Gauthier-Villars).
Herodotus. 440 гг. до н. э. The History, book IV. Перевод D. Greve, 1988 (Chicago: University of Chicago Press).
Hersh, R. 2000. 18 Unconventional Essays on the Nature of Mathematics (New York: Springer).
Herz-Fischler, R. 1998. A Mathematical History of the Golden Number (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Hobbes, T. 1651. Leviathan. Репринт 1982 года (New York: Penguin Classics).
Hockett, C. F. 1960. Scientific American, 203 (September), 88.
Höffe, O. 1994. Immanuel Kant. Перевод M. Farrier (Albany, N. Y.: SUNY Press).
Hofstadter, D. 1979. Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (New York: Basic Books).
Holden, C. 2006. Science, 311, 317.
Huffman, C. A. 1999. В кн.: Long, A. A. (ред.). The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 2006. “Pythagoras.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/pythagoras.
Hume, D. 1748. An Enquiry Concerning Human Understanding. Репринт 2000 в кн.: The Clarendon Edition of the Works of David Hume, под ред. T. L. Beauchamp (Oxford: Oxford University Press).
Iamblichus. Ca. 300 ADa. Iamblichus’ Life of Pythagoras. Перевод T. Taylor, 1986 (Rochester, Vt.: Inner Traditions).
–. Ca. 300 ADb. On the Pythagorean Life. Перевод J. Dillon, J. Hershbell. (Atlanta: Scholar Press).
Irvine, A. D. 2003. “Russell’s Paradox.” Stanford Encyclopedia of Philosophy. http://plato.stanford.edu/entries/russell-paradox.
Isaacson, W. 2007. Einstein: His Life and Universe (New York: Simon & Schuster).
Jaeger, M. 2002. The Journal of Roman Studies, 92, 49.
Jeans, J. 1930. The Mysterious Universe (Cambridge: Cambridge University Press).
Jones, V. F. R. 1985. Bulletin of the American Mathematical Society, 12, 103.
Joost-Gaugier, C. L. 2006. Measuring Heaven: Pythagoras and His Influence on Thought and Art in Antiquity and the Middle Ages (Ithaca: Cornell University Press).
Kaku, M. 2004. Einstein’s Cosmos (New York: Atlas Books).
Kant, I. 1781. Critique of Pure Reason. Один из многочисленных переводов на английский язык – Müller, F. M. 1881. Immanuel Kant’s Critique of Pure Reason (London: Macmillan).
Kaplan, M., and Kaplan, E. 2006. Chances Are: Adventures in Probability (New York: Viking).
Kapner, D. J., Cook, T. S., Adelberger, E. G., Gundlach, J. H., Heckel, B. R., Hoyle, C. D., and Swanson, H. E. 2007. Physical Review Letters, 98, 021101.
Kasner, E., and Newman, J. R. 1989. Mathematics and the Imagination (Redmond, Wash.: Tempus Books).
Kauffman, L. H. 2001. Knots and Physics, 3rd ed. (Singapore: World Scientific).
Keeling, S. V. 1968. Descartes (Oxford: Oxford University Press).
Kepler, J. 1981. Mysterium Cosmographicum (New York: Abaris Books).
–. 1997. The Harmony of the World (Philadelphia: American Philosophical Society).
Klessinger, N., Szczerbinski, M., and Varley, R. 2007. Neuropsychologia, 45, 1642.
Kline, M. 1967. Mathematics for Liberal Arts (Reading, Mass.: Addison-Wesley). Переиздана в 1985 году под названием Mathematics for the Nonmathematician (New York: Dover Publications).
–. 1972. Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (Oxford: Oxford University Press).
Knott, C. G. 1911. Life and Scientific Work of Peter Guthrie Tait (Cambridge: Cambridge University Press).
Koyré, A. 1978. Galileo Studies. Перевод J. Mepham (Atlantic Highlands, N. J.: Humanities Press).
Kramer, M., Stairs, I. H., Manchester, R. N., et al. 2006. Science, 314 (5796), 97.
Krauss, L. 2005. Hiding in the Mirror: The Mysterious Allure of Extra Dimensions, from Plato to String Theory and Beyond (New York: Viking Penguin).
Kraut, R. 1992. The Cambridge Companion to Plato (Cambridge: Cambridge University Press).
Krüger, L. 1987. В кн.: Krüger, L., Daston, L. J., and Heidelberger, M. (ред). The Probabilistic Revolution (Cambridge, Mass.: The MIT Press).
Kuehn, M. 2001. Kant: A Biography (Cambridge: Cambridge University Press).
Laertius, D. Ca. 250 AD. Lives of Eminent Philosophers. Перевод R. D. Hicks, 1925 (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Lagrange, J. 1797. Théorie des Fonctions Analytiques (Paris: Imprimerie de la Republique).
Lahanas, M. “Archimedes and his Burning Mirrors.” www.mlahanas.de/Greeks/Mirrors.htm.
Lakoff, G., and Núñez, R. E. 2000. Where Mathematics Comes From (New York: Basic Books).
Laplace, P. S., Marquis de. 1814. A Philosophical Essay on Probabilities. Перевод F. W. Truscot и F. L. Emory, 1902 (New York: John Wiley & Sons). Репринт 1995 года (Mineola, N. Y.: Dover).
Lecar, M., Franklin, F. A., Holman, M. J., and Murray, N. W. 2001. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 39, 581.
Lightman, A. 1993. Einstein’s Dreams (New York: Pantheon Books).
Little, C. N. 1899. Transaction of the Royal Society of Edinburgh, 39 (part III), 771.
Livio, M. 2002. The Golden Ratio: The Story of Phi, the World’s Most Astonishing Number (New York: Broadway Books).
–. 2005. The Equation That Couldn’t Be Solved (New York: Simon & Schuster).
Lottin, J. 1912. Quetelet: Staticien et Sociologue (Louvain: Institut Supérieur de Philosophie).
MacHale, D. 1985. George Boole: His Life and Work (Dublin: Boole Press Limited).
Machamer, P. 1998. В кн.: Machamer, P. (ред.). The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge: Cambridge University Press).
Manning, H. P. 1914. Geometry of Four Dimensions (London: Macmillan). Репринт 1956 (New York: Dover Publications).
Maor, E. 1994. e: The Story of a Number (Princeton: Princeton University Press).
McMullin, E. 1998. В кн.: Machamer, P. (ред.). The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge: Cambridge University Press).
Mekler, S., ed. 1902. Academicorum Philosophorum Index Herculanensis (Berlin: Weidmann).
Menasco, W., and Rudolph, L. 1995. American Scientist, 83 (January – February), 38.
Mendel, G. 1865. “Experiments in Plant Hybridization,” http://www.mendelweb.org/Mendel.plain.html.
Merton, R. K. 1993. On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript (Chicago: University of Chicago Press).
Messer, R., and Straffin, P. 2006. Topology Now (Washington, D. C.: Mathematical Association of America).
Miller, V. R., and Miller, R. P., (ред.). 1983. Descartes, Principles of Philosophy (Dordrecht: Reidel).
Mitchell, J. C. 1990. В кн.: Leeuwen, J., Handbook of Theoretical Computer Science (Cambridge, Mass.: MIT Press).
Monk, R. 1990. Ludwig Wittgenstein: The Duty of Genius (London: Jonathan Cape).
Moore, G. H. 1982. Zermelo’s Axiom of Choice: Its Origins, Development, and Influence (New York: Springer-Verlag).
Morgenstern, O. 1971. Draft “Memorandum from Mathematica.” Subject: History of the naturalization of Kurt Gödel. Institute for Advanced Study, Princeton, NJ.
Morris, T. 1999. Philosophy for Dummies (Foster City, Calif.: IDG Books).
Motte, A. 1729. Sir Isaac Newton’s Mathematical Principles of Natural Philosophy and His System of the World. Под ред. F. Cajori, 1947 (Berkeley: University of California Press). Выходила также под названием Newton, I. 1995. The Principia (New York: Prometheus Books).
Mueller, I. 1991. В кн.: Bowen, A. (ред.) Science and Philosophy in Classical Greece (London: Garland).
–. 1992. В кн.: Kraut, R. (ред.). The Cambridge Companion to Plato (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 2005. В кн.: Koestier, T., and Bergmans, L. (ред.). Mathematics and the Divine: A Historical Study (Amsterdam: Elsevier).
Nagel, E., and Newman, J. 1959. Gödel’s Proof (New York: Routledge & Kegan Paul). Репринт 2001 (New York: New York University Press).
Netz, R. 2005. В кн.: Koetsier, T., and Bergmans, L. (ред.) Mathematics and the Divine: A Historical Study (Amsterdam: Elsevier).
Netz, R., and Noel, W. 2007. The Archimedes Codex: How a Medieval Prayer Book Is Revealing the True Genius of Antiquity’s Greatest Scientist (Philadelphia: Da Capo Press).
Neuwirth, L. 1979. Scientific American, 240 (June), 110.
Newman, J. R. 1956. The World of Mathematics (New York: Simon & Schuster).
Newton, Sir I. 1729. Mathematical Principles of Natural Philosophy. Перевод I. B. Cohen и A. Whitman, 1999 (Berkeley: University of California Press).
–. 1730. Opticks, or A Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections and Colours of Light, 4th ed. (London: G. Bell). Репринт 1952 (New York: Dover Publications).
Nicolson, M. 1935. Modern Philology, 32 (3), 233.
Obler, L. K., and Gjerlow, K. 1999. Language and the Brain (Cambridge: Cambridge University Press).
O’Connor, J. J., and Robertson, E. F. 2003. “Peter Guthrie Tait.” http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Biographies/Tait.html
–. 2005. “Hermann Günter Grassmann.” http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Grassmann.html
–. 2007. “G. H. Hardy Addresses the British Association in 1922, part 1.” http://www-history.mcs.st-and.ac.uk/Extras/BA_1922_1.html
Odom, B., Hanneke, D., D’Urso, B., and Gabrielse, G. 2006. Physical Review Letters, 97, 030801.
Ooguri, H., and Vafa, C. 2000. Nuclear Physics B, 577, 419.
Orel, V. 1996. Gregor Mendel: The First Geneticist (New York: Oxford University Press).
Overbye, D. 2000. Einstein in Love: A Scientific Romance (New York: Viking).
Pais, A. 1982. Subtle Is the Lord: The Science and Life of Albert Einstein (Oxford: Oxford University Press).
Panek, R. 1998. Seeing and Believing: How the Telescope Opened Our Eyes and Minds to the Heavens (New York: Viking).
Paulos, J. A. 2008. Irreligion: A Mathematician Explains Why the Arguments for God Just Don’t Add Up (New York: Hill and Wang).
Penrose, R. 1989. The Emperor’s New Mind: Concerning Computers, Minds, and the Laws of Physics (Oxford: Oxford University Press).
–. 2004. The Road to Reality: A Complete Guide to the Laws of the Universe (London: Jonathan Cape).
Perko, K. A., Jr. 1974. Proceedings of the American Mathematical Society, 45, 262.
Pesic, P. 2007. Beyond Geometry: Classic Papers from Riemann to Einstein (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Peterson, I. 1988. The Mathematical Tourist: Snapshots of Modern Mathematics (New York: W. H. Freeman and Company).
Petsche, J. – J. 2006. Grassmann (Basel: Birkhäuser Verlag).
Pinker, S. 1994. The Language Instinct (New York: William Morrow and Company).
Plato. Ca. 360 ВС. The Republic. Перевод A. Bloom, 1968 (New York: Basic Books).
Plutarch. Ca. 75 AD. “Marcellus.” Перевод J. Dryden. В кн.: Clough, A. H. (ред). 1992. Plutarch’s Lives (New York: Modern Library).
Poincaré, H. 1891. Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées 2, 769. Перевод статьи на английский язык опубликован в Pesic, P., 2007. Beyond Geometry.
Porphyry. Ca. 270 AD. Life of Pythagoras. В кн.: Hadas, M., and Smith, M. (ред.) 1965. Heroes and Gods (New York: Harper and Row).
Proclus. Ca. 450. Proclus: A Commentary on the First Book of Euclid’s “Elements.” Перевод G. Morrow, 1970. (Princeton: Princeton University Press).
Przytycki, J. H. 1992. Aportaciones Matemáticas Comunicaciones, 11, 173.
Putnam, H. 1975. Mathematics, Matter and Method: Philosophical Papers, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press), 60.
Quetelet, L. A. J. 1828. Instructions Populaires sur le Calcul des Probabilités (Brussels: H. Tarbier & M. Hayez).
Quine, W. V. O. 1966. The Ways of Paradox and Other Essays (New York: Random House).
–. 1982. Methods of Logic, 4th ed. (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Radelet-de Grave, P., ed. 2005. “Bernoulli-Edition.” http://static.springer.com/sgw/documents/169442/application/pdf/Bernoulli2005web.pdf
Ramachandran, V. S., and Blakeslee, S. 1999. Phantoms of the Brain (New York: Quill).
Randall, L. 2005. Warped Passages: Unraveling the Mysteries of the Universe’s Hidden Dimensions (New York: Ecco).
Raskin, J. 1998. “Effectiveness of Mathematics.” http://spacetimecentre.org/vpetkov/courses/effectiveness_mathematics.html
Raymond, E. S. 2005. “The Utility of Mathematics.” http://www.catb.org/esr/writings/utility-of-math/
Redondi, P. 1998. В кн.: Machamer, P. The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge: Cambridge University Press).
Rees, M. J. 1997. Before the Beginning (Reading, Mass.: Addison-Wesley).
Reeves, E. 2008. Galileo’s Glassworks: The Telescope and the Mirror (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Renon, L., and Felliozat, J. 1947. L’Inde Classique: Manuel des Études Indiennes (Paris: Payot).
Rescher, N. 2001. Paradoxes: Their Roots, Range, and Resolution (Chicago: Open Court).
Resnik, M. D. 1980. Frege and the Philosophy of Mathematics (Ithaca: Cornell University Press).
Reston, J. 1994. Galileo: A Life (New York: HarperCollins).
Ribenboim, P. 1994. Catalan’s Conjecture (Boston: Academic Press).
Ricoeur, P. 1996. Synthese, 106, 57.
Riedweg, C. 2005. Pythagoras: His Life and Influence. Перевод S. Rendall (Ithaca: Cornell University Press).
Rivest, R., Shamir, A., and Adleman, L. 1978. Communications of the Association for Computing Machinery, 21 (2), 120.
Rodis-Lewis, G. 1998. Descartes: His Life and Thought (Ithaca: Cornell University Press).
Ronan, M. 2006. Symmetry and the Monster: The Story of One of the Greatest Quests of Mathematics (New York: Oxford University Press).
Rosenthal, J. S. 2006. Struck by Lightning: The Curious World of Probabilities (Washington, D. C.: Joseph Henry Press).
Ross, W. D. 1951. Plato’s Theory of Ideas (Oxford: Clarendon Press).
Rouse Ball, W. W. 1908. A Short Account of the History of Mathematics, 4th ed. Репринт 1960 года (Mineola, N. Y.: Dover Publications).
Rucker, R. 1995. Infinity and the Mind: The Science and Philosophy of the Infinite (Princeton: Princeton University Press).
Russell, B. 1912. The Problems of Philosophy (London: Home University Library). Репринт 1997 года – Oxford University Press (Oxford).
–. 1919. Introduction to Mathematical Philosophy (London: George Allen and Unwin). Переиздание 1993 года под ред. J. Slater (London: Routledge). Переиздание 2005 года (New York: Barnes & Noble).
–. 1945. History of Western Philosophy. Reprinted 2007 (New York: Touchstone).
Sainsbury, R. M. 1988. Paradoxes (Cambridge: Cambridge University Press).
Sarrukai, S. 2005. Current Science, 88 (3), 415.
Schmitt, C. B. 1969. “Experience and Experiment: A Comparison of Zabarella’s Views with Galileo’s in De Motu.” Studies in the Renaissance, 16, 80.
Sedgwick, W. T., and Tyler, H. W. 1917. A Short History of Science (New York: The Macmillan Company).
Shapiro, S. 2000. Thinking about Mathematics: The Philosophy of Mathematics (Oxford: Oxford University Press).
Shea, W. R. 1972. Galileo’s Intellectual Revolution: Middle Period, 1610–1632 (New York: Science History Publications).
–. 1998. В кн.: Machamer, P. (ред.). The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge: Cambridge University Press).
Sieg, W. 1988. “Hilbert’s Program Sixty Years Later.” Journal of Symbolic Logic, 53, 349.
Smolin, L. 2001. Three Roads to Quantum Gravity (New York: Basic Books).
–. 2006. The Trouble with Physics: The Rise of String Theory, The Fall of Science, and What Comes Next (Boston: Houghton Mifflin).
Sobel, D. 1999. Galileo’s Daughter (New York: Walker & Company).
Sommerville, D. M. Y. 1929. An Introduction to the Geometry of N Dimensions (London: Methuen).
Sorell, T. 2005. Descartes Reinvented (Cambridge: Cambridge University Press).
Sorensen, R. 2003. A Brief History of the Paradox: Philosophy and the Labyrinths of the Mind (Oxford: Oxford University Press).
Sossinsky, A. 2002. Knots: Mathematics with a Twist (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Stanley, T. 1687. The History of Philosophy, ninth section. Опубликована в 1970 году в виде фотографического факсимиле под названием Pythagoras: His Life and Teachings (Los Angeles: The Philosophical Research Society).
Steiner, M. 2005. В кн.: Shapiro, S. (ред.) The Oxford Handbook of Philosophy of Mathematics and Logic (Oxford: Oxford University Press).
Stewart, I. 2004. Galois Theory (Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC).
–. 2007. Why Beauty Is Truth: A History of Symmetry (New York: Perseus Books).
Stewart, J. A. 1905. The Myths of Plato (London: Macmillan and Co.).
Stigler, S. M. 1997. In Académie Royale de Belgique, Bulletin de la Classe des Sciences, Mémoires, collection 8 (3), 47.
Strohmeier, J., and Westbrook, P. 1999. Divine Harmony (Berkeley, Calif.: Berkeley Hills Books).
Stukeley, W. 1752. Memoirs of Sir Isaac Newton’s Life. Репринт 1936 (London: Taylor and Francis).
Summers, D. W. 1995. Notices of the American Mathematical Society, 42 (5), 528.
Swerdlow, N. 1998. В кн.: Machamer, P. (ред.). The Cambridge Companion to Galileo (Cambridge: Cambridge University Press).
Tabak, J. 2004. Probability and Statistics: The Science of Uncertainty (New York: Facts on File).
Tait, P. G. 1898. In Scientific Papers of Peter Guthrie Tait, vol. 1 (Cambridge: Cambridge University Press).
Tait, W. W. 1996. В кн.: Hart, W. D. The Philosophy of Mathematics (Oxford: Oxford University Press).
Tegmark, M. 2004. В кн.: Barrow, J. D., Davies, P. C. W., and Harper, C. L., Jr., (ред.). Science and Ultimate Reality (Cambridge: Cambridge University Press).
–. 2007a. “Shut Up and Calculate,” arXiv 0709.4024 [hep-th].
–. 2007b. “The Mathematical Universe,” arXiv 0704.0646 [gr-qc]. Tennant, N. 1997. The Taming of the True (Oxford: Oxford University Press).
Theon of Smyrna. Ca. 130 AD. Mathematics, Useful for Understanding Plato. Перевод R. Lawlor и D. Lawlor, 1979 (San Diego: Wizards Bookshelf).
Tiles, M. 1996. В кн.: Bunin, N., и Tsui-James, E. P. (ред.). The Blackwell Companion to Philosophy (Oxford: Blackwell Publishing).
Todhunter, I. 1865. A History of the Mathematical Theory of Probability (Cambridge: Macmillan and Co.).
Toffler, A. 1970. Future Shock (New York: Random House).
Trudeau, R. J. 1987. The Non-Euclidean Revolution (Boston: Birkhäuser).
Truesdell, C. 1960. The Rotational Mechanics of Flexible or Elastic Bodies, 1638–1788, Leonhardi Euler Opera Omnia, ser. II, vol. 11, part 2 (Zürich: Orell Füssli).
Turnbull, H. W., Scott, J. F., Hall, A. R., and Tilling, L. (ред.). 1959–77. The Correspondence of Isaac Newton (Cambridge: Cambridge University Press).
Urquhart, A. 2003. В кн.: Griffin, N. (ред.). The Cambridge Companion to Bertrand Russell (Cambridge: Cambridge University Press).
Vafa, C. 2000. В кн.: Arnold, V., Atiyah, M., Lax, P., and Mazur, B. (ред.). Mathematics: Frontiers and Perspectives (Providence, R. I.: American Mathematical Society).
Vandermonde, A. T. 1771. L’Histoire de l’Académie des Sciences avec les Memoires (Paris: Memoires de l’Academie Royale des Sciences).
Van der Waerden, B. L. 1983. Geometry and Algebra in Ancient Civilizations (Berlin: Springer-Verlag).
Van Heijenoort, J. (ред.). 1967. From Frege to Gödel: A Source Book in Mathematical Logic (Cambridge, Mass.: Harvard University Press).
Van Helden, A. 1996. Proceedings of the American Philosophical Society, 140, 358.
Van Helden, A., and Burr, E. 1995. The Galileo Project. http://galileo.rice.edu/index.html.
Van Stegt, W. P. 1998. In Mancosu, P., ed. From Brouwer to Hilbert: The Debate on the Foundations of Mathematics in the 1920s (Oxford: Oxford University Press).
Varley, R., Klessinger, N., Romanowski, C., and Siegal, M. 2005. Proceedings of the National Academy of Sciences (USA), 102, 3519.
Vawter, B. 1972. Biblical Inspiration (Philadelphia: Westminster).
Vilenkin, A. 2006. Many Worlds in One: The Search for Other Universes (New York: Hill and Wang).
Vitruvius, M. P. 1st century ВС. De Architectura. В кн.: Rowland, I. D., and Howe, T. N. (ред.). 1999. Ten Books on Architecture (Cambridge: Cambridge University Press).
Vlostos, G. 1975. Plato’s Universe (Seattle: University of Washington Press).
Von Gebler, K. 1879. Galileo Galilei and the Roman Curia. Перевод J. Sturge. Репринт 1977 года (Merrick, N. Y.: Richwood Publishing Company).
Vrooman, J. R. 1970. René Descartes: A Biography (New York: Putnam).
Waismann, F. 1979. Ludwig Wittgenstein and the Vienna Circle: Conversations Recorded by Friedrich Waismann. Под ред. B. McGuinness; перевод J. Schulte и B. McGuinness (Oxford: Basel Blackwell).
Wallace, D. F. 2003. Everything and More: A Compact History of Infinity (New York: W. W. Norton).
Wallis, J. 1685. Treatise of Algebra. Quoted in Manning, H. P. 1914. Geometry of Four Dimensions (London: Macmillan).
Wang, H. 1996. A Logical Journey: From Gödel to Philosophy (Cambridge, Mass.: MIT Press).
Washington, G. 1788. Letter to Nicholas Pike, June 20, 1788. В кн.: Fitzpatrick, J. C. (ред.). 1931–1944.
Writings of George Washington (Washington, D. C.: Government Printing Office). Цит. в Deutsch, K. L., and Nicgorski, W. (ред.). 1994. Leo Strauss: Political Philosopher and Jewish Thinker (Lanham, Md.: Rowman & Littlefield).
Wasserman, S. A., and Cozzarelli, N. R. 1986. Science, 232, 951.
Watson, R. 2002. Cogito, Ergo Sum: The Life of René Descartes (Boston: David R. Godine).
Weinberg, S. 1993. Dreams of a Final Theory (New York: Pantheon Books).
Wells, D. 1986. The Penguin Dictionary of Curious and Interesting Numbers (London: Penguin). Revised edition 1997.
Westfall, R. S. 1983. Never at Rest: A Biography of Isaac Newton (Cambridge: Cambridge University Press).
Whiston, W. 1753. Memoirs of the Life and Writings of Mr. William Whiston, Containing, Memoirs of Several of His Friends Also, 2nd ed. (London: Printed for J. Whiston and B. White).
White, L. A. 1947. Philosophy of Science, 14 (4), 289.
White, N. P. 1992. In Kraut, R., ed. The Cambridge Companion to Plato (Cambridge: Cambridge University Press).
Whitehead, A. N. 1911. An Introduction to Mathematics (London: Williams & Norgate). Репринт 1992 года (Oxford: Oxford University Press).
–. 1929. Process and Reality: An Essay in Cosmology. Переиздание – 1978 под ред. D. R. Griffin и D. W. Sherburne (New York: Free Press).
Whitehead, A. N., and Russell, B. 1910. Principia Mathematica (Cambridge: Cambridge University Press). Второе издание – 1927.
Wigner, E. P. 1960. Communications in Pure and Applied Mathematics, vol. 13, no. 1. Репринт в Saatz, T. L., and Weyl, F. J. (ред.) 1969. The Spirit and the Uses of the Mathematical Sciences (New York: McGraw-Hill).
Wilczek, F. 2006. Physics Today, 59 (November), 8.
–. 2007. Physics Today, 60 (May), 8.
Witten, E. 1989. Communications in Mathematical Physics, 121, 351.
Wolfram, S. 2002. A New Kind of Science (Champaign, Ill.: Wolfram Media).
Wolterstorff, N. 1999. В кн.: Sorell, T. (ред.). Descartes (Dartmouth: Ashgate).
Woodin, W. H. 2001a. Notices of the American Mathematical Society, 48 (6), 567.
–. 2001b. Notices of the American Mathematical Society, 48 (7), 681.
Wright, C. 1997. В кн.: Heck, R. (ред.). Language, Thought, and Logic: Essays in Honour of Michael Dummett (Oxford: Oxford University Press).
Zalta, E. N. 2005. “Gottlob Frege.” Stanford Encyclopedia of Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/frege/.
–. 2007. “Frege’s Logic, Theorem, and Foundations for Arithmetic.” Stanford Encyclopedia of
Philosophy, http://plato.stanford.edu/entries/frege-theorem/
Zweibach, B. A. 2004. A First Course in String Theory (Cambridge: Cambridge University Press).
Благодарности за предоставленные материалы
Автор и издатели признательны за разрешение опубликовать следующий материал.
РИСУНКИ
Рис. 1. Энн Филд.
Рис. 3. Криста Вилдт.
Рис. 4. Скотт Адамс, посредством «United Feature Syndicate, Inc».
Рис. 7. The Biblioteca Speciale di Matematica “Giuseppe Peano,” благодаря содействию Лауры Гарболино.
Рис. 8. С разрешения автора.
Рис. 9. Bibliothèque nationale de France, départment de la reproduction.
Рис. 12. С разрешения Уилла Ноэла и «Archimedes Palimpsest Project»
Рис. 13. С разрешения Роджера Л. Истона-мл.
Рис. 18. Из частной коллекции доктора Эллиота Хинкса. Получено благодаря содействию Библиотеки Милтона С. Эйзенхауэра, Университет Джонса Хопкинса.
Рис. 22. Агентство «Roger-Viollet», Париж.
Рис. 23. С разрешения Софи Ливио.
Рис. 29. Библиотека Чикагского университета, Центр исследования особых собраний, Джозеф Х. Шаффнер.
Рис. 30. Отдел особых собраний Библиотеки Милтона С. Эйзенхауэра, Университет Джонса Хопкинса.
Рис. 38. Библиотека Academia delle Scienze di Torino, получено благодаря содействию Лауры Гарболино.
Рис. 58. Стейси Бенн.
Рис. 59. С любезного разрешения Стивена Вассермана.
ТЕКСТ
Стр. 84. «Исчисление песчинок»: отрывок из перевода на английский язык «The Sand Reckoner» приводится в книге T. L. Heath, «The Works of Archimedes» (1897); перепечатано с разрешения издательства Cambridge University Press.
Стр. 218. «Напасть игры и благодать страховки»: отрывок из «The Vice of Gambling and the Virtue of Insurance» цитируется в книге J. R. Newman, «The World of Mathematics», vol. 3 (1956); перепечатан с разрешения издательства Simon & Schuster.
Стр. 289. «История о натурализации Курта Гёделя»: «History of the Naturalization of Kurt Gödel» печатается с разрешения Института передовых исследований в Принстоне, штат Нью-Джерси, и Дороти Моргенштерн Томас при содействии Маргарет Салливан.
1
Об этих трех мирах Пенроуз замечательно пишет в книгах «Новый ум короля» и «Путь к реальности».
2
К этой статье мы еще не раз вернемся на страницах нашей книги.
3
О законе Харди-Вайнберга в контексте см., например, Hedrick 2004.
4
Этот алгоритм тогда был засекречен, а впоследствии получил название RSA в честь Р. Ривеста, А. Шамира и Л. Адлемана из Массачусетского технологического института, которые независимо придумали его несколько лет спустя. См. Rivest, Shamir, and Adleman 1978.
5
Научно-популярные книги о симметрии и теории групп и о хитросплетениях их истории – «The Equation That Couldn’t Be Solved» (Livio 2005), Stewart 2007, Ronan 2006 и Du Sautoy 2008.
6
Чудесный популярный рассказ о возникновении теории хаоса см. в Gleick 1987.
7
Превосходное, хотя и сугубо научное описание этой задачи и ее решений можно найти в книге Applegate et al. 2007.
8
Популярное изложение пифагорейского учения см. в книге Strohmeier and Westbrook 1999.
9
О поразительных свойствах чисел превосходно рассказано в Wells 1986.
10
Подробно об истории и значении этого термина и о том, что означало это слово в разное время, см. Heath 1921. Математик Теон Смирнский (ок. 70–135 гг.) употреблял это слово применительно к фигурному выражению чисел, о чем говорится в его трактате «Изложение математических предметов, полезных при чтении Платона» (Theon of Smyrna ca. 130 AD).
11
Обратите внимание, что в этом комментарии Прокл ничего не говорит о собственных представлениях о том, был ли Пифагор первым, кто сформулировал эту теорему. История о быке упоминается в трудах Диогена Лаэрция, Порфирия и историка Плутарха (ок. 46–120 гг.). Все эти рассказы восходят к Аполлодору. Однако там говорится лишь о каком-то «знаменитом утверждении» и не уточняется, о каком именно утверждении идет речь. См. Laertius ca. 250 AD, Plutarch ca. 75 AD.
12
Такая космология основана на идее, что реальность возникла из Вещества (которое считалось неопределенным), подвергшегося воздействию Формы (то есть предела).
13
О вкладе пифагорейцев в научный прогресс и об их влиянии см. Huffman 1999, Riedweg 2005, Joost-Gaugier 2006, а также Huffman 2006 в Stanford Encyclopedia of Philosophy.
14
В рамках настоящей книги я не обсуждаю темы наподобие трансфинитных чисел и трудов Кантора и Дедекинда. Об этом прекрасно рассказано в популярных книгах Aczel 2000, Barrow 2005, Devlin 2000, Rucker 1995 и Wallace 2003.
15
Из одних названий книг и статей о Платоне можно, разумеется, составить целый том. Приведу лишь несколько трудов, которые представляются мне весьма познавательными. О Платоне вообще – Hamilton and Cairns 1961, Havelock 1963, Gosling 1973, Ross 1951, Kraut 1992. О Платоне и математике – Heath 1921, Cherniss 1951, Mueller 1991, Fowler 1999, Herz-Fischler 1998.
16
Речь была написана в 362 году н. э., однако о содержании надписи в ней ничего не говорится. Сам текст обнаружен в заметке на полях рукописи Элия Аристида. Заметка, вероятно, сделана оратором Сопратом, жившим в IV веке. Она гласит: «На фронтоне Платоновой школы было написано: “Не геометр да не войдет!”. Это вместо “несправедливый” или “нечестивый”, поскольку геометрия стремится к честности и справедливости». Видимо, из этой заметки следует, что слова «не геометр» заменяли у Платона слова «несправедливый или нечестивый человек» в надписи, которую обычно помещали над входом в святилища («Нечестивый да не войдет!»). Впоследствии эту историю рассказывали целых пять александрийских философов VI века, и она попала даже в книгу «Хилиады» эрудита XII века Иоанна Цеца (ок. 1110–1180). Подробнее об этом см. Fowler 1999.
17
Обзор многих безуспешных археологических попыток найти Академию дан в Glucker 1978.
18
Интересное обсуждение см. в Stewart 1905.
19
Интересное обсуждение платонизма и его места в философии математики см. в книгах Tiles 1996, Mueller 1992, White 1992, Russell 1945, Tait 1996. Превосходное популярное изложение можно найти в Davis and Hersh 1981, Barrow 1992.
20
Платон рассуждает об астрономии и движении планет в «Государстве» (Plato ок. 360 до н. э.), в «Тимее» и в «Законах». Следствия точки зрения Платона обсуждаются в Vlostos 1975 и Mueller 1992.
21
Это упомянуто в комментариях математика Евтокия (ок. 480–540) к сочинению Архимеда «Измерение круга»; см. Heiberg 1910–15.
22
Год рождения Архимеда определен на основании «Хилиад» византийского автора XII века Иоанна Цеца.
23
Римский архитектор Марк Витрувий Поллион (I в. до н. э.) приводит этот анекдот в своем трактате «De Architectura» (Vitruvius I century BC.) Он пишет, что Архимед погрузил в воду слиток золота и слиток серебра – оба точно такого же веса, что и венец. Таким образом, он обнаружил, что венец вытесняет больше воды, чем золото, но меньше, чем серебро. Легко показать, что разница объемов вытесненной воды позволяет рассчитать соотношение веса золота и серебра в венце. То есть, вопреки некоторым распространенным версиям легенды, Архимеду не пришлось прибегать при решении задачи о венце к законам гидростатики.
24
Томас Джефферсон в письме Жозе Коррея да Серра в 1814 году писал: «Хорошее мнение общества, подобно рычагу Архимеда, движет миром, стоит лишь найти верную точку опоры». Лорд Байрон упоминает об утверждении Архимеда в «Дон-Жуане». Кеннеди вставил эту фразу в свою предвыборную речь, которая цитировалась в «Нью-Йорк Таймс» 3 ноября 1960 года. Марк Твен приводит ее в статье «Архимед» (1887).
25
В октябре 2005 года группа студентов Массачусетского технологического института попыталась воспроизвести эту установку и сжечь корабль при помощи зеркал. Результаты оказались неубедительными: студенты сумели поддержать огонь на загоревшемся участке, но крупный пожар устроить не удалось. Похожий эксперимент, проведенный в Германии в сентябре 2002 года, показал, что поджечь корабельный парус при помощи 500 зеркал в принципе возможно. Подробнее о поджигательных зеркалах можно прочитать на сайте Михаэля Лаханаса http://www.mlahanas.de/.
26
Эти слова Архимеда упомянуты в «Хилиадах» Цеца, см. Dijksterhuis 1957. Плутарх просто говорит, что Архимед отказался следовать за воином к Марцеллу, пока не решит задачу, которой был поглощен (Plutarch ca. 75 AD).
27
Прекрасная книга о трудах Архимеда – «The Works of Archimedes» (Heath 1897). Кроме того, великолепные обзоры приведены в Dijksterhuis 1957 и Hawking 2005.
28
Чудесное описание истории проекта «Палимпсест» дано в Netz and Noel 2007.
29
Уилл Ноэл, директор проекта, устроил мне встречу с Уильямом Кристенсом-Барри, Роджером Истоном и Кейт Нокс. Эта группа разработала узкополосную систему построения изображений и придумала алгоритм, при помощи которого можно хотя бы отчасти выявлять текст. Методы обработки изображений разрабатывали также Анна Тонаццини, Луиджи Бедини и Эмануэле Салерно.
30
Прекрасный рассказ об истории и значении интегрального и дифференциального исчисления см. у Berlinski 1996.
31
Cicero 1st century BC. Научный анализ текста Цицерона, его структуры, риторических особенностей и символизма см. у Jaeger 2002.
32
Авторитетная современная биография – S. Drake, «Galileo at Work» (Drake 1978). Более популярное изложение – J. Reston, «Galileo: A Life» (Reston 1994). См. также Van Helden and Burr 1995. Полное собрание сочинений Галилея (на итальянском языке) – Favaro 1890–1909.
33
Из трактата «La Bilancetta» («Маленькое равновесие»), Galilei 1586
34
Galileo 1589–1592 (Galilei 1600a and Galilei 1600b). Ч. Б. Шмитт предполагает (Schmitt 1969, вслед за D. A. Maklich), что утверждение Галилея может быть результатом того, что рука, держащая свинцовый шар, устает сильнее, чем рука, держащая деревянный шар, а поэтому разжать пальцы и бросить деревянный шар получается быстрее. Прекрасный обзор верных идей Галилея относительно падающих тел приводят Frova and Marenzana 1998 (перевод на английский вышел в 2006 году). Великолепный рассказ о физических воззрениях Галилея можно найти в Koyré 1978.
35
Подробный разбор методов и мыслительного процесса Галилея можно найти в Shea 1972 и в Machamer 1998.
36
Galileo 1589–1592. Галилей выступает со всесторонней критикой Аристотеля в трактате «De Motu». См. Galilei 1600a, b.
37
Биография Виргинии, которая впоследствии была известна как сестра Мария-Селеста, замечательно изложена в книге Dava Sobel, «Galileo’s Daughter» (Sobel 1999).
38
Galilei 1610 a, b. Прекрасное описание работы над созданием телескопа можно найти в Reeves 2008.
39
Swerdlow 1998. Подробнее об открытиях, которые Галилей сделал при помощи телескопа, см. Shea 1972, Drake 1990.
40
Популярное и весьма увлекательное описание открытий Галилея, а также история телескопа в целом изложены в Panek 1998.
41
О коперниковских взглядах Галилея подробно рассказано в Shea 1998 и Swerdlow 1998.
42
Письмо было адресовано тосканскому послу в Праге, однако Галилей приложил к нему анаграмму с просьбой передать Кеплеру.
43
Он даже написал Галилею: «Молю вас не оставлять нас надолго в сомнениях по поводу значения вашего послания. Ведь вы же сами понимаете, что имеете дело с настоящими немцами. Только представьте себе, как меня огорчает ваше молчание». Цит. по Caspar 1993.
44
Об этом эпизоде подробно рассказано в Shea 1972.
45
Сегетт (1570–1627) учился вместе с Галилеем в Падуе. Эпиграмма, написанная на латыни, приводится в «Le Opere» Фаваро (Favaro 1890–1909). Прекрасный обзор стихов о телескопах можно найти в «Современной филологии» Николсона (Nicolson 1935).
46
Упоминается в «Considerazioni» ди Грациа (1612), приведено также в «Opere di Galileo» Фаваро (Favaro 1890–1909, vol. 4, p. 385).
47
Вся история споров о природе солнечных пятен прекрасно изложена в Van Helden 1996 и в Swerdlow 1998. См. также Shea 1972.
48
Антонио Фаваро, редактор всех трудов Галилея, обнаружил, что большие фрагменты рукописи Гвидуччи, содержащие тексты лекций, были написаны почерком Галилея. «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки», Galilei 1638.
49
Превосходный разбор мнений Галилея об отношениях науки и Писания можно найти в Feldberg 1995 и в McMullin 1998.
50
Приводится также в Gebler 1879.
51
А богослов Мельчор Кано в 1585 году заявил, что «Не только слова [Писания], но даже каждая запятая его дарована Святым Духом» (Цит. в Vawter 1972).
52
Подробное описание можно найти у Redondi 1998. «Диалог о двух важнейших системах мира» – Galilei 1632.
53
Биографий Декарта написано множество. Классической считается Baillet 1691. Мне показались весьма полезными также Vrooman 1970 и достаточно свежее жизнеописание Rodis-Lewis 1998. Bell 1937 дает краткий, но прекрасный обзор. Очень интересны книги Finkel 1898, Watson 2002 и Grayling 2005.
54
Нет никаких сомнений, что в тот день Декарт и в самом деле повстречал Бекмана, однако Бекман в своем дневнике не пишет ни слова о задаче на доске. Он лишь говорит, что Декарт «всеми силами старался доказать, что в реальности такого угла не существует». См. Gaukroger 2002.
55
Большинство биографов считают, что сны приснились Декарту в городе Ульм в княжестве Нойбург. Сам Декарт описал их в дневнике, который видели его первые биографы. До нас дошло лишь несколько переписанных отрывков. Сам Декарт рассказывает о впечатлении от этих снов в своем «Рассуждении о методе» (Adam and Tannery 1897–1910). Относительно полное описание снов и их возможных толкований можно найти у Grayling 2005 и Cole 1992.
56
Письмо Пьеру Шаню, французскому послу в Швеции, а также философу-любителю. Adam and Tannery 1897–1910.
57
Первоначально он был похоронен на кладбище Норд-Мальме. Когда останки перевозили во Францию, появились слухи, что часть их, в том числе череп, осталась в Швеции (Adam and Tannery 1897–1910). Во Франции останки были сначала похоронены в аббатстве Сен-Женевьев, потом в монастыре августинок. Наконец останки упокоились в часовне Сен-Бенуа собора Сен-Жермен-де-Пре, где находятся и сейчас. Найти могилу было непросто, поскольку я не мог представить себе, что Декарта не похоронят отдельно от всех. На самом деле в той же часовне похоронено еще два бенедиктинца – Мабильон и Монфокон, а стоит там только бюст Мабильона.
58
Интересная точка зрения приведена у Balz 1952.
59
Стандартное, авторитетное собрание трудов Декарта – Adam and Tannery 1897–1910. В основном я цитирую именно этот источник. Отдельные работы существуют в разных переводах, например, Veitch’s 1901 «The Philosophy of Descartes», куда входят «Discourse on Method», «Meditations» и «Principles of Philosophy». О философии науки по Декарту см. также Clarke 1992.
60
Прекрасное введение в философию Декарта в целом можно найти в Cottingham 1986. Обсуждение картезианских сомнений и следующего из них принципа «Cogito» см. у Wolterstorff 1999, Ricoeur 1996, Sorell 2005, Curley 1993 и Beyssade 1993.
61
Descartes 1637. Один из переводов всей книги целиком – издание P. J. Olscamp (Descartes 1637a). Прекрасный английский перевод «Геометрии» с факсимиле первого издания – «The Geometry of René Descartes» (перевод D. E. Smith, M. L. Latham; Descartes 1637b).
62
Математические достижения Декарта прекрасно описаны в Rouse Ball 1908. Отличная научно-популярная книга о жизни и деятельности Декарта – Aczel 2005. Уровень абстракции в алгебре Декарта проанализирован в Gaukroger 1992.
63
Насколько Декарт был убежден в существовании «законов природы», видно из письма, которое он написал Мерсенну в мае 1632 года: «Теперь я осмелел настолько, что ищу причину положения каждой звезды на небосклоне. Ведь хотя распределение их кажется случайным и они находятся в разных частях Вселенной, у меня нет сомнений, что между ними существует некий природный порядок, определенный и периодический».
64
Adam and Tannery 1897–1910. См. также Miller and Miller 1983. Хорошее всестороннее изложение физики Декарта можно найти в Garber 1992. Более общее описание естественно научных взглядов Декарта см. в Keeling 1968.
65
Монумент воздвигнут в 1731 году. Он создан фламандским скульптором Михаэлем Райсбраком по поручению Уильяма Кента. Помимо статуи самого Ньютона, который опирается на тома своих трудов, в композицию входят фигуры купидонов с эмблемами важнейших открытий Ньютона. За саркофагом стоит пирамида, на которую водружена сфера с изображением нескольких созвездий, а также траектории кометы 1681 года.
66
Невозможно сказать наверняка, хотел ли Ньютон этими словами задеть своего корреспондента. Р. К. Мертон обнаружил, что выражение «на плечах гигантов» во времена Ньютона использовалось довольно часто (Merton 1993).
67
Вся переписка Ньютона издана в собрании Turnbull, Scott, Hall, and Tilling 1959–1977 – поистине титанический труд.
68
Этот спор подробнейшим образом описан в нескольких превосходных биографиях Ньютона, в том числе Westfall 1983, Hall 1992 и Gleick 2003.
69
В эссе, опубликованном в 1674 году, Гук писал о гравитации, что ее «притягательная сила действует гораздо сильнее, если приблизить друг к другу центры взаимодействующих тел». То есть мыслил Гук в верном направлении, но не сумел выразить свои соображения математически.
70
Существует несколько прекрасных переводов ньютоновых «Principia» на английский, в том числе Motte 1729 и Cohen and Whitman 1999 (см. Newton 1729). Самое доступное издание с полезными примечаниями – это отредактированное и дополненное издание Чандрасекара (Chandrasekhar 1995). Концепция закона всемирного тяготения и его история подробно обсуждаются в Girifalco 2008, Greene 2004, Hawking 2007 и Penrose 2004.
71
Stukeley 1752. Помимо полных биографий, существуют и небольшие книги, описывающие те или иные эпизоды из жизни Ньютона и его родных. Я бы отметил De Morgan 1885 и Craig 1946.
72
Дэвид Брюстер в биографии Ньютона писал: «Знаменитая яблоня, падение одного из плодов которой, как говорят, привлекло внимание Ньютона к тяготению, года четыре назад была повалена ветром, однако мистер Тернор [владелец дома Ньютона в Вулсторпе] сохранил ее, сделав из нее кресло» (Brewster 1831).
73
О том, как Ньютон изучал математику, хорошо рассказано в книге Hall 1992.
74
Эта заметка хранится в архиве графа Портсмута. Есть и другие документы, заставляющие сделать вывод, что Ньютон и в самом деле обдумывал закон всемирного тяготения, обратно пропорционального квадрату расстояния, во время эпидемии чумы. См., например, Whiston 1753.
75
Исследование причин, по которым Ньютон так долго не публиковал закон всемирного тяготения, см. в Cajori 1928 и Cohen 1982. В следующем разделе мы рассмотрим два самых убедительных, по моему мнению, предположения о том, каковы могли быть эти причины.
76
Де Муавр вспоминал, что ему рассказывал сам Ньютон.
77
В числе прочих это предположение высказано в Cohen 1982.
78
В «Началах» он пишет о Боге так: «Он вездесущ не по свойству только, но по самой сущности… Поэтому он весь – глаз, весь – ухо, весь – мозг, весь – рука, весь – сила чувствования, разумения и действования». В рукописи, созданной в начале 1700 годов, проданной на аукционе «Сотби» в 1936 году и выставленной в Иерусалиме в 2007 году, Ньютон на основании библейской Книги пророка Даниила вычислил дату конца света. Если вас это тревожит, имейте в виду: Ньютон пришел к выводу, что нет никаких причин ожидать Апокалипсиса до 2060 года.
79
Прекрасное современное изложение истории этих аргументов и оценку ее логической обоснованности можно найти в Dennett 2006, Dawkins 2006 и Paulos 2008.
80
Исключительно доступное изложение сути математического анализа можно найти в Berlinski 1996, Kline 1967 и Bell 1951. Книга, требующая от читателя некоторой подготовки, но, тем не менее, превосходная – Kline 1972.
81
Некоторые достижения этой незаурядной семьи изложены в Maor 1994, Dunham 1994. См. также «Bernoulli-Edition» – англоязычную версию проекта можно найти по ссылке http://static.springer.com/sgw/documents/169442/application/pdf/Bernoulli2005web.pdf.
82
Превосходное описание этой задачи, а особенно – решения, которое предложил Гюйгенс, дано в Bukowski 2008. Решения Бернулли, Лейбница и Гюйгенса приведены в Truesdell 1960.
83
Прекрасные описания жизни и деятельности Граунта можно найти в Hald 1990, Cohen 2006 и Graunt 1662.
84
Статья приведена в Newman 1956.
85
Цит. по Newman 1956. Итог трудам Бернулли подведен в Todhunter 1865.
86
Две прекрасные книги о Кетле и его трудах – Hankins 1908 и Lottin 1912. Относительно лаконичные, но, тем не менее, информативные заметки можно найти в Stigler 1997, Krüger 1987 и Cohen 2006.
87
В своей статье о склонности к правонарушениям Кетле писал: «Если бы удалось вывести среднего человека для какого-то народа, он представлял бы тип этого народа, если бы его удалось вывести из случайного собрания людей, он представлял бы весь род человеческий»
88
О деятельности Гальтона и Пирсона популярно рассказано в Kaplan and Kaplan 2006.
89
В число недавно опубликованных популярно-развлекательных книг о теории вероятности, ее истории и сферах применения входят Aczel 2004, Kaplan and Kaplan 2006, Connor 2006, Burger and Starbird 2005 и Tabak 2004.
90
Превосходное краткое и популярное изложение некоторых важнейших принципов теории вероятности можно найти в Kline 1967.
91
О применимости теории вероятности во множестве реальных жизненных ситуаций прекрасно рассказано в Rosenthal 2006.
92
Превосходная биография Менделя – Orel 1996.
93
Mendel 1865. Перевод на английский можно найти, например, на сайте http://www.mendelweb.org.
94
Краткое описание некоторых его достижений см. в Tabak 2004. Очень хороша оригинальная популярная статья Фишера «Математика дамы, пробующей чай» о методиках постановки экспериментов (Fisher 1956).
95
Великолепный перевод на английский – Bernoulli 1713b.
96
Приводится в Newman 1956.
97
Статья «The Vice of Gambling and the Virtue of Insurance» приведена в Newman 1956.
98
Памфлет написан в 1734 году. Версия под редакцией Дэвида Уилкинса доступна в Интернете, см. Berkeley 1734.
99
По Канту, одна из основных задач философии – объяснить возможность синтетического априорного знания математических понятий. Среди прочих работ на эту тему хотелось бы отметить Höffe 1994 и Kuehn 2001. Хороший обзор представлений о применении математики можно найти в Trudeau 1987.
100
Относительно щадящее введение в евклидову и неевклидовы геометрии см. у Greenberg 1974.
101
Теоремы, доказанные без пятого постулата, анализируются в Trudeau 1987.
102
Прекрасное описание всех попыток, которые в конце концов привели к разработке неевклидовой геометрии, можно найти в Bonola 1955.
103
Жизнь и деятельность Яноша Бойяи описаны в Gray 2004. Портрет математика я не включил в эту книгу, поскольку есть сомнения в том, что на картине, которую обычно приводят, изображен именно он. Очевидно, единственное сколько-нибудь достоверное изображение – это рельеф на фасаде Дворца культуры в городе Тыргу-Муреш.
104
Факсимиле латинского оригинала и перевод на английский Джорджа Брюса Хальстеда см. в Gray 2004.
105
Прекрасный рассказ об этом случае с точки зрения жизни и деятельности Гаусса можно найти в Dunnington 1955. Сжатое, но точное описание притязаний Лобачевского и Бойяи на приоритет дано в Kline 1972. Выдержки из переписки Гаусса по поводу неевклидовой геометрии представлены в Ewald 1996.
106
Перевод на английский этой лекции наряду с другими основополагающими работами по неевклидовым геометриям с полезнейшими примечаниями можно найти в Pesic 2007.
107
Wallis 1685. Краткое описание жизни и деятельности Валлиса можно найти в Rouse Ball 1908.
108
Краткая история вопроса дана в Cajori 1926.
109
Статья вошла в «Энциклопедию» Дидро. Цит. по Archibald 1914.
110
Прекрасную биографию с описанием научной деятельности Грассмана (на немецком языке) можно найти в Petsche 2006. Краткое изложение его открытий можно найти в O’Connor and Robertson 2005.
111
Относительно доступное, хотя все же рассчитанное на специалистов описание его трудов по линейной алгебре можно найти в Fearnley-Sander 1979 и 1982.
112
Хороший ознакомительный текст – Sommerville 1929.
113
Текст приведен в Ewald 1996.
114
Высказывания Кантора и Дедекинда приведены в Ewald 1996.
115
Первое письмо Стилтьеса Эрмиту датировано 8 ноября 1882 года. Переписка математиков состоит из 432 писем. Полностью она приведена в Hermite 1905.
116
Полный текст лекции приводится в O’Connor and Robertson 2007.
117
Парадокс деревенского цирюльника описан в самых разных книгах. См., например, Quine 1966, Rescher 2001 и Sorensen 2003.
118
Russell 1919. Здесь Рассел представляет свои идеи о логике в относительно популярном виде.
119
Интуиционистская программа Брауэра прекрасно пересказана в van Stegt 1998. Превосходное популярное описание – Barrow 1992. Дебаты между формалистами и интуиционистами популярно описаны в Hellman 2006.
120
Даммит добавляет, что «индивидуум не может коммуницировать то, что невозможно коммуницировать так, чтобы эту коммуникацию нельзя было пронаблюдать: если индивидуум ассоциирует с математическим символом или формулой какое-то ментальное содержание, то в случае, если ассоциация не лежит в области применения, которое он находит этому символу или формуле, он не может передать содержание средством этого символа или формулы, поскольку его аудитория не будет ничего знать об этой ассоциации, и у нее не будет никакой возможности узнать о ней» (Dummett 1978).
121
Необычайно простое и доступное введение в логику см. в Bennett 2004. Более специализированное, но все же блистательное – Quine 1982. Хороший обзор истории логики можно найти в 15-м издании «Encyclopaedia Britannica» (его написал Чеслав Леевский).
122
Сжатое, но глубокое описание жизни и деятельности де Моргана дано в Ewald 1996.
123
Подробная биография Буля – MacHale 1985.
124
Буль пришел к заключению, что если речь идет о вере в существование Бога, то основанные исключительно на вере нелогичные «тщетные шаги разума, ограниченного и в средствах, и в материалах познания, не более целесообразны, чем честолюбивые попытки добиться определенности, на почве естественной религии недостижимой».
125
Frege 1879. Это одна из самых важных работ в истории логики.
126
Общее изложение идей и языка Фреге см. в Resnik 1980, Demopoulos and Clark 2005, Zalta 2005 и 2007 и Boolos 1985. Прекрасный общий обзор математической логики – DeLong 1970.
127
Парадокс Рассела, его следствия и возможные выходы из положения обсуждаются, например, в Boolos 1999, Clark 2002, Sainsbury 1988 ии Irvine 2003.
128
Whitehead and Russell 1910. Популярный, но очень познавательный сжатый пересказ содержания «Оснований» см. Russell 1919.
129
Сравнение идей Рассела и Фреге см. в Beaney 2003. Обзор логицизма Рассела см. в Shapiro 2000 и Godwyn and Irvine 2003.
130
Прекрасное разъяснение можно найти в Urquhart 2003.
131
Теория типов и в самом деле уже не пользуется благосклонностью большинства математиков. Однако очень похожая конструкция постоянно находит себе применение в программировании. См., например, Mitchell 1990.
132
Описание научных достижений Цермело см. в Ewald 1996.
133
Переводы статей Цермело, Френкеля и логика Туральфа Скулема на английский язык можно найти в van Heijenoort 1967. Относительно щадящее введение в теорию множеств и систему аксиом Цермело-Френкеля см. в Devlin 1993.
134
Подробнейшее обсуждение этой аксиомы см. в Moore 1982.
135
Кантор придумал способ сравнивать мощность бесконечных множеств. В частности, он доказал, что мощность множества вещественных чисел больше, чем множества целых. Затем он сформулировал континуум-гипотезу, согласно которой не существует множества, мощность которого лежит строго между мощностями множеств целых и вещественных чисел. Когда Давид Гильберт в 1900 году составил свой знаменитый список нерешенных проблем математики, вопрос о том, верна ли континуум-гипотеза, стоял на первом месте. Относительно недавнее обсуждение этой проблемы можно найти в Woodin 2001a, b.
136
Прекрасное описание программы Гильберта можно найти в Sieg 1988. Превосходный обзор истории математики до наших дней и разбор противоречий между логицизмом, формализмом и интуиционизмом представлены в Shapiro 2000.
137
Эту лекцию Гильберт прочитал в Лейпциге в сентябре 1922 года. Текст опубликован, в частности, в Ewald 1996.
138
Хороший обзор формализма как учения – Detlefsen 2005.
139
Прекрасную биографию Витгенштейна написал Рэй Монк (Monk 1990).
140
Недавно составленная биография Гёделя – Goldstein 2005. Стандартной биографией считается Dawson 1997.
141
В число прекрасных книг о теоремах Гёделя, их смысле и связи с другими отраслями знания входят Hofstadter 1979, Nagel and Newman 1959 и Franzén 2005.
142
Подробное описание философских воззрений Гёделя и того, как он соотносил философские идеи с основами математики, см. в Wang 1996.
143
Очевидно, что это колоссальное упрощенчество, дозволительное лишь в популярной книге. На самом же деле серьезные попытки оправдать логицизм продолжаются по сей день. Обычно они предполагают, что многие математические истины познаваемы априорно. См., например, Wright 1997 и Tennant 1997.
144
Интересная книга о вязании морских узлов – Ashley 1944.
145
Vandermonde 1771. Превосходный обзор истории теории узлов можно найти в Przytycki 1992. Введение в саму теорию, изложенное живо и весело, представлено в Adams 1994. Популярные книги по этой теме – Neuwirth 1979, Peterson 1988 и Menasco and Rudolph 1995.
146
Прекрасный обзор представлен в Sossinsky 2002 и Atiyah 1990.
147
Tait 1898, Sossinsky 2002. Краткую и отлично написанную биографию Тэта можно найти в O’Connor and Robertson 2003.
148
Сугубо научное, но все же элементарное введение в топологию – Messer and Straffin 2006.
149
В частности, математик Луис Кауфман показал, что есть связь между многочленом Джонса и статистической физикой. Kauffman 2001 – превосходная, однако сугубо научная книга о применении многочлена Джонса в физике.
150
О теории узлов и роли ферментов прекрасно рассказано в Summers 1995. См. также Wasserman and Cozzarelli 1986.
151
Великолепное популярное введение в теорию струн и описание всех ее сильных и слабых сторон – Greene 1999, Randall 2005, Krauss 2005 и Smolin 2006. Научное введение в теорию струн – Zweibach 2004.
152
Atiyah 1989; более подробно – Atiyah 1990.
153
Основные идеи общей и специальной теории относительности описаны во множестве работ. Перечислю лишь некоторые, особенно мне полюбившиеся: Davies 2001, Deutsch 1997, Ferris 1997, Gott 2001, Greene 2004, Hawking and Penrose 1996, Kaku 2004, Penrose 2004, Rees 1997 и Smolin 2001. Недавно вышла чудесная книга с превосходным описанием и Эйнштейна как человека, и его идей – Isaacson 2007. Однако великолепные книги об Эйнштейне и его мировоззрении, разумеется, публиковались и раньше: Bodanis 2000, Lightman 1993, Overbye 2000 и Pais 1982. Прекрасное собрание статей Эйнштейна – Hawking 2007.
154
Прекрасное описание можно найти в Weinberg 1993.
155
Один из лучших обзоров диспутов о природе математики можно найти в Barrow 1992. Несколько более научный, но все же доступный очерк основных идей дан в Kline 1972.
156
Многие темы этой книги прекрасно раскрыты в Barrow 1992.
157
Подробнейшее описание понятия золотого сечения, его истории и свойств см. в Livio 2002, а также в Herz-Fischler 1998.
158
Интересные идеи по этому поводу изложены в статье Иегуды Рава в Hersh 2000.
159
Популярно об этом рассказано в Hockett 1960.
160
Доступное и хорошо изложенное обсуждение вопросов нейролингвистики можно найти у Obler and Gjerlow 1999.
161
Схожесть языка и математики обсуждается в Sarrukai 2005 и Atiyah 1994.
162
Chomsky 1957. Если вас больше интересует лингвистический аспект, можно найти прекрасное описание в Aronoff and Rees-Miller 2001. Очень интересная научно-популярная точка зрения представлена в Pinker 1994.
163
Тегмарк выделяет четыре различных типа параллельных вселенных. Вселенные «Уровня I» – это вселенные с теми же законами физики, но иными начальными условиями. На «Уровне II» находятся вселенные с теми же физическими равенствами, но, вероятно, с другими фундаментальными постоянными. На «Уровне III» задействована «многомировая интерпретация» квантовой механики, а на «Уровне IV» – другие математические структуры. Tegmark 2004, 2007b.
164
Превосходный обзор этой темы см. в Vilenkin 2006.
165
Некоторые мнения я не обсуждаю. Например, Стейнер (Steiner 2005) утверждает, что Вигнер не доказывает, что примеры, которые он приводит, имеют какое-то отношение к тому, что эти понятия именно математические.
166
Gross 1988. Более углубленный разбор отношений между физикой и математикой можно найти в Vafa 2000.
167
См. превосходную статью Херша в сборнике Hersh 2000.
168
Сочинения самого Кеплера – Kepler 1981 и 1997 – само по себе интереснейшее чтение по истории науки. Существует несколько прекрасных биографий Кеплера, в том числе Caspar 1993 и Gingerich 1973.
169
Интересное обсуждение применимости математики приведено в Raymond 2005. Глубокий разбор загадки Вигнера с разных точек зрения можно найти в Wilczek 2006, 2007.