Книга: Последний секрет плащаницы
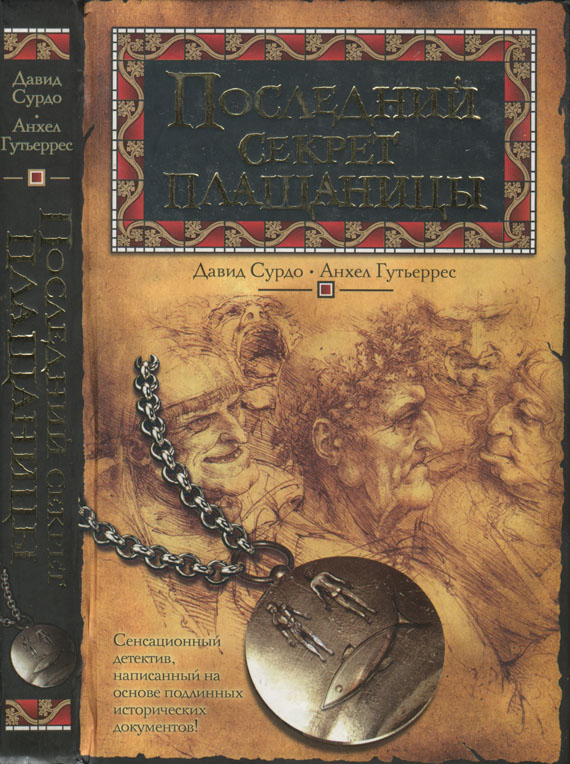
Последний секрет плащаницы
Посвящается человеку, запечатленному на плащанице.
Non nobis Domine sed Nomini tuo da Gloriam[1].
В конце XIX века у моста Понт-о-Шанж в Сене был найден странный свинцовый медальон с выгравированными на нем гербами домов Шарни и Вержи и изображением святой плащаницы Христовой.
Профессор Сорбонны, к которому попала находка, тщательно изучил медальон и обнаружил внутри его загадочное послание тамплиеров.
В настоящее время копию медальона можно видеть в музее Клюни.
1502, Флоренция, Рим
Мягкие лучи утреннего солнца слегка золотили воду в фонтане на пьяцца делла Синьория — той самой площади, где несколько лет назад был сожжен на костре проповедник Савонарола и где вскоре предстояло появиться огромной статуе Давида, высеченной Микеланджело. Вокруг фонтана неспешно прогуливался опрятно одетый человек в накинутом на плечи просторном красном плаще. Он был полностью поглощен своими мыслями и, казалось, не замечал ничего вокруг — ни грохота колес проезжавших по мостовой экипажей, ни голосов торговок и лавочников, ни всеобщей суеты, царившей на площади, где находились Палаццо Веккио и Лоджия Орканьи. У этого человека была благородная осанка и красивое одухотворенное лицо. Окладистая серебристая борода, глубокий взгляд и величественная походка придавали ему почтенность. Это был пятидесятилетний Леонардо да Винчи — божественный мастер, вот уже несколько месяцев состоявший на службе у Чезаре Борджиа в должности военного инженера.
В то утро Леонардо размышлял о новом заказе, недавно полученном от Борджиа. Предстояла трудная, технически сложная работа, требовавшая не только художественного мастерства, но и научных знаний. Чезаре был самого высокого мнения о способностях Леонардо, который уже хорошо зарекомендовал себя на новой службе, успешно спроектировав оборонительные сооружения вокруг принадлежавших Борджиа крепостей в Романье. Однако новый заказ был совершенно из ряда вон выходящим: мастер даже не знал, сможет ли его выполнить. К тому же заказ этот следовало держать в строжайшем секрете…
По мере того как яркое летнее солнце приближалось к зениту, суета на площади постепенно стихала. Был полдень, и почти все горожане либо обедали, либо отдыхали от утренних трудов. Леонардо же — по-прежнему спокойно и неторопливо — продолжал ходить вокруг фонтана, устремив свой безмятежный задумчивый взгляд куда-то вдаль.
Внезапно он поднял широко раскрытые глаза к солнцу, и его зрачки сузились от яркого света. Ослепленный, да Винчи опустил голову и сосредоточенно уставился на мостовую, словно пораженный какой-то мыслью. Он постоял неподвижно несколько секунд — и вдруг стремительно пошел прочь с площади. На лице его было написано юношеское воодушевление.
Леонардо пересек площадь, пройдя мимо Палаццо Веккио и огромных арок Лоджии, и направился к своей мастерской, находившейся неподалеку. Свернув за угол, он чуть было не попал под проезжавший экипаж, но даже это не заставило его замедлить шаг. Мастер мчался как одержимый — вероятно, подгоняемый внезапно нахлынувшим вдохновением. Обычно он был нетороплив, спокоен и задумчив, но когда какая-нибудь идея всецело завладевала им, он мог вести себя как восторженный, неугомонный юнец. Леонардо то работал, не зная усталости, то проводил целые часы и даже дни в созерцательном размышлении. Художественный дар да Винчи был лишь частью его гениальности, другой же ее стороной была склонность к интеллектуальной рефлексии. Именно поэтому Леонардо приобрел репутацию художника медлительного и скрупулезного: он действительно работал очень медленно, и на создание одного произведения у него могло уйти несколько лет — как на знаменитую «Тайную вечерю», фреску в трапезной монастыря Санта-Мария делле Грацие в Милане.
Однако на этот раз времени не было… Неделю назад патрон вызвал Леонардо в Рим (хотя художник находился на службе у Чезаре, а семейство Борджиа было крайне непопулярно во Флоренции, Леонардо все же добился разрешения остаться в этом городе, находившемся неподалеку от его родного Винчи). Глубокой ночью его разбудил посыльный от Борджиа: Леонардо должен был немедленно собраться и отправиться вместе с ним.
По своей натуре да Винчи был миролюбив, но имел независимый нрав, и у него всегда вызывала досаду необходимость подчиняться капризам тех влиятельных лиц, на службе у которых он состоял или чьим покровительством пользовался. Иметь дело с Чезаре Борджиа было труднее всего. Молва об ужасных преступлениях этого человека окутывала его личность зловещим ореолом. С ним всегда следовало быть настороже, однако узнать, какие мысли таились в его голове, все равно было невозможно: Чезаре никогда не позволял своим истинным чувствам и намерениям пробиваться наружу. Это был очень хитрый и проницательный человек, скрывавший свое настоящее лицо под непроницаемой маской интригана и циника.
По прибытии в Рим Леонардо сразу же был доставлен в Ватиканский дворец — резиденцию папы римского, где художника уже с нетерпением ожидали Чезаре и его отец Родриго — понтифик Александр VI. В эти годы да Винчи уже пользовался известностью в Италии, Франции и в других странах Европы. Его ценили как великого художника и талантливого инженера, славившегося своей изобретательностью, что заставляло властей предержащих обращаться с ним уважительно. Даже Борджиа, привыкшие пренебрежительно относиться к зависимым от себя людям, вели себя с Леонардо довольно любезно.
В тот день отец и сын Борджиа были крайне возбуждены и взволнованы: план, задуманный ими некоторое время назад, внезапно осуществился, когда они еще этого и не ждали. Вся эта история началась с того, что из книг и документов, хранившихся в библиотеке Ватикана, Чезаре узнал о чудесных свойствах святой плащаницы — савана с нерукотворным изображением Иисуса Христа. Согласно преданию, это была та самая плащаница, в которую тело умершего на кресте Спасителя было завернуто перед положением во гроб. С середины XV века плащаница принадлежала одной из могущественнейших итальянских династий — герцогам Савойским, получившим эту реликвию в дар от ее прежних хранителей — французских графов де Шарни.
Чезаре решил завладеть этой святыней, полагая, что она увеличит и укрепит его могущество и, возможно, даже смоет с него пятно его многочисленных злодеяний. Однако герцоги Савойские являлись врагами Борджиа, и врагами могущественными, у которых, казалось бы, невозможно было отнять столь драгоценную реликвию. Как бы то ни было, в коварном и изощренном уме Чезаре созрел план похищения. Он решил сыграть на одной из самых низменных слабостей человека — сладострастии, и его расчет оказался верным.
План состоял в том, чтобы подослать к Карлу, юному сыну Филиберто, герцога Савойского, красивую молодую женщину, распутную и расчетливую. Она должна была обольстить юношу и, когда он потеряет голову от страсти, попросить его показать ревностно охраняемую семьей реликвию. Затем, продолжая опутывать Карла своими сетями и усыпляя его бдительность, женщина должна была, улучив удобный момент, похитить плащаницу и бежать с ней из Шамбери.
Все получилось именно так, как было задумано — и даже раньше, чем предполагал Чезаре. Совсем еще юный Карл Савойский легко попался в сети коварной женщины, подосланной к нему Борджиа. Он по своей юношеской наивности поверил лживой обольстительнице — и драгоценная реликвия была похищена. Реакцию герцогов Савойских и их первые действия Чезаре также предугадал верно. В первую очередь они постарались сохранить все случившееся в тайне, чтобы не бросить тень на доброе имя своего сына и не вызвать возмущения народа, чтившего плащаницу как великую святыню, хотя она выставлялась для поклонения крайне редко. В то же время было начато тайное расследование с целью выяснить, кто стоит за этим дерзким похищением: все говорило о том, что похитительница была лишь пешкой и действовала по указанию кого-то другого. В одиночку она не смогла бы разработать подобный план, раздобыть всю нужную информацию для осуществления своего замысла и достать фальшивые пропуска для проникновения на территорию герцогства. Борджиа опасались, что рано или поздно герцоги Савойские наткнутся на верный след, и именно это было причиной их беспокойства: нужно было как можно скорее сделать копию святой плащаницы — и такую точную, чтобы никто не смог разглядеть в ней подделку. Тогда, заявив, что им удалось схватить воровку на своей территории, они вернули бы законным владельцам копию, оставив подлинник себе. Таким образом они спокойно присвоили бы плащаницу, избежав конфликта с Савойским домом, который к тому же остался бы перед ними в долгу за ее «возвращение».
Для успеха всего этого предприятия требовалось лишь изготовить подделку. Чезаре не был специалистом в живописи, но как человек Ренессанса — умный и образованный — он прекрасно понимал, насколько трудно будет это осуществить — создать точную копию савана с едва различимым, но поражающим до глубины души изображением Христа. Чезаре знал: если создание такой копии вообще возможно, то изготовить ее мог только Леонардо — известнейший в Италии художник, изобретательный ученый и искуснейший живописец, мастер сфумато.
— Добро пожаловать, дорогой маэстро, — сказал папа Александр, когда да Винчи приблизился к нему и, почтительно поклонившись, поцеловал его перстень. — Прошу вас извинить моего сына. У него слишком нетерпеливый нрав.
— Ваше святейшество, вам нет нужды извиняться перед вашим покорным слугой. Но могу ли я узнать, в чем причина подобной спешки? — учтиво, но с ноткой досады в голосе спросил Леонардо.
Чезаре, стоявший несколько поодаль и наблюдавший за обоими собеседниками своим пронзительным ястребиным взглядом, решил наконец вступить в разговор. Обратившись к Леонардо, он, как всегда, напористо, почти угрожающе произнес:
— Сеньор да Винчи, у нас есть для вас заказ. Так что давайте перейдем сразу к делу.
— Вы совершенно правы, синьор, не стоит тратить время на предисловия. В чем же состоит ваш заказ?
— Сейчас я удовлетворю ваше любопытство, но сначала ответьте мне: известно ли вам что-либо о святой плащанице?
Услышав, что дело касается знаменитой реликвии, Леонардо сразу же многое понял, однако не выдал этого ни своим видом, ни словами. Он предпочел не говорить лишнего и не демонстрировать чрезвычайную проницательность, которую тщеславный Чезаре приписывал одному лишь себе.
— Я знаю эту легенду, — довольно равнодушно сказал мастер. — Саван с изображением человеческого тела. Ему поклоняются как плащанице Христовой с нерукотворным изображением самого Спасителя.
Произнося последние слова, Леонардо заметил, что лицо Чезаре стало слегка напряженным, хотя и не утратило своего спокойствия.
— И это все, что вам известно?
— Кажется, все. Хотя нет, есть еще кое-что. Если не ошибаюсь, эта реликвия принадлежит Савойскому дому, не так ли? Правда, существует и множество копий, разбросанных по всему христианскому миру…
Чезаре предпочел ничего не отвечать на дерзкий намек да Винчи — слишком меткий и ироничный, недостаточно завуалированный и потому не позволявший отреагировать на него как на открытый выпад. Не говоря больше ни слова, он неторопливо подошел к серебряному ларцу и, открыв его, вынул оттуда сложенную вчетверо плащаницу — тетрадиплон[2], как называли ее по-гречески с тех времен, когда она хранилась в Эдессе.
Увидев призрачный лик Иисуса, занимавший середину верхней части полотна, Леонардо был поражен его безграничным спокойствием и величественной умиротворенностью. Если бы ему довелось видеть этот лик раньше, он бы никогда не стал с таким ироничным скептицизмом отзываться о святыне. Леонардо смотрел на плащаницу как художник, созерцающий божественный шедевр, не имеющий равных по своему совершенству.
— Какая неземная красота! — воскликнул он, потрясенный.
Папа Александр с удовлетворением посмотрел на сына, но тот, все еще уязвленный иронией Леонардо, ответил отцу ледяным взглядом. Нетрудно было догадаться, кто на самом деле держит бразды правления в семействе Борджиа.
— Я вижу, плащаница произвела на вас впечатление, — презрительно сказал Чезаре. — Впрочем, она зачаровывает всех, кому доводилось ее лицезреть.
— О, теперь я понимаю, теперь понимаю… — пробормотал Леонардо, по-прежнему поглощенный созерцанием божественного лика.
— Что вы понимаете? — спросил папа.
— Теперь я понимаю, почему это изображение называют нерукотворным, — ответил Леонардо, все еще не сводя глаз с реликвии. — Ни один человек не способен создать такое.
Услышав эти слова, молодой Борджиа сверкнул глазами, и написанное на его лице презрительное высокомерное выражение стало мрачным и угрожающим.
— Что ж, даже если человек не может это создать, он может это скопировать, — раздраженно сказал — почти выкрикнул — он.
В просторной, богато убранной комнате воцарилось гробовое молчание. Казалось, что даже ангелы на потолочной фреске, наблюдавшие, словно с небес, за этой сценой, замерли в ожидании развязки. Огромные зеркала в золотых рамах, расположенные в центре каждой стены, бесстрастно отражали происходящее, создавая, как во сне, множество одновременно существующих ирреальных миров.
Наконец тишину нарушил Леонардо.
— Я не тот художник, который вам нужен, — решительно сказал он. — Я не смогу сделать копию плащаницы. Поговорите с Микеланджело, возможно…
— И вы еще говорите мне о Микеланджело? Забудьте о нем! — воскликнул Чезаре в крайнем раздражении. — Он человек талантливый, но неподходящий для этой работы. И я вам плачу не за то, чтобы вы мне советовали обратиться к другому художнику. Я вас не спрашиваю, сможете ли вы сделать копию, — я спрашиваю, сколько времени вам потребуется!
Всю свою жизнь Леонардо да Винчи стремился любой ценой избегать конфликтов и всегда искал примирения с теми, с кем — зачастую по вине третьих лиц — подстрекателей — разногласия все же возникали. Он готов был даже принижать себя, если это требовалось для примирения, и извиняться за возникший раздор, хотя, будучи по своей натуре человеком доброжелательным и любезным, сам никому не наносил обид и никогда не был зачинщиком ссор. Однако именно это миролюбие Леонардо неоднократно доставляло ему неприятности — и особенно в отношениях с Микеланджело Буонарроти, талантом которого он тем не менее втайне восхищался. Как бы то ни было, несмотря на все эти неприятности, Леонардо не считал нужным отступать от своего неизменного принципа, предпочитая всегда сохранять мир и согласие даже в ущерб себе.
— Хорошо, — сказал он, склонив голову. — Я попытаюсь выполнить ваш заказ, но не могу ничего вам обещать. Что же касается времени, то мне потребуется по меньшей мере год, а то и больше…
— В вашем распоряжении самое большее четыре недели, — отрезал Чезаре, к которому уже вернулась его обычная спокойная надменность. — Дольше ждать мы не можем.
— Мы не сомневаемся, что вы и на этот раз продемонстрируете свое непревзойденное мастерство, — вступил в разговор Александр VI и, подумав немного, словно пытаясь что-то припомнить, спросил: — Как там ваш девиз, Леонардо?
— Ostinato rigore, ваше святейшество, — чуть слышно ответил художник.
— Ах да, ostinato rigore. Упорная строгость в достижении совершенства… да-да, упорная строгость…
1888, Париж
Вечер был холодным и мрачным. Париж, называемый городом света, в это время погружался во тьму, которую не могло победить тусклое уличное освещение. К тому же в этой части города еще не было газовых фонарей. Воздух здесь был пропитан запахом гнилой сырости, доносившейся с Сены, отвратительным зловонием тухлой рыбы и сбрасываемых в реку нечистот. От грязных сомнительных таверн распространялся смрад дешевого пива. Это было место, где преступники, пьяницы и проститутки веселились всю ночь напролет и где в лихих головах рождались злодейские планы.
Жан Гару возвращался домой на этот раз несколько позже обычного. В этом квартале у него была рыбная лавка, принадлежавшая их семье на протяжении многих поколений и превратившаяся теперь в жалкую гнилую лачугу. Гару шел по набережной, с опаской озираясь по сторонам и внимательно вглядываясь в темноту. На него уже несколько раз здесь нападали, и однажды он был даже серьезно ранен. Вспомнив об этом, Жан невольно коснулся шрама, пересекавшего его щеку.
Что за времена наступили — кругом разбойники, — прошептал он. И в этот момент где-то вдалеке послышался жалобный вой собаки, словно разделявшей его невеселое мнение.
Жан поднял голову и посмотрел на небо. Почти все оно было затянуто тучами, но время от времени луне все же удавалось ненадолго выглянуть из-за них. На востоке, на острове Сите, виднелся собор Парижской Богоматери, и его призрачный силуэт казался при лунном свете каким-то фантастическим, нереальным видением. С этим собором было связано множество древних легенд, рассказывавших о тайных обществах и принадлежавших к ним славных рыцарях. Гару часто задавался вопросом, что в этих легендах было правдой, а что — вымыслом и много ли было правды…
Полная луна опять появилась из-за туч. И вдруг произошло что-то необъяснимое: Жану показалось, будто он увидел в глубине реки какой-то странный, едва различимый свет. Лавочник наклонился над водой, одновременно напуганный и заинтригованный, и стал пристально вглядываться в глубину, однако безрезультатно: там была лишь сплошная густая тьма. Он опустился на колени и стал еще сильнее напрягать зрение, пытаясь снова различить тот неуловимый свет, мелькнувший в реке, потом наклонился еще ниже и, едва не касаясь носом воды, изо всех сил вглядывался в темноту: «Что это? Что это было?»
Вдруг за его спиной послышались чьи-то шаги и раздался издевательский устрашающий хохот. Вздрогнув от неожиданности, Гару потерял равновесие и упал в воду. Его тут же окутала непроглядная тьма, и ледяная вода обожгла тело. Жан стал отчаянно барахтаться в воде, пытаясь выбраться на поверхность, но все его усилия были тщетны: что-то держало его за ногу, не позволяя выплыть. Потеряв от ужаса голову, несчастный закричал из последних сил, но вместо крика получился лишь приглушенный звук, а зловонная вода хлынула в его горло. Он задыхался и чувствовал тошноту. Силы покидали его. Жан ощущал, как его сознание растворяется в душившей его воде. Прощаясь с жизнью, он взглянул на небо в последний раз. Луна вышла из-за туч, окруженная зеленоватым сиянием и искаженная толщей воды… И тогда наконец Гару увидел прямо перед собой тот странный предмет. Собрав последние силы, он медленно протянул руку и схватил его. По его телу пробежала дрожь, и внезапно он почувствовал, что свободен. Река отпустила его.
Вынырнув из воды, Гару вдохнул воздух с такой жадностью, что ему стало больно в груди. Потом он с трудом выбрался на набережную и, обессиленный, повалился на землю, извергая из себя воду.
1502, Флоренция
Мастерская Леонардо да Винчи всегда была в центре флорентийской жизни. Здесь царила настоящая атмосфера Ренессанса — та самая, какой пронизан символ этой эпохи — знаменитый Дуомо Брунеллески. В мастерской Леонардо под звук резцов обсуждались высокие принципы искусства, и ученики, выполнявшие также работу по дому, приобщались к художественному мастерству.
Леонардо вернулся взбудораженный и запыхавшийся от быстрой ходьбы. Когда он вошел, в мастерской работал только Салаи — не слишком талантливый, но самый любимый его ученик. В тот момент он лепил довольно неуклюжую модель лошади по сделанному Леонардо наброску конной статуи Франческо Сфорца, герцога Миланского (да Винчи работал над этим проектом на протяжении многих лет, но монумент так и не был отлит).
— Конечно! Конечно! И как только я сразу не подумал об этом?!
— Учитель, что стряслось? — воскликнул Салаи, услышав возгласы Леонардо.
— Оставь свое занятие, друг мой, нам предстоит большая работа.
После встречи с отцом и сыном Борджиа Леонардо был крайне озадачен и пребывал в состоянии глубокой задумчивости. За четыре недели чрезвычайно трудно, почти немыслимо сделать копию. К тому же в данном случае скопировать нужно было не работу другого мастера, а нерукотворное изображение. Эта мысль сверлила мозг Леонардо, не давая ему покоя. В первую очередь следовало тщательнейшим образом изучить оригинал, решить, какую технику использовать, выбрать ткань, краски… В этой работе он должен был превзойти самого себя: сложнейший заказ в его жизни был решающим испытанием его таланта.
Рассмотрев ткань плащаницы, художник обнаружил, что это было хорошее льняное полотно с диагональным переплетением нитей. Ткани с таким типом переплетения очень красивы, но Леонардо знал, что их изготовление требует особой тщательности, потому что иначе они могут оказаться недостаточно прочными. Внимательно изучив материал, да Винчи заказал точно такой же в известной флорентийской мастерской Шевола, где вот уже больше века ткали лучшие полотна во Флоренции и во всей Тоскане.
Продолжая изучать плащаницу, Леонардо установил, что изображение на ней представляло собой некий отпечаток, полученный без использования каких бы то ни было красителей: то был результат потемнения волокон ткани, вызванный каким-то необъяснимым процессом. На полотне Леонардо обнаружил также многочисленные пятна крови и серозной жидкости, а некоторые участки ткани были закапаны воском, прожжены и разорваны. Само же изображение на плащанице свидетельствовало о том, что запечатленный на ней человек умер в страшных мучениях. Отпечаток на полотне с ужасающей достоверностью сохранил следы безжалостных истязаний: многочисленные ушибы и кровоподтеки по всему телу, распухшая щека, кровоточащие раны на голове, вероятно, оставленные шипами тернового венца; струйки запекшейся крови, стекавшей из этих ран на лоб и лицо. Тело человека на плащанице было исполосовано плетьми, а в левом боку виднелась рана — очевидно, нанесенная копьем…
Леонардо хорошо разбирался в анатомии. Ему довелось анатомировать более двух десятков трупов (он начал этим заниматься еще вместе со своим учителем Верроккьо), и сейчас эти знания очень ему пригодились. Благодаря своему опыту мастер смог понять, с чем были связаны многие особенности изображения на плащанице: странное положение тела, словно сведенного судорогой, характер ран и кровоподтеков, втянутые вовнутрь ладоней большие пальцы и разная длина ног. Всему этому да Винчи нашел научное объяснение, не прибегая к мифам, ходившим в христианском мире уже несколько веков — вроде предположения о том, что Иисус был хромым. Леонардо с удивлением отметил, что многие древние изображения распятого Христа в основных чертах повторяли отпечаток на плащанице. Таким видели Его и художники эпохи Возрождения: так, на «Распятии» Мазаччо голова Христа словно слегка отделена от тела, волосы длинные в соответствии с еврейским обычаем, ноги имеют разную длину, причем одна из них сильно изогнута, а ступни прибиты к кресту одним гвоздем. Как бы то ни было, совпадали не все детали: тогда как распятого Христа традиционно изображали с пробитыми ладонями, плащаница свидетельствовала о другом — след от гвоздя был отчетливо виден на запястье отпечатавшегося на полотне тела.
Однако самой удивительной и необъяснимой особенностью плащаницы было то, что темные участки тела на ней вышли светлыми, а светлые — темными. Леонардо много размышлял над причиной этого несоответствия. Оно казалось художнику непостижимым, и, как он ни старался найти разгадку, ему это не удавалось. Эта тайна оставалась нераскрытой еще в течение почти четырех веков — до тех пор, пока туринский адвокат, сфотографировавший плащаницу, не увидел при проявлении фотографии лицо Христа в позитиве.
Когда Леонардо в сопровождении охраны, предоставленной папой, покинул Рим, увезя с собой святую плащаницу, он испытывал сложные чувства, в которых сам еще не мог до конца разобраться. Погребальные пелены Иисуса Христа с явленным на них чудесным изображением повергали художника в смятение, заставляя обратиться к глубоким размышлениям и по-новому взглянуть на события, произошедшие в Иудее на заре нашей эры. В то же время перед ним стояла невероятная, казавшаяся невыполнимой задача — сделать копию нерукотворного изображения. Это был настоящий вызов его таланту. Леонардо страстно желал начать работу и одновременно страшился ее. Плащаница пугала своей непостижимостью.
По возвращении домой да Винчи внимательнее рассмотрел изображение на полотне, и ему вспомнились опыты, которые он проводил несколько лет назад в Милане: теперь они могли пригодиться ему для изготовления копии. К этим опытам Леонардо подтолкнули сведения, почерпнутые из старинных книг арабских алхимиков, — а именно знание о том, что материал (ткань или пергамент), пропитанный некоторыми солями серебра, темнеет под действием солнечных лучей, вследствие чего на нем получается отпечаток. В то время Леонардо провел несколько экспериментов и при использовании камеры-обскуры добился любопытных результатов. Помещая светочувствительную пластину на определенном расстоянии от отверстия, он смог получить более или менее похожие отпечатки предметов. Однако он так и не нашел способа улучшить качество изображения: оно всегда получалось расплывчатым и сливалось с фоном. Уехав из Милана и оставив службу у Сфорца, да Винчи забыл об этих экспериментах, как забывал многие свои идеи, переполнявшие его голову. В его гениальном мозгу происходило постоянное обновление: в нем то и дело вспыхивали блестящие замыслы, которые затем зрели, развивались и реализовывались либо затухали и исчезали, уступая место новым идеям.
Изображение на плащанице и отпечатки, полученные с помощью камеры-обскуры, имели одну удивительную общую особенность: они выглядели объемными, несмотря на то, что их основой была плоская поверхность. Однако в отличие от полученных Леонардо отпечатков при возникновении изображения на плащанице не было, очевидно, никакого «центра проекции» — света, идущего из одной точки (отверстия в камере-обскуре). Каким же образом в таком случае появился отпечаток на плащанице? Леонардо долго размышлял над этим вопросом, пока наконец не пришел к логичному предположению, многое объяснявшему и в то же время внушавшему благоговейный трепет: тело само по себе было источником света, и потому не было никакой необходимости во внешнем источнике. Это предположение также позволяло объяснить различную интенсивность пятен, оставшихся от более и менее удаленных от полотна частей тела — например, глазных впадин и боков, вышедших на изображении светлыми, или носа и рук, получившихся темными.
Первую неделю работы над копией плащаницы Леонардо целиком посвятил выполнению эскизов — как общих, так и детальных. Ведь даже если ему удалось бы скопировать изображение с помощью камеры-обскуры (в чем Леонардо совершенно не был уверен), затем нужно было с предельной точностью воспроизвести и все остальные детали: пятна крови и воска, прожженные места, дыры и следы складок на ткани. Кроме того, чтобы изображение на полотне Шевола получилось точно таким же, как и на подлинной плащанице, требовалось сделать немало предварительных пробных копий. Однако пока Леонардо так и не мог придумать, как добиться достаточной точности и четкости изображения при работе с камерой-обскурой, а без этого все остальное теряло смысл.
1888, Париж
Жан пришел в себя и медленно огляделся вокруг, пытаясь понять, где он находится. Его трясло от холода, перед глазами была пелена, а все тело болело. На мгновение Гару пришло в голову, что на него опять напали грабители. Он смутно помнил смех, раздавшийся за спиной, а потом… Память отказывалась открыть ему, что было потом. Жан смог припомнить лишь то, что он каким-то образом упал в реку. Все дальнейшее словно стерлось из его памяти.
Оглядевшись, Гару с облегчением убедился, что на улице, кроме него, больше никого нет. Взгляд его постепенно прояснялся, и в конце концов ему удалось разглядеть метрах в ста от того места, где он находился, свою лавку. Жан попытался встать, но голова его закружилась, и он снова упал на землю, чувствуя слабость и тошноту. Собравшись с силами, Гару опять приподнялся и наконец смог сесть, упираясь в землю руками. Опершись на ладонь, он почувствовал боль и, взглянув на руку, обнаружил, что она была вымазана зеленоватой грязью и покрыта пятнами высохшей крови. Жан вытер руку об одежду и увидел на ладони две странные ранки в форме полумесяцев: одна из них находилась у основания пальцев, а другая — рядом с большим пальцем. Жан смотрел на них, с удивлением и суеверным страхом, недоумевая, откуда они могли взяться.
Ледяной ветер, дувший с реки, хлестнул его по лицу, и Гару опять задрожал от холода. Он застучал зубами и сам испугался этого звука, казавшегося громким и устрашающим в безлюдной темноте ночи. Внезапно озноб пробежал по его спине, и волосы на затылке встали дыбом. Почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, Жан резко повернул голову так, что хрустнули шейные позвонки. Однако кругом не было ни души.
Не желая больше оставаться в этом месте, Гару поспешно поднялся на ноги, отчего чуть не потерял равновесие и не упал снова. В этот момент что-то глухо стукнулось о землю. Посмотрев вниз, Жан увидел под ногами какой-то темный предмет. Он поднял его и, не разглядывая, положил в карман, после чего бросился бежать по направлению к мосту Понт-о-Шанж. Гару мчался со всех ног, словно спасаясь от погони. Перебравшись на другую сторону реки, он продолжал бежать до тех пор, пока совсем не обессилел. Оказавшись наконец дома, Жан все еще не мог отдышаться. Он поспешно запер за собой дверь и как одержимый бросился закрывать ставни и проверять, не забрался ли кто-нибудь в дом.
Убедившись, что в доме никого, кроме него, не было, и несколько успокоившись, Жан вытер лицо и руки, покрытые грязью, и переоделся. Затем он разжег очаг и опустился, обессиленный, на стоявший перед ним деревянный стул, сжимая в руке тот странный предмет, который он поднял с земли на набережной.
Дом Гару был более чем скромным, однако благодаря реформам префекта Османа в нем уже давно имелся водопровод. Мебель в доме была грубая и только самая необходимая, на стенах и потолке виднелись подтеки и пятна сырости. Кухня занимала почти весь первый этаж, и кроме нее там находились кладовая и небольшая каморка, служившая уборной. В спальне, располагавшейся на втором этаже, единственной мебелью были кровать и убогий шкаф с оторванной дверкой. Холостяк Гару привык к этому и не собирался ничего менять в своей жизни.
В углу у стены была сложена куча дров. Жан взял одно полено и подбросил его в очаг, чтобы огонь разгорелся сильнее: ему все еще было холодно. Поежившись, лавочник разжал ладонь и внимательно посмотрел на лежавший на ней предмет. Это был округлый медальон с неровными краями, покрытый толстым слоем зеленоватой грязи — так же как и прикрепленная к нему цепочка. В мозгу Жана мелькнула внезапная догадка. Трясущейся рукой он положил медальон на правую ладонь. Догадка оказалась верной: кровавые отметины на руке полностью совпали с краями медальона. Подобные следы могли остаться в том случае, если бы Жан сжимал этот предмет с такой силой, что он впился в его ладонь…
И тут Жан все вспомнил. Всплывшая в его сознании картина так потрясла его, что на мгновение у него даже перехватило дыхание, и он открыл рот, пытаясь набрать в легкие воздуха. К горлу подступила тошнота, и Жан снова ощутил во рту вкус гнилой воды. Ему стало дурно, и он резким движением отбросил от себя предмет. Тот ударился об пол, и зеленоватая грязь частично отскочила от его поверхности, обнажив металл. Гару был ужасно напуган. Он неподвижно сидел на стуле, со страхом глядя на загадочный медальон. Ему было страшно даже пошевелиться, но еще страшнее было оставить эту странную вещь в своем доме. Собрав все свое мужество, Жан сумел встать и одеться. Одежда все еще была мокрой и пахла тиной. Одеваясь, он не сводил глаз с медальона, лежавшего на полу в том самом месте, куда он его отбросил.
Схватив кочергу, Жан опасливо подцепил ею медальон за цепочку. Затем он взял маленький полотняный мешочек, в котором хранил хлеб, и осторожно опустил в него свою злополучную находку, стараясь ни в коем случае не касаться ее руками.
1502, Флоренция
Стремление Леонардо к знанию во всех его аспектах выходило далеко за рамки простой любознательности, и эта страсть сопровождала его всю жизнь, несмотря ни на что. В эпоху Возрождения контроль церкви над сферой знания слегка ослабел, однако до полной независимости было далеко, и свободный полет мысли повсюду натыкался на ограничения. Любая мысль, выходившая за установленные рамки, могла быть объявлена ересью или богохульством: инквизиция не дремала, пресекая любое инакомыслие, угрожавшее официальной доктрине. Мыслителю и ученому до костра был всего один шаг — шаг за тонкую грань, отделявшую ортодоксальную догматическую религию от подрывавших ее авторитет воззрений.
Однако страсть Леонардо к познанию была столь сильна, что он не останавливался ни перед чем в своем стремлении понять окружающий мир, раскрыть его бесконечные тайны. Именно запретное, тайное знание вызывало у него наибольший интерес — так же как и у многих других людей той эпохи.
Среди эзотерических наук особое место занимала алхимия, очень неоднозначно воспринимавшаяся современниками Леонардо: одни относились к ней с недоверием и опаской, считая ее колдовством или шарлатанством, другие же, наоборот, превозносили, веря в ее безграничные возможности.
Впервые Леонардо близко познакомился с алхимиками в Милане, где он находился на службе у герцога Лодовико Моро — сына Франческо Сфорца, правившего герцогством Миланским с 1450 года. В Милане того времени — могущественном и процветающем городе — работали многие художники, архитекторы, поэты и ученые. Именно там да Винчи познакомился со старым алхимиком — маленьким невзрачным человечком, обладавшим удивительной внутренней силой, поразившей Леонардо. Имя его было Амброджио де Варезе, но он просил называть себя «Великим тауматургом». Варезе находился на службе у Моро в качестве врача и астролога. Многие утверждали, будто ему уже более двухсот лет и что он действительно способен творить чудеса.
Как выяснил Леонардо, Амброджио был евреем. Он принял христианство вместе со своей семьей и получил фамилию Варезе от крестившего его епископа Палермо Джакомо де Варезе, настоящее же его имя навсегда осталось тайной. Амброджио объездил всю Италию, большую часть Европы, Северную Африку и страны Востока, владел десятками языков и имел обширнейшие познания во всех областях знания. В Милане Варезе с группой учеников основал общество, члены которого занимались алхимией и экзотической восточной гимнастикой. Общество было хорошо известно, однако все происходившее внутри его хранилось в глубокой тайне.
Члены этого общества, называвшие себя братьями, приобрели славу аскетов — высоконравственных, умеренных и справедливых, ищущих мудрости и гармонии — как телесной, так и духовной. Их главной целью было достижение духовного совершенства, а не открытие философского камня или чудесного эликсира долголетия. Превращение человека в высшее существо, способное восторжествовать над материей, они связывали не с продлением жизни, а с нравственным совершенствованием и очищением души.
Эмблемой этого общества было яйцо — символ энергии и жизни, а свое учение и философию они называли Великим знанием. Все братья придерживались строго регламентированного образа жизни, полного ритуалов со сложной аллегорической символикой. Члены общества пользовались особым оккультным письмом — так называемым фиванским алфавитом (алфавитом Гонория из Фив). Двенадцать алхимических операций имели для них духовное значение и воспринимались как символическое средство достижения внутреннего совершенства. В соответствии с кодексом, основу которого составляли четыре главных положения, каждый из братьев был обязан: всецело посвятить себя самосовершенствованию и улучшению окружающего мира; являться на общий сбор общества в первое воскресенье каждого месяца; воспитать ученика; не выдавать тайн общества даже под страхом смерти.
Варезе сам завязал знакомство с Леонардо, когда тот приехал в Милан, чтобы поступить на службу к Моро. Алхимика интересовало удивительное мастерство художника, и Леонардо вскоре тоже заинтересовался алхимиком. Несхожесть в характере и убеждениях не помешала им найти общий язык в интеллектуальном общении. Оба они были выдающимися людьми, и хотя многое не понимали и не принимали друг в друге, их общение, несомненно, чрезвычайно обогатило обоих.
Идея о получении изображений посредством воздействия света на определенные химические соединения пришла к Леонардо именно благодаря Варезе. Явление, лежащее в основе этого процесса, было впервые описано арабским врачом по имени Абу Муса аль-Суфи, который, по словам Варезе, был величайшим алхимиком всех времен. Используя в своих исследованиях классический набор алхимиков — золото, ртуть, мышьяк, серу, соли и кислоты, — Абу Муса открыл множество химически активных веществ, неизвестных ранее. Так, например, он обнаружил, что некоторые соли серебра имеют свойство темнеть на свету, однако практического применения этому интересному открытию арабский ученый не нашел.
Леонардо был первым, кто попытался использовать это явление для получения изображений. С этой целью он проводил эксперименты, помещая в камеру-обскуру пергамент, покрытый солями серебра. Результаты некоторых опытов были вполне удовлетворительными, однако существовала проблема, которую Леонардо никак не мог разрешить: изображения, получаемые таким образом, были слишком нечеткими. В течение нескольких месяцев, вопреки чрезвычайному непостоянству своей гениальной натуры, да Винчи работал над улучшением качества изображения. Он перепробовал множество разных способов, но добиться положительного результата так и не смог. Покинув Милан спустя некоторое время, Леонардо забыл об этих опытах, вызывавших у него такой интерес и в то же время ставивших его в тупик.
Новый заказ, полученный от Борджиа, заставил художника глубоко задуматься, и вот после длительных размышлений в его сознании стала вырисовываться идея того, как можно было осуществить, казалось бы, неосуществимое. Этот замысел был еще совсем смутным и расплывчатым, как изображение в камере-обскуре, однако что-то говорило Леонардо, что он на верном пути.
Да Винчи уже давно занимался усовершенствованием оптических линз для одного из самых значительных своих изобретений — телескопа. Он не только разработал новые типы линз, но и усовершенствовал методы их изготовления и шлифовки. Именно в процессе работы над линзами Леонардо обнаружил, что они способны не только увеличивать или уменьшать наблюдаемый объект, но и корректировать искажения.
Итак, мысль заработала. Времени терять было нельзя. Уже истекла почти половина невообразимо короткого срока — четырех недель, отведенных ему Чезаре Борджиа для копирования плащаницы. Первым делом Леонардо решил испробовать все готовые отшлифованные линзы, имевшиеся в мастерской. Взяв в помощники Салаи, он принялся за дело. Некоторые из имевшихся линз были вставлены в трубки различных размеров, выкрашенные изнутри сажей для предотвращения бликов. Другие еще не были готовы к использованию и находились на различной стадии процесса изготовления.
Леонардо очень много занимался телескопом, поэтому им с Салаи удалось набрать более двух десятков готовых линз. Половину из них да Винчи забраковал из-за неподходящего размера или недостаточно высокого качества, а с оставшимися десятью начал проводить опыты, поочередно вставляя в отверстие камеры-обскуры, которой служила одна из внутренних комнат в его доме. В соседней комнате, прилегавшей к первой со стороны стены с отверстием, имелись огромные боковые окна. Несколько находившихся там сферических зеркал собирали свет в центральной точке, расположенной напротив отверстия в общей стене. Наверное, это была самая большая камера-обскура из когда-либо существовавших.
Для опытов Леонардо использовал покрытые йодидом серебра квадратные куски пергамента со стороной около пятидесяти сантиметров. Процесс происходил медленно, поскольку светочувствительность вещества была весьма невелика. Именно поэтому для создания максимальной освещенности использовались зеркала. По истечении времени, необходимого для появления на пергаменте отпечатка, его нужно было зафиксировать. Для этого пергамент подвергали воздействию паров ртути — излюбленного вещества алхимиков, которое они называли hydroargentum, то есть «жидкое серебро». И наконец для предотвращения дальнейшего изменения изображения под воздействием света пергамент промывали концентрированным раствором поваренной соли, это останавливало процесс потемнения. Затем оставалось лишь промыть лист в чистой воде, чтобы увидеть конечный результат — позитивное изображение, состоящее из коричневых пятен различной светлости и интенсивности.
Итак, отобрав десять подходящих линз, Леонардо велел Салаи приготовить пергамент и приступил к опытам, используя в качестве объекта уменьшенную модель конной статуи Франческо Сфорца. Установив первую линзу в отверстие гигантской камеры-обскуры, да Винчи выждал время, необходимое для получения отпечатка, после чего повторил ту же операцию с другой линзой и новым куском пергамента. Таким образом были испробованы все линзы.
Леонардо с нетерпением ждал результатов, однако по мере того, как на листах пергамента появлялись изображения, его воодушевление сменялось огорчением и досадой. Лишь с одной линзой удалось получить достаточно узнаваемое изображение, но в целом нельзя было сказать, что новый метод был многим лучше, чем прежний, при котором отпечатки делались вообще без использования линз. Однако художник не позволил отчаянию и унынию завладеть собой и решил, тщательно проанализировав каждый пергамент, подумать над причиной неудач.
В первую очередь он обратил внимание на то, что отпечатки на разных листах не совпадали. На тех из них, где изображение получилось не полностью, в центре был большой белый круг. Там же, где изображение отпечаталось целиком, оно представляло собой размытые пятна, похожие по форме, но отличающиеся размерами на разных пергаментах.
Леонардо не боялся ошибаться, и в этом была его сила. Он спокойно признал, что на этот раз расчет его оказался неверным. Однако плохо было то, что он не мог понять почему.
1888, Париж
— Иду, иду, имейте терпение!
Священник церкви Сен-Жермен с досадой недоумевал, кого принесла нелегкая в такой час. Он уже спал, и его разбудил сильный стук во входную дверь.
— Перестаньте ломиться! Слышите? — крикнул священник безо всякой надежды, что его слова возымеют какое-то действие.
Он прошел от ризницы до центрального нефа церкви, опустился на колени перед алтарем и осенил себя крестным знамением. Поднявшись, священник поспешил к выходу, держа в руке светильник. Его торопливые шаги разносились эхом по всей церкви. Когда он приблизился к двери, стук наконец прекратился.
— Кто там? Что вам нужно в такое время? — спросил священник, не открывая дверь. — Или за вами гонятся бесы? — добавил он саркастически.
Ответ донесся словно издалека, приглушенный толстой деревянной дверью. Священник с трудом разобрал слова человека, стоявшего по другую сторону. «Не послышалось ли мне?» — подумал он и, отодвинув многочисленные засовы, приоткрыл дверь. Через узкую щель священник увидел перед собой невысокого коренастого мужчину с грубым шрамом на правой щеке. Судя по внешнему виду и одежде, это был простой горожанин. Он был бледен как полотно, и глаза его лихорадочно блестели. В руке незнакомец держал какой-то мешок, со страхом поглядывая на него и отстраняя как можно дальше от себя.
— Скажите же мне наконец: кто вы?
— Простите, что потревожил вас, месье кюре. Я Жан Гару, держу рыбную лавку неподалеку от набережной. А живу я…
— Не нужно рассказывать мне, где и как вы живете, — прервал его священник, нетерпеливо подняв руку. — Скажите лучше, что у вас в мешке — ведь вы с этим пришли ко мне?
— Это б-б-было в реке, месье кюре. П-п-похоже, оно обладает какой-то дьявольской силой, — сказал Гару, заикаясь, со страхом в голосе.
— В самом деле? Вы нашли это в реке? А может быть, на дне пивного бочонка, месье Гару? — спросил священник, начиная терять терпение.
— Ради Бога, поверьте мне. Клянусь вам, я не пил сегодня ни капли. Я честный человек. Я упал в реку и нашел там вот это.
Жан не понимал, почему священник не хотел ему помочь. Он был уверен, что в найденном им предмете таилась какая-то зловещая сила, и справиться с ней мог только служитель Бога. Именно поэтому Жан отважился покинуть свой дом посреди ночи и отправился в ближайшую церковь Сен-Жермен.
— Умоляю вас, месье кюре… — сказал он, всхлипнув.
Священник внимательно посмотрел на своего ночного гостя, ничего не говоря и, казалось, раздумывая над его словами. В конце концов он распахнул дверь и посторонился:
— Что ж, проходите.
Жан вошел в церковь, и священник провел его к алтарю, где вновь опустился на колени и перекрестился. Жан сделал то же самое, после чего последовал за священником через боковую дверь в его комнаты. Они пришли в маленькую кухню, и священник, предложив Жану сесть, стал разжигать огонь в очаге. Гару молча повиновался. Свой мешочек он положил на пол подальше от себя, но в то же время не сводил с него глаз.
— Выпейте вот это, месье Гару, — сказал священник, протягивая ему большую дымящуюся чашку. — Это куриный бульон, приготовленный моей экономкой. Он вам поможет.
— Спасибо, месье кюре.
— А теперь расскажите мне, пожалуйста, все по порядку.
Жан глубоко вздохнул и поведал священнику все, что случилось с ним этим вечером — начиная с того момента, когда он вышел из своей лавки, чтобы отправиться домой. Пока Жан рассказывал, священник внимательно наблюдал за ним то с любопытством, то с недоверием. Многое в этом рассказе заставляло священника сомневаться — особенно уверения Жана, будто что-то держало его за ногу до тех пор, пока он не схватил тот странный предмет. Несколько раз Гару замолкал, боясь сообщить очередную ужасающую подробность, и священнику приходилось настаивать, чтобы он продолжал свой рассказ. Выслушав всю историю, кюре некоторое время молчал, а Жан тем временем допивал свой бульон.
Священник не знал, что и думать. Казалось, этот человек говорит правду — зачем ему лгать? Однако в его рассказе было слишком много неправдоподобного: свет в реке среди кромешной тьмы, предмет, обладающий сверхъестественной силой… Во все это трудно было поверить. Вполне возможно, перед ним просто сумасшедший. Священник с прискорбием подумал, что несколько веков назад человек, рассказавший подобную историю, был бы обвинен в связи с нечистой силой и приговорен судом инквизиции к сожжению на костре. В те времена церковь была скора на расправу со своими возможными противниками.
— Вы можете показать мне свою находку? — спросил наконец священник.
Жан со страхом посмотрел на него. Было несомненно, что тот таинственный предмет внушал ему настоящий ужас.
— Оно там, внутри, — наконец смог выговорить Жан, указав кивком на мешок. — Возьмите его, пожалуйста, и делайте с ним, что считаете нужным. А я уж лучше не буду больше его трогать.
— Хорошо, — сказал кюре, взяв мешок и положив его в шкаф рядом с очагом. — Идите с Богом и будьте спокойны, я с этим разберусь.
Священник заметил, с каким облегчением вздохнул Жан, услышав эти слова. На его измученном лице на мгновение даже появилось подобие улыбки.
— Не знаю, как вас благодарить, месье кюре… — заговорил он с искренними слезами в голосе.
— О, оставьте, месье Гару, не стоит благодарности. Возвращайтесь домой, ложитесь спать и постарайтесь забыть обо всем этом.
Священник проводил своего гостя к выходу. Когда они снова подошли к алтарю, Жан встал на колени и долго молился, окутанный тусклым желтоватым светом церковных свечей. Несомненно, он благодарил Всевышнего за его безграничную доброту. Священник с удивлением поймал себя на мысли, что ему не терпится поскорее распрощаться с этим человеком, чтобы вернуться на кухню и хорошенько рассмотреть его таинственную находку. Однако лавочник все молился, и кюре терпеливо ждал, уважая силу его веры. Когда Гару поднялся с колен, на глазах его блестели слезы. Еще раз поблагодарив священника за помощь, он попрощался и вышел из церкви.
Кюре проводил Жана взглядом, пока тот не скрылся за углом, а потом запер тяжелую входную дверь и направился к себе. Когда он вошел на кухню, огонь уже почти погас, и там было холодно и темно. Оставался освещенным лишь небольшой участок возле очага, откуда доносилось слабое потрескивание. Мешочек лежал на прежнем месте, но видна была лишь та его часть, которая находилась ближе к очагу. Все остальное окутывал мрак. Священник подбросил в очаг несколько поленьев, чтобы огонь разгорелся, и, решив, что этого освещения будет вполне достаточно, не стал зажигать лампу. Усевшись на массивный деревянный стул, он положил мешочек себе на колени.
«Что ж, посмотрим, что там внутри…» Кюре засунул руку в мешок и пошарил в нем, пока пальцы его не наткнулись на что-то влажное и шероховатое. Как ни странно, прикосновение к этому предмету не вызвало неприятных ощущений. Напротив, по всей руке — от кончиков пальцев и до плеча — пробежала какая-то странная, но приятная дрожь. Священник повел плечами, чтобы избавиться от этого ощущения, и сказал себе, что это не более чем плод его воображения: вероятно, суеверный торговец рыбой заразил его своими нелепыми выдумками.
Вынув предмет из мешочка, священник поднес его к очагу, чтобы получше рассмотреть. Это был медальон, покрытый, как и говорил Жан, каким-то зеленоватым налетом — очевидно, смешанные с грязью водоросли, прилипшие к нему за то время, пока он находился в реке. На том небольшом участке, где грязь отскочила, был виден металл, однако все равно невозможно было поверить, что его блеск из-под воды был настолько силен, что привлек к себе внимание Гару. Это было совершенно невероятно. Священник положил медальон на каменный пол и стал осторожно постукивать по нему кочергой, чтобы сбить инородный верхний слой. Постепенно зеленоватый налет начал отставать, открывая металлическую поверхность. Очистив находку лавочника от основной грязи, кюре с удовлетворением улыбнулся и снова взял ее в руки, чтобы внимательно рассмотреть. Медальон был серый и довольно тяжелый для своего небольшого размера, из чего можно было заключить, что сделан он, очевидно, из свинца. Прикрепленная к нему цепочка была разорвана, словно медальон был сорван с чьей-то шеи. Одна ее сторона была безупречно отполирована, а на другой имелись какие-то шероховатости.
Что именно это было, священник смог разглядеть, лишь промыв медальон в воде. То, что он увидел, привело его в такое смятение, что он рухнул на стул, не в силах совладать с собой. Отерев диск рукавом собственной сутаны, кюре еще раз поднес его к глазам, чтобы удостовериться, действительно ли там было то, что привиделось ему в первый раз. На свинцовой поверхности вырисовывалось то самое изображение.
— Боже мой, — прошептал он, потрясенный.
1502, Флоренция
Леонардо провел ужасную ночь. Его мучили кошмары и преследовали чудовищные фантасмагорические видения. Уродливые гротескные существа мелькали в его сне одно за другим и с жалобным воем исчезали в черной пугающей бездне. Слышался бой часов, бесстрастно отсчитывавших время.
Над всем этим хаосом возвышалась фигура Чезаре Борджиа, дьявольским смехом провожавшего падавших в бездну людей. Его раскатистый хохот временами превращался в устрашающий крик, доносившийся словно откуда-то издалека. Но Леонардо не чувствовал страха. Он видел, что за яростью Борджиа скрывалось бессилие: это был смертельно раненный зверь, рычащий и беснующийся, но уже неспособный выстоять в схватке.
В воспаленном мозгу Леонардо рождались зловещие фантастические картины, где царствовали какие-то темные силы. Казалось, этим ужасным видениям, сменявшим друг друга с головокружительной быстротой, не будет конца, но вдруг все вокруг залил свет, и в этом сиянии Леонардо увидел призрачный образ, походивший на один из его многочисленных эскизов конного памятника Франческо Сфорца. Он находился по обе стороны большой, излучавшей свет линзы. Леонардо вздрогнул от внезапно пронзившей его мозг мысли и проснулся.
Он лежал неподвижно, весь в поту, с широко раскрытыми глазами и исступленно бьющимся сердцем, еще не совсем вернувшись к реальности из фантастического мира снов. Озарение пришло мгновенно, хотя этому предшествовала напряженная умственная работа, не прекращавшаяся даже во сне. Мгновенная вспышка, осветившая сознание Леонардо, в одну секунду ясно показала ему, в чем же состояла ошибка: дело было в расстоянии, на котором он размещал объект и чувствительную пластину по обе стороны от вставленной в отверстие камеры-обскуры линзы. Именно из-за неправильно рассчитанного расстояния изображения получались диспропорциональными и расплывчатыми.
Вдохновленный этой догадкой, художник с необычайной живостью подскочил с постели, как юноша, спешащий на тайное свидание со своей возлюбленной. Была еще глубокая ночь. Леонардо сжал голову руками, недоумевая, как он сразу не догадался, в чем была причина неудачи его опытов с линзами. Однако в то же время он был очень доволен собой. В очередной раз он доказал себе, что для его ума не существовало непреодолимых препятствий.
Когда на следующее утро Салаи проснулся, учитель уже несколько часов занимался расчетами и чертежами для изготовления сферической линзы, которая позволила бы получить изображение того же размера, что и предмет. Для этого он измерил расстояние между отверстием и противоположной стеной в камере-обскуре, а в смежной комнате сделал на полу метку, отмерив отрезок приблизительно такой же длины.
Чтобы проверить свои теоретические расчеты, Леонардо поручил Салаи и еще двум своим ученикам — Чезаре де Сесто и Зороастро, ничего не знавшим о его новом заказе, — как можно скорее изготовить линзу по его чертежу. В том случае, если результаты опытов на этот раз окажутся удовлетворительными, художник собирался купить кусок венецианского стекла высшего качества и сделать из него линзу, тщательно отшлифовав ее. Кроме того, нужно было с максимальной точностью отмерить расстояние, на котором следовало поместить плащаницу перед отверстием камеры-обскуры.
Также существовала еще одна проблема, требовавшая обязательного решения: раму с полотном, покрытым йодидом серебра, и раму с плащаницей нужно было расположить строго параллельно друг другу и перпендикулярно оси, проходящей через центр линзы и середину обоих полотен. Добиться этого было непросто, но Леонардо понимал, что если эти условия не будут соблюдены, то изображение на копии получится смещенным или искаженным, уменьшенным или увеличенным, как при рассмотрении в определенной перспективе.
Когда новая линза была готова, Леонардо тщательно закрепил ее в отверстии и поместил пластину, покрытую светочувствительным веществом, в камеру-обскуру. Потекли напряженные минуты ожидания. Все ученики, за исключением Салаи, были удивлены волнением мастера, хотя его эмоциональность и эксцентричность, обычно скрываемые от посторонних под маской элегантной учтивости, были им хорошо известны.
На этот раз опыт прошел удачно. Догадка Леонардо оказалась верной: с новой линзой, изготовленной по его чертежу, изображение получилось гораздо более четким, чем во всех предыдущих опытах. Расстояние от линзы также было рассчитано правильно, поскольку разница в размерах отпечатка и оригинала была практически незаметна.
Убедившись в правильности своих расчетов, Леонардо решил больше не терять времени и, вручив Салаи целых сто золотых дукатов, отправил его в Венецию с наказом купить стекло наивысшего качества. За время отсутствия ученика он планировал сконструировать рамы для плащаницы и изготовленного в мастерской Шевола полотна, а также найти способ, с помощью которого можно было бы с максимальной точностью выверить их расположение друг относительно друга и оси линзы.
Венецианское стекло считалось лучшим во всей Европе как по своему качеству, так и по художественной отделке. Как бы то ни было, отправляя Салаи в Венецию, Леонардо счел необходимым дать ему четкие указания относительно того, каким образом должно было быть изготовлено нужное ему стекло. Во-первых, при его варке следовало использовать черную магнезию, способствующую осветлению стекла, и мышьяк, препятствующий образованию пузырьков, а во-вторых, стекло необходимо было подвергнуть двойной варке для повышения его однородности. Только из такого стекла можно было изготовить действительно качественную линзу.
По расчету Леонардо, Салаи должен был затратить на поездку в Венецию по меньшей мере три дня: один день — на дорогу, другой — на то, чтобы заказать стекло и дождаться его изготовления, и третий — на возвращение во Флоренцию. Это время Леонардо собирался использовать на то, чтобы спроектировать и соорудить рамы и приспособления для их установки.
В первую очередь он изготовил раму для плащаницы, соединив толстые дубовые рейки перпендикулярно друг другу, после чего с помощью тонких гвоздей и клея собственного изобретения закрепил с внутренней стороны рамы деревянные планки, проходившие продольно и поперечно. Чтобы изготовленная таким образом решетка получилась плоской, да Винчи предварительно сделал в планках, предназначенных для поперечного закрепления, прямоугольные выемки — в тех местах, где они должны были пересекаться с поперечными планками. Всю поверхность решетки он обработал рубанком и тщательно отшлифовал — так, чтобы на ней не осталось никаких шероховатостей. В завершение Леонардо покрыл решетку специальным смолистым составом, который, высыхая, затвердевал, придавая поверхности безупречную гладкость (это же средство художник использовал для стенных росписей, поскольку не любил работать в традиционной технике фрески).
К внешней стороне верхней рейки Леонардо приделал длинную железную пластину, выступавшую с каждого края на несколько сантиметров. По краям пластины были сделаны отверстия, в которые предстояло продеть веревку для подвешивания всей конструкции к потолку.
Леонардо уже давно начал изучать явление гравитации, и, хотя ему не удалось докопаться до его глубинной природы, свойства тяготения были ему хорошо известны. На протяжении всей своей жизни художник периодически возвращался к опытам по изучению земного притяжения. Он установил, что траектория падения любого тела проходит по кратчайшему отрезку — вертикали, направленной к центру Земли, то есть воображаемой линии, соединяющей зенит и надир. Однако это было справедливо только для тех случаев, когда на тело не действовали никакие внешние силы (например, начальный импульс, задаваемый снаряду при выстреле из орудия).
Друг Леонардо — Паоло дель Поццо Тосканелли — знаменитый создатель карты, вдохновившей Христофора Колумба, был убежден в том, что сила гравитации являла собой противодействие между небесами и преисподней: все материальное, несущее на себе печать греха (и в том числе человек), тяготело к подземному миру мрака.
* * *
Стена в камере-обскуре, находящаяся напротив отверстия с линзой, также должна была быть идеально ровной, поскольку к ней предстояло прислонить раму с полотном, предназначенным для копии. Чтобы добиться этого, Леонардо покрыл стену новым слоем штукатурки, устранив все неровности. Затем требовалось измерить расстояние между стеной с отверстием и противоположной ей стеной внутри камеры-обскуры. Чтобы получить точный результат, нужно было соединить обе стены перпендикуляром. Для этого Леонардо положил на пол камеры-обскуры длинную прямую палку, закрепил один ее конец у стены с отверстием и описал палкой дугу, пока другой ее конец не уперся в стену. После этого он понемногу укорачивал палку до тех пор, пока она не стала свободно проходить мимо стены, касаясь ее лишь в одной точке. Затем такое же расстояние нужно было отмерить в смежной комнате, отложив от стены с отверстием перпендикулярный отрезок, равный длине палки. В этом случае Леонардо поступил следующим образом: закрепляя палку в разных местах у стены, он описывал на полу дугу, отмечая ее с помощью мела. Повторив эту операцию десять раз и соединив точки пересечения описанных дуг, он получил прямую линию, параллельную стене с отверстием.
Перед этой линией, проведенной мелом, он установил деревянную опору из толстого бруса, высота которого в горизонтальном положении составляла более пяди, а длина была больше, чем ширина каркаса для крепления плащаницы. Уменьшив высоту бруса по краям, Леонардо прибил его в этих местах к полу, после чего провел линию, соответствующую будущей оси линзы, и пометил ее на брусе. Приняв эту отметку за центр, Леонардо с помощью веревки отмерил в обе стороны отрезки, конечные точки которых соответствовали отверстиям в металлической пластине, закрепленной в верхней части каркаса. Теперь, чтобы подвесить его, требовалось обозначить на потолке две точки, отвесная линия из которых проходила бы строго через две соответствующие метки на брусе. Это легко удалось осуществить с помощью свинцового отвеса: методом проб Леонардо нашел две такие точки, из которых отвес указывал четко на сделанные внизу отметки.
Требовалось также устранить еще одну проблему: было очевидно, что подвешенный к потолку каркас окажется слегка наклоненным вперед, так как передняя его часть с закрепленной на ней плащаницей будет перевешивать заднюю. Чтобы этого избежать, Леонардо прикрепил внизу с обратной стороны каркаса несколько небольших грузов, которые должны были компенсировать вес полотна. Теперь, чтобы установить плащаницу в нужном положении, оставалось лишь подвесить к потолку каркас с закрепленным на нем полотном таким образом, чтобы нижняя рейка рамы касалась всей своей поверхностью прибитого к полу бруса.
Но это было еще не все: требовалось рассчитать и наметить место для линзы на противоположной стене. В предыдущих опытах всегда использовалось одно и то же отверстие, а расположение объектов регулировалось относительно его центра или оси линзы, если она присутствовала. Однако конструкцию, подготовленную для закрепления плащаницы, невозможно было перемещать, поэтому следовало заделать прежнее отверстие и пробить новое, центр которого лежал бы на одном перпендикуляре с центром уже установленного каркаса (точкой пересечения его диагоналей). Чтобы перенести эту точку на противоположную стену, Леонардо использовал большой деревянный угольник, длина которого соответствовала расстоянию между стеной и линией, на которой располагался каркас.
По сравнению со всеми подготовительными операциями непосредственно сам процесс получения изображения казался довольно простым: нужно было лишь пропитать новое полотно йодидом серебра и, поместив его в камеру-обскуру, ждать появления отпечатка. Чтобы контролировать этот процесс, следовало периодически проверять степень потемнения полотна, что было также несложно: поскольку йодид серебра медленно реагировал на солнечный свет, в камеру-обскуру можно было заходить, не рискуя испортить изображение попадающим извне освещением.
1888, Париж
Священник еще раз рассмотрел медальон при свете очага. То, что он принял сначала просто за шероховатости, в действительности оказалось гравировкой: внизу по бокам располагались два неизвестных ему герба, а наверху — изображение человеческой фигуры спереди и сзади. Именно этот образ и явился причиной волнения священника. Без сомнений, это было изображение одной из самых почитаемых христианских реликвий — святой плащаницы Христовой — полотна, в которое Сын Божий был завернут после смерти на кресте.
В голове священника поднялся настоящий вихрь вопросов, не имевших ответа. Откуда взялся этот медальон? Как он оказался в реке? Кому принадлежали гербы, изображенные внизу по бокам плащаницы? Священник не имел достаточных знаний для того, чтобы разгадать тайну этого медальона, но он знал человека, который, вероятно, смог бы это сделать. Его звали Жиль Боссюэ. Они познакомились много лет назад, когда оба учились в Сорбонне: Жиль — на факультете естественных и точных наук, а сам он — на теологическом. После окончания университета они продолжали часто видеться, поскольку Боссюэ остался преподавать в альма-матер, находившейся неподалеку от церкви Сен-Жермен. Жиль был убежденным атеистом — таким непреклонным, каких священнику мало доводилось видеть за свою жизнь, но, несмотря ни на что, их связывала крепкая дружба.
После некоторых размышлений кюре в конце концов решил отправиться спать, а утром отнести медальон своему другу. Однако, взволнованный своим открытием, он почти всю ночь провел без сна, мучаясь многочисленными вопросами. Когда священник наконец уснул, ему приснился странный сон. Он увидел смуглого мужчину в причудливых шелковых одеждах, который приветливо улыбался другому человеку, медленно приближавшемуся к нему в развевавшемся на ветру белом хитоне. Фигура второго человека была какой-то призрачной и расплывчатой, и лица его невозможно было разглядеть.
Когда взошло солнце, священник уже не спал. Торопливо облачившись в ризу, он направился в церковь, чтобы отслужить утреннюю мессу. Поскорее исполнив свои обязанности, он уже в сутане зашел на кухню, где готовила завтрак мадам дю Шамп, его экономка.
— Доброе утро, месье кюре! Как вам сегодня спалось? Вы что-то неважно выглядите, — сказала она с материнской заботой в голосе. — Садитесь позавтракайте, подкрепите свои силы.
Мадам дю Шамп была его экономкой вот уже десять лет, с тех пор как он стал священником этой церкви. Она была прекрасной кухаркой и сердечной женщиной, заботившейся о нем, как о сыне, которого у нее никогда не было.
— Доброе утро, мадам дю Шамп! К сожалению, сейчас я не успею позавтракать — мне нужно нанести срочный визит.
Экономка строго взглянула на священника, отказываясь понимать, по какой причине можно было отказаться от завтрака: она никогда не могла допустить, чтобы кюре остался голодным.
— Не огорчайтесь, я съем свой завтрак, как только вернусь, — попытался успокоить священник обескураженную женщину и, не дав ей времени ответить, надел шапочку и поспешно удалился, чувствуя себя несколько виноватым.
Как только он вышел на улицу, яркий солнечный свет ослепил его. Утро было превосходное. Священник сунул руку в карман и, убедившись, что мешочек с медальоном на месте, решительно зашагал вперед по бульвару. Идти было недалеко. Пройдя по улице Эколь, кюре оказался перед фасадом Сорбонны.
Он провел в этом здании много времени, но оно по-прежнему не переставало его зачаровывать. Священник в который раз окинул восхищенным взглядом знакомые арки и два ряда окон над ними. Фасад Сорбонны был величествен, несмотря на свою простоту. Пройдя под аркой, кюре оказался в вестибюле — огромном зале со сводчатым потолком, с которого свисали чугунные фонари. На другом конце вестибюля находилась большая парадная лестница, ведшая в амфитеатр и актовый зал. Каменные Архимед и Гомер невозмутимо наблюдали за всеми входящими в здание, словно охраняя его.
Священник направился к галерее Жерсон, соединявшей естественнонаучный и гуманитарный факультеты. Быстрым шагом он прошел по ней по направлению к комнатам ректората, где находился кабинет его друга Боссюэ. Прежде чем войти, кюре осторожно постучал в дверь.
— Сейчас я подойду. Если хотите, можете присесть, — раздался голос Жиля из маленькой смежной комнаты, которую он называл своей святая святых. Там Боссюэ хранил наиболее ценные вещи: древние документы и рукописи, редкие археологические находки и даже — к великому ужасу священника — несколько голов миссионеров, отрезанных и мумифицированных дикими южноамериканскими индейцами.
Дожидаясь, пока Жиль закончит свою работу и выйдет к нему, священник оглядывал кабинет. В нем все было по-прежнему. Интерьер отличался скромной элегантностью, столь характерной для всего факультета естественных и точных наук и резко контрастировавшей с помпезностью гуманитарного. В кабинете было одно большое окно, выходившее на улицу Эколь, вдоль остальных трех стен стояли дубовые стеллажи с книгами, расставленными, очевидно, как попало, безо всякой системы. Массивный дубовый стол, слишком большой для такого кабинета, стоял в центре у окна и был весь завален бумагами.
— А, это ты, Жак, здравствуй, — удивленно сказал Боссюэ, выйдя наконец из соседней комнаты. — А я думал, это опять тот несносный архитектор. Если бы я знал, что это ты, я бы не заставил тебя ждать. Надеюсь, ты на меня не в обиде?
Жиль, конечно же, имел в виду Анатоля Бодо — одного из архитекторов, занимавшихся строительством новых зданий университета. Жак не знал, почему Боссюэ недолюбливал этого архитектора, но подозревал, что это было вызвано чрезвычайным несходством их взглядов. Бодо был слишком консервативен и ненавидел любые новшества. Он даже бросил вызов самому Александру Гюставу Эйфелю, поспорив на круглую сумму, что спроектированная тем грандиозная башня, строившаяся для Всемирной выставки, не будет держаться без бетона.
— Что ты, какая обида! — сказал священник, махнув рукой. — А знаешь, почему я сегодня здесь? У меня есть для тебя подарок.
— В самом деле? И что же это?
— Сам не знаю, дружище. Потому и принес тебе.
Жиль взглянул на него с заинтересованным нетерпением ребенка, рассчитывающего получить конфету. Натура у него была страстная, жадная до познания, и священник часто думал, что, если бы в сердце Жиля было хоть немного веры, он был бы способен на любые свершения.
Развязав мешочек, полученный от лавочника, Жак с театральной торжественностью извлек из него медальон и вручил его Боссюэ. Тот внимательно, с необыкновенной почтительностью рассмотрел его, что очень тронуло священника.
— Где ты нашел это? — спросил наконец Боссюэ, оторвавшись от медальона.
— Боюсь, ты не поверишь мне, если я расскажу тебе эту историю, — со странной усмешкой ответил Жак.
Жиль пристально посмотрел в глаза своему другу и, убедившись, что тот не шутит, сказал:
— Что ж, в любом случае расскажи.
— Хорошо, как хочешь. Сегодня ночью этот медальон принес мне в церковь один лавочник, торговец рыбой. И вот что он мне рассказал. Он шел по набережной и вдруг увидел в реке сияние. Он стал всматриваться и потом неизвестным образом (он не помнит как) упал в воду. Тогда что-то схватило его за ногу, и он не мог освободиться до тех пор, пока не нашел вот это, — сказал священник, указав пальцем на медальон.
— Ну и ну, занятная сказка! — воскликнул Боссюэ, с трудом сдерживая смех. — Послушай, ведь неподалеку от твоей церкви находится больница-приют. Ты не думал, что этот человек — просто умалишенный, сбежавший оттуда? — прибавил он и, не выдержав, расхохотался.
— Я же говорил, что ты мне не поверишь, — спокойно произнес священник, когда его друг перестал смеяться.
— Извини, Жак, пожалуйста, извини, — сказал Жиль, изо всех сил стараясь не засмеяться снова.
— Хорошо. Ну, так что ты об этом думаешь?
Посерьезнев, Боссюэ повертел медальон в руках, осмотрел обе его стороны и долго разглядывал гравировку. Сосредоточенно нахмурившись, он достал из ящика письменного стола очки, надел их и поднес медальон к глазам, чтобы рассмотреть его еще лучше. Священник заметил, как по лицу Жиля скользнуло удивление, тотчас скрывшееся за обычным для него невозмутимым выражением.
— Скорее всего он сделан из свинца, но для полной уверенности это еще нужно проверить, — сказал Боссюэ, взвешивая медальон на ладони. — Эти символы по краям — древние геральдические гербы, вероятно, французские. Что же касается гравировки наверху, то, похоже, это изображение…
— Святой плащаницы, — закончил его фразу священник.
— Да, очевидно, — подтвердил Жиль и, усмехнувшись, добавил: — Я вижу, ты неспроста принес мне это в подарок. Кажется, мой добрый друг Жак сам очень интересуется этим медальоном. Или я ошибаюсь?
— Нет, ты не ошибаешься, — улыбнувшись, признался священник. — Скажу тебе честно, я очень заинтригован той невероятной историей, которую рассказал мне торговец рыбой, и…
— И что?
— Да нет, ничего, пустяки.
Священник хотел было рассказать, какие необъяснимые ощущения вызывал у него этот медальон, но передумал: Жиль был не тем человеком, который мог бы в такое поверить. Умолчал он и о своем странном сне.
— Хорошо. Я займусь этим медальоном, как только у меня появится хоть немного времени. Ты не представляешь, дружище, сколько на мне висит бессмысленной бумажной волокиты. Наш мир погряз в бюрократии.
— Спасибо, Жиль, что согласился взяться за это, — сказал священник, вставая.
— Не за что. Я сообщу тебе все, что мне удастся узнать.
Боссюэ проводил священника до дверей кабинета, и они попрощались, сердечно пожав друг другу руки. Жиль закрыл дверь и некоторое время стоял в задумчивости, прислушиваясь к удалявшемуся по коридору звуку шагов. Потом он уселся в кресло и принялся снова рассматривать медальон. Солнечный свет, проникавший в окно, делал его тусклую голубовато-серую поверхность слегка блестящей.
— Святая плащаница, — повторил Жиль с усмешкой, вспомнив слова священника.
Вдруг по его руке пробежали мурашки. «Статическое электричество, — тут же подумал он, — несомненно, статическое электричество. Несомненно… Хотя вообще-то свинец плохо проводит электрический ток. Любопытный случай», — сказал себе Жиль.
Покинув кабинет Боссюэ, священник направился к галерее Сорбонна, названной в честь основателя университета. Эта галерея вела во внутренний двор, по бокам которого располагались учебные корпуса, а на противоположном конце возвышалась церковь. Священник пересек двор, поднялся по каменным ступеням и, пройдя мимо огромных коринфских колонн, вошел в церковь.
Внутри было прохладно и тихо. Свет, проникавший через овальные окна наверху, оставлял на полу под куполом овальные пятна. В его лучах были видны висевшие в воздухе пылинки, казавшиеся блестящими мелкими крапинками. Все в церкви излучало мир и спокойствие. Священник свернул налево и направился в глубину нефа. Проходя мимо гробницы Ришелье, он едва взглянул на надгробную скульптуру, изображавшую кардинала с двумя скорбящими аллегорическими фигурами у ног и у изголовья. Священник, не замедляя шаг, прошел дальше и, приблизившись к алтарю, опустился на колени и стал молиться.
Когда Жак закончил свои молитвы, было уже около полудня. В этот час солнце, находившееся почти в зените, ярко освещало внутренний двор, и окружавшие его здания практически не отбрасывали тени. Священник подумал, что должен поторопиться: нужно вернуться домой, пока мадам дю Шамп не начала волноваться. Нельзя было опоздать к обеду. Жак уже почти пересек двор, как вдруг что-то заставило его поднять глаза. Наверху, у основания крыши, находились солнечные часы, а под ними была надпись — слова из Священного Писания, заключенные в позолоченную бронзовую рамку. «Sicut umbra dies nostri», — гласила она. Это означало: «Как тень дни наши на земле».
Прочитав эти слова, священник почувствовал, как по его телу, несмотря на жаркое утро, пробежал мороз.
1502, Флоренция
Салаи вернулся во Флоренцию через четыре дня после того, как отправился в Венецию за стеклом. По его словам, на обратном пути его застигла сильная буря, от которой он вынужден был несколько часов укрываться в ските, и потому задержался. Леонардо внимательно рассмотрел привезенное учеником стекло. На вид оно было самого высшего качества, но узнать это наверняка можно было лишь изготовив и отполировав лизну.
Рассмотрев стекло, Леонардо попросил Салаи вернуть ему оставшиеся деньги, но юноша стал уверять, что на покупку ушли все сто дукатов. Да и то, по его словам, ему долго пришлось торговаться с хозяином мастерской, чтобы он уступил стекло по такой цене — на самом деле стоило оно гораздо дороже. К тому же, клялся Салаи, чтобы восполнить недостаток денег, он отработал в стекольной мастерской целых полдня — и все из любви к своему учителю.
Юноша ожидал похвалы, но Леонардо молчал, конечно же, не поверив ни единому его слову: несомненно, и высокая стоимость стекла, и внезапно налетевшая буря были не более чем выдумками негодника. Леонардо был уверен, что Салаи, которого он всегда называл «воришкой, обманщиком, невежей и обжорой», истратил оставшиеся деньги (очевидно, немалые) на вино и развлечения с женщинами легкого поведения. Однако, несмотря ни на что, Леонардо любил своего ученика — несносного, неуправляемого, не имевшего художественного таланта, но необыкновенно красивого. Салаи понимал это и злоупотреблял расположением учителя, не испытывая ни малейшей признательности за его доброе отношение.
Леонардо был не способен наказать Салаи или хотя бы сурово его пристыдить: вместо этого он предпочел сразу же забыть наглую ложь своего любимого ученика и отогнать закравшуюся в сердце обиду. К тому же художник успокоил себя тем, что сейчас у него были дела поважнее: нужно было изготовить новую линзу и тщательнейшим образом ее обработать.
Да Винчи прекрасно владел технологией изготовления линз, давно занимаясь ее изучением и улучшением. Усовершенствованные им традиционные методы вырезания и шлифовки линз давали великолепные результаты. Выточив алмазным резцом из стекла линзу — словно скульптуру из глыбы мрамора, — ее нужно было тщательно отшлифовать абразивными инструментами, вплоть до самых мелкозернистых. Эта стадия обработки была решающей, поскольку при наличии изначальных внутренних дефектов линза могла растрескаться и стать непригодной.
Выточив из нового стекла диск, Леонардо обработал его железным напильником, чтобы устранить наиболее грубые неровности, а затем отшлифовал всю поверхность наждаком различной зернистости — начиная с крупной и заканчивая наиболее мелкой. Для самой деликатной завершающей полировки он использовал полировочную смолу с канифолью.
Никого из своих учеников, кроме Салаи, художник не посвятил в суть предстоящей ему работы. Этот заказ следовало держать в тайне — так было лучше для всех, в том числе и для самого Леонардо: Чезаре Борджиа был опасным человеком. Он не останавливался ни перед чем, и его преступления были одно гнуснее другого. Говорили даже, будто он состоял в кровосмесительной связи со своей собственной сестрой, красавицей Лукрецией, и папа Александр VI не порицал этого, поскольку сам использовал дочь для самых грязных дел — интриг, обманов, отравлений…
Молодой Борджиа, герцог Романьи и Валенсии, имевший сан кардинала и обладавший огромной властью, был человеком крайне неумеренным и противоречивым: честолюбие и алчность его не знали предела; он был самоуверен и в то же время очень недоверчив и осторожен. Коварный интриган, искусный в светском обращении и жестокий в действии, Чезаре был особенно страшен тем, что поступки его невозможно было предугадать. Острый ум и огромная власть не сделали его щедрым и мудрым благодетелем-меценатом, а напротив, превратили в человека осторожного и подозрительного, который, будучи тонким психологом, мог искусно манипулировать людьми.
Временами Леонардо спрашивал себя, как он мог поступить на службу к ужасному Борджиа, но все же чем-то этот человек его зачаровывал. Чезаре не был тонким ценителем искусства — его интересовала лишь красота оружия и военной формы, — но страстность и необузданность его натуры завораживали художника. Внешне младший Борджиа был человеком совершенно противоположным Леонардо, однако между ними было намного больше внутреннего сходства, чем художник готов был допустить…
Копия плащаницы должна была получиться. После стольких размышлений, проб и испытаний Леонардо был в этом почти уверен. Он не знал, будет ли полученное изображение безупречным, но не сомневался, что выбранный им путь правильный и единственно возможный. Как бы то ни было, подтвердить это мог только конечный результат. Леонардо во что бы то ни стало хотел добиться своей цели: это желание завладело всем его существом и увлекало художника вперед, как огромная волна разбушевавшегося моря. Да Винчи часто отказывался от своих проектов, когда видел, что не может достичь в реальности того совершенства, какое было создано в его воображении. Однако он никогда не приходил к мысли о бессилии творчества — напротив, им всегда владело стремление превзойти самого себя, осуществить невозможное, коснуться неба. «Упорная строгость» влекла художника к небесному совершенству, но именно на этом пути перед ним разверзались пропасти ада.
Сначала Леонардо решил сделать пробный отпечаток плащаницы. Для этого он взял другую, тоже новую, но менее качественную ткань и поместил ее в камеру-обскуру, закрепив на втором изготовленном каркасе. Прежде чем вынуть плащаницу из серебряного ларца, где она хранилась, Леонардо приказал Чезаре де Сесто и Зороастро покинуть комнату и ни при каких обстоятельствах не входить туда, пока он не разрешит. Лишь после того, как ученики ушли и Салаи запер дверь на тяжелую цепь, Леонардо достал плащаницу и закрепил ее на каркасе. Поскольку длина полотна была свыше четырех метров, он решил делать копию в два приема: сначала сделать отпечаток той части плащаницы, которая покрывала тело Спасителя сверху, а потом скопировать другую половину, на которой тело Иисуса было изображено со спины.
Линза, изготовленная из привезенного Салаи стекла, уже находилась в пробитом для нее отверстии в стене. Чтобы ось линзы точно совпадала с центром плащаницы на каркасе и не отклонялась от него, нужно было установить ее строго вертикально: для этого Леонардо предварительно вставил линзу в широкий металлический диск.
Все было готово — оставалось только ждать результатов. Время тянулось медленно. Сверкали зеркала, концентрировавшие свет на плащанице — на улице ярко светило солнце. Это можно было счесть хорошим предзнаменованием, но Леонардо не был суеверен. Стоявшие на столе песочные часы отмеряли отрезок времени, по истечении которого нужно было проверять интенсивность отпечатка на полотне.
Леонардо вошел в камеру-обскуру и замер в недоумении: на этот раз соли серебра совершенно не потемнели под воздействием света. Какова бы ни была причина этого, факт был налицо: никакого отпечатка не получилось. Это было совершенно необъяснимо, потому что предыдущий опыт, с конной статуей Франческо Сфорца, прошел успешно. Леонардо с нетерпением и беспокойством вглядывался в полотно, не понимая, что он сделал не так, и вдруг у него вырвался вздох облегчения: на ткани наконец начали проступать легкие бурые пятна. Изображение на плащанице было таким призрачным, что его отпечаток на полотне в камере-обскуре появлялся медленно и был сначала едва заметен. В нашей жизни многое происходит именно так — медленно и незаметно, и мы не замечаем этого, пока оно не поразит наше сознание своей очевидностью.
При виде появившегося на полотне отпечатка Леонардо охватило какое-то мистическое благоговение. Он не двигался с места и молча глядел на изображение, стоически перенося шум, доносившийся из соседней комнаты, где Салаи от скуки бросал игральные кости, сражаясь с самим собой. Любимый ученик Леонардо всегда отличался бесцеремонностью и непочтительностью, но мастер уже давно оставил надежду изменить его и лишь наивно надеялся, что под влиянием хорошего примера эгоистичный, грубый и ветреный характер юноши все же немного улучшится.
Вынеся полотно из камеры-обскуры и рассмотрев его при свете, Леонардо на несколько мгновений потерял дар речи от восхищения. Даже Салаи, никогда ничем не интересовавшийся по-настоящему, кроме распутства и кутежей, приблизился к копии, пораженный ее сходством с оригиналом. Даже самые мелкие детали отпечатались на полотне с совершенной ясностью. Продолжать пробу уже не было необходимости, и Леонардо решил не закреплять изображение, чтобы оно исчезло само собой: в любом случае его пришлось бы уничтожить, потому что сохранить такое свидетельство ни в коем случае было нельзя.
Безмятежный, величественный лик, излучавший таинственную, но почти осязаемую энергию, глядел на Леонардо, проникая в самую его душу, и мастер дал себе слово, что, как только окончательная копия плащаницы будет готова, он уничтожит линзу и никогда больше не прибегнет к изобретенному им способу.
1888, Париж
Библиотека Сорбонны располагалась в здании гуманитарного факультета, куда она была перенесена из восточной части университета — коллежа Людовика Великого на улице Сен-Жак. Библиотека имела обширные фонды, содержавшие разнообразную литературу по всем областям знания, и именно туда отправился Жиль на следующий день после разговора со своим другом, священником церкви Сен-Жермен, желая узнать побольше о загадочном медальоне.
В этот вечерний час в длинном и просторном читальном зале уже не было ни души. Столы и деревянные скамьи, выстроенные ровными рядами по всему залу, были пусты. Боссюэ провел в библиотеке уже несколько часов, но все еще не собирался уходить. Близились сумерки, и хотя через огромные окна до сих пор проникал свет, Жиль зажег стоявшую на столе газовую лампу.
Перед ним лежала толстая старинная книга с коричневым корешком; полустершаяся золотистая надпись на растрескавшемся переплете гласила: «Генеалогия и геральдика французского дворянства». Несколько часов назад Жиль попросил библиотекаря принести ему эту книгу и еще несколько подобных. Он уже долго просматривал их, но до сих пор ему не удалось ничего обнаружить. Возможно, несмотря на традиционно французскую форму, изображенные на медальоне гербы принадлежали вовсе не французскому дому. Они вполне могли оказаться итальянскими или, даже с большей вероятностью, арагонскими или каталонскими.
На первой странице книги были приведены слова испанского писателя XVI века по имени Хуан Флорес де Окарис: «Хотя геральдический герб является свидетельством знатности, не он делает человека дворянином, ибо благородство происхождения служит основой дворянского герба, а не наоборот».
Глаза Жиля были уже очень утомлены и болели. Он снял очки, зажмурился и слегка прижал веки ладонями. Когда взгляд его вновь прояснился, Жиль продолжил свои поиски, терпеливо листая страницу за страницей. И в конце концов он был вознагражден за свое упорство: когда им было просмотрено уже более половины книги, ему наконец попался один из тех гербов, которые он искал. Обрадованный своей находкой, Жиль положил медальон на страницу книги, чтобы тщательно рассмотреть и сравнить гербы. Рисунок в книге был плохо пропечатан, но, несмотря на это, не возникало никаких сомнений, что на медальоне был изображен тот же самый герб.
— До завтра, профессор, — раздался за его спиной голос.
Жиль вздрогнул от неожиданности и, резко повернувшись, чуть не порвал страницу. Это был библиотекарь: Боссюэ был так увлечен своим занятием, что не услышал, как тот подошел.
— Боже мой, Пьер, как вы меня напугали! — Жиль все еще не мог прийти в себя, и сердце его бешено колотилось.
— Простите, месье, — смущенно сказал библиотекарь. — Мне жаль, что так получилось. Я просто подошел предупредить, что мне пора уходить, и хотел узнать, не требуется ли вам что-нибудь еще.
— Ничего, ничего, все в порядке, — пробормотал Боссюэ, стараясь наконец успокоиться. — Спасибо вам, думаю, пока мне больше ничего не нужно.
— Тогда до завтра, месье.
— До завтра, Пьер.
Оставшись один, Жиль снова сосредоточился на книге и принялся изучать герб. Его изображение было довольно большим и занимало значительную часть страницы. Герб состоял из четырех частей: верхний левый фрагмент, с изображением красного мальтийского креста на белом фоне, совпадал с правым нижним; верхний правый и нижний левый фрагменты, где на красном фоне был изображен желтый лев, стоящий на задних лапах, также образовывали одинаковую пару. Под эмблемой Боссюэ прочитал: «Геральдический герб дома Шарни». Ниже следовало описание:
ГЕРБ: Четверочастный щит с изображением красного мальтийского креста на серебряном поле и желтого льва на красном поле.
Далее приводилась небольшая историческая справка, содержавшая краткие сведения о наиболее известных представителях этого дома.
Род Шарни заявил о себе во время первого крестового похода, провозглашенного папой Урбаном II 27 ноября 1095 года. Семнадцатилетний Кристиан де Шарни был среди рыцарей, отправившихся в поход под предводительством Готфрида Бульонского, герцога Нижней Лотарингии. После взятия Никеи и разгрома при Дорилее основных сил турецкого войска крестоносцы осадили Иерусалим. Вскоре город был взят, а находившиеся в нем мусульмане уничтожены. Де Шарни участвовал в осаде и штурме Иерусалима, как и во всех других сражениях на пути к Святому городу.
После окончания войны было образовано Иерусалимское королевство, главой которого стал Готфрид Бульонский. В числе оставшихся с ним в Иерусалиме рыцарей был и Кристиан де Шарни. Когда в 1100 году герцог Бульонский умер, Кристиан вернулся во Францию, в свои владения на севере, откуда вскоре снова отправился на войну. На этот раз вместе с Робертом II, герцогом Нормандии, который в 1101 году вторгся в Англию, чтобы отвоевать ее у своего брата Генриха. После пяти лет интриг, сражений и шатких перемирий Роберт потерпел поражение, и Нормандия перешла в руки Генриха I — короля Англии.
Не желая больше участвовать в междуусобных войнах христиан, Шарни присоединился к войску Гуго Шампанского, которое направлялось в Палестину, чтобы охранять Иерусалимское королевство. Во время длительного морского пути он познакомился и подружился с одним из предводителей по имени Гуго де Пейен. В 1118 году вместе с семью другими рыцарями он решил создать рыцарский орден для защиты паломников и обратился с этим предложением к правителю Иерусалимского королевства Болдуину II, которого Пейен знал еще со времен первого крестового похода. Рыцари были поселены в той части королевского дворца, где прежде находился храм Соломона, и поэтому их стали называть рыцарями храма, или храмовниками (тамплиерами).
В этом месте Жиль вынужден был прервать чтение: ему показалось, будто за его спиной раздался какой-то звук. Он поднял голову, однако, оглядевшись вокруг, убедился, что в читальном зале никого, кроме него, не было. Лишь с дальней стены за ним наблюдал со своего парадного портрета Арман Жан дю Плесси Ришелье. Могущественный кардинал с таким интересом смотрел на профессора, что казалось, будто он ожил на картине и вот-вот сойдет с нее и заговорит. Но не мог же портрет произвести этот шум? «Конечно же, нет, что за глупости лезут в голову, — сказал себе Боссюэ. — Скорее всего это просто скрипнуло старое дерево».
— Разрешите продолжить, монсеньор? — с ироничной почтительностью спросил Жиль кардинала, прежде чем снова углубиться в чтение.
Этот орден рыцарей-монахов был официально признан девять лет спустя, в 1127 году, на специально созванном соборе в Труа, при поддержке папы Гонория II. Кристиан де Шарни принадлежал к ордену тамплиеров до самой смерти, последовавшей в 1141 году.
В течение всего времени существования ордена род Шарни был неразрывно с ним связан. Согласно некоторым источникам, представители этого рода участвовали в походе на Константинополь, который был взят и разграблен в 1204 году. Однако после этой даты фамилия Шарни не появлялась в исторических документах на протяжении целого столетия — вплоть до того времени, когда над тамплиерами был устроен процесс, покончивший с орденом рыцарей храма. По приказу французского короля Филиппа IV Великий магистр Жак де Моле был сожжен на костре, и, как известно, среди казненных вместе с ним рыцарей был Жоффруа де Шарни, мастер ордена тамплиеров в Нормандии.
Прочитав про эту ужасную казнь, Боссюэ спросил себя, что заставило короля так жестоко расправиться с членами ордена тамплиеров и его руководителями. Чем они были неугодны?
Последующие годы были очень тяжелыми для рода Шарни. Многие его представители, тоже принадлежавшие к ордену, были лишены имущества, их подвергли допросу и заставили покаяться в присутствии свидетелей и епископа Равенны. Затем в течение нескольких десятилетий о роде Шарни опять ничего не было известно, пока на страницах истории не появился другой Жоффруа де Шарни — рыцарь, который, защищая своего короля Иоанна II, погиб в битве с англичанами при Пуатье. За несколько лет до этого Жоффруа попал к англичанам в плен, но ему каким-то чудом удалось сбежать из крепости, где он был заточен. Убежденный, что освободиться ему помогли высшие силы, Жоффруа решил построить церковь в местечке Лире. По его распоряжению там была воздвигнута часовня, ставшая местом хранения святой плащаницы Христовой, неизвестным образом попавшей в руки Шарни.
— Так вот оно что! — почти закричал Боссюэ. — Дело в том, что плащаница принадлежала семье Шарни!
Просмотрев следовавший дальше текст, он узнал, что женой Жоффруа де Шарни была Жанна де Вержи. Боссюэ обратился к алфавитному указателю и, отыскав в нем эту фамилию, открыл книгу на нужной странице.
— Это он! — торжествующе воскликнул Жиль, увидев герб. — Он самый!
Страница, посвященная роду Вержи, находилась почти в самом конце книги. Их фамильный герб полностью совпадал с эмблемой, изображенной на медальоне. Щит был разделен по диагонали справа налево: в верхней части на красном фоне была изображена башня, а в нижней на голубом фоне — желтая звезда. По диагонали проходила волнообразная бело-голубая перевязь. Под гербом Боссюэ прочитал описание:
ГЕРБ: Скошенный щит. В верхней части — серебряная башня на красном поле; в нижней — золотая звезда на лазурном поле. По диагонали — серебряно-лазурная перевязь.
Жиль с удовлетворением подумал, что тайна медальона была разгадана, и сделать это оказалось гораздо легче, чем он предполагал. Однако вскоре ему пришлось убедиться в том, что это было лишь первое звено целой цепи загадок.
1502, Флоренция
Если пробное испытание с линзой из венецианского стекла прошло вполне успешно, то окончательная копия, сделанная на великолепном полотне из мастерской Шевола, получилась еще более точной и совершенной. Для закрепления изображения Леонардо подвергнул полотно воздействию паров ртути, предварительно разогрев ее в котелке, поскольку при комнатной температуре этот жидкий металл испаряется медленно. Затем он опустил полотно в насыщенный водный раствор поваренной соли и оставил его там на всю ночь, считая, что чем тщательнее будет промыта ткань, тем лучше сохранится изображение.
На копии плащаницы отчетливо отпечатались все детали оригинала: страшные следы жестоких истязаний Христа, пятна, оставшиеся от капель восковых свечей, и прожженные места — свидетельства многочисленных пожаров, едва не уничтоживших реликвию. Теперь оставалось лишь воспроизвести на копии поверх отпечатков натуральные следы крови, воска, огня…
Будучи искушен в области анатомии и физиологии, Леонардо обратил внимание на то, что пятна крови на ткани были окружены серозной жидкостью. Таким образом, след от каждой раны образовывал два пятна: одно, меньшее по размеру, — темное и отчетливое, а другое, окружавшее первое, — расплывчатое и едва заметное. Такие следы могли остаться на полотне только от крови, вытекавшей из свежей раны. Поэтому да Винчи решил взять живого кролика, надрезать ему ножом горло так, чтобы из аорты полилась кровь, и, подставив под нее воронку с длинной тонкой трубкой, делать концом этой трубки пятна на ткани.
Это решение казалось разумным, но потом художнику пришло в голову, что, возможно, высохшая кровь кролика будет выглядеть не так, как кровь человека. Кроме того, ему было жаль бедное животное, которое пришлось бы обречь на медленную и мучительную смерть. В конце концов Леонардо, чтобы не осквернять изображение Человека кровью убитого существа, отказался от прежней идеи и решил использовать свою собственную кровь, сделав разрез на левом плече.
Воспроизвести следы, оставленные на полотне свечами, было значительно легче: за много веков существования плащаницы капли, прилипшие некогда к полотну, давно отвалились, и на нем остались лишь пятна воска, проникшего глубоко в ткань. Чтобы скопировать эти следы, Леонардо слегка закапал воском соответствующие участки: впоследствии, под воздействием высокой температуры в печи, эти капли должны были расплавиться и образовать такие же пятна, какие были на настоящей плащанице.
Наконец, чтобы воспроизвести на ткани разрывы и следы пожаров, Леонардо поступил следующим образом. Сделав на соответствующих местах дыры такой же формы, как на оригинале, но меньшего размера, он подпалил или обтрепал их по краям в зависимости от того, что нужно было изобразить, — прореху или след от огня. Края самого полотна Леонардо тоже сделал неаккуратными и бахромчатыми, словно они были безжалостно истрепаны временем.
Когда все было сделано, мастер, переполняемый гордостью, долго смотрел на свою работу, потребовавшую от него столько изобретательности, терпения и упорства. В это творение он вложил весь свой ум, все свои душевные силы. Леонардо с большим трудом заставил себя отвести взгляд от полотна, чтобы перейти к последнему, завершающему этапу. Намотав изготовленную плащаницу на поперечины деревянной подставки, он положил ее в железный сундук, а сундук поставил в огромную печь, служившую для обжига керамических изделий. Это было необходимо для того, чтобы «состарить» новую ткань и сделать ее неотличимой от того древнего полотна, которое пятнадцать веков назад послужило погребальным саваном Иисусу.
На следующий день мастер должен был отправиться в Рим. Угрызения совести не давали ему покоя, и душа его была в смятении. Внезапно Леонардо вспомнилось начало старинного христианского гимна, которому в раннем детстве учила его приемная мать: «Te Deum laudamus; te Dominum confitemur» («Тебя, Бога, хвалим; Тебя, Господа, исповедуем»). Эти исполненные веры слова его несколько успокоили.
По прибытии в Ватикан Леонардо передал Борджиа святую плащаницу и сделанную им копию, испытывая при этом чрезвычайное неудовольствие, но, разумеется, никак не проявив его внешне. У него было такое чувство, будто он отдавал свою дочь замуж за гнуснейшего человека. Хотя Леонардо был не слишком религиозен, ему казалось кощунством, что такие порочные люди, как Борджиа, будут владеть подлинной плащаницей. Его утешало лишь то, что реликвия будет пребывать в целости и сохранности в Ватикане.
Увидев сделанную Леонардо копию, Александр VI и молодой Борджиа стали расточать ему похвалы, лишь раздражавшие мастера. К тому же если Чезаре похвалил работу да Винчи из простой необходимости быть учтивым, то папа долго и неумеренно высказывал свое восхищение, очевидно, сам получая удовольствие от своей лести.
Как бы то ни было, несмотря на сдержанность похвалы, именно Чезаре был в этот момент по-настоящему взволнован. Не из тщеславия хотел он обладать подлинной плащаницей, а из неукротимого стремления к власти и могуществу. Борджиа был уверен, что, завладев реликвией, станет непобедимым, однако в действительности все получилось наоборот: вместо дальнейшего возвышения, на которое он рассчитывал, его ожидало внезапное и стремительное падение.
Все то время, пока Леонардо работал над копией плащаницы, Чезаре, сгорая от нетерпения, спрашивал себя, сможет ли мастер выполнить этот заказ. Борджиа прекрасно понимал, что сделать это будет нелегко, и потому разработал план, который позволил бы ему оставить у себя плащаницу даже в том случае, если копия не получится.
Однако удача тогда еще не отвернулась от Чезаре: Леонардо удалось выполнить заказ, и копия была безупречной. Это избавляло молодого Борджиа от многих затруднений, и он тут же приступил к осуществлению своего первоначального изощренного плана. Прежде всего он отправил посыльного в Шамбери с известием о том, что в Риме папской охраной была схвачена похитительница плащаницы, пытавшаяся получить у патриарха аудиенцию, чтобы продать ему реликвию.
Все получилось именно так, как было задумано. Герцоги Савойские, всегда враждовавшие с Борджиа, тотчас прислали ответ с выражением огромной признательности и учтивейшей просьбой вернуть им плащаницу. В знак благодарности они к тому же сопроводили письмо дорогим подарком. Чезаре, довольный тем, что все шло по плану, без колебаний приказал обезглавить женщину, укравшую для него реликвию и ставшую в последнее время его любовницей. Ее голову в корзине и поддельную плащаницу в серебряном ларце он отослал герцогам Савойским. Таким образом, молодой Борджиа добился для себя двойной выгоды: он не только стал владельцем подлинной плащаницы, но и сделал могущественный род своими должниками.
Однако удачное осуществление коварного замысла не привело Чезаре к желаемому возвышению. В следующем, 1503 году умер папа Александр VI — вероятно, отравленный своей собственной дочерью Лукрецией, которой надоело быть игрушкой и марионеткой в его руках. Смерть Александра VI подорвала могущество рода Борджиа: несмотря на то что всем заправлял Чезаре, власть ему обеспечивал именно папа.
Началом окончательного падения рода Борджиа стало избрание на престол святого Петра Джулиано делла Ровере после непродолжительного понтификата Пия III. Новый папа Юлий II (заказавший Микеланджело роспись потолка Сикстинской капеллы в Ватикане) был давним врагом Чезаре. Он сразу же решил расправиться с молодым Борджиа и отдал приказ арестовать его. Чезаре вынужден был бежать в Неаполь, вот уже более года находившийся в руках испанцев.
Однако обосноваться в Неаполе Борджиа так и не удалось. Король Фердинанд Католический, ставший регентом Кастилии после смерти королевы Изабеллы, не желая портить отношения с Римом, велел арестовать его. Чезаре был схвачен Гонсало Фернандесом де Кордовой и переправлен в Испанию, где содержался в заключении в крепостях городов Мота и Чинчилья. Через некоторое время ему опять удалось бежать — на этот раз в Наварру, король которой Хуан III был его шурином. Борджиа участвовал в войне Наварры с Кастилией, во время которой погиб в 1507 году при осаде Вианы и был похоронен в церкви, под каменной плитой в середине нефа. С тех пор эту плиту попирали своими ногами благочестивые прихожане, которым не было дела до того, насколько могуществен некогда был человек, покоящийся под ней.
1888, Париж
Хотя Жиль Боссюэ преподавал в Сорбонне математику, круг его интересов, разумеется, не ограничивался одной этой наукой. Как истинному ученому, ему были интересны самые различные области знания: он был не чужд гуманитарным дисциплинам и имел обширные познания в области физики и химии. Жиль часто работал в университетских лабораториях, особое внимание уделяя химическим опытам и экспериментам. Его увлеченность этим предметом заходила так далеко, что преподаватель химии называл Боссюэ Алхимиком и в шутку высказывал опасения, что когда-нибудь Латинский квартал Парижа взлетит на воздух из-за его экспериментов.
Именно в химическую лабораторию отправился Жиль этим вечером, желая выяснить, из какого материала был изготовлен медальон. С того дня, когда он узнал, кому принадлежали выгравированные на нем гербы, у профессора никак не было времени вернуться к исследованию. Лишь почти неделю спустя, поздним вечером, Жилю наконец удалось освободиться от связывавших его обязанностей и занятий. Была уже почти половина двенадцатого, и в лаборатории никого, кроме него, не было.
Стены комнаты были выложены белоснежными изразцами, а воздух пропитан острым, терпким запахом, происходившим, очевидно, от смеси дезинфицирующего средства с каким-то сернистым соединением. Большая часть лаборатории была заставлена столами, каждый из которых был снабжен небольшим краном. На столах было выстроено огромное множество утвари, необходимой для экспериментов: прозрачные бутылки со всевозможными веществами, названия которых были написаны на белых выцветших этикетках, пипетки, газовые горелки Бунзена, пинцеты различного размера, весы и, конечно же, колбы, мензурки, пробирки и причудливо изогнутые трубки, словно искривленные адскими муками.
Войдя в лабораторию, Жиль направился в противоположный двери конец, где находился самый большой стол с несколькими кранами и множеством самой разнообразной утвари. За этим столом работал преподаватель во время занятий со студентами, и здесь же Боссюэ проводил свои эксперименты. За столом у стены стоял огромный шкаф со стеклянными дверцами, где под замком хранились наиболее ценные или опасные химические вещества.
В лаборатории царила довольно зловещая атмосфера, чему способствовала, помимо всего прочего, старая студенческая легенда, ходившая среди первокурсников благодаря стараниям их старших товарищей. Боссюэ усмехнулся, вспомнив эту страшную и в то же время не имевшую никакой реальной основы историю: рассказывали, будто в этом месте произошло ужасное преступление — разъяренный отец убил собственную дочь и ее любовника. С тех пор, гласила легенда, призраки двух влюбленных стали появляться в лаборатории по ночам — в тот самый час, когда они были убиты.
Однако, насколько Жилю было известно, в Сорбонне никогда не случалось ничего подобного. В любом случае ему ни разу не доводилось видеть в лаборатории мятущуюся душу, требующую отмщения. «За местью сюда могли явиться разве что студенты, жаждущие головы профессора», — с усмешкой подумал он.
Несмотря на усталость, Боссюэ был в веселом расположении духа. Все еще улыбаясь, он вынул из мешочка медальон: следовало проверить, действительно ли этот предмет был из свинца, как казалось на первый взгляд. Еще раз с интересом рассмотрев вещицу, Боссюэ положил его на весы и определил ее точную массу: 387 г.
— Ну и тяжеленный, — пробормотал Жиль, записав показания.
Теперь нужно было измерить объем медальона. Боссюэ отыскал на столе мензурку и подставил ее под кран, чтобы налить воды. Однако вода из крана так и не потекла: вероятно, преподаватель химии, уходя, из предосторожности закрутил вентиль. Сам Жиль часто забывал это сделать, покидая лабораторию последним. На этот раз он, по своему обыкновению, сказал себе, что нужно будет обязательно перекрыть воду перед уходом, но вероятность того, что он вспомнит об этом, была, как всегда, невелика.
Перегнувшись через стол, Жиль стал шарить рукой за краном, пытаясь найти вентиль на ощупь. Наконец он нащупал его пальцем, но не смог дотянуться до него всей рукой. Подавшись еще сильнее вперед, Жиль уронил что-то на столе, и оно стало впиваться ему в живот. Он подумал, что проще было бы обойти стол, но все равно продолжал упорно тянуться к вентилю с другой стороны. Наконец ему удалось открыть воду, о чем возвестило послышавшееся в трубе бульканье и шипение. Распрямившись, профессор обнаружил, что им были опрокинуты весы: они лежали перевернутые на столе и казались раскинувшей лапы железной птицей, порожденной воображением месье Верна.
Боссюэ поднял весы и отставил их в сторону. Затем, налив в мензурку воды, он погрузил в нее медальон, чтобы определить его объем. Что, казалось бы, могло быть проще? «Объем погруженного в воду предмета равен объему вытесненной им воды». Жиля всегда удивлял тот факт, что это открытие пришло в голову греку, жившему больше двух тысяч лет назад. Чтобы рассчитать плотность вещества, оставалось лишь поделить массу предмета на его объем. На основании полученного результата можно было бы определить, действительно ли исследуемый металл был свинцом или нет.
Под столом, со стороны шкафа, было множество выдвижных ящиков, где хранились различные публикации и исследования, справочные материалы и химические трактаты. Часть ящиков покосилась под весом их содержимого, и многие бумаги — особенно редко вынимаемые — были покрыты толстым слоем пыли. Жиль вытащил из кармана ключ и, отомкнув им ящик с надписью «ТАБЛИЦЫ», потянул его на себя. Полозья громко заскрипели, и Боссюэ почувствовал легкий запах гнилого дерева и старой бумаги. В ящике было несколько коричневатых папок с надписями на корешке. На одной из них было написано: «ТАБЛИЦЫ ПЛОТНОСТЕЙ». Это было именно то, что искал Жиль.
Собранные в папке листы содержали относительные плотности всех известных на тот момент веществ, перечисленных в алфавитном порядке. Боссюэ пробежал глазами список, проведя по нему пальцем, до тех пор пока не нашел свинец. Однако, узнав, какова была плотность этого металла, он был несколько разочарован: она не совпадала с полученным им результатом, причем разница была слишком большой, чтобы ее можно было счесть простой погрешностью измерения. Исходя из этого, можно было сделать вывод, что медальон был изготовлен из какого-то другого металла или сплава либо был полым внутри (а возможно, имело место и то и другое).
Боссюэ был почему-то уверен, что медальон был сделан именно из свинца, хотя это вполне мог быть и какой-нибудь другой металл, близкий по плотности. Цинк и висмут следовало исключить сразу, поскольку, как было известно Жилю, первый из них в чистом виде был голубовато-белым, а второй — розоватым. Можно было предположить, что медальон отлит из олова, хотя его внешний вид не слишком подтверждал эту гипотезу. Более правдоподобным вариантом казался таллий. Жиль знал, что этот металл приобретает под воздействием воздуха такой же синевато-серый цвет, как и свинец, и оба этих элемента отличаются мягкостью и ковкостью. Однако таллий совсем недавно открыл профессор Сорбонны Клод Огюст Лами, и он был очень редким по сравнению со свинцом. Оба металла не были подвержены воздействию сильных кислот, за исключением азотной кислоты. Так что единственным надежным способом, позволявшим отличить таллий от свинца, было определение температуры кипения исследуемого металла.
Боссюэ не собирался раскалывать медальон: для опыта достаточно было лишь нескольких стружек. Он отыскал на полке металлический напильник, но, снова повернувшись к столу, почувствовал, что у него перехватило дыхание. Напильник выскользнул из его пальцев и со звоном упал на каменный пол. В горле у Жиля пересохло и кровь бешено застучала в висках. Он хотел подойти поближе, чтобы выяснить, в чем было дело, но не мог сдвинуться с места. Боссюэ изо всех сил зажмурил глаза и замер, пытаясь убедить себя в том, что все ему просто привиделось.
1504, Неаполь, Поблет, Париж
Гонсало Фернандес де Кордова, Великий Капитан, герцог Сантанхело и командор ордена Святого Иакова, был главнокомандующим испанских войск, отвоевавших Неаполь у французов. Проведя два года в Испании, он снова вернулся в Италию, чтобы заняться распределением территорий между французами и испанцами в соответствии с договором Шамбор — Гранада. Однако вскоре между двумя сторонами вспыхнули разногласия по этому поводу. Французы превосходили испанцев по численности, но Великий Капитан, проявив свои незаурядные стратегические способности, сдерживал с помощью пехоты и артиллерии наступление французских войск до тех пор, пока не пришло подкрепление от короля Фердинанда Арагонского. Французы были разбиты, и Фердинанд пожаловал Великому Капитану титул вице-короля Неаполитанского.
Фернандес де Кордова еще до отвоевания у арабов Гранады принадлежал к ордену Святого Иакова, основанному в 1161 году двенадцатью леонскими рыцарями во главе с Педро де Ариасом, его первым магистром. Изначальной целью этого ордена была охрана христиан, совершавших паломничество в Сантьяго-де-Компостела. Однако через некоторое время рыцари ордена Святого Иакова стали вести борьбу против сарацин на всем Пиренейском полуострове.
Так же как и в ордене тамплиеров, внутри этой организации вскоре стали возникать тайные общества, члены которых — самые посвященные и мудрые рыцари — занимались запретными практиками вроде магии и алхимии. Когда королевская власть сама стала контролировать орден, тайные общества внутри его продолжали существовать, но состоявшие в них рыцари вынуждены были проявлять еще большую осторожность, чем раньше. С тех пор они стали собираться лишь в некоторых монастырях цистерцианского ордена, близкого им по духу и не утратившего со времен святого Бернара понимания истинной миссии Христовых воинств.
Великий Капитан был одним из самых выдающихся рыцарей ордена Святого Иакова: он принимал участие в его тайной деятельности и сражался во имя его идеалов. В сражениях его охраняла группа из двенадцати рыцарей ордена (по числу его основателей) в белых цистерцианских плащах с красным крестом, нижняя часть которого заканчивалась лезвием меча.
Фернандес де Кордова всегда жаждал устранить с политической арены Италии молодого Борджиа, которого он считал подлым и чудовищным преступником. Поэтому Великий Капитан был несказанно рад, когда испанский король после долгих колебаний дал наконец разрешение схватить Чезаре: Фердинанд был мудрым политиком и никогда бы не принял решение опрометчиво, во вред государственным интересам.
Схватив Борджиа, Великий Капитан обнаружил и серебряный ларец с плащаницей, спрятанный в подвале дворца, где тот укрывался. Фернандес де Кордова приказал двум приближенным к нему надежным рыцарям, также принадлежавшим к ордену Святого Иакова, охранять реликвию в дороге и по возвращении на Пиренейский полуостров отвезти ее в Каталонию, в монастырь Поблет. Находившийся там магистр ордена тамплиеров Испании, скрывавшийся под сутаной монаха-цистерцианца, должен был решить, что делать с плащаницей.
После того как в XIV веке орден тамплиеров был уничтожен французским королем Филиппом IV Красивым — коварным и алчным человеком, жаждавшим завладеть сокровищами храмовников, — некоторые рыцари, которые смогли бежать или были освобождены от возведенных на них ложных обвинений, обосновались в монастырях цистерцианцев или госпитальеров. В тайные общества тамплиеров, продолжавшие существовать после официального их запрещения, входили также и некоторые члены ордена Святого Иакова.
Несмотря на то что большинство живших в то время тамплиеров были каталонского и арагонского происхождения, центр этого тайного общества находился на родине основателей ордена — в Париже, в монастыре близ Нотр-Дама, на южном берегу Сены.
Когда рыцари, охранявшие плащаницу, плыли на корабле в Испанию, море было спокойным: казалось, будто даже стихия благоговела перед реликвией и помогала ей в путешествии. К вечеру четвертого дня на горизонте наконец показалась земля Испании. Корабль вошел в порт Барселоны, и рыцари сошли на берег с деревянным ящиком, где был спрятан серебряный ларец с плащаницей. Оттуда они благополучно добрались до Поблета на телеге, не попавшись по дороге ни разбойникам, ни королевским солдатам. О содержимом ящика и их миссии никто не должен был знать.
По прибытии в монастырь рыцари передали плащаницу магистру ордена тамплиеров Испании, аббату Раймундо де Салазару, который был крайне взволнован и удивлен появлением реликвии. Прежние владельцы плащаницы уже давно передали ее герцогам Савойским, и совершенно невозможно было объяснить, каким образом и при каких обстоятельствах она попала в руки Борджиа. Это заставило аббата усомниться сначала в подлинности привезенной ему реликвии, однако, как только он увидел запечатленный на полотне образ Иисуса, все сомнения тотчас отпали: это была именно она, святая плащаница Христова.
Аббат, следуя своему долгу, отправил одного из рыцарей, доставивших плащаницу, с посланием к Великому магистру ордена тамплиеров, приглашая его приехать в Поблет, чтобы решить судьбу неожиданно обретенной бесценной реликвии. Это послание было спрятано внутри медальона с изображением плащаницы и гербов Шарни и Вержи — двух французских родов, владевших реликвией до ее передачи герцогам Савойским. Только таким образом члены ордена могли передавать сообщения из одного монастыря в другой. Никто посторонний не догадался бы, что внутри медальона спрятано тайное послание.
Получив от аббата поручение отвезти письмо Великому магистру во Францию, рыцарь ордена Святого Иакова незамедлительно отправился в путь. Он без устали скакал и днем, и ночью, меняя лошадей на попадавшихся по дороге постоялых дворах и позволяя себе поспать лишь несколько часов в сутки. Времени терять было нельзя: весть о святой плащанице должна была прийти к великому магистру без малейшего промедления.
Подъезжая к Парижу, посыльный издалека увидел очертания готического собора Нотр-Дам, возвышавшегося посреди Сены на острове Сите, где в давние времена возник город, названный римлянами Лютецией. Рыцарь направил лошадь к одному из мостов: монастырь тамплиеров находился на противоположном берегу реки, неподалеку от собора. Он благополучно пересек Понт-о-Шанж, но на другой стороне его остановил патруль. Капитан приказал ему спешиться и показать свои документы. Однако монах не подчинился: в Париже рыцарям Христа всегда грозила опасность — в особенности со стороны властей.
Солдаты окружили посыльного, и он понял, что должен вырваться от них во что бы то ни стало, чтобы выполнить свое поручение. Пришпорив лошадь, рыцарь поскакал прямо на солдат, но один из них бросился на него и вцепился ему в горло, пытаясь свалить с седла. В этот момент цепочка, висевшая на шее у рыцаря, оборвалась, и медальон с посланием для Великого магистра сгинул в темных водах реки. Вырвавшись из рук солдата, монах погнал лошадь вперед, но другой патрульный выстрелил в него из арбалета. Стрела вонзилась рыцарю в спину с левой стороны, и наконечник прошел насквозь на уровне плеча.
Рана была очень серьезной, возможно, даже смертельной, и гонец сразу же понял это. Он с трудом держался на лошади, но, помня о важности своего поручения, продолжал скакать, собрав последние силы. Посыльный добрался до монастыря, истекая кровью, и рассказал Великому магистру о плащанице. Медальон с посланием был потерян, но рана рыцаря и огромное кровавое пятно на его плаще были слишком красноречивы, чтобы можно было усомниться в правдивости его слов. Рыцарь выполнил свой долг и вскоре умер со спокойной душой, не подозревая, что капитан, возглавлявший патруль, проследовал за ним до самого монастыря, где жили тамплиеры. В ту же ночь монастырь окружили сотни солдат, и монахам было приказано выйти и сдаться. Однако никто не вышел. Рыцари храма решили в очередной раз принести себя в жертву.
Тогда солдаты стали пускать горящие стрелы в окна и на крышу монастыря и подожгли телегу с сеном у его входа. Через несколько минут огонь распространился по всему зданию. Сначала внутри стояла гробовая тишина, но потом оттуда, словно издалека, донеслось мрачно-торжественное пение сотен голосов. Люди, обреченные на жуткую смерть, не кричали от страха, как следовало бы ожидать, а пели гимн Господу. Слышался треск горящего дерева, и языки пламени, вздымавшиеся все выше и выше, казались разинувшим пасть свирепым чудовищем, жадно утолявшим свой неистовый голод.
Здание было уже полностью охвачено огнем, и вдруг капитель, отколовшаяся от колонны, полетела вниз и упала неподалеку от предводителя напавших на монастырь солдат. Лошадь испугалась и понесла, сбросив своего седока. Посреди ясного неба грянул гром, и многие солдаты бросились бежать прочь, ужаснувшись, возможно, совершенному ими преступлению. Предводитель поджигателей со сломанной шеей лежал в агонии на мостовой перед полыхавшим монастырем. Он испустил последний вздох, с ужасом глядя на содеянное в предчувствии близкого и неминуемого Суда. Умирая, он издал душераздирающий вопль, прося привести священника для исповеди, но было уже слишком поздно.
Известие о гибели парижских тамплиеров пришло в Поблет через несколько дней, повергнув в горестное смятение принадлежавших к ордену монахов. Однако им пришлось скрывать свою скорбь, чтобы не вызвать подозрений у остальных обитателей монастыря. Парижские рыцари храма были уничтожены… Это означало, что Каталония стала последним оплотом тайного ордена, и святой плащанице суждено было на века остаться в Поблете под надежной защитой рыцарей-тамплиеров.
1888, Париж
Когда Жиль наконец смог открыть глаза, ничего необычного уже не было, но он все еще был не в силах прийти в себя от того, что произошло или по крайней мере показалось ему. Жиль не мог с уверенностью сказать, действительно ли он видел это. У него болело все тело, мышцы его были напряжены, и он чувствовал себя совершенно обессиленным. Жилю казалось, будто он находится в каком-то другом мире, перенесенный туда неведомой силой. Соблазнительно было свалить все на усталость, решив, что увиденное было лишь плодом переутомления. Было намного легче убедить себя в этом, чем как-то объяснить увиденное и принять это даже вопреки прежним убеждениям. Однако Жиль был ученым и всю свою жизнь восставал против той ошибки, которую сейчас готов был совершить. Он знал, что страх и предубеждение не могли привести к истине: это был верный путь к мраку и неведению.
Боссюэ изо всех сил пытался себя убедить, что должно существовать какое-то рациональное объяснение произошедшему. Несомненно, оно должно существовать. Набрав в легкие воздуха, он нетвердым шагом двинулся вперед, держась левой рукой за край стола, чтобы не упасть. Через целую вечность — как ему показалось — Жиль добрался до того места, где лежал медальон. Он не сдвинулся с места, не пропал и выглядел теперь совершенно обычно — так же, как прежде. Боссюэ громко сглотнул слюну и протянул дрожащую руку к медальону. Едва коснувшись его кончиками пальцев, он резко отдернул кисть. Поверхность медальона была ледяной, несмотря на то что всего несколько секунд назад от него, как от настоящего маленького солнца, исходили горячие яркие лучи. В тот момент, глядя на сверкавший медальон, Жиль, как ему показалось, услышал какой-то далекий голос, но не смог разобрать, что он сказал.
В конце концов ему удалось преодолеть свой страх. Решительно взяв медальон со стола, Жиль поднес его к глазам. В нем, как казалось, совершенно ничего не изменилось. Все было по-прежнему, но Боссюэ, к своему удивлению, обнаружил одну деталь, которую раньше не замечал, — тончайший зазор на ребре медальона, шедший по всей окружности. Сердце его бешено заколотилось, и страх уступил место волнению. Взбудораженный своим открытием, профессор переворошил все на столе в поисках нужных инструментов.
— Ну где же они, черт возьми?! — бормотал он, теряя терпение.
Несколько колб и пробирок упали на пол и со звоном разбились, но Жиль даже не заметил этого и судорожно продолжал переворачивать все на столе. Найдя то, что искал, он чуть не запрыгал от радости и в лихорадочном возбуждении оторвал от своего халата кусок ткани, чтобы завернуть в него медальон. Трясущиеся руки едва его слушались. Попытавшись закрепить медальон в прикрученных им к столу тисках, Жиль лишь уронил его на пол.
— Черт возьми, черт возьми! — в нетерпении воскликнул он и нагнулся, чтобы подобрать вещицу.
Едва не ударившись головой о край стола, Боссюэ поднялся и вытер со лба обильно струившийся пот, попадавший в глаза. Снова завернув медальон в кусок ткани, он тщательно закрепил его в тисках, после чего, приставив к его ребру долото, ударил по нему молотком. Металл не поддался. Жиль ударил опять, на этот раз еще сильнее — и острие слегка вошло в ребро медальона. Сгорая от нетерпения, он ударил еще несколько раз, пока наконец долото не рассекло медальон на две части. Потеряв опору, Жиль едва не упал на тиски. Тяжело дыша, он некоторое время стоял неподвижно, глядя на завернутый в тряпку медальон. Руки его, все еще сжимавшие инструменты, бессильно висели вдоль тела. Жиль снова вытер пот, стараясь немного успокоиться. Он все еще учащенно дышал, и из груди его при каждом выдохе вырывался какой-то свист.
Рассеянно отложив молоток и долото, Жиль вынул из тисков медальон, бережно взял его обеими руками и, переложив на стол, развернул ткань. Его подозрения оправдались: медальон действительно оказался полым — на белом клочке ткани лежали две его половинки. Но там было и еще кое-что, чего Жиль не ожидал обнаружить. Или наоборот, как раз ожидал — трудно было сказать… Он сам этого не знал. Теперь можно было лишь констатировать факт: на столе рядом с остатками расколотого медальона лежал кусок желтоватой бумаги, свернутый в несколько раз.
Боссюэ вытер руки о свой изодранный в клочья халат, словно боясь осквернить таинственную находку нечистым прикосновением. Потом поднял глаза и окинул взглядом комнату, желая удостовериться, действительно ли все происходящее — реальность. На улице хлынул ливень, и обильные потоки воды с шумом заструились по водосточным трубам. Вдалеке, перекрывая монотонный стук и шелест дождя, гремел гром, возвещавший о приближавшейся буре.
От стола Жиля отделял всего один шаг, но это был шаг в неизвестность. Впервые в жизни он почувствовал настоящий страх, какой испытывает человек в критический, переломный момент, когда приходится отбросить все свои прежние убеждения и остаться один на один с неизведанным. Однако к этому страху примешивалось и какое-то другое, еще более сильное чувство, которое профессор не мог точно определить. Возможно, это была надежда…
Гром неистово грохотал, и оконные стекла звенели при каждом раскате. Ослепительные вспышки молний проникали в комнату, несмотря на то что она была ярко освещена лампами. Створка окна, которую кто-то забыл закрыть, яростно колотилась о раму под порывами ветра.
Жиль взял свернутый листок бумаги, лежавший рядом с половинками медальона. Бумага была грубая, шершавая на ощупь. Боссюэ осторожно, почти с благоговением стал разворачивать листок. Бумага, раскрываясь, захрустела. Судя по ее виду, она была очень древней. Казалось настоящим чудом, что она сохранилась в таком хорошем состоянии. У Жиля от волнения едва не подогнулись колени, когда он увидел, что на листке было что-то написано. Дрожащими пальцами Боссюэ торопливо развернул его полностью.
Оглушительный удар грома заставил его вздрогнуть. Открытая створка окна забилась с еще большим неистовством, так же как и его сердце. Казалось, будто наступил конец света.
Посередине листа были видны блеклые бурые строки, выведенные изящным и аккуратным почерком. Во время чтения на лице Жиля стала проступать радостная улыбка, но, дойдя до конца тайного послания, он вдруг заметил, что по лицу его текут слезы. Бушевавшая на улице буря стала стихать, дождь стучал уже с меньшей силой, и Боссюэ почувствовал, что на душе у него тоже наконец стало легче. Более или менее успокоившись, он еще раз перечитал послание:
Пути Господни неисповедимы, и скрыты от нас, ничтожных рабов, его мудрые замыслы. Но, по своей неизмеримой милости, он подарил нам, недостойным, счастье лицезреть святую плащаницу, в которой Спаситель наш покоился во Гробе Своем, пока не воскрес на третий день в доказательство безграничного могущества Господа. И потому я приглашаю Вас, Великий магистр, приехать к нам в монастырь, дабы воочию увидеть то, что послал нам наш Господь Бог, и ваша мудрость, несомненно, превосходящая нашу, укажет нам, как следует поступить.
1507, Гранада
К началу XVI века инквизиция приобрела в Испании небывалую силу, и суд ее стоял надо всем. Первым Великим инквизитором, выбранным католическими королями в конце XV века, был монах-доминиканец Томас де Торквемада, настоятель монастыря Святого Креста в Сеговии. Именно он сделал инквизицию той могущественной и вездесущей организацией, с которой не могла соперничать никакая другая. Дело Торквемады продолжил другой монах-доминиканец, Диего де Деса, архиепископ Севильи, возглавлявший инквизицию почти десять лет. Однако наиболее значительной и влиятельной фигурой в жизни и политике Испании был третий Великий инквизитор Франсиско Хименес, вошедший в историю как кардинал Сиснерос.
Кардинал Сиснерос был набожным и умным человеком с сильным характером и стальной волей. Он изучал теологию и право в Саламанке и Риме — авторитетнейших в то время университетах Европы. Будучи членом ордена францисканцев и поддерживаемый кардиналом Мендосой, Сиснерос стал духовником и главным советником королевы Изабеллы Кастильской, а затем и архиепископом Толедо. Он был так популярен при кастильском дворе, что после смерти королевы гранды Кастилии предпочли его Фердинанду Арагонскому, мужу Изабеллы, и избрали его регентом королевства. Однако Сиснерос отказался, не желая портить с Фердинандом отношения и считая, что власть в Кастилии по праву должна была принадлежать королю Арагона. За это он получил сан кардинала и в 1507 году был назначен Великим инквизитором.
За год до этого назначения кардиналу Сиснеросу стала известна история о том, как Гонсало Фернандес де Кордова обнаружил в Неаполе таинственную святыню. Эту историю рассказал ему старый солдат Великого Капитана, вступивший по возвращении в Испанию в орден францисканцев. Он не знал, что именно было найдено во дворце, где укрывался Чезаре Борджиа, но, по его словам, видел, как на стене подвала появилось изображение — лицо мужчины с длинными волосами и бородой. Согласно рассказу солдата, все присутствовавшие при этом пали на колени, сочтя видение за лик Иисуса Христа. Фернандес де Кордова, узнав об этом чуде, приказал всем солдатам тотчас покинуть дворец. Затем он в сопровождении лишь своей личной охраны, принадлежавшей к ордену Святого Иакова, спустился в подвалы, чтобы увидеть лик своими глазами. Вскоре после этого рыцари Великого Капитана вынесли из дворца деревянный ящик, и двое из них незамедлительно отправились с таинственной находкой в Испанию.
Этот рассказ чрезвычайно заинтересовал кардинала Сиснероса: он был не только заинтригован, но и подозревал Великого Капитана в вероломстве, поскольку тот не сообщил испанским религиозным властям о своей находке. «Возможно, — подумал Сиснерос, — он поставил об этом в известность короля Фердинанда, но тот предпочел утаить эту находку от церкви. Конечно, со стороны короля это тоже было не слишком похвально, но в любом случае монаршая власть была его надежной защитой от всякого порицания».
Бывший солдат Великого Капитана назвал также имена тех двух рыцарей, которым было поручено перевезти таинственный ящик в Испанию. Кардинал провел расследование, но его людям удалось найти лишь одного из них: сменив шпагу на сутану, он жил в монастырском уединении. О местонахождении другого рыцаря ничего выяснить не удалось. Когда в следующем году Сиснерос был назначен Великим инквизитором, ему представились еще большие возможности для продолжения расследования. Облеченный столь огромной властью, он надеялся, что сможет наконец распутать эту загадочную историю.
В это время отношения между Фердинандом и Великим Капитаном окончательно испортились. Король утратил доверие к одному из вернейших слуг королевства и талантливейшему военачальнику своего времени, из-за чего Фернандес де Кордова лишился титула вице-короля Неаполитанского и вынужден был вернуться в Испанию.
По возвращении ему стало известно, что его верный рыцарь Бартоломе де Сепеда был схвачен инквизицией. Великий Капитан знал, что Бартоломе происходил не из старой христианской семьи, а был потомком обращенных в христианство евреев. Фернандес де Кордова подумал, что, возможно, это и было причиной ареста; практика же судов инквизиции была такова, что предъявляемые человеку обвинения можно было узнать лишь в самый последний момент — во время публичного оглашения аутодафе.
Великий Капитан не мог допустить, чтобы инквизиция расправилась с одним из лучших его рыцарей, не раз проявившим свое бесстрашие и надежность в самых рискованных ситуациях. Поэтому, узнав об аресте Бартоломе, Фернандес де Кордова тотчас отправился в Гранаду. Людей, которых ждал суд инквизиции, держали там в подземелье дворца, служившего также резиденцией Великого инквизитора, когда тот находился в Гранаде.
Инквизиционные процессы были настоящим кошмаром. Человека арестовывали без всякого объяснения причины и бросали в тюрьму, чтобы сломить его дух. Через несколько дней начинались допросы, которые проводил прокурор в присутствии секретаря. Человеку не выдвигали никаких обвинений: он сам должен был признаться в своих «преступлениях».
Брата Бартоломе продержали в тюрьме два дня, прежде чем подвергнуть первому допросу, однако это не могло запугать мужественного, закаленного в сражениях рыцаря. Комната, куда его привели на допрос, была маленькая и мрачная, без окон, и освещал ее всего один закрепленный на стене факел. Секретарь сидел за простым грубым столом, на котором находились толстая книга с чистыми страницами, перо, чернильница, перочинный нож и колокольчик. Место прокурора находилось в глубине комнаты, на небольшом возвышении под слепой аркой, благодаря чему фигура его была окутана полумраком. Оба монаха были одеты в коричневые сутаны ордена Святого Франциска, головы их скрывали капюшоны. Фигура прокурора практически сливалась с темнотой, и отчетливо была видна лишь белая веревка, служившая ему поясом, — отличительная черта францисканцев.
Рыцаря со связанными руками поставили перед прокурором, слева от которого сидел секретарь, тщательно точивший перо. Когда альгвазилы покинули комнату и закрыли за собой тяжелую дверь, прокурор впервые нарушил молчание:
— Надеюсь, ваше пребывание в этих стенах не было для вас слишком тягостным?
— Не пытайтесь отвлечь меня посторонними вопросами, сеньор, — дерзко ответил рыцарь. — Мне прекрасно известны методы святой инквизиции. Скажите, в чем меня обвиняют, и я докажу свою невиновность.
— Не торопитесь. Следует соблюдать порядок допроса. Итак, ваше имя?
— Бартоломе де Сепеда и Гарсия Касерес.
— Семейное положение?
— Я монах. И горжусь тем, что всегда соблюдал данный мной обет целомудрия.
— Прошу вас отвечать только на поставленные вопросы. Вы происходите из семьи старинных христиан?
— Нет, я внук крещеных евреев.
Секретарь, старательно записывавший вопросы прокурора и ответы на них, поднял голову и впился глазами в лицо рыцаря, словно пытаясь разглядеть в нем еврейские черты.
— Итак, вы называете себя монахом. К какому ордену вы принадлежите?
— Я рыцарь благородного ордена Святого Иакова в Толедо.
После короткой паузы, возможно, сделанной для того, чтобы секретарь успел записать все сказанное, прокурор произнес грозную фразу, звучавшую в этих стенах бесконечное множество раз:
— Сознавайтесь в своих преступлениях, брат Бартоломе, — вам будет хуже, если вы не скажете правду.
— Я служил только Богу и королю. Если я убивал, то лишь во имя Господа и справедливости. Это все, что я могу вам сказать.
— Я вижу, вы упорствуете во лжи. В таком случае, боюсь, я буду вынужден прибегнуть к иным методам допроса.
Секретарь пронзительно зазвонил в стоявший на его столе колокольчик, и в комнате снова появились два альгвазила. Они отвели брата Бартоломе в камеру пыток, пропахшую воском, углем и потом палачей и их жертв. У одной из стен находилась топка, огонь в которой раздували с помощью мехов; над ней на крючках висели наводившие ужас железные орудия пытки. В полумраке комнаты можно было различить также деревянную пыточную «кобылу» и дыбу. У стены, противоположной топке, стоял стол и два стула — один повыше, другой пониже, — предназначенные для прокурора и секретаря.
Палачи раздели брата Бартоломе и привязали его к «кобыле» за щиколотки и запястья. Пытка заключалась в том, чтобы, вращая рычаги, затягивать веревки и растягивать тело жертвы. В результате этого кости начинали выходить из суставов, а веревки впивались в плоть, доставляя дополнительные мучения. Прокурор и секретарь вошли в камеру пыток. Освещение в ней было более ярким, и рыцарю удалось разглядеть обе фигуры. Когда прокурор занял свое место, Бартоломе впервые увидел его бледное, морщинистое и худое лицо с жестокими сверкающими глазами — глазами фанатика, совершающего в своем неистовом служении Богу самые страшные преступления. Сильно выделяющийся заостренный орлиный нос делал инквизитора еще более устрашающим.
— Вы готовы сознаться? — спросил он брата Бартоломе, но не получил ответа.
Пытка началась. Комнату огласили душераздирающие крики, но ни в одном из присутствовавших они не могли вызвать сочувствия. Рыцарю не приходилось рассчитывать на жалость: он должен был либо признаться, либо терпеть долгие и мучительные истязания. Но брат Бартоломе даже не знал, какого признания от него требовали: он не чувствовал за собой никакой вины. Его предки обратились в христианство задолго до издания королевского указа об изгнании из Испании всех иудеев. Они крестились по убеждению, а не по принуждению — не ради того, чтобы сохранить кров и имущество, как впоследствии делали многие…
Каждый раз, когда палач ослаблял веревки, прокурор повторял Бартоломе свое требование, но ответом на него неизменно было молчание. Рыцарь не проронил ни слова: жестокие истязания вырывали из его груди лишь нечеловеческие крики и стоны.
Решив сменить орудие пытки, палач оставил свою жертву и подошел к огню. Сняв со стены железный прут, он сунул один его конец в горящую топку и раскалил докрасна. Затем палач вернулся к привязанному к «кобыле» рыцарю и дважды приложил к его груди раскаленное железо. Брат Бартоломе мужественно перенес боль.
Палач был разочарован. Стойкость рыцаря выводила его из себя, и он боялся, что инквизитор останется недоволен его работой. Повесив железный прут обратно на стену, палач взял большие щипцы с заостренными концами и истерзал ими всю руку брата Бартоломе. Однако все было бесполезно: рыцарь по-прежнему не произнес ни слова.
— Я вижу, вы продолжаете упорствовать. Посмотрим, не вразумит ли вас дыба, — сказал прокурор и нетерпеливо бросил палачу: — Вы слышали? Отвяжите его и делайте, что я говорю.
Жертву вздергивали на дыбу за связанные за спиной запястья. Подняв человека на несколько метров над полом, палач внезапно отпускал веревку и вскоре снова останавливал ее, не давая жертве упасть. От сильного встряхивания у человека выворачивались суставы и смещались кости. Во время этой пытки брата Бартоломе стошнило, и он почти потерял сознание. После нескольких встряхиваний допрашиваемого прокурор, вскочив на ноги, гневно воскликнул:
— Сознавайтесь во имя всего святого!
— Я служил только Богу и королю. Это все, в чем я могу сознаться.
Продолжать допрос уже не было смысла: рыцарь был совершенно обессилен, терял сознание, и от него невозможно было чего-то добиться. Брата Бартоломе отвели в его камеру и прислали к нему врача, чтобы тот обработал его раны и вправил суставы.
1888, Париж
Священник церкви Сен-Жермен отец Жак только что отслужил утреннюю мессу. На этот раз в своей проповеди он говорил о грешниках, которые, раскаявшись в своих прегрешениях, вступают на праведный путь исполнения Божьих заповедей. Количество прихожан, явившихся в то утро в церковь, было намного больше обычного. Как правило, на утренней мессе постоянно бывали лишь несколько очень древних и очень набожных старушек. С горькой усмешкой кюре подумал, что причиной внезапного всеобщего благочестия стала, вероятно, гроза, разыгравшаяся накануне ночью: хотя страх смерти был не самым похвальным стимулом обращения к Богу, но, без сомнения, в высшей степени эффективным.
В это утро священник очень рано поднялся и все время до мессы провел в молитве. После утренней службы он, сняв ризу, отправился завтракать. Мадам дю Шамп на кухне не было — очевидно, она отправилась за продуктами для обеда или по каким-нибудь другим хозяйственным делам.
Священник сел на свое обычное место у окна. На столе его уже ждал приготовленный экономкой завтрак — большая чашка горячего молока и три поджаренных ломтя хлеба, щедро намазанных медом. Завтракая, отец Жак по привычке смотрел в окно, хотя оттуда практически ничего не было видно: внешние стены здания были такие толстые, а окно такое маленькое, что через него можно было разглядеть лишь небольшую часть улицы. Только очень молодой и острый взгляд мог бы различить между зданиями, за улицей Рен и бульваром Сен-Жермен, зелень садов Люксембургского дворца. Сам Жак уже давно мог видеть это лишь в своем воображении.
Священник доедал свой последний кусок хлеба, как вдруг ему показалось, будто он увидел среди шедших по улице людей знакомое лицо. Этот человек шагал быстро и решительно, слегка сгорбившись и наклонившись вперед. Кюре не мог еще толком его разглядеть, но не сомневался, что это был кто-то из его хороших знакомых. Придвинувшись вплотную к окну, Жак пристально вгляделся в приближавшегося человека. «Жиль?»
Несомненно, это был он или кто-то слишком похожий на него. Однако Боссюэ никогда раньше не наведывался к нему в такое время: по утрам он обычно был занят в университете, читая лекции или разбираясь с документами кафедры. Значит, произошло что-то из ряда вон выходящее… Заинтригованный, священник оставил на тарелке недоеденный кусок хлеба и поспешно вышел из кухни, чтобы встретить своего друга. Он был еще на половине пути — на середине центрального нефа, — когда Жиль уже показался в дверях церкви.
— Доброе утро, дружище Жак, — сказал Боссюэ, когда они поравнялись.
Священник вздрогнул, услышав глухой голос Жиля, доносившийся словно из пропасти. Жак не на шутку встревожился. Что с ним случилось? И глаза у него были какие-то странные — глубоко запавшие, окруженные сероватой тенью и в то же время ярко блестевшие в полумраке церкви. Это был безумный блеск, от которого волосы священника становились дыбом.
— Что случилось, Жиль? С тобой все в порядке? — спросил он, не в силах скрыть своего беспокойства.
— Что? А, нет, ничего, Жак, я в полном порядке, — словно очнувшись, ответил Боссюэ и бодро улыбнулся.
Однако священник был убежден как раз в обратном: что-то было не так. Их разговор с Жилем казался ему каким-то ирреальным. Кюре не мог объяснить себе причину этого, но чувствовал, что когда-то с ним уже происходило нечто подобное: когда-то он уже видел такой же безумный блеск в чьих-то глазах. Вдруг в его голове мелькнула догадка, казавшаяся просто невероятной.
— Послушай, тебе удалось что-то узнать о?..
— Что тебе известно о монастыре Поблет? — перебил священника Боссюэ.
— О чем?!
— О монастыре Поблет. Что ты знаешь о нем? — терпеливо, словно разговаривая с ребенком, повторил Жиль.
— Сначала объясни мне, что с тобой происходит и почему ты этим интересуешься.
Боссюэ медленно покачал головой и положил руку на плечо Жаку:
— На это нет времени, дружище. Просто расскажи мне, если тебе что-то известно.
Священник хотел было настаивать на том, чтобы Жиль открыл ему причину своего странного поведения, но потом передумал: его друг всегда отличался необыкновенным упрямством.
— Хорошо, Жиль. И что же ты хочешь знать о Поблете?
— Где он находится? Он все еще существует? — тотчас спросил Боссюэ, довольный тем, что священник не стал добиваться от него объяснений.
— Я ничего точно не знаю об этом монастыре, но его название мне знакомо. Наверное, я слышал его, когда учился в семинарии или в университете. Не помню. Чтобы что-то точно сказать, нужно посмотреть в книге.
«И чего же ты ждешь?» — сказал воодушевленный взгляд Боссюэ. Священник глубоко вздохнул и направился в свои комнаты, сделав Жилю знак следовать за ним. Они шли по церкви молча, и в этой гробовой тишине было слышно лишь тяжелое дыхание Боссюэ. Стараясь не думать больше о том, что произошло с его другом, Жак стал вспоминать, где и когда он мог слышать о монастыре Поблет. Священник так увлекся своими воспоминаниями, что не заметил, как Жиль отстал. Лишь подойдя к алтарю, он обнаружил, что его друга не было рядом.
Встревоженный, он окинул взглядом церковь, недоумевая, куда мог подеваться Жиль. Его нигде не было видно. По-настоящему забеспокоившись, священник отправился на его поиски и нашел Жиля в десяти метрах от алтаря, на другом конце нефа. Он стоял совершенно неподвижно, разглядывая небольшую гравюру. Жак осторожно приблизился, чтобы не нарушить очарования, в котором находился его друг. К тому же ему было несколько жутко от странного поведения Жиля. Тот по-прежнему стоял не шелохнувшись, впившись глазами в гравюру, освещенную слабым светом свечи, и, казалось, не замечал подошедшего к нему Жака.
— Вот, захотелось посмотреть, — внезапно сказал Жиль, обернувшись, и священник вздрогнул от неожиданности.
Не говоря больше ни слова, Боссюэ резко повернулся и направился в комнаты священника. Жак, в свою очередь, приблизился к колонне, на которой висела гравюра, ставшая ему такой знакомой за долгие годы. Он часто смотрел на нее, и каждый раз она поражала его, словно увиденная впервые: на этой гравюре Иисус Христос, окутанный божественным сиянием, возносился на небо в сопровождении ангелов, а на земле, на коленях, стояла женщина — очевидно, Мария Магдалина, — державшая в руках плащаницу. Священник повернул голову и увидел, как Жиль исчез за дверью, ведшей в его комнаты. Прежде чем последовать за своим другом, он еще раз бросил взгляд на гравюру и почти неосознанно осенил себя крестом.
Жак, как и подобало священнику, вел скромный, аскетический образ жизни. Единственным удовольствием, которому кюре позволял себе предаваться неограниченно, было чтение, и за свою жизнь он собрал неплохую библиотеку. Большую ее часть составляли книги, полученные в дар от людей, предпочитавших вино и прочие мирские развлечения изучению классиков. Рядом со спальней священника, в северном крыле церкви, находилась комната, служившая ему библиотекой. Там он проводил большую часть своего свободного времени — особенно холодными зимними вечерами, когда можно было, растопив камин, часами наслаждаться чтением хорошей книги.
Жиль хорошо знал эту комнату. Они часто сидели здесь с Жаком, разговаривая или споря на самые разные темы. Когда священник вошел в библиотеку, Жиль разглядывал книги на полках, читая их названия на корешках.
— О, ты уже здесь, — сказал он и, отойдя от стеллажей, уселся в кресло.
Священник прекрасно знал расположение всех книг на полках, и ему не составляло труда быстро отыскать на них нужные. Пока Жак, ни слова ни говоря, проворно и сосредоточенно рылся в своей обширной библиотеке, Боссюэ рассеянным взглядом наблюдал за ним со своего места. Через несколько минут священник выложил на стол перед своим другом целую гору книг. Одна из них, находившаяся сверху, с приглушенным стуком упала на застеленный ковром пол, и от нее взлетело облачко пыли.
— Хорошо, с тебя мы и начнем, если тебе так не терпится, — сказал священник книге.
Жиль, усмехнувшись, кивнул и придвинул кресло поближе к столу, чтобы лучше видеть. Книга называлась «Христианские монастыри». Это была копия труда, написанного монахом из монастыря Клерво, аббатом которого, пояснил Жилю священник, был Бернар Клервоский, один из основателей и наиболее активных деятелей ордена цистерцианцев. Книга была толстая и внушительная, в кожаном переплете, истертом тысячами рук, в которых она побывала. Края страниц, загнутые и кое-где истрепанные, были изъедены молью.
Священник раскрыл книгу, чтобы найти указатель. Страницы ее были тонкие и шершавые, сильно пожелтевшие, и казалось, будто они такие ветхие, что могут рассыпаться от неосторожного прикосновения. Список монастырей и аббатств шел после вступления, содержавшего краткий комментарий к книге, написанный, как и ее оригинал, на латыни. Названия монастырей были расположены не в алфавитном порядке, что несколько затруднило поиски. Друзья принялись терпеливо изучать весь список, пока не наткнулись на название «Поблет».
— Вот он! — с воодушевлением воскликнул Жиль.
Зараженный энтузиазмом своего друга, Жак торопливо стал искать указанную страницу. Боссюэ в нетерпении приподнялся со своего кресла и наклонился над книгой, опершись руками о стол. И наконец дрожащим от волнения голосом священник торжествующе прочитал:
«Расположенный в Конка-де-Барбера, в Каталонии, монастырь Санта-Мария де Поблет был основан в 1151 году монахами цистерцианского аббатства Фонтфреда на земле, которую пожаловал им принц Арагона и граф Барселоны Раймунд Беренгарий IV. Впоследствии Педро III Великий, четвертый король Арагона, устроил на территории монастыря королевский пантеон».
Более подробных сведений в книге не приводилось, поэтому друзьям пришлось просмотреть всю остальную литературу, чтобы выяснить точное местонахождение монастыря и другую дополнительную информацию, интересовавшую Жиля. В конце концов им удалось узнать, что монастырь находился неподалеку от местечка Л’Эсплуга-де-Франколи, расположенного к юго-востоку от города Лериды.
Изучение книг заняло все оставшееся утро. Незадолго до обеда Жиль, удовлетворенный тем, что удалось найти, собрался уходить, и священник проводил его до дверей церкви.
— Может быть, ты все-таки скажешь мне, что произошло, Жиль? — не выдержал в последний момент Жак.
Боссюэ, находившийся уже на середине лестницы, шедшей вниз от церковных дверей, повернулся к священнику. Бумаги с записанными на них сведениями о монастыре Поблет слегка качались в руках Жиля от дуновения ветерка. Он улыбнулся с искренней теплотой и на мгновение снова стал тем Жилем, которого священник знал столько лет.
— Озарение, Жак, озарение… — только и сказал он и, повернувшись, пошел прочь.
Священник смотрел на его фигуру, удалявшуюся по пустой улице в сопровождении маленькой полуденной тени, следовавшей за ним по пятам. Внезапно на пересечении дорог Жиль остановился, и священник подумал, что он собирается обернуться. Однако Боссюэ, не поворачиваясь, лишь поднял вверх правую руку и двинулся дальше. Со слезами на глазах Жак тоже поднял в знак прощания руку и, хотя Жиль уже не мог его слышать, прошептал:
— Прощай, дружище.
В этот момент он понял, что никогда больше не увидит своего друга.
1507, Гранада, Поблет
После первого допроса брат Бартоломе два дня находился в камере, прикованный цепями к стене. Их длина была такова, что узник мог только лежать или стоять на коленях. Воздух в камере был отравлен зловонием испражнений и мочи, лужи которой не высыхали на каменном полу. Раз в день надзиратель открывал небольшую дверцу внизу двери и просовывал через нее кружку воды и миску с куском хлеба и ломтиком сала.
Боль, бывшая сначала резкой и жгучей, постепенно становилась тупой, далекой. Одежда на Бартоломе была грязной и окровавленной: пытка и содержание в камере были рассчитаны на то, чтобы уничтожить человека морально. Бартоломе не понимал, как такое можно было творить во имя религии. Светской власти нужны были исполнители, которые поддерживали бы ее своими руками. И сам он, оказывается, не ведая того, сражался ради процветания всего этого беззакония. Теперь рыцарь очень раскаивался в этом.
В эти страшные дни, проведенные в полном одиночестве в мрачном, зловещем подземелье, единственным собеседником Бартоломе был Бог, и рыцарь поклялся Ему, что, не дрогнув, отдаст свою жизнь и вынесет все муки и унижения во имя Его.
Второй допрос начался точно так же, как первый. Альгвазилы пришли за братом Бартоломе в камеру и отвели его в комнату, где его уже ждали инквизиторы. Все было по-прежнему, только на этот раз гордая уверенность рыцаря, уничтоженная пыткой, сменилась тихим смирением. И тело, и душа его были измучены.
— Надеюсь, сегодня вы не станете снова упорствовать, брат Бартоломе? Поймите, что, вынуждая нас применять пытки, вы заставляете нас страдать не меньше, чем самого себя, — с притворной мягкостью сказал прокурор.
— Да, я знаю, что вам приходится много страдать, сеньор, — с горькой иронией произнес рыцарь едва слышным голосом. Глаза его неподвижно были устремлены в пол.
Прокурор ничего не ответил на этот выпад и некоторое время молчал, раздумывая. С этим монахом нужно было разговаривать по-другому. Подумав немного, инквизитор снова заговорил:
— Я еще раз вас спрашиваю: вы готовы сознаться в своих преступлениях?
— Мое преступление только в том, что я служил Богу и королю. Я вам уже говорил…
— Довольно! — гневно воскликнул инквизитор. — Если вы не желаете сознаваться, я прочитаю вам ваше обвинение.
— Кто меня обвиняет?
— Это не имеет значения. И не смейте ничего спрашивать. Вы обязаны только отвечать на вопросы.
Брат Бартоломе знал, что на определенном этапе процесса подозреваемому должны были предъявить обвинения, однако он был уверен, что при этом должен был также присутствовать защитник.
— В таком случае где мой адвокат? — спросил Бартоломе, впервые повысив голос.
Прокурор взглянул на рыцаря, приподнявшись со своего стула, и его голова, покрытая капюшоном, наполовину вышла из тени. Брат Бартоломе ждал, что инквизитор закричит на него, но тот заговорил спокойно.
— Вы ничего не можете требовать на этом суде, — сказал он. — Отвечайте на наши вопросы со всей искренностью, моля Господа, чтобы он осветил ваш разум, и все закончится быстро. — Прокурор снова опустился на свой стул и стал задавать вопросы: — Правда ли то, что вы находились в Неаполе вместе с генералом Фернандесом де Кордова в день, когда был арестован Чезаре Борджиа?
Бартоломе чуть было не сказал «да», но вовремя спохватился. Этот вопрос — на первый взгляд совершенно тривиальный — внезапно раскрыл ему глаза. Не из-за предков-иудеев, не по подозрению в ереси его допрашивали сейчас в этих застенках. Дело было в другом: очевидно, инквизиции каким-то образом стало известно об обнаружении в Неаполе святой плащаницы. Не добившись от Бартоломе подтверждения, прокурор продолжал задавать ему вопросы, заведомо предполагавшие положительный ответ. С каждым разом он все сильнее повышал голос и наконец сорвался на крик:
— Правда ли то, что на стене подвала во дворце Борджиа появился лик Господа нашего Иисуса Христа? Правда ли, что святыня, найденная за этой стеной, была привезена в Испанию вами и братом Доминго Лопесом де Техадой? Правда ли, что Великий Капитан скрыл ее от короля Фердинанда?
Взбешенный инквизитор так быстро сыпал словами, что секретарь едва успевал за ним все записывать. В заключение прокурор поднялся со своего места и, подойдя к рыцарю, произнес:
— Вам будет лучше, если вы сознаетесь во всем и расскажете, что было найдено в подвале и где это сейчас. В противном случае мы будем вынуждены вновь подвергнуть вас пытке.
Брат Бартоломе продолжал упорно молчать. Инквизитор, как оказалось, знал далеко не так много, как можно было подумать сначала. Рыцарь понял, что приговор уже вынесен, а судебный процесс был затеян лишь для того, чтобы выпытать у него необходимые сведения. Однако Бартоломе невозможно было сломить: он был полон решимости претерпеть до конца все мучения, чтобы выполнить свой долг перед Богом и уберечь от недостойных святую плащаницу Христову.
На этот раз брата Бартоломе подвергли еще более изощренной пытке. Альгвазилы привязали его к узкому деревянному столу в пыточной камере, и палач, затолкав ему в рот до самого горла мокрую тряпку, стал вливать воду через воронку. Тряпка не позволяла жертве выплевывать жидкость, и вся вода попадала в желудок, мучительно растягивая его.
Во время этой пытки брат Бартоломе обмочился, и содержимое его кишечника вышло наружу. Атмосфера в камере, и без того зловонная, стала вовсе невыносимой, но палачам этот запах страдания и страха был приятнее аромата роз, поскольку он говорил о том, что жертва раздавлена морально и физически и ее упорство наконец сломлено. Однако брат Бартоломе держался, несмотря ни на что. В него влили несколько кувшинов воды, но он так и не открыл прокурору ничего, что тот так жаждал узнать. Рыдая, рыцарь лишь повторил, что служил только Богу и королю и не знает за собой никаких преступлений.
В это время Великий Капитан был уже в Гранаде. Он приехал, чтобы лично встретиться с кардиналом Сиснеросом и потребовать освобождения рыцаря. Однако Великий инквизитор на протяжении двух дней отказывался принять его. На третий день Фернандес де Кордова сказал себе, что дольше ждать невозможно: каждый потерянный час уменьшал вероятность того, что брата Бартоломе удастся освободить живым.
Несмотря на то что в результате конфликтов с королем Фердинандом Великий Капитан утратил титул вице-короля Неаполитанского и большую часть своей власти, он еще продолжал пользоваться значительным авторитетом — в особенности среди военных. Гвардейцам, охранявшим дворец Сиснероса, было запрещено пускать Великого Капитана внутрь, но они не осмелились преградить ему дорогу, когда он, обнажив шпагу, потребовал пропустить его.
— Ваше высокопреосвященство, — презрительно сказал Фернандес де Кордова, стремительно войдя в богато убранный кабинет кардинала, — к сожалению, я вынужден ворваться к вам, поскольку вы не пожелали принять меня по-хорошему.
Сиснерос сидел за большим столом из орехового дерева, инкрустированного мрамором, и разговаривал с монахом-доминиканцем. Увидев Великого Капитана, кардинал, очень удивленный его появлением, но не потерявший самообладания, сделал монаху знак удалиться.
— Увы, моя занятость не позволила мне принять вас незамедлительно, — сказал он. — Но уверяю вас, я с чрезвычайным нетерпением ждал этого момента.
Великий инквизитор казался живым скелетом — настолько он был худощав: его тощие, костлявые руки высовывались из рукавов, как ветки старого высохшего дерева. Волосы его, посеребренные сединой и еще довольно густые, были выбриты на макушке. У кардинала было длинное узкое лицо и острый орлиный нос. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы разглядеть в нем безжалостного и фанатичного человека.
— Я требую, чтобы вы освободили брата Бартоломе де Сепеду! — воскликнул Великий Капитан, ударив кулаком по столу кардинала Сиснероса. — Он никакой не еретик и не преступник. Я ручаюсь вам, что он благочестивый христианин и верный слуга Испании. Думаю, мое слово достаточно надежный поручитель?
— Разумеется, генерал, я не ставлю под сомнение ваше слово. Но ведь вы можете заблуждаться, даже не подозревая об этом, — ответил Сиснерос и ехидно добавил: — Кстати, король почему-то утратил к вам доверие и уже не благоволит вам, как прежде. Так что утешайтесь по крайней мере тем, что не вы сами оказались в руках святой инквизиции.
— И вы еще смеете мне угрожать, кардинал? Неужели вы не понимаете, что я могу зарубить вас на месте прямо сейчас, как свинью?
— Я понимаю, как вы расстроены, генерал, ох, как я вас понимаю… Только поэтому я готов извинить вас за ваши слова. Что же касается вашего рыцаря, то вам придется дождаться, пока закончится судебный процесс.
— Скажите по крайней мере, в чем его обвиняют. У меня нет ни малейших сомнений в его невиновности.
— Я не могу сейчас ничего вам сказать. Вы все узнаете во время аутодафе. Это произойдет очень скоро, обещаю вам.
В этот момент в кабинет вошли гвардейцы со шпагами наголо. Они окружили Великого Капитана, и их предводитель попросил его покинуть дворец. Фернандес де Кордова заметил, что солдат действовал неохотно — он лишь выполнял приказ, который был ему явно не по душе. Великий Капитан вложил шпагу в ножны и, прежде чем последовать за гвардейцами, в последний раз обратился к кардиналу:
— Вы поставлены следить за исполнением закона Божьего на земле, а сами его преступаете. Что ж, подождите, придет час — и вы ответите перед Господом за все свои преступления.
Сиснерос надменным взглядом проводил Великого Капитана, пока он, окруженный гвардейцами, не вышел из кабинета. Оставшись один, кардинал закрыл глаза и несколько секунд сидел неподвижно, словно о чем-то размышляя. Затем он поднялся со своего места и направился в гардероб, находившийся в смежной комнате. Сменив свои шелковые одежды, отделанные горностаем, на грубую сутану монаха-францисканца, кардинал потянул за рычаг, скрытый в камине, и перед ним с грохотом могильной плиты открылась потайная дверь в стене.
Прежде чем вступить через нее в коридор, кардинал покрыл голову капюшоном и взял в руку канделябр, чтобы освещать себе дорогу в темноте. Пройдя по коридору, он спустился по узкой винтовой лестнице с крутыми ступеньками в маленькую комнату, откуда, как казалось, дальше не было хода. Каменный пол и стены ее были ледяные и влажные. Кардинал открыл зарешеченное окошко, проделанное в стене, и, убедившись, что в соседней комнате никого не было, погасил свечи и привел в действие скрытый механизм. Войдя через потайную дверь, он оказался в камере пыток за тем самым стулом, который он занимал во время допросов.
Брат Бартоломе был уже страшно измучен пытками. Он превратился в тень, и было странно, как он до сих пор оставался жив.
Сиснерос, выступавший в качестве прокурора на всех предыдущих допросах, решил допросить брата Бартоломе в последний раз. «Если и сейчас от него ничего не удастся добиться, с ним придется покончить», — сказал себе кардинал, надеясь все же, что прошлые пытки, томительные размышления в камере и страх перед новыми муками сломят наконец рыцаря. Сиснерос не осмеливался схватить и бросить в застенок самого Великого Капитана, хотя, как ему казалось, на это были все основания. Ведь Фернандес де Кордова оскорбил его! Его — Великого инквизитора, служителя Бога! А значит, его хула коснулась и самого Бога… Личную обиду кардинал Сиснерос готов был забыть, но он не мог простить богохульства.
— Итак, вы будете наконец говорить? — спросил он из полумрака брата Бартоломе, почти смирившись уже с тем, что рыцарь унесет тайну с собой в могилу.
— Мне нечего сказать, и я вручаю свою душу в руки Господа, — глухо кашляя, ответил Бартоломе, который сидел на этот раз на низкой скамейке, уже будучи не в силах держаться на ногах.
— Не заставляйте меня снова применять пытку, брат Бартоломе. Вы можете покончить со всем этим, если сознаетесь.
— Я мученик, и мои палачи — пастыри церкви, которой я служил всю свою жизнь. Я ожидаю Суда со спокойной душой. Можете ли вы сказать то же самое?
В камере пыток повисла тишина. Напряженная тишина. Услышав вопрос рыцаря и задумавшись над ним, кардинал невольно поежился на своем стуле. Однако сомнение, овладевшее им на секунду, тотчас уступило место привычной непоколебимой уверенности: его ревностное служение было угодно Богу, и все, что он делал, было во имя Его. Царство Небесное — был уверен Сиснерос — принадлежало тем, кто не жалел ничего и никого в своем служении Господу.
— Обещаю вам, это произойдет очень скоро… — сказал кардинал, слыша свой голос словно издалека. — Очень скоро вы предстанете перед более строгим Судом.
Брата Бартоломе опять стали пытать. Пытка была такой жестокой, что даже палачи удивлялись, как душа могла держаться в столь истерзанном теле. Однако конец был уже близок и неизбежен. Раны рыцаря были слишком серьезными, и выжить он мог только чудом. А по своему опыту палачи знали, что в такой ситуации чудо еще никого не спасало.
Кардинал понял, что проиграл. Его фанатизм не оставлял в его сердце места для жалости, но он не мог не восхищаться силой духа брата Бартоломе, которого не смогли сломить даже самые жестокие пытки. Наверное, он был слишком суров с ним. Возможно даже, следовало освободить его, хотя все равно неотвратимая смерть уже висела над ним. В любом случае, если рыцарь пострадал без вины, ему, как мученику, была открыта дорога на небеса. Святая инквизиция всегда творила лишь благо.
Гонсало Фернандес де Кордова понимал, что спасти брата Бартоломе нелегко. Он не мог обратиться за помощью к Фердинанду, потому что с некоторых пор под влиянием нелепой зависти и наговоров советников-интриганов король лишил его своей милости, как и титула вице-короля Неаполитанского. Великий Капитан любил Италию, восхищаясь ее красотой, и итальянцев, которые отличались открытостью и широтой души, хотя и не могли, как он считал, сравниться с испанцами в воинской доблести и отваге.
Среди испанского народа Фернандес де Кордова пользовался большой популярностью. Испанцы той эпохи превыше всего ставили военное искусство. Они называли Фернандеса де Кордову Великим Капитаном, некоронованным королем Италии и гордились его победами. Великий Капитан одерживал победы над французами, швейцарцами, немцами; часто — при численном перевесе противника. Он завоевал пол-Италии и с триумфом вошел в Рим — Великий город, колыбель европейской культуры. Однако все это пробудило в Фердинанде зависть и ревность из-за того, что Великий Капитан, слуга короля, своими подвигами, благородством и доблестью заслужил восхищение и любовь королевы Изабеллы.
Решив при необходимости силой вырвать брата Бартоломе из лап инквизиции, Фернандес де Кордова собрал отряд из двадцати верных рыцарей. Это были действительно надежные люди, всей душой преданные Великому Капитану и добровольно выразившие готовность помочь ему в этом рискованном предприятии.
Когда генерал вновь явился ко дворцу кардинала Сиснероса, тот велел провести его в свой кабинет. Великий Капитан был настроен воинственно, но все же решил еще раз встретиться с кардиналом: он хотел во что бы то ни стало освободить брата Бартоломе и был бы только рад, если бы это удалось сделать без кровопролития.
Сиснерос ожидал Великого Капитана в своем кабинете, читая комедию Торреса Наарро «Солдатчина», не одобряемую святой инквизицией. Возможно, именно поэтому кардинал желал с ней ознакомиться — чтобы знать опасные мысли и уметь с ними бороться. Как бы то ни было, над остротами, встречавшимися в тексте, он потихоньку посмеивался.
— О, вот и вы, генерал! — воскликнул Сиснерос, когда Фернандес де Кордова вошел в кабинет в сопровождении двух гвардейцев из дворцовой охраны. — Я ждал вас с нетерпением. С таким человеком, как вы, всегда приятно поговорить.
— Я не нуждаюсь в ваших любезностях, кардинал, — резко ответил Великий Капитан. — Я пришел сюда только затем, чтобы требовать освобождения брата Бартоломе. Надеюсь, я еще не опоздал…
— Брат Бартоломе еще жив, и я отпущу его. Но сначала ответьте мне на один вопрос: что вы нашли во дворце, где был арестован Чезаре Борджиа? Что за святыня хранилась за стеной, на которой чудесным образом возник лик Христа?
Фернандес де Кордова был поражен, услышав эти слова. Он даже не подозревал, что его рыцарь был схвачен инквизицией в связи с той историей. Трудно было предположить, как кардиналу удалось докопаться до этого. Великий Капитан был в замешательстве. Отрицать очевидное было бессмысленно, но и выдать тайну нельзя было ни в коем случае.
— Я не могу ничего вам сказать, ваше высокопреосвященство, — твердо сказал он.
— Спасибо и на том, что не пытаетесь лгать мне, — ответил Сиснерос. — Я восхищаюсь стойкостью брата Бартоломе и вашей смелостью, генерал. Как только врачи обработают его раны, я отдам вам его. Ваш рыцарь в тяжелом состоянии, но я искренне надеюсь, что он все же выживет. А свое доброе имя он сохранил.
* * *
Состояние брата Бартоломе действительно было критическим. Его физические и моральные силы помогали ему бороться со смертью всю ночь после освобождения, но тяжелейшие раны не оставляли ему шанса выжить. Он умер со спокойной душой, сообщив Великому Капитану, что не сказал ни слова о святой плащанице.
Фернандес де Кордова распорядился, чтобы брата Бартоломе похоронили с военными почестями, как павшего в бою отважного солдата. Великий Капитан горько плакал на его могиле, как ему уже не раз случалось оплакивать своих воинов. Всю жизнь он провел в походах и сражениях, однако смерти верных солдат, товарищей и друзей, не стали для него чем-то обыденным. К этому невозможно было привыкнуть, и суровое сердце Великого Капитана разрывалось от горя при каждой новой потере. В такие моменты он всегда вспоминал один из своих любимых девизов: «Лучше умереть молодым, чем жить без чести». Брат Бартоломе выполнил свой долг и умер с честью. Это было теперь единственным утешением.
После похорон Великий Капитан покинул Гранаду и отправился в монастырь Поблет, ставший в то время центром тайного ордена тамплиеров. Плащаница находилась в опасности, и ее хранителям следовало быть начеку. Люди — даже самые благочестивые — были готовы на любые преступления и убийства ради того, чтобы заполучить ее. Святая плащаница была свидетельством страшного злодеяния, и, словно по наущению дьявола, к ней все время тянулись руки, запятнанные невинной кровью.
По прибытии в Поблет Фернандес де Кордова снял военную форму и облачился в скромную сутану монаха-цистерцианца. Аббат, магистр ордена тамплиеров, ждал его в секретной комнате в подвале монастыря. Несколькими днями раньше он получил известие о том, что брат Бартоломе попал в руки инквизиции. С того момента аббат не переставая молился о его спасении, однако Бог не внял его мольбам — по крайней мере на земле.
Секретная комната монастыря была большим квадратным залом площадью около ста метров. К ней вел темный коридор, и вход в нее был завешен шелковой пурпурной портьерой. Внутри комнаты, по левую и правую сторону от входа, располагались Соломоновы колонны Яхин и Боаз. У противоположной стены стоял большой стул с готическими украшениями, предназначенный для магистра ордена храма. За ним висел гобелен, на котором символически были изображены три ступени посвящения братьев-строителей, предшественников франкмасонов. Высоко на стене было высечено всевидящее Божественное Око, окруженное звездами созвездия Близнецов — одного из важнейших эзотерических символов тамплиеров.
Фернандес де Кордова уже много раз бывал в этой комнате. Он торжественно приблизился к магистру, поприветствовав взглядом остальных братьев, сидевших вдоль боковых стен, украшенных знаменами и гербами. Все рыцари были в белых плащах с красным крестом ордена тамплиеров на левом плече. Подойдя к магистру, Великий Капитан вынул из ножен шпагу и выставил ее перед собой, как крест из стали и золота; затем он опустился на правое колено и склонил голову в знак повиновения.
— Благословите меня, Великий магистр.
— Поднимитесь, брат мой, — сказал ему аббат, положив ему руку на голову.
Фернандес де Кордова не смог сдержать слез. Он вынужден был признаться в своем бессилии — ему не удалось спасти своего рыцаря и товарища, вырвать его из жестоких лап инквизиции. Это были волки в овечьей шкуре, мертвой хваткой державшие свою жертву, и даже он, Великий Капитан, некогда один из могущественнейших людей Испании, не мог совладать с ними.
— Сейчас тяжелые времена, Гонсало, — сказал магистр с глубокой печалью. — Мы потеряли одного из самых славных рыцарей нашего ордена. Он отдал свою жизнь во имя веры, и все мы должны быть готовы к тому же. Наш брат умер: да примет его Господь в свое лоно. А мы можем утешаться лишь тем, что по воле Всевышнего святая плащаница Господня нашего Иисуса Христа останется навсегда в Поблете под нашей надежной защитой.
I век, Иерусалим
В последнюю неделю земной жизни Иисуса из Назарета, накануне Пасхи, в Иерусалим прибыл Леввей, посланник из города Эдессы. Некоторое время назад молодой царь Авгарь Уккама узнал от купцов и путешественников о пророке из Галилеи и его учении. Желая принять на своей земле этого святого человека, ненавидимого властями на родине, царь решил отправить к Иисусу посланника, чтобы тот уговорил его оставить родные края и поселиться в Эдессе, где бы он мог свободно проповедовать свое учение.
Путешествие по пыльным дорогам Иудеи было в высшей степени изнурительным. Солнце, несмотря на время года, нещадно припекало, и путники, спасаясь от палящих лучей, вынуждены были с головой закутываться в светлые просторные одежды. Достигнув наконец Иерусалима, Леввей был весь в пыли: она набилась ему в сандалии, проникла во все его поры, осела на бороде и засаленных, мокрых от пота волосах, сделав их жесткими и сероватыми. Во рту у него пересохло, а глаза были красны.
У источника Гихон, находившегося с юго-восточной стороны Иерусалима за городской стеной, Леввей остановился, отряхнул от пыли сандалии и хитон и вымыл лицо и руки. Вода несколько освежила его, отчасти восстановив растраченные в дороге силы. Ему пришлось проделать долгий и утомительный путь, и теперь он был уже почти у цели.
Окинув взглядом лежавший впереди город, Леввей вошел в него через Водные ворота, располагавшиеся неподалеку от Гихона. По правую руку возвышался величественный Иерусалимский храм, а по левую находилась старая часть Иерусалима — город Давида, возникший в древние времена при этом прославленном еврейском царе.
По дороге Леввею попался римский патруль, выходивший из одного из узеньких переулков города Давида. Это был отряд из десяти легионеров, и возглавлявший его декурион нес свой шлем в руке, вытирая с лысой головы обильно струившийся пот. Жара стояла невыносимая, и на лице декуриона читалось неописуемое отвращение к варварскому знойному краю, в котором он вынужден был нести службу.
Леввей на безупречной латыни обратился к декуриону с вопросом, но тот, даже не узнав, кто перед ним, молча отстранил иностранного посланника и двинулся дальше. Очевидно, он, как истинный римлянин, считал ниже своего достоинства разговаривать с варваром. Задетый пренебрежением воина, Леввей решил спросить дорогу у кого-нибудь другого и пошел по направлению к дворцу Асмонеев, находившемуся в центре Иерусалима. Там он спросил у одного из торговцев, как пройти ко дворцу римского наместника. Человек посмотрел на Леввея с сомнением, думая, что он шутит, но потом любезно объяснил ему дорогу. Несомненно, удивление торговца было вызвано тем, что Леввей, одетый в еврейскую одежду, казался с первого взгляда иудеем.
Резиденция римского наместника — крепость Антония, находившаяся у северной стены храма и намного превосходившая по высоте городскую стену, грозно возвышалась над городом. По дороге к крепости Леввей прошел мимо главного фасада храма и заметил, что внутри было полно торговцев — как евреев, так и язычников (хотя последним по древнему закону запрещен был вход во святилище). Все они продавали ягнят и козлят для пасхального жертвоприношения, а также всевозможные другие товары — ремесленные изделия, ткани, украшения и безделушки. Леввей посмотрел на суету, царившую в храме, и удивился, как подобное могли допустить в доме Бога евреи-единобожники.
Еще не дойдя до крепости Антония, посланник вынужден был остановиться, как и все остальные прохожие: улицу занял возвращавшийся в свои казармы римский гарнизон. Люди, остановившиеся по краям дороги, уныло смотрели на шествие римских солдат, ставшее привычным за долгие годы, но по-прежнему действовавшее удручающе.
Рядом с Леввеем стоял человек, выделявшийся среди остальных евреев гордым выражением лица. Это был еще довольно молодой, высокий и смуглый мужчина с крупным орлиным носом.
— И так изо дня в день… — тоскливо сказал он тихим, глухим голосом.
— Вижу, ты не смирился с властью римлян, как большинство твоих соотечественников, — сказал Леввей незнакомцу.
Человек взглянул на него с горькой усмешкой:
— Не знаю, откуда ты пришел, чужестранец, но ты плохо знаешь нас, иудеев: мы никогда не смиримся с иноземным владычеством. Так было всегда в истории нашего народа, так оно и теперь.
— Что ж, раз ты так говоришь, значит, так оно и есть — ты знаешь свой народ… А я прибыл издалека, из Эдессы. Мое имя Леввей, и меня послал сюда мой царь, чтобы я отыскал пророка Иисуса из Назарета.
— Если ты ищешь Иисуса, то вряд ли я смогу тебе в этом помочь, Леввей. Иисус, проповедуя, странствует повсюду со своими учениками, и никто не знает, где и когда он появится. Но позволь мне представиться: я Симон Бен Матфий, член Синедриона. Окажи мне честь, пообедав со мной в моем доме, Леввей. Там мы и поговорим об Иисусе.
— Ты оказываешь мне большую честь своим приглашением, и я с радостью его принимаю. Но сначала я должен побывать во дворце римского наместника Понтия Пилата, чтобы передать ему письмо от моего царя.
— Хорошо, приходи, когда закончишь свои дела. Я живу неподалеку от крепости Антония. Пойдем вместе, и я покажу тебе по дороге, как найти мой дом.
Симон был благородным евреем, членом Синедриона, и в глазах этого открытого, приветливого и набожного человека таилась уверенность, что рано или поздно терпению его народа придет конец. Синедрион поддерживал римские власти в обмен на сохранение за ним религиозного и духовного влияния в еврейском обществе. Этот совет имел также некоторый вес в судебных делах, однако последнее слово всегда было за римлянами, так же, как и право определять и приводить в исполнение наказание.
Подойдя к крепости Антония, Леввей направился к главному входу, у которого стояли на карауле два солдата с копьями, изнуренные духотой и жарой: в первую половину дня палящие лучи солнца попадали как раз на эту сторону здания. Когда он приблизился к входу, солдаты скрестили копья и один из них грубо спросил:
— Куда это ты идешь, иудей?
— Я посланник из Эдессы, столицы царства Осроэна, прибыл сюда по поручению моего царя Авгаря, с письмом для римского наместника, — спокойно, но с некоторой суровостью в голосе ответил Леввей, показав печать Эдессы на свернутом пергаменте: высокомерие римлян начинало уже возмущать его.
— Ладно… Декурион! — крикнул солдат, и из крепости тотчас вышел человек без доспехов с коротко остриженными редкими волосами иссиня-черного цвета. Караульные объяснили ему, кто такой Леввей, и декурион повел иностранного посланника внутрь крепости. Они вошли в широкий коридор, украшенный белыми мраморными статуями римских императоров. Центральное место среди них занимало огромное изваяние Тиберия с золотым лавровым венком на голове. Миновав коридор, они попали в комнату, которую охранял грубый с виду, хмурый солдат. Декурион попросил Леввея подождать в этой комнате, а сам отправился дальше по лестнице.
Посланник сел на один из стоявших у стены простых стульев без спинки, с обитым кожей сиденьем и стал терпеливо ждать. Ему пришлось провести в комнате под пристальным и недоброжелательным взглядом легионера больше получаса, пока наконец снова не появился декурион. Он сообщил Леввею, что наместник прочитал письмо его царя, но пока не может принять его. Понтий Пилат велел передать посланнику, чтобы тот явился во дворец на следующий день, хотя из-за хлопот, связанных с приближением Пасхи, он не сможет уделить ему много времени.
На Пасху в Иерусалиме собиралось множество народа, что создавало угрозу волнений и беспорядков. Кроме того, зелоты, противники римской власти, вполне могли организовать в это время выступления против римлян или даже поднять всеобщее восстание. Неудивительно, что наместник был столь озабочен приближением Пасхи. Однако несмотря на все это, Леввею показалось странным, что Понтий Пилат ничего не передал ему по поводу просьбы царя Авгаря. Оставалось лишь ждать следующего дня, чтобы все прояснилось.
Из крепости Антония Леввей отправился в дом Симона Бен Матфия. Он жил в аристократическом квартале Иерусалима, находившемся к западу от главной крепости, между дворцом Ирода и северной городской стеной. Симон показал Леввею, как пройти к его дому — двухэтажному строению с плоской крышей и приплюснутым центральным куполом.
Леввея встретил мальчик-слуга в еврейской шапочке на макушке. Известив своего хозяина, он тотчас провел гостя в дом. Симон ждал его, полулежа на римском ложе перед столом. Вся обстановка в доме представляла собой соединение старых еврейских традиций с римскими новшествами, которые аристократия Иудеи принимала гораздо охотнее, чем простой народ. При виде Леввея Симон поднялся, чтобы поприветствовать гостя, и пригласил его к столу, на котором уже были расставлены разнообразные кушанья — жареное мясо, омары, аппетитные сочные фрукты.
— Ну что, ты поговорил с Пилатом, Леввей? — спросил Симон, сделав слуге знак, чтобы он наполнил их кубки сладким сицилийским вином.
— Он не смог принять меня, — вздохнул посланник. — У него много дел из-за приближающейся Пасхи. Мне пришлось подождать, пока Пилат читал письмо моего царя, но лично поговорить с ним мне не удалось.
— Праздник Пасхи — опасное время для римлян. В Иерусалим стекается много народа, и могут начаться волнения. Пилат правит жестоко, чтобы поддерживать видимый порядок, которого он не может добиться без применения силы. Но давай больше не будем говорить о политике в Иудее. Ведь ты пришел сюда ради Иисуса… Хотя теперь и он оказался впутан в политику.
— Это святой человек. Мой царь почитает его как пророка, и потому он послал меня сюда, чтобы пригласить Иисуса в Эдессу.
— Да, Иисус и в самом деле святой. Но он объявил себя Мессией — Спасителем, которого ждут иудеи, и для ярых противников римской власти это стало сигналом к началу борьбы. Разумеется, он не хотел этого, но теперь его имя неразрывно связано с тайным движением иудеев, жаждущих освобождения от римлян.
— Оказывается, тебе известно об Иисусе намного больше, чем ты дал мне понять сегодня утром, Симон.
— Да, ты прав, я довольно хорошо его знаю… и мне больно видеть, как этот праведный, святой человек идет к своей верной погибели. В Синедрионе у него есть могущественные недоброжелатели. Однажды — и боюсь, это случится в самое ближайшее время — они могут настроить против него весь совет и обвинить его в богохульстве. К счастью, это преступление не карается у римлян смертью, и это меня несколько успокаивает, но — не знаю почему — дурные предчувствия не покидают меня, и сердце мое словно чует беду.
— У тебя есть предположения, где сейчас может быть Иисус?
— Есть один человек, Иосиф из Аримафеи, член Синедриона. Иисус очень любит его и часто посещает его дом. Возможно, там ты и найдешь Иисуса: я слышал, что он с учениками собирался приготовить Пасху в доме Иосифа.
Внезапно их отвлек от разговора какой-то шум: маленький сын Симона играл в комнате с металлическим обручем.
— Тихо, Иосиф! — ласково велел ему Симон и добавил: — Подойди сюда, сынок, познакомься с моим другом, который пришел из далекой страны.
Ребенок несколько оробел и хотел было убежать, но, взглянув на отца, передумал и подошел к столу.
— Какой чудесный ребенок, — сказал Леввей, глядя на стоявшего перед ним мальчика.
— Да, это свет моих очей, радость моего сердца. Только ради него и его будущего я до сих пор живу в Иерусалиме и не удалился в глухое селение, подальше от всей этой суеты.
Симон произнес это своим, как всегда, скорбным, почти драматическим голосом, и Леввей, не сомневаясь в правдивости его слов, подумал в то же время, что он мог бы стать хорошим трагическим актером, если бы родился, например, в Греции.
— Лучше сражаться с врагом, чем бежать от него, — изрек Симон после недолгого молчания.
— Правду говоришь. Тот, кто убегает, не желая сражаться, достоин участи раба. Однако иногда бывает лучше подождать, чем бросаться вперед сломя голову — не так ли?
— Иногда — да, но только для того, чтобы понаблюдать за противником, узнать его слабые стороны, обмануть своим бездействием и выждать удобный момент для сокрушительного удара. Наша жизнь — корабль, и нам самим дано решать, править им или вверить его прихоти волн.
Симон был настоящим оратором. Было заметно, что, помимо прирожденных способностей, он имел обширнейший опыт, очевидно, приобретенный во время дебатов в Синедрионе, где из-за любой, самой незначительной мелочи могла развернуться бурная дискуссия, во время которой спорщики — даже если их не особенно волновал предмет спора — увлеченно произносили витиеватые речи, состязаясь между собой в искусстве красноречия.
— Иисус вовсе не подстрекатель, он не призывает к восстанию. Его единственное стремление — спасать души людей, и проповедует он духовную свободу, которая превыше всего, — спокойно, глубоким голосом продолжал говорить Симон. — Иисус всех вокруг взволновал, к нему могут испытывать все, что угодно, но только не равнодушие. Он несет людям истину, и поэтому одни его почитают, а другие боятся и ненавидят… Иисус стал слишком опасен, и это может его погубить.
В этот момент сын Симона, игравший в комнате, споткнулся и, упав на пол, громко заплакал. Отец бросился поднимать ребенка: маленький Иосиф лишь слегка оцарапал руку, но боль и вид крови испугали его.
Симон принялся успокаивать сына, а Леввей тем временем размышлял над его последними словами. Симон Бен Матфий, красноречивый член Синедриона, был, несомненно, благочестивым человеком и говорил правду об Иисусе. Судьба пророка из Назарета была в руках еврейского народа, который осознанно или неосознанно должен был распорядиться ею.
1888, Поблет
Жиль присел на камень у края дороги, ведшей из Л’Эсплуга-де-Франколи. В этом месте она раздваивалась, и две расходившиеся в разные стороны дороги, извиваясь, поднимались по склонам возвышавшихся впереди гор. Профессор был одет в простую одежду пилигрима, и отросшая борода едва позволяла его узнать. Отложив в сторону свой посох и дорожную сумку, он снял сандалии, чтобы дать отдохнуть уставшим ногам.
Жилю казалось, будто прошла уже целая вечность с того момента, как он покинул Париж. Его связывали многочисленные обязанности преподавателя Сорбонны, и ему с большим трудом удалось добиться от ректора отпуска. Целую неделю Боссюэ обдумывал свое путешествие. Он стал выяснять, как можно добраться до монастыря Поблет, и сведения, полученные от его друга, священника, очень ему пригодились. Узнав, что паломникам в этом монастыре охотно предоставляли кров и пищу, он решил идти до него пешком почти от самой границы. Долгий путь должен был помочь ему свыкнуться с образом пилигрима и сделать его историю более правдоподобной, поскольку идти ему предстояло по тем самым местам, которые посещали настоящие странники-богомольцы.
— Добрый день, — прервал размышления Жиля чей-то голос.
Боссюэ поднял голову и увидел человека, который сидел на телеге, запряженной двумя волами, и, улыбаясь, глядел на него.
— Тяжело идти дорогами Господа? — спросил крестьянин и улыбнулся еще шире, показав редкие зубы. — Подвезти вас, если нам по пути?
Жиль поспешно обулся и поднялся на ноги, хрустнув суставами.
— Да, нелегко, — с улыбкой ответил он, держась руками за поясницу. — Я иду в монастырь Поблет. Подвезете меня?
— Садитесь. Вообще-то я еду не в монастырь, а до постоялого двора, который немного раньше, но все равно оттуда вам уже недалеко будет идти.
Поблагодарив судьбу, пославшую ему этого простого доброго человека, Боссюэ взобрался на телегу.
— Меня зовут Пере, — сказал крестьянин, протянув свою широкую мозолистую руку.
— Рад познакомиться с вами, Пере. Меня зовут Жиль.
Пере слегка хлестнул волов длинным прутом и прикрикнул на них. Животные покорно двинулись вперед, и телега покатилась по дороге, шедшей в левую сторону от развилки.
— В наших краях редко бывают такие, как вы. Паломники, я имею в виду. Вы из Франции, верно?
— Да, из Парижа.
Услышав это слово, крестьянин возвел глаза к небу, словно даже упоминание этого — очевидно, нечестивого, в его глазах — города наводило на него настоящий ужас и требовало немедленного обращения к Богу с молитвой. Боссюэ рассмеялся, и, взглянув на него, крестьянин тоже стал хохотать, ударяя себя рукой по колену.
— Если вы идете в Сантьяго, — сказал Пере, все еще улыбаясь, — то вы немного отклонились от нужной дороги.
— Да, я знаю. Я услышал о Поблете от паломников, когда перешел границу, и вот решил посетить его, прежде чем продолжать свой путь в Сантьяго.
— И правильно сделали. — Крестьянин одобрительно похлопал Жиля по спине. — Это место, где действительно можно обрести благодать.
Всю оставшуюся дорогу они ехали молча, благодаря чему Жиль имел возможность наслаждаться чудесным пейзажем. По обе стороны дороги возвышались величественные горы: на их склонах росли ели и сосны, а самые высокие их вершины были покрыты шапкой ослепительно белых облаков.
— Ну, вот мы и приехали, — объявил Пере, спрыгнув с телеги.
Боссюэ огляделся и увидел справа несколько новых построек, часть которых была еще в стадии возведения. Светлые черепичные крыши и свежепобеленные стены домов ярко выделялись среди окружавшей их зелени.
— Большое спасибо, что подвезли.
— Не за что, не за что, — махнув рукой, ответил крестьянин. — Всегда приятно ехать в компании.
Пожав на прощание руку Жилю, Пере указал ему тропинку, по которой можно было дойти до монастыря, находившегося, по его словам, не больше чем в километре оттуда.
Зашагав по тропинке, Боссюэ вновь почувствовал сильную боль в ногах: близость цели ее нисколько не успокаивала. К счастью, монастырь действительно оказался неподалеку — вскоре Жиль увидел впереди стены, едва различимые среди густой листвы. Желая поскорее добраться до цели своего путешествия, он ускорил шаг, не обращая внимания на стертые и уставшие ноги.
Чуть дальше дорога сужалась, и впереди открывался глубокий овраг, тянувшийся по правую и левую руку, насколько хватало глаз. Попасть на другую сторону можно было лишь по узкому мостику. Рядом был установлен указатель с выжженным на нем названием: «Овраг Святого Бернара».
Пересекая мост, Жиль не удержался и перегнулся через каменный бордюр, чтобы посмотреть вниз. По дну оврага, где лежали валуны и ветви деревьев, струился небольшой ручеек, вероятно, превращавшийся зимой в стремительный полноводный поток. Боссюэ прокричал свое имя, и горное эхо послушно повторило его несколько раз, постепенно затухая. Весело улыбаясь, как мальчишка, довольный своей проделкой, Жиль добрался до другой стороны оврага. Каменный мост закончился, и под ногами снова зашуршал гравий, смешанный с пылью. Метров через сто оттуда дорога раздваивалась: одна тропинка, согласно указателю, вела в местечко под названием Ла-Пенья, а другая — к источнику. Боссюэ пошел по второй: это было ему не совсем по пути, но кристально чистая вода, лившаяся из металлической трубы в скале, манила к себе с непреодолимой силой.
Однако, подойдя к источнику, Жиль так и не попил этой чудесной воды, отвлеченный красотой открывшегося перед его глазами пейзажа. Отсюда были видны многие деревушки, лежавшие в Конка-де-Барбера, а вокруг возвышались горы, вершины которых живописно вырисовывались на фоне вечернего весеннего неба. Впереди виднелись величественные очертания монастыря, окруженного густыми зарослями цветущего орешника, почти скрывавшего от глаз его внешнюю стену.
Жиль раскинул руки и вдохнул полной грудью. В воздухе чувствовался запах тимьяна и смеси десятков других неотделимых друг от друга ароматов. Боссюэ чувствовал на своем лице тепло последних лучей солнца и наслаждался музыкой живой природы — завораживающим пением птиц. Никогда в жизни его сердце не переполняла такая радость бытия, как в этот момент. Жиль спросил себя, что привело его в этот далекий уголок, но не нашел ответа… Он уже тысячу раз повторял себе, что его интерес к этому делу был чисто научным, уверял себя в этом, придумывая рациональные объяснения, однако при виде монастыря его сознание внезапно осветила мысль, которую Жиль уже давно смутно чувствовал, но никак не решался осознать. Она совершенно противоречила всем его убеждениям, но в то же время что-то не позволяло ему уверенно и без колебаний отвергнуть ее. Боссюэ не мог избавиться от ощущения, что существовала какая-то сила, управлявшая его судьбой с тех пор, как в руки ему попал медальон. Или даже раньше. Намного раньше. Жиль медленно опустил руки, глядя на заходящее солнце, и стоял неподвижно до тех пор, пока оно окончательно не скрылось за горами.
Когда Боссюэ вошел в монастырские ворота, уже наступил вечер. Он оказался во дворе, где находилось несколько скромных строений, очевидно, предназначенных для работников аббатства. На противоположной стороне двора располагалась крошечная капелла, а чуть в стороне от нее был виден вход, через который можно было пройти дальше. Жиль постучал в дверь ближайшего к входу дома, и оттуда вышел, потирая глаза руками, грубоватый с виду заспанный человек.
— Добрый вечер. Что вам угодно? — сказал он, зевая.
— Добрый вечер. Я узнал, что в этом монастыре дают кров паломникам. Это правда?
Человек подозрительно оглядел Жиля с ног до головы, после чего впился взглядом в его глаза. Боссюэ немного занервничал: он не был готов к тому, что в монастыре ему могут не поверить. «Интересно, можно ли отличить настоящего паломника от замаскированного атеиста вроде меня?» — подумал он и, стараясь ничем не выдать своего волнения, выдержал взгляд подозрительного привратника и снова спросил:
— Так это правда?
— Да, это правда, мы предоставляем кров паломникам, — сказал человек, особенно подчеркнув последнее слово.
Боссюэ притворился, будто не заметил недоверчивого тона привратника, и смиренно склонил голову, постаравшись напустить на себя как можно более благочестивый вид. Сцена становилась все более комичной, но Жиль заставлял себя не думать об этом, чтобы не расхохотаться. Было совершенно несомненно, что, если ему не удастся сдержаться, его в ту же минуту с негодованием выдворят за пределы монастыря.
— Пройдите туда, — ледяным тоном сказал наконец привратник, указав на металлические ворота в дальней стене. — По правую руку увидите дом для паломников. Спросите брата Алехандро.
Боссюэ направился к указанным ему воротам, чувствуя на своем затылке пристальный взгляд привратника, словно тот пытался прочитать его мысли, чтобы разоблачить обман. Ворота вели в другой двор, намного более просторный, чем первый. Напротив входа возвышался изящный каменный крест на ступенчатом основании. Дальше, между двумя шестиугольными башнями, находились другие ворота, ведшие в центральную часть монастыря, отделенную от остальной территории высокой зубчатой стеной.
Справа от входа, как и сказал привратник, находилось несколько зданий, и Боссюэ в поисках дома для паломников направился к тому из них, окна которого были освещены. Романская арка на входе оказалась такой низкой, что Жилю пришлось слегка пригнуться, чтобы не удариться головой. Распрямившись и сделав шаг вперед, он едва не натолкнулся на монаха.
— Простите, — пробормотал Жиль. — Где я могу найти брата Алехандро?
— Я и есть брат Алехандро, — надменно сказал монах. — А сами вы кто?
Боссюэ был несколько обескуражен тем, что брат Алехандро встретил его так же неприветливо, как и привратник. Вероятно, подумал он, неприязнь у них вызывал его французский акцент. У монаха было суровое угловатое лицо, и он угрожающе смотрел на Жиля взглядом, полным презрения. Волосы брата Алехандро — абсолютно черные, несмотря на то что выглядел он лет на пятьдесят, — резко контрастировали с ослепительной белизной его одежды. Стоявший рядом с ним молодой монах, очевидно, не разделял неприязни старшего брата к страннику-французу и осмелился за него вступиться.
— Что вы, брат Алехандро, это же паломник, кто же еще — взгляните на его одежду и посох! Конечно же, он ищет ночлега, и ему нужна горячая еда. Верно? — спросил он, обращаясь уже к Жилю.
Брат Алехандро резко повернулся к молодому монаху. Он ничего не сказал, но его грозного взгляда было достаточно для того, чтобы юноша оробел.
— Да, я паломник, — подтвердил Жиль, желая снова привлечь к себе внимание брата Алехандро. — Я направляюсь в Сантьяго-де-Компостела, но прежде мне бы хотелось провести несколько дней здесь, чтобы помолиться и обрести умиротворение для моей души.
— Ладно, ладно, все ясно. Можете оставаться, — неохотно согласился брат Алехандро. — Брат Хосе, — сказал он, снова метнув гневный взгляд в сторону молодого монаха, — проводит вас в вашу келью.
Жиль не знал, достаточно ли правдоподобно у него получилось сыграть паломника, но, во всяком случае, как казалось, монахи более или менее ему поверили. Брат Алехандро, не желая больше общаться с пришельцем, повернулся и пошел по направлению к церкви, находившейся во дворе.
— Надеюсь, вы извините брата Алехандро, — сказал Жилю брат Хосе. — Он очень благочестивый человек, но недолюбливает французов. Не спрашивайте меня почему… — Монах вздохнул и тут же добавил: — Ну что ж, давайте я покажу вам вашу келью.
Молодому монаху было на вид около двадцати пяти лет. У него было красивое доброе лицо, обрамленное черными вьющимися волосами, и простодушное выражение его глаз не имело ничего общего с суровым взглядом брата Алехандро. Сняв со стены небольшую лампу, Хосе зажег ее и двинулся вперед.
— В коридоре очень темно, — пояснил он и нырнул в каменный проем.
Боссюэ поспешил за ним, и оба оказались в узком коридоре. По мере того как они удалялись от входа, тьма становилась все более непроглядной. Лампа отбрасывала тусклый желтоватый свет на несколько шагов вперед, позволяя видеть лишь темные плиты пола и большие каменные глыбы, из которых были выстроены стены и сводчатый потолок.
— Это здесь, — сказал брат Хосе, внезапно остановившись и повернувшись лицом к Боссюэ.
Голос его гулко разнесся по всему коридору, несмотря на то что говорил он почти шепотом. Это сделало монаха еще больше похожим на призрака: он был в белых одеждах, и лампа бросала на его лицо подвижные фантастические блики.
Вынув большую связку ключей, висевших на кольце, монах долго перебирал их и наконец торжествующе поднял огромный железный ключ, который, как казалось Жилю, ничем не отличался от всех остальных.
— Ну и ну! — воскликнул он. — И как вы только их различаете?
— Это непросто, — с улыбкой ответил брат Хосе, отпирая дверь кельи, — но со временем начинает получаться. Для меня большая честь то, что аббат доверяет мне ключи от всего монастыря. Ну… — замявшись, добавил он, — почти от всего. Есть такие места, куда можно входить только настоятелю и нескольким старшим братьям.
Услышав это, Боссюэ насторожился.
— Правда? — как можно более спокойным тоном спросил он, стараясь не показывать свою заинтересованность.
— Да, всем остальным категорически запрещено входить туда.
— И брату Алехандро?
— Брату Алехандро?.. — Молодой монах на несколько мгновений замолчал, вероятно, представив, какой нагоняй его ждет, и наконец ответил: — Нет, брат Алехандро везде имеет доступ.
Жиль разволновался еще сильнее. Возможно, неприветливость брата Алехандро была вызвана вовсе не его угрюмым характером, а намного более глубокой причиной: ведь для того, кто охраняет какую-то тайну, любой чужак представляет потенциальную опасность.
— …такая вот комната, — услышал он слова монаха, прервавшие его размышления.
Брат Хосе вошел в келью, и через несколько секунд из нее полился слабый свет. Когда Боссюэ вошел следом, монах зажигал другую свечу, стоявшую на небольшом подсвечнике на выступе в стене.
— Как видите, здесь все очень скромно, — сказал брат Хосе, показывая Жилю келью, — но, как говорит Господь: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
— Аминь! — улыбнулся Жиль. — Кровать и крыша над головой — это все, что мне нужно. Спасибо вам.
— Ах, чуть не забыл! Вы наверняка голодны? Сейчас уже прошел час ужина, но я могу принести вам что-нибудь поесть с кухни.
— Нет, не стоит, благодарю вас. Я очень устал и хочу только спать.
— Хорошо, в таком случае отдыхайте. Кстати, завтрак у нас ровно в шесть. Я могу прийти разбудить вас, если хотите.
— Да, конечно, еще раз спасибо.
— Тогда до завтра. Спокойной ночи, — сказал монах, прежде чем закрыть за собой толстую деревянную дверь.
Боссюэ остался один. Келья размером примерно три с половиной на два с половиной метра действительно была более чем скромной. У левой стены стояла крепкая сосновая кровать, накрытая старым серым покрывалом, и рядом — маленькая скамейка для молитвы на коленях. Над ней, в противоположной входу стене, находилось окно с изъеденной жуком-точильщиком рамой. Толщина стен была такова, что проем, в котором было установлено окно, имел глубину около метра. В этом углублении лежала книга в черном переплете — несомненно, Библия.
Боссюэ просунул руку в проем и открыл окно. В комнату тут же ворвался свежий приятный ветерок. Однако вид из окна несколько разочаровал Жиля: впереди, в нескольких метрах, возвышались ярко освещенные полной луной грандиозные стены, закрывавшие собой горы; слева была видна башня, а с другой стороны вырисовывались темные силуэты других монастырских строений. Как он убедился, келья его находилась на первом этаже, поскольку от окна до земли была всего пара метров.
Закрыв окно, Жиль улегся на кровать и стал обдумывать свои дальнейшие действия. Возможно, то, что ему случайно удалось узнать от монаха, действительно имело отношение к тайне, ради которой он оказался в этом монастыре. Однако не исключено было и то, что никакой связи здесь вовсе не было. Боссюэ старался сконцентрироваться на этих мыслях, но усталость и сон победили его. Засыпая, он услышал дивное песнопение, доносившееся словно откуда-то издалека и приглушенное толстыми каменными стенами. И в этом состоянии — на границе между сном и бодрствованием — у Жиля вдруг возникло ощущение, будто он умер и хор небесных ангелов поет ему приветственную песнь.
I век, Аримафея
После обеда с Симоном Бен Матфием, Леввей, несмотря на то что ему хотелось подольше поговорить со своим новым знакомым, снова отправился в путь, чтобы ночь не застала его по дороге. Теперь путь его лежал в Аримафею, где жил Иосиф, член Синедриона, которого Иисус очень любил. Симон настоял на том, чтобы посланник остановился в его доме на все время пребывания в Иерусалиме. Леввей сначала отказывался, не желая злоупотреблять его гостеприимством, но в конце концов согласился.
Аримафея, родная деревня Иосифа, находилась километрах в тридцати к северо-западу от города, неподалеку от дороги, шедшей до побережья Средиземного моря и соединявшей Иерусалим с Хайфой. Местность была достаточно ровная, однако невыносимый зной и духота значительно удлиняли путь. Кроме того, Леввей вовсе не был уверен, действительно ли Иисус находился в Аримафее. От Симона он узнал лишь то, что Учитель и Иосиф были дружны и ученики Иисуса собирались приготовить Пасху в его доме. Леввей подозревал, что отыскать Учителя будет нелегко и на этом пути его, возможно, ожидали многие трудности. Его вполне могли заподозрить в каком-нибудь злом умысле, принять за шпиона… Однако Леввей во что бы то ни стало хотел выполнить поручение своего царя и сам страстно желал познакомиться с этим святым человеком, которого одни считали Мессией, а другие боялись и ненавидели.
Пройдя около половины пути, посланник увидел сидевшего у дороги человека в сильно изношенных черных одеждах, на коленях которого горизонтально лежала длинная палка из оливкового дерева. Человек сидел, сгорбившись и склонив голову, с совершенно отрешенным видом, и взгляд его был неподвижно устремлен в землю. Леввей решил спросить, на правильном ли он пути к Аримафее, но, подойдя поближе, остолбенел: на лице неизвестного были видны следы проказы — ужаснейшего заболевания, медленно и безжалостно пожиравшего тело и душу.
Почувствовав на себе полный ужаса взгляд Леввея, прокаженный очнулся и, взглянув на него, улыбнулся с блаженной безмятежностью.
— Не бойся, путник, — сказал он размеренным голосом человека, чья душа пребывала в вечном умиротворении, — это следы уже отступившей болезни.
— Но… ведь проказа неизлечима… Как ты мог исцелиться? — удивленно спросил Леввей, все еще с некоторой опаской глядя на человека.
— То, что невозможно для смертного, легко для всемогущего Бога. Спасением моего тела и души я обязан его посланцу — Иисусу из Назарета, Мессии, — глубоким, далеким голосом произнес человек.
— Так ты знаешь Иисуса? Я ищу его.
— Однажды он подошел ко мне и сказал: «Твоя болезнь терзает тебя, но, говорю тебе, если вера твоя сильна, вместо страдания на тебя снизойдет небесная благодать». Он провел рукой по моей щеке, и я очистился от проказы. Это было настоящее чудо. Сын Божий в который раз явил свою силу неверующим…
Леввей не был слишком впечатлительным, но то, что рассказал ему исцелившийся прокаженный, потрясло его до глубины души. Проказа никогда не останавливалась так просто: она изъедала все тело человека изнутри и снаружи, превращая его в живой труп, вызывавший у других людей ужас и отвращение.
— Да, ты должен благодарить Бога за то, что он избавил тебя от проказы. Иисус сотворил с тобой настоящее чудо. Кстати, ты не знаешь, действительно ли он сейчас в Аримафее в доме Иосифа?
Человек, погрузившийся было в состояние отрешенности при воспоминании об Иисусе, снова очнулся, и, хотя выражение его лица стало несколько настороженным, голос его не утратил своей безмятежности.
— Зачем ты его ищешь? Что тебе от него нужно?
— Я прибыл из далекой страны, с севера. Моему царю понравилось учение Иисуса, и он послал меня сюда, чтобы я пригласил Учителя в нашу страну.
— Как мало ты знаешь об Иисусе…
— Почему? Мои слова тебя чем-то обидели?
— Нет, путник, нет. Но Иисус не пойдет с тобой. Он ни за что не покинет Иудею: ему предстоит исполнить здесь волю Отца Своего. Иисус сам мне это открыл.
— Что ж, все равно мне нужно поговорить с ним. Я должен выполнить поручение моего царя.
— Хорошо, раз так. Но, говорю тебе, все твои усилия будут тщетны, — сказал человек с искренним сочувствием в голосе: очевидно, он был уверен, что несчастный чужестранец не мог в полной мере понять величие их Учителя. — Следуй дальше по этой дороге: если пойдешь быстрым шагом, то через час будешь в Аримафее. Там спросишь, где живет Иосиф, хотя его дом и так легко узнать: он самый большой и находится посередине деревни.
После встречи с исцелившимся прокаженным, которого, как оказалось, звали Сим (так же, как сына Ноя, родоначальника семитских народов), Леввей продолжил свой путь. После разговора с Симом сердце его наполнилось спокойствием, а тело — бодростью, и вид каменистой пыльной дороги уже не наводил на него уныния. Леввею не терпелось найти Иисуса, поговорить с ним, услышать его учение из первых уст.
В Аримафее насчитывалось не больше двадцати домов: почти все они были очень чистые, ухоженные и выделялись на фоне бурой земли своими свежепобеленными стенами. По одну сторону от деревни тянулись до ближайшего холма сливовые сады, где попадались также смоковницы и абрикосовые деревья.
Следуя указанию Сима, Леввей отыскал в Аримафее центральный и самый большой дом, значительно отличавшийся от соседних строений. Его окружал огромный сад, обнесенный высокой глинобитной стеной. Судя по внешнему виду, дом, несомненно, принадлежал богатому человеку. Леввей вошел в сад, огляделся и, не обнаружив там никого, осторожно прошел дальше, ко входу в дом. Воздух стал уже значительно прохладнее. Солнце клонилось к закату, и его медные лучи слабо освещали двор и фасад дома. Когда Леввей подошел ко входу и хотел уже переступить порог, сильная рука остановила его, и из полумрака появилось угрожающее лицо.
— Кто ты такой? — воскликнул человек, охранявший вход.
Леввей вздрогнул от неожиданности, однако не испугался. Взглянув на грозного с виду сторожа, он сказал, подняв руки с раскрытыми ладонями:
— Я пришел с миром, не бойся меня. Я ищу Иисуса из Назарета.
— Ты ищешь Иисуса? Зачем он тебе? — сурово спросил человек, нахмурив брови и сжав руку Леввея.
Посланник хотел было объяснить, кто он и зачем пришел, как вдруг изнутри дома донесся ровный, неземной красоты голос:
— Петр, впусти этого человека. Он пришел издалека, чтобы увидеть меня.
Леввей сразу же понял, что этот голос принадлежал тому самому человеку, которого он искал. Только он мог излучать тепло и свет посреди темноты и холода надвигавшейся ночи. Только он мог знать, откуда пришел Леввей.
Петр нехотя подчинился и, проворчав что-то себе под нос, с сердитым видом уселся у входа. В комнате, слабо освещенной маленькой масляной лампадой, царило спокойствие и воздух был пропитан запахом ладана и ароматических масел. Глаза Леввея постепенно привыкли к тусклому освещению, и он различил в глубине на выступе стены фигуру Иисуса, который сидел, облокотившись одной рукой о колено и задумчиво подперев подбородок кулаком. На нем был светлый хитон, и его длинные волосы сверкали при мягком свете лампады.
— Подойди, не бойся ничего, — сказал он, повернув голову к посланнику.
В этот момент Леввей впервые увидел глаза Иисуса — большие, блестящие, величественные, проникавшие в самую душу. В его взгляде была сила и мудрость, доброта и любовь. Посланник почувствовал себя ребенком, стоящим перед отцом. Медленно, не отводя взгляда от глаз Мессии, он подошел к нему, и вблизи лицо Учителя еще сильнее поразило его: прекрасное и благородное, оно светилось невыразимой, бесконечной добротой. Леввей почувствовал, что ему хочется разрыдаться от переполнявшего его благоговения, но сдержался. Иисус поднялся со своего места и снова заговорил:
— Пойдем со мной, посланник, поговорим наедине. Расскажешь мне, что тебя привело сюда.
Услышав эти слова, Петр подскочил как ужаленный и с жаром воскликнул:
— Учитель! Ты же не знаешь этого человека! Позволь мне хотя бы его обыскать. Послушай, какой у него странный выговор: кто знает — вдруг его подослали римляне? Он может оказаться убийцей!
— Петр, ничего не нужно бояться. Моя судьба — в руках моего Отца, и на все — воля Его.
Иисус провел Леввея во внутреннюю комнату, где стоял простой стол и два крепких стула. Там они долго беседовали, и все это время Петр не находил себе покоя.
Когда Иисус и Леввей вышли из комнаты, все ученики уже собрались в доме и с беспокойством ожидали Учителя. Они вернулись из Иерусалима, где задержались до вечера, поскольку Иосиф должен был участвовать в собрании Синедриона. По возвращении в Аримафею их встретил на пороге встревоженный Петр, рассказавший о появлении подозрительного чужака, которого Иисус велел пропустить, не обыскивая, и принял в доме. Взволнованно размахивая руками, Петр призывал учеников ворваться в комнату, где Иисус разговаривал с незнакомцем: Учителю грозила опасность, уверял он, и они должны были его спасти. Однако рассудительный Павел удержал их от этого[3].
После разговора с Учителем лицо Леввея преобразилось, и в глазах его появился удивительный свет, словно ему открылось какое-то тайное знание. О своем разговоре они никому ничего не сказали. Когда Петр спросил Иисуса, что произошло, тот лишь с улыбкой ответил: «Мы о многом поговорили. Леввей — хороший человек».
Иисус пригласил посланника поужинать с ним и его учениками и переночевать в доме Иосифа. Уже было холодно и темно, и отправляться в путь в такое время было небезопасно. За ужином Иисус и Леввей больше не говорили друг с другом, но посланник не сводил глаз с Учителя. Что-то изменилось в его душе: он был уже совсем не тем человеком, каким пришел в Аримафею пару часов назад.
1888, Поблет
Наутро Жиль проснулся от стука в дверь. Полусонный, он сел на кровати и, взглянув на ноги, обнаружил, что спал, даже не разувшись.
— Доброе утро, — послышался за дверью голос брата Хосе, и снова раздался стук.
Спотыкаясь спросонья, Боссюэ направился к двери и, открыв ее, увидел перед собой монаха.
— Доброе утро, — повторил Хосе. — Хорошо отдохнули? Как вам спалось?
— Спасибо, прекрасно. Только вот, прежде чем заснуть… — начал было говорить Жиль, но осекся и тряхнул головой, словно пытаясь отогнать от себя абсурдную мысль.
— И что же произошло?
— Ну, кажется, мне послышалось какое-то пение…
— Ах, ну конечно! Каждый вечер в девять часов мы служим повечерие и поем Salve. Если хотите, можете сегодня к нам присоединиться.
— Да, конечно, с большим удовольствием.
— Вот и прекрасно. А вы, я вижу, уже одеты, — сказал брат Хосе, окинув Боссюэ взглядом.
— Да уж, так получилось, — усмехнувшись, ответил Жиль.
Монах в некотором недоумении посмотрел на него, но ничего не спросил.
— Что ж, тогда пойдемте к завтраку.
Закрыв дверь кельи, они проделали в обратном направлении тот же путь, которым шли прошлым вечером, и вышли наружу. Солнце еще не взошло окончательно, но на небе уже были видны его проблески. Было еще прохладно, и свежий прозрачный воздух был наполнен звонким пением птиц.
Жиль потер глаза, чтобы взгляд его окончательно прояснился. Двор, куда они вышли, оказался действительно очень просторным — даже больше, чем показалось ему накануне вечером. По дороге к внутренней монастырской стене они прошли мимо креста, еще вчера привлекшего внимание Боссюэ.
— Это крест аббата Жуана де Гимера, — пояснил брат Хосе, заметив интерес Жиля. — Ему около двухсот лет.
Сказав это, монах взобрался по ступенькам на вершину основания и трижды обошел крест, после чего спустился и предложил Боссюэ проделать то же самое. Увидев недоумение на лице Жиля, брат Хосе, довольный тем, что ему удалось удивить паломника, расхохотался.
— Это старая традиция, — объяснил он наконец. — Говорят, что человек, трижды обошедший крест, обязательно снова вернется в Поблет.
— В таком случае… — Жиль поднялся по ступенькам и принялся исполнять ритуал, — мы еще увидимся.
В центральную часть монастыря вели Королевские ворота — тяжелые, обитые металлическими пластинами двери, установленные в романской арке. Стена, окружавшая церковь и основные здания монастыря, достигала в высоту более десяти метров и была в значительной степени скрыта листвой какого-то вьющегося растения. Как сказал брат Хосе, Поблет был настоящей крепостью. По обеим сторонам ворот возвышались две шестиугольные башни — такие же, какие находились на других участках стены, но несколько меньшего размера. Ворота вели в маленький внутренний дворик. Брат Хосе и Боссюэ пересекли его и, войдя в дверь, находившуюся в дальнем конце двора по левую руку, оказались в просторном вестибюле с двумя рядами арок, придававшими ему строгий и торжественный вид.
— Здесь можно пройти в наши кельи, — сказал брат Хосе, махнув рукой в сторону лестницы. — А тут у нас кухня, — добавил он, указав на дверь, находившуюся в нескольких метрах от них.
Пройдя мимо кухни, они вышли через коридор в крытую галерею, окруженную колоннами с полукруглыми арками и сочетавшую в себе романский и готический стили.
— Это… — начал было Жиль, но брат Хосе приложил палец к губам, показывая, что в этом месте следовало соблюдать молчание.
Таким образом, не говоря друг другу ни слова, они повернули налево и вошли в коридор, который привел их к многоугольному строению, окруженному каменными колоннами и римскими арками. Внутри его находился фонтан в форме купели, из которой били струи воды. Толпившиеся вокруг источника монахи с усердием мыли руки. Брат Хосе присоединился к ним, и Боссюэ сделал то же самое.
Трапезная находилась неподалеку от фонтана, слева от крытой галереи. Это был просторный зал длиной около тридцати метров и шириной не менее десяти. Столы были расставлены по периметру так, чтобы центр зала оставался свободным. Трапезная сообщалась с кухней через широкий проем, занимавший почти всю стену. Благодаря этому все происходящее на кухне было хорошо видно: в данный момент там расторопно сновала дюжина молодых братьев, заканчивавших приготовление завтрака, под грозные окрики толстого и сердитого с виду монаха. Одну из стен кухни занимали огромные печи, которые, очевидно, и были источником удивительно аппетитного запаха, наполнявшего трапезную.
— Простите, что не дал вам говорить в галерее — там запрещено разговаривать, — извинился брат Хосе. — Что вы мне хотели сказать?
— Да так, ничего особенного, — ответил Жиль, оторвавшись от разглядывания кухни. — Я просто хотел заметить, что это красивая галерея, но я не знал, что там нельзя разговаривать.
— Да, эта галерея действительно великолепна, — с гордостью в голосе сказал монах. — Восточную часть стали строить в начале тринадцатого века в романском стиле. Строительство заняло почти сто лет, и поэтому колонны и декоративные детали большей части галереи выполнены уже в готическом стиле. В монастыре у нас есть еще две галереи, но они, конечно, не такие красивые, как эта.
Монах замолчал и замер на несколько секунд, завороженно глядя на галерею, словно видел ее впервые. Когда он наконец повернулся, Боссюэ спросил у него:
— Простите, где я могу сесть?
— Столы в глубине и справа предназначены для братьев монастыря. А вы можете сесть за любой другой стол.
Практически все места, предназначенные для монахов, были заняты, столы же для паломников, напротив, стояли совершенно пустые. Очевидно, Жиль был единственным странником, находившимся в монастыре в этот момент. Этот факт несколько озадачил его: возможно, пришло ему в голову, в это время не принято было совершать паломничество в Поблет. Или, тут же успокоил себя Жиль, это была просто случайность… «Или судьба», — подумал он, не зная в то же время, верил он в нее или нет.
Жиль выбрал место поближе к столам монахов в глубине трапезной. Однако брат Хосе не смог сесть неподалеку, поскольку свободное место ему удалось найти лишь на другом конце зала. Как раз в тот момент, когда Боссюэ уселся за стол, в трапезную вошли шестеро монахов с большими подносами в руках. С необыкновенной ловкостью и проворством они принялись расставлять по столам завтрак, состоявший из большой чашки молока и двух ломтей хлеба.
Жиль хотел было уже приняться за еду, как вдруг из-за одного из столов поднялся почтенного вида старик. Рядом с ним Боссюэ заметил брата Алехандро, сдержанно кивнувшего ему. Ответив на приветствие, Жиль снова устремил свой взгляд на старика, несомненно, являвшегося настоятелем монастыря. У него были совершенно седые волосы и длинная, немного растрепанная борода, закрывавшая большую часть лица. Закрыв свои проницательные, светившиеся мудростью глаза, аббат воздел к небу руки, и все монахи смиренно склонили головы и молитвенно сложили ладони. Боссюэ сделал то же самое, но не закрыл глаза, чтобы наблюдать за аббатом. У него был вид настоящего праведника, каких Жилю еще не доводилось встречать в своей жизни: спокойное и величественное лицо его излучало какую-то таинственную энергию.
— Благодарим Тебя, Господи, за дары Твои, которые мы будем вкушать, — мягким и в то же время сильным голосом произнес аббат, — и за то, что Ты подарил нам еще один день, чтобы мы провели его во славу Твою, в ожидании Твоего второго пришествия.
— Аминь! — в унисон возгласили монахи.
После молитвы аббат снова сел на свое место, и братья принялись за еду. Один монах тем временем стал читать слабым голосом Священное Писание. Заставив себя отвести взгляд от аббата и заняться своим завтраком, Жиль мысленно выругал себя за то, что чуть было не допустил большую оплошность — едва не взялся за еду до молитвы! Не требовалось быть знатоком религиозных обычаев и обрядов, чтобы догадаться, что монахи приступают к еде лишь после молитвы. Боссюэ сказал себе, что впредь следовало быть осторожнее и не допускать больше подобных промахов: он явился в монастырь как паломник и должен был вести себя соответственно. Иначе его, несомненно, ждали неприятности. Вряд ли все монахи в Поблете были столь же приветливы и доброжелательны, как брат Хосе.
Жиль не переставал досадовать на себя, однако, отведав завтрак, тотчас пришел в хорошее расположение духа. Хлеб был белый и мягкий, еще горячий. Несомненно, его делали в самом монастыре в больших печах, которые он видел на кухне. Жиль с жадностью съел оба куска и залпом выпил молоко — жирное, свежее и необычайно вкусное. Он был очень голоден, поскольку не ел уже больше суток.
Проглотив свой завтрак, Боссюэ огляделся вокруг и, обнаружив, что все монахи только начали есть, несколько смутился. К счастью, никто из них, как казалось, не обращал на него внимания. За исключением, правда, брата Хосе, с любопытством наблюдавшего за Жилем с другого конца зала. И еще одного человека… Окинув взглядом трапезную, Боссюэ заметил, что на него с крайним неодобрением смотрел со своего места брат Алехандро. Вот это было уже плохо. Готовый провалиться сквозь землю от стыда, Жиль отвел взгляд от глаз монаха и принялся разглядывать крытую галерею, делая вид, будто его чрезвычайно интересовал находившийся там фонтан.
Через несколько минут в трапезную снова вошли из кухни монахи и так же проворно, как расставляли завтрак, собрали со столов пустые чашки. Братья, закончившие завтракать, стали вставать со своих мест и выходить из трапезной. Жиль поискал глазами брата Хосе и увидел его неподалеку от стола аббата: он разговаривал с братом Алехандро, и тот несколько раз кивнул в сторону Боссюэ. Жилю не было видно выражения лица молодого монаха, стоявшего к нему спиной, и потому он не мог угадать, о чем шел разговор. Боссюэ подозревал, что ничего хорошего он ему не сулил, и потому был немало удивлен, увидев улыбающееся лицо направлявшегося к нему брата Хосе.
— Брат Алехандро на время освободил меня от моих обязанностей, — радостно сообщил он, приблизившись, — и поручил мне сопровождать вас повсюду, пока вы гостите в нашем монастыре.
— Замечательно. С вами я смогу узнать много интересного о Поблете, — с улыбкой ответил Жиль, хотя эта новость не слишком его обрадовала.
Несомненно, брат Алехандро хотел держать его под постоянным присмотром. Зачем еще стал бы он давать ему личного гида, явно не питая к нему особого расположения? В то же время добрая душа Хосе вряд ли понимал, какую роль он на самом деле играл в этой ситуации. Более того, Боссюэ был теперь почти уверен, что тайна, хранимая в монастыре, была известна лишь небольшой группе посвященных — тем немногим монахам, которые, по словам брата Хосе, имели доступ в такие места, куда остальным братьям запрещено было входить. Чтобы докопаться до этой тайны, Жиль собирался незаметно для всех провести расследование, но теперь постоянное присутствие рядом с ним монаха значительно осложняло задачу.
— Хотите посмотреть нашу библиотеку? — с улыбкой предложил брат Хосе.
— Да, конечно, — без особого энтузиазма, автоматически ответил Боссюэ, погруженный в свои размышления.
Монах, как казалось, ничего не заметил и бодро повел Жиля по левому коридору галереи, в противоположном вестибюлю направлении. Вскоре они вышли в другой коридор, соединявший главную галерею с галереей Святого Стефана. Этот коридор служил местом для бесед, и монахи, собравшиеся там небольшими группами, вполголоса разговаривали между собой. Брат Хосе открыл тяжелую деревянную дверь, находившуюся с одной стороны коридора, и пропустил Жиля вперед.
Войдя внутрь, монах поспешно закрыл за собой дверь, чтобы восстановить в библиотеке привычную тишину. Это был просторный зал, чуть меньше трапезной, с высоким потолком и готическими арками на вереницах колонн. За расставленными между ними столами сидели, прилежно склонившись над книгами, молодые монахи. На столах стояли старые, потемневшие от многолетнего использования масляные лампы, но в этот ранний час в них не было необходимости, поскольку зал и без того был залит ярким солнечным светом, проникавшим сквозь огромные окна. Они были установлены в проемах, оформленных в виде романских арок, и располагались по обе стороны зала, в глубине которого была видна какая-то дверь.
— А что там? — указав на нее, спросил Боссюэ.
— Там скрипториум, но туда можно входить только библиотекарю и его помощникам. Там хранятся книги и рукописи, и некоторые из них даже в наши дни переписываются от руки. Монахи, сидящие в зале, — это те, кто совсем недавно принял постриг, они выполняют пока самую легкую работу. В прежние времена здесь работали юноши из знатных и богатых семей, поступавшие в монастырь, а братья простого происхождения занимались тяжелой работой — например, на кухне или даже в виноградниках — вместе с крестьянами, работавшими при монастыре.
В этот момент дверь скрипториума внезапно открылась, и оттуда появилась круглая фигура, которую Жиль тотчас узнал. Это был повар, командовавший монахами на кухне перед завтраком. У него были прилизанные каштановые волосы и круглые очки на носу, смотревшиеся до нелепости маленькими на его широком, полном и румяном лице.
— Доброе утро, — сказал он мягким и изысканным голосом, совершенно не вязавшимся с его грубым видом.
— Доброе утро, брат Агустин, — ответил ему брат Хосе. — Позвольте познакомить вас с паломником из Франции: он пришел вчера и собирается провести в нашем монастыре несколько дней.
— Жиль Боссюэ, — представился Жиль, протянув руку брату Агустину. — Рад с вами познакомиться.
— Мне тоже очень приятно, — ответил брат Агустин, крепко пожав протянутую ему руку. — Кстати, кажется, я видел вас сегодня в трапезной, когда был на кухне, — добавил он своим странным тенором, глядя куда-то вдаль и слегка покачивая головой.
— Да, я тоже вас видел, — сказал Боссюэ, чувствуя себя почему-то маленьким мальчиком, разговаривающим со взрослым.
— Брат Агустин — наш библиотекарь, — вмешался в разговор брат Хосе, — и по совместительству шеф-повар.
Жилю показалось смешным, что один монах мог совмещать столь разные по своему характеру работы, однако он благоразумно сдержал улыбку. Брат Агустин оставил без внимания реплику молодого монаха и пристально взглянул в глаза Боссюэ.
— И что же привело вас в нашу скромную библиотеку? — спросил он тоном, ясно дававшим понять, что он вовсе не считал ее скромной. — Вы пришли сюда просто посмотреть или вас интересуют какие-нибудь книги?
— Да, мне хотелось бы посмотреть некоторые книги, — ответил Жиль. — А именно те, которые посвящены истории монастыря: я очень хочу узнать о Поблете побольше. Надеюсь, у вас найдется не одна книга такого рода.
— Разумеется, — с негодованием в голосе ответил монах, оскорбленный последней фразой Жиля, словно поставившего под сомнение богатство монастырской библиотеки. — Я скажу своему помощнику, чтобы он подобрал для вас книги, и вы можете прийти за ними сегодня же днем, после обеда.
— Спасибо, я очень признателен вам. И простите, если обидел вас. Уверяю вас, я этого не хотел, — извинился Жиль, чтобы загладить невольно допущенную им оплошность: ему меньше всего хотелось настраивать против себя кого бы то ни было в монастыре.
— Вам не за что извиняться, — сухо сказал монах. — Что ж, мне пора идти. Очень приятно было познакомиться с вами.
Брат Агустин повернулся и направился к двери, ведшей в коридор. Боссюэ проводил монаха взглядом до самого выхода, загипнотизированный величественным колыханием его необъятной сутаны.
— Как так получилось, что обязанности повара и библиотекаря у вас исполняет один человек? — с любопытством спросил Жиль брата Хосе, когда монах вышел из зала.
— Брат Агустин много лет был помощником библиотекаря брата Николаса и после его смерти сам стал библиотекарем. А что до работы на кухне, то это просто стечение обстоятельств. Когда в результате реформ Мендисабаля Поблет лишился значительной части своих владений, многие братья вынуждены были отправиться в другие монастыри, поскольку здесь уже не хватало средств для их существования. Это были тяжелые времена, монастырь обеднел, и его покинули практически все работники, в том числе и повар. Брат Агустин был одним из немногих монахов, кое-что смысливших в приготовлении пищи, и он сам предложил взять на себя обязанности повара. Предполагалось, что это будет лишь временно — до тех пор, пока монастырь не сможет нанять повара. Однако долгое время на это все не было средств, а поскольку брата Агустина вполне устраивало такое положение дел, он по сей день так и остался поваром.
— Да, судя по его виду, к обязанностям повара он относится со всей ответственностью, — пошутил Жиль.
Услышав это, брат Хосе звонко расхохотался, отчего молодые монахи, работавшие в библиотеке, в недоумении подняли головы и недовольно посмотрели на нарушителя тишины.
— Вы, французы, остры на язык, — все еще продолжая смеяться, заметил он.
— Спасибо, — тоже со смехом ответил Жиль, расценив слова монаха как комплимент. — Только боюсь, теперь нам придется исповедаться. Кто-нибудь в вашем монастыре знает французский? Есть ведь такие грехи, о которых невозможно говорить по-испански.
Последнее замечание еще сильнее развеселило брата Хосе, и он снова захохотал, чем навлек на себя негодующие взгляды остальных монахов. Заметив это, брат Хосе, все еще усмехаясь, направился к двери, чтобы покинуть библиотеку. Жиль последовал за ним.
Оставшееся до обеда время они бродили по виноградникам и внешним территориям монастыря. Боссюэ просил брата Хосе показать ему церковь, но тот упорно не соглашался, уверяя, что церковь лучше смотреть вечером, когда там будут служить повечерие.
I век, Аримафея, Иерусалим
Утром, как только рассвело, Леввей поднялся и, торопливо одевшись, пошел попрощаться с Иисусом. Через несколько часов он должен был быть в башне Антония: встреча с наместником императора была назначена на десятый час, то есть на четыре часа дня. Войдя в комнату, где они ужинали накануне вечером, Леввей застал там Иисуса и нескольких его учеников за завтраком. Некоторые ученики еще спали в той же самой комнате, завернувшись в тонкие шерстяные одеяла. Солнце еще едва поднялось над горизонтом, и утренний ветерок был довольно прохладным.
— Ты уже встал, Леввей, — сказал Иисус, увидев его. — Я собирался тебя разбудить, но подумал, что еще слишком рано. Садись позавтракай с нами.
Жена Иосифа и молодая служанка накрыли на стол, поставив хлеб, мед, абрикосы в сиропе, овечий сыр и большой кувшин с парным молоком, которым Иуда Фаддей принялся наполнять чаши. Когда он разливал молоко, молодая красивая служанка с гладкими черными волосами — сирота-гречанка по имени Елена, — ставившая на стол горшочек с медом, сделала неловкое движение и пролила его на грудь Иисуса. Леввей посмотрел на Учителя, думая, что он упрекнет девушку за ее неловкость, но Иисус лишь весело рассмеялся, в то время как Петр и Иаков, недовольно взглянув на служанку, беззлобно на нее заворчали.
— Ты хорошо отдохнул, Леввей? — спросил Иисус.
— Ложе было удобное, не на что жаловаться, — ответил посланник, не в силах сдерживать своего беспокойства. — Но за всю ночь я почти не сомкнул глаз.
— Не позволяй страху проникать в твою душу, Леввей. Ничто в этом мире не происходит без воли Господа. Иди, выполняй свой долг и следуй велениям своего доброго сердца. Поблагодари своего царя за приглашение, но скажи, что я не могу принять его — мое место здесь. И не печалься, Леввей: ты будешь со мной в Царстве Небесном, где я сяду по правую руку от Отца моего.
Солнечный свет и тепло постепенно наполняли комнату, будя еще спавших учеников, и наконец все они собрались за столом. Зашла речь о праздновании Пасхи. Большинство учеников предлагали остаться на праздник в Аримафее, в доме Иосифа, но Иисус объявил, что они должны праздновать Пасху в Иерусалиме, неподалеку от дворца Ирода, в юго-западной части города. Филиппу, Варфоломею, Матфею и молодому Иоанну он поручил отправиться вперед, чтобы все приготовить. У Ессейских ворот, по словам Иисуса, они должны были встретить человека с кувшином воды — друга Иосифа из Аримафеи. В его доме и предстояло им встретить Пасху.
Обратный путь в Иерусалим показался Леввею бесконечно долгим, хотя на этот раз он шел вместе с учениками Иисуса и разговор с ними несколько отвлекал его от невеселых мыслей. Леввей с удовольствием пренебрег бы встречей с Понтием Пилатом, чтобы остаться с Учителем, но он не мог не выполнить поручение своего царя. Кроме того, помня, что рассказал ему Симон Бен Матфий, Леввей во что бы то ни стало хотел поговорить с прокуратором об Иисусе. Нужно было убедить Пилата в том, что Учитель был мирным и праведным человеком, совершенно не представлявшим опасности для римской власти.
Была среда, канун Пасхи. В Иерусалиме в этот день было намного больше народу, чем накануне, когда Леввей впервые пришел в город. Улицы заполняли евреи, прибывшие со всех концов Иудеи. В толпе были видны и язычники, находившиеся в городе по делам, и множество римских легионеров. На рынке при храме царило чрезвычайное оживление: торговцы громогласно расхваливали свой товар, зазывая толпившихся покупателей. Повсюду чувствовалась праздничная атмосфера, не предвещавшая никакой беды.
С трудом прокладывая себе дорогу в толпе, Леввей наконец добрался до резиденции прокуратора и предстал перед караульными, охранявшими вход. Его опять провели в комнату, где ему предстояло дожидаться вызова. На этот раз Пилат принял его практически сразу. Это был приземистый, полный человек со светло-каштановыми волосами и намечающейся лысиной. Он был гладко выбрит по римскому обычаю, на плечи его был накинут красный плащ, а грудь закрывал блестящий медный нагрудник. Когда Леввей вошел в комнату, Пилат стоял к нему спиной у стола, заваленного пергаментными свитками.
— Приветствую тебя, прокуратор. Я Леввей, посланник царя Авгаря Уккамы из царства Осроэна. Мой повелитель выражает тебе свое глубокое почтение, и я благодарю тебя за то, что ты милостиво согласился принять меня, явившегося от его имени.
— Не стоит рассыпаться в любезностях, посланник, — сказал Пилат, не оборачиваясь, но предельно вежливым тоном. — Я не люблю церемоний. Сожалею, что не смог принять тебя вчера, но в последнее время я очень занят. Ты видел, что происходит в городе? Иерусалим кишит иудеями, прибывшими на праздник. И это очень опасно… — Прокуратор осекся, помолчал несколько секунд и наконец, повернувшись лицом к Леввею, продолжил: — Впрочем, думаю, тебе это неинтересно. Что же касается просьбы твоего царя, то должен сообщить тебе, что я не могу ее выполнить.
— Иисус — святой человек, и защитить его — в твоей власти. Прошу тебя, ведь Рим всегда славился своей приверженностью справедливости и закону, — сказал Леввей, надеясь, что небольшая доза лести поможет ему убедить прокуратора.
— Рим, Рим, Рим… — вздохнул Пилат. — Империя держится не на законе и справедливости, а на силе и жесткости. Рим могуществен, потому что сильны его руки. Кроме того, в сфере религии власть принадлежит Синедриону.
— Но Синедрион ненавидит Иисуса… — начал Леввей.
— Я знаю, — перебил его Пилат. — Синедрион и проклятый Каиафа не хотят, чтобы кто-то вмешивался в их политику, которую они проводят через религию. И они еще строят из себя ревнителей иудейской веры, разрывая свои одежды при народе по малейшему поводу! О, если бы император дал мне больше свободы!
— Так, значит, ты готов защитить Иисуса от его врагов?
— О нет! Я не стану вмешиваться в решения Синедриона. Это политика, пойми это.
— Царство, откуда я пришел, маленькое, и наш царь справедлив. У нас никто не станет поступать против своих убеждений.
— Осторожнее, посланник! Ты ступаешь на скользкую почву. Разумеется, Понтий Пилат может уничтожить Синедрион, не оставить от него камня на камне — я здесь полновластный властитель. Однако правителю приходится ослаблять при необходимости веревки, чтобы они не порвались. Покоренным народам все же нужно предоставлять немного свободы, чтобы сохранять власть над ними: таким образом мы теряем меньше легионеров и меньше сестерциев.
Леввей молчал, размышляя над последними словами Пилата. Судя по всему, тот был хитрым, умным и циничным политиком, желающим только власти. Леввей понял, что ему не удастся убедить прокуратора защитить Иисуса.
— Надеюсь, ты останешься доволен своим пребыванием в Иудее, — сказал Пилат в завершение разговора. — А теперь нам придется закончить нашу беседу. Меня ждут дела.
Прокуратор сделал знак охранявшим дверь солдатам, чтобы они проводили посланника. Прежде чем выйти, Леввей повторил с грустью:
— Иисус — святой человек. Умоляю тебя, помни об этом…
Леввей был в крайнем смятении. Слова Симона Бен Матфия звучали в его голове как эхо приближающейся бури. И разговор с Иисусом тоже не давал ему покоя. Учитель сказал, что ждет в Иерусалиме исполнения воли Отца Своего. Но в чем она состояла? Связано ли это было с опасностью, нависшей над Иисусом? Леввей чувствовал, что надвигается что-то ужасное, и в то же время не мог ничего предпринять, чтобы спасти Учителя. Он был совершенно бессилен в этой игре, правила в которой диктовали гнусные человеческие страсти.
Перед тем как отправиться во дворец прокуратора, Леввей не успел пообедать, но теперь, после встречи с Пилатом, аппетит у него совершенно пропал. Он решил поговорить с Симоном, надеясь, что вдвоем им удастся найти какой-нибудь выход.
Посланник застал Симона дома крайне встревоженным. В религиозной жизни города, по его словам, царило напряженное спокойствие, возвещавшее о том, что буря близка. Накануне днем, когда Леввей отправился в Аримафею, фарисеи во главе с Каиафой выступили в Синедрионе против Иисуса. Первосвященник убедил совет в том, что Иисус — нарушитель закона и богохульник — должен быть взят под стражу и предан суду. «Только не в праздник, — сказал он, — чтобы ученики его не возмутили народ». Иосиф из Аримафеи и сам Симон пытались защитить Иисуса, но их не хотели слушать: большинство членов совета были настроены против человека, осмелившегося учить и обличать, словно ему дана была власть.
Каиафа убедил Синедрион обвинить Иисуса в богохульстве. В прежние времена это преступление каралось смертью, но с тех пор, как Иудея попала под власть Рима, за него полагалось менее суровое наказание. Однако, очевидно, главный первосвященник что-то скрывал: трудно было поверить, что он готов удовольствоваться лишь бичеванием Иисуса.
— Фарисеи для нас хуже саранчи, — мрачно сказал Симон. — Это лицемеры, извращающие закон ради своей собственной выгоды.
— Иисус в опасности, — заговорил Леввей, — и он даже не пытается ее избежать. Неужели мы ничего не можем сделать, Симон?
— Нам остается лишь уповать на то, что Пилат будет действовать в соответствии с римским законом. Каиафа станет требовать для Иисуса смерти, но вынести приговор не в его власти. Вероятно, он заручился также поддержкой Ирода Антипы, но, впрочем, поскольку Иисус родом из Галилеи, власти Иудеи не могут его судить. Не знаю, чего и ждать. Боюсь, Пилат не захочет защитить Иисуса.
Леввей пересказал Симону свой разговор с прокуратором. Пилат, несомненно, хотел любой ценой сохранить спокойствие в Иудее, ради чего готов был даже потворствовать Синедриону. Было ясно, что в любой ситуации он поступит так, как ему выгодно. Оставалось лишь надеяться на чудо.
— Я сделал все, что было в моих силах, — сказал Леввей Симону, — и теперь я возвращаюсь в свою страну. Иисус не хочет идти со мной. Наверное, царь Авгарь должен был послать другого человека, а не меня. Я ничего не добился, не смог убедить его отправиться со мной в Эдессу. Он решил остаться здесь и, знаю, не изменит своего решения.
Симон стал уговаривать Леввея остаться в его доме по крайней мере на Пасху. Путь ему предстоял долгий, и лишний день, проведенный в Иерусалиме, ничего не мог изменить. В конце концов Леввей согласился продлить свое пребывание в Иудее — но лишь на короткий срок. Оставаться дольше было тяжело и бессмысленно: он всей душой любил Иисуса, но знал, что ничем не может помочь ему, и не хотел видеть, как Учитель добровольно идет к своей гибели.
1888, Поблет
После скромного, но очень вкусного обеда Жиль снова отправился вместе с братом Хосе в библиотеку, чтобы забрать книги, которые обещал подобрать для него брат Агустин. Перед обедом Боссюэ мельком видел его, заглянув из трапезной на кухню. Там глазам Жиля предстала та же сцена, что и утром: молодые монахи сломя голову носились по кухне с подносами и кастрюлями, а брат Агустин следил за ними суровым взглядом, как военачальник, наблюдающий за идущими в бой солдатами. Когда толстый монах заметил присутствие Жиля, на лице его появилось какое-то новое выражение. Их взгляды встретились, и брат Агустин, поприветствовав его движением руки, загадочно улыбнулся. Боссюэ не знал, как следовало истолковать эту улыбку, но у него возникло ощущение, что монах решил устроить ему какую-то каверзу.
Подозрения Жиля подтвердились, когда он пришел в библиотеку и чрезвычайно худой, тщедушный монах, сказав вялым голосом: «Вот книги, которые вы просили», — указал ему на внушительную груду, в которой было по меньшей мере десятка два экземпляров. Некоторые из них были такие огромные и тяжелые с виду, что Жиль удивился, как такой хилый монах мог вообще их поднять. В этот момент он понял, с чем была связана странная улыбка брата Агустина. Несомненно, библиотекарь сам занимался подбором книг, чтобы сразить наповал французского паломника, посмевшего усомниться в богатстве монастырского книгохранилища. Видимо, принесенные Жилем извинения не возымели никакого действия.
Поскольку книг было очень много, разумнее всего было отобрать самые нужные прямо в библиотеке, но Боссюэ решил взять с собой все, чтобы не дать понять брату Хосе, что именно его интересовало, и не вызвать таким образом подозрений. К тому же это было дело принципа: Жиль готов был на своей собственной спине перетаскивать в келью книги, чтобы не дать брату Агустину повода торжествовать.
— Может быть, у вас есть какая-нибудь тележка, на которой можно было бы отвезти книги? — спросил Боссюэ тощего монаха.
Помощник библиотекаря чуть заметно кивнул и, не сказав ни слова, медленно поплелся к двери скрипториума с унылым смирением неприкаянной души, обреченной вечно маяться в стенах библиотеки. Он пропал надолго, и Жиль начал уже подозревать, что ждать бесполезно, но в конце концов помощник библиотекаря все-таки объявился, везя деревянную тележку с металлическими колесами. Не имея больше терпения ждать, пока монах проползет как улитка по залу, Боссюэ поспешил ему навстречу и в самых вежливых выражениях изъявил желание сделать все остальное сам с помощью брата Хосе. Странный монах опять сдержанно кивнул в знак согласия.
— Возвратите мне тележку, когда отвезете книги, — сказал он монотонным голосом на прощание и направился в скрипториум.
Жиль принялся укладывать книги на тележку, и, несмотря на то что брат Хосе усердно ему помогал, дело это оказалось нелегким. Через несколько минут, когда все книги были уложены, Жиль, тяжело дыша и держась за поясницу, остановился, чтобы передохнуть. Сказывался сидячий образ жизни, и Боссюэ дал себе слово, что, когда вернется в Париж, не станет больше целыми днями просиживать в своем кабинете.
— Позвольте я повезу, — настоял монах, взявшись за ручку тележки и положив поверх горы книг письменный прибор и стопку бумаги.
— Спасибо, — все еще тяжело дыша, сказал Жиль.
— Если хотите, можете тоже присесть на тележку, — смеясь, предложил брат Хосе.
Жиль, стоявший согнувшись и опершись ладонями о колени, поднял голову и посмотрел на монаха.
— Шутник! — сказал он с улыбкой и, распрямившись, добавил: — Смотрите, а то и в самом деле присяду, я тоже люблю шутить.
Вновь засмеявшись, монах покатил тележку, и Боссюэ пошел следом за ним. Выйдя из библиотеки, они пересекли галерею и двинулись дальше, за внутреннюю крепостную стену, к дому для нищих и пилигримов, где находилась келья Боссюэ.
Сославшись на усталость, Жиль сказал, что хочет немного отдохнуть, и брат Хосе оставил его в келье одного. С трудом протиснувшись между тележкой и кроватью, Боссюэ зажег свечи, стоявшие на выступе в стене, и, усевшись, устало вздохнул. Перед ним на тележке возвышалась огромная гора книг. Взяв верхнюю, Жиль положил ее на колени и углубился в чтение. От пыли, скопившейся на пожелтевших от времени страницах, щекотало в носу.
В книге рассказывалось об основании аббатства Раймундом Беренгарием IV и о том, как на протяжении последующих веков процветание Поблета все росло благодаря пожертвованиям королей и знати Арагона. В период, когда монастырь был в зените своей славы и могущества, некоторые из его аббатов занимали также высокие государственные посты и играли важную роль в политической жизни.
Жиль листал книги одну за другой. Многие из них, украшенные изысканными миниатюрами, были настоящими произведениями искусства, которые создавались мастерством и бесконечным терпением монахов. Почти все иллюстрации изображали религиозные сцены, и Жиль потратил более трех часов на то, чтобы найти план монастыря. Поскольку книга была очень древней, план в некоторых местах утратил четкость, но по нему вполне можно было ориентироваться. Несмотря на то что книга датировалась XIV веком, Жиль не обнаружил на древнем плане значительных отличий от современного расположения зданий монастыря — по крайней мере тех, которые он уже видел. К тому же оставались непросмотренными еще более половины книг, и в них, вероятно, можно было найти какой-нибудь более новый и четкий рисунок. Как бы то ни было, Жиль решил, не откладывая на потом, скопировать уже имевшийся в его распоряжении план и перевел его на кальку, подсветив страницу с обратной стороны свечой. Рассмотрев на свету получившуюся копию, Боссюэ остался удовлетворен результатом. Разумеется, скопированный на кальку план был далеко не идеален, линии на нем были не совсем ровными и четкими, а местами вид портили кляксы, но для практического использования он был вполне пригоден. Внимательно изучив свою копию, Жиль обвел на ней названия тех мест, которые ему уже показывал брат Хосе.
Идея о том, чтобы достать план монастыря, пришла в голову в тот момент, когда монах предложил показать ему библиотеку. Имея под рукой план, можно было свободно ходить по монастырю, не боясь заблудиться. Естественно, делать это лучше было днем, чтобы не вызывать подозрений, будучи обнаруженным. Однако, поскольку его повсюду сопровождал брат Хосе, как раз днем Жиль не мог ничего предпринимать. В такой ситуации действовать можно было только ночью, когда все монахи спали.
— Добрый вечер. Вы не спите? — раздался за дверью голос брата Хосе. — Уже время ужина.
— Да, да, сейчас иду! — крикнул Жиль, сунув копию плана в карман.
Положив на кровать книгу, он поднялся и потянулся, чтобы размяться. Долго читать в кровати было довольно утомительно. Задув свечи, Боссюэ направился к двери, из-под которой просачивался слабый свет лампы монаха.
Когда они вышли во двор, Жиль заметил, что в воздухе значительно похолодало с того времени, как он привез в келью книги. Чувствовалось, что погода меняется. Быстрым шагом они направились к трапезной, но на этот раз прошли не через вестибюль, а более коротким путем — через коридор, выходивший прямо в главную галерею. Едва войдя в трапезную, Боссюэ, словно у него уже вошло это в привычку, поискал глазами на кухне массивную фигуру брата Агустина — тот вытаскивал из печи огромный противень с рыбой. Жиль изобразил одну из лучших своих улыбок, словно приветствуя лучшего друга, и с преувеличенной сердечностью поблагодарил его. Не удостоив Жиля ответом, брат Агустин с недовольным видом отвернулся и принялся отчитывать молодого монаха, имевшего несчастье в этот самый момент оказаться поблизости.
Довольный тем, что ему тоже удалось немного поддеть монаха, Боссюэ сел за свой стол. Еда, как и в прошлые два раза, оказалась отменной.
Ужин закончился в половине девятого, и вскоре после него, около девяти, Жиль с братом Хосе, как и все остальные монахи, отправились в церковь. Они вошли внутрь с северной стороны галереи. В церкви был полумрак: ее слабо освещали несколько факелов, создававшие впечатление, будто дело происходит в Средние века, а не в конце XIX века. Только алтарь был освещен ярче, как порт посреди темных просторов океана. Во всей церкви было тихо, и слышались лишь осторожные шаги монахов и жалобный скрип скамей, на которые они садились.
— Вы должны остаться здесь, — вполголоса сказал брат Хосе, указав ему на скамью, и сам пошел на свое место.
Скамьи для монахов находились по обе стороны от алтаря, друг напротив друга, и были отделены от остальной церкви огромной чугунной решеткой. Скамья, где сидел Жиль, находилась по другую сторону этой решетки, на пересечении центрального и поперечного нефов. Оглядевшись вокруг, чтобы узнать, не появились ли в монастыре другие паломники, он увидел пять-шесть человек, сидевших на несколько рядов позади него. Было видно, что все они старательно приоделись, хотя одежда некоторых из них, судя по виду, была едва ли не столетней давности. Разглядев этих людей, Боссюэ решил, что, вероятнее всего, они были работниками монастыря, а не паломниками. У них были суровые, изможденные лица, и они с таким вниманием следили за тем, что происходило по другую сторону решетки, что едва удостоили Жиля взглядом.
В церкви было три нефа, отделенных друг от друга огромными колоннами, на которых держались арки. Трансепт и центральный неф, пересекаясь, образовывали крест. В глубине апсиды, за алтарем, находилось ретабло из белого алебастра, изображавшее святых и Деву Марию. Внизу, на простом каменном столе, стояла дарохранительница, а в нескольких метрах от нее располагался аналой.
Монахи, сидевшие на скамьях по обе стороны алтаря, сосредоточенно бормотали молитвы, и наконец один из них, которого Жиль раньше не видел, приблизился к аналою и, перевернув страницы лежавшей на нем Библии, размеренным голосом прочитал:
— Евангелие от Марка: «И как уже настал вечер, — потому что была пятница, то есть день перед субботою, — пришел Иосиф из Аримафеи, знаменитый член совета, который и сам ожидал Царствия Божия, осмелился войти к Пилату и просил тела Иисусова. Пилат удивился, что Он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею и положил Его во гробе…»[4].
Боссюэ вздрогнул, услышав эти слова. У него опять возникло ощущение, что какая-то сила упорно влекла его к чему-то таинственному, чего он еще никак не мог осознать. Случайным ли было то, что во время службы стали читать именно отрывок о святой плащанице? Возможно, это действительно было так, и это было лишь совпадение — одно из многих в этой истории… Однако не исключено было и то, что брат Алехандро специально все подстроил, чтобы посмотреть на его реакцию. В таком случае Жиль, несомненно, выдал себя. Встревоженный и смущенный, он бросил взгляд на брата Алехандро, ожидая увидеть в его глазах подтверждение, но тот, поглощенный службой, даже не смотрел на него. Как бы то ни было, это лишь еще больше обеспокоило Жиля.
— Слово Божие, — заключил свое чтение монах (Боссюэ даже не слышал, о чем шла речь после того, как была упомянута плащаница).
— Тебя, Господа, хвалим! — в унисон воскликнули братья, отчего Жиль снова вздрогнул.
Затем раздалось пение. Церковь наполнили торжественные, певучие голоса монахов, певших Salve, о котором Жилю говорил брат Хосе. При этих звуках Боссюэ вдруг почувствовал, как покой и умиротворение входят в его душу: все его страхи и беспокойства стали казаться ничтожными перед безыскусной красотой песнопения и безграничной верой, которой оно было пронизано. Когда голоса смолкли, их отзвук еще секунду звенел в каменных сводах, и затем наступила тишина.
Братья снова зашептали молитвы, и через некоторое время монах, читавший Евангелие, поднялся со своего места и, засветив три большие свечи, погасил все остальные, за исключением той, что освещала дарохранительницу. Аббат приблизился к аналою. В полумраке церкви его лица практически не было видно, но от его фигуры веяло какой-то таинственной силой, которую Боссюэ почувствовал еще в трапезной.
— Благословляю вас во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, — сказал он глубоким голосом, осенив братьев крестным знамением. — Идите с миром.
Монахи начали подниматься со своих мест и чинно направились к выходу. Брат Хосе, шедший одним из последних, подошел к Жилю.
— Вам понравилось Salve? — спросил он, когда они вышли из церкви.
— Да, очень, — искренне ответил Боссюэ.
— Это старинное песнопение, — пояснил монах, заметив неподдельный интерес Жиля. — В нем мы просим Господа, чтобы Он позволил нам послужить Ему еще один день.
— Восхитительное песнопение, потрясает до глубины души, — снова откликнулся Боссюэ.
За то время, пока они были в церкви, воздух стал еще холоднее. Жиль машинально сунул руки в карманы и нащупал лежавший там листок с планом, о котором он уже почти забыл. Брат Хосе и Боссюэ молча пересекли галерею до вестибюля и оказались у лестницы, ведшей наверх, в кельи монахов.
— Проводить вас до вашей кельи? — спросил брат Хосе.
— Нет, спасибо. Я ведь знаю дорогу.
— Хорошо, как хотите. В таком случае до завтра. Я зайду за вами перед завтраком. Спокойной ночи.
— Спокойной ночи, — ответил Жиль, помахав рукой на прощание.
Брат Хосе повернулся и двинулся по лестнице наверх, а Боссюэ остался стоять, дожидаясь, пока все монахи разойдутся по своим кельям. Когда вестибюль опустел, Жиль выждал для верности еще некоторое время и полез в карман за планом монастыря. К его удивлению, листка там не оказалось. Боссюэ сунул руку в другой — левый — карман, хотя был уверен, что всего несколько минут назад план находился в правом. Как он мог его потерять? Жиль постарался восстановить в памяти все, что произошло с тех пор, как они с братом Хосе вышли в крытую галерею… «Это случилось, когда мы прощались! Ну конечно же, когда прощались!» — подумал Боссюэ и невольно повторил тот самый жест. Он ясно вспомнил, как вынул руку из кармана и помахал брату Хосе. Несомненно, он уронил план именно в тот момент.
Жиль нагнулся, чтобы поискать листок на земле, как вдруг за его спиной раздался голос, который он тотчас узнал:
— Добрый вечер, сеньор Боссюэ.
— Добрый вечер, брат Алехандро, — все еще не поворачиваясь, ответил Жиль.
— Вы что-то ищете? — спросил монах. — Возможно, этот листок? — добавил он ледяным тоном в тот момент, когда Боссюэ уже собирался ответить, что вовсе ничего не ищет.
Жиль обернулся и потерял дар речи: монах держал в руке план, угрожающе потрясая им как оружием.
— Вы что — дали обет молчания? Или не знаете, что сказать? — спросил брат Алехандро. — Даже не знаю, что бы меня удивило больше. Хотя, полагаю, у вас на все готов ответ, не так ли? Но иногда — впрочем, даже чаще, чем кажется, — продолжал он, не дожидаясь, когда Жиль заговорит, — вопросы бывают важнее ответов. Но вы пока не поняли этого, к сожалению… Итак, скажите же мне, сеньор Боссюэ, — произнес монах, приблизившись к Жилю и понизив голос до шепота, — зачем вы явились в наш монастырь?
Внезапно Боссюэ почувствовал, что ему стало страшно. Не потому, что брат Алехандро, судя по всему, раскусил его или по крайней мере совершенно обоснованно стал подозревать. Не это пугало Жиля, а то, что он сам себе не мог с полной уверенностью ответить на вопрос, заданный ему суровым монахом. Боссюэ еще не понимал, до какой степени все в нем перевернулось, но он чувствовал, что был уже не тем человеком, каким покинул Париж всего десять дней назад. Вопрос монаха был намного глубже, чем казалось на первый взгляд, и, очевидно, брат Алехандро сам это понимал.
— Как я вам уже говорил, я пало… — заговорил Жиль, не в силах взглянуть монаху в глаза.
— …паломник, направляющийся в Сантьяго и решивший задержаться в нашем монастыре, чтобы отдохнуть с дороги и обрести душевное умиротворение, — продолжил за него брат Алехандро. — Это мне уже известно. Прекрасно известно… Что ж, вот ваш план, сеньор Боссюэ, — бесстрастным голосом сказал он, протягивая Жилю листок. — И не теряйте его больше. Мало ли в чьи руки он может попасть? Вдруг какой-нибудь злонамеренный человек захочет использовать его в своих темных целях? Вы ведь этого не хотите?
— Нет, — только и смог выдавить Жиль.
Монах сдержанно кивнул, словно говоря «вот и прекрасно», и, повернувшись, направился к двери, находившейся в глубине вестибюля. Прежде чем скрыться за ней, он снова повернулся к Жилю и сказал на прощание:
— Помните мой вопрос, сеньор Боссюэ. Спросите самого себя, что вы делаете в нашем монастыре, и, пожалуйста, когда вы найдете ответ, сообщите его и мне.
Оставшись один, Жиль стоял некоторое время как вкопанный, судорожно стискивая в правой руке листок, пока не пришел в себя. Он опустил глаза и задумчиво посмотрел на план. Потом взглянул на дверь, за которой скрылся брат Алехандро, и сунул листок в карман.
I век, Иерусалим
Празднование Пасхи прошло в Иерусалиме спокойно. Симон Бен Матфий пригласил Леввея остаться на праздник в его доме, и тот охотно согласился: он никогда еще не присутствовал при праздновании еврейской Пасхи. Праздник начинался после захода солнца в день весеннего равноденствия — четырнадцатый день месяца Нисана. Это был великий иудейский праздник, отмечавшийся в честь исхода евреев из Египта — освобождения из египетского плена, после которого Моисей повел еврейский народ через море и пустыню в Землю обетованную.
Празднуя Пасху, евреи благодарили Яхве за чудесное освобождение от многовекового рабства. Египетский фараон Рамсес II упорно не хотел отпускать еврейский народ из плена, и Бог наслал на страну десять казней, последней из которых была смерть всех первенцев в Египте. Тогда плач был по всей земле Египетской. Лишь в иудейские дома не зашел ангел смерти, потому что на них был особый знак: всем евреям Моисей велел заколоть ягненка и помазать его кровью косяки дверей.
Празднование иудейской Пасхи было очень простым, но каждая деталь этого ритуала имела глубокое символическое значение. После пасхальной трапезы в доме Симона все разошлись отдыхать. Леввей долго не мог уснуть, но в конце концов усталость взяла свое: прошлой ночью, в Аримафее, он почти не сомкнул глаз, и поэтому на этот раз спал как убитый и не слышал, как приходил верный Симону член Синедриона, сообщивший, что Иисус был схвачен в Гефсиманском саду и совет собрался, чтобы судить его.
Пока Леввей спал, мучимый кошмарами, Иисус в глубокой скорби молился в Гефсиманском саду. В ту же ночь Учитель был схвачен людьми, приведенными Иудой Искариотом, и ученики Иисуса оставили его. Учителя отвели во дворец главного первосвященника, где над ним был устроен скорый и неправедный суд. Два лжесвидетеля обвинили Иисуса в различных преступлениях против иудейского закона. «Ты ли Христос, Сын Божий?» — спросил тогда Каиафа. Иисус же спокойно ответил: «Ты сказал».
Услышав это, главный первосвященник разодрал свои одежды и в бешенстве несколько раз прокричал: «Богохульство!» Синедрион одобрительно зашумел, и раздались злобные возгласы: «Повинен смерти!» Несмотря на то что на суде над Иисусом присутствовали не более сорока членов Синедриона из семидесяти одного, принятое решение имело силу, поскольку поддержало его более половины совета.
Затем Иисуса привели в комнату с обшарпанными стенами и одним окном, располагавшимся напротив входа. Там самые молодые члены Синедриона и стражники принялись издеваться над Иисусом: они били его кулаками, ногами и палками, плевали на него и насмехались над ним. Учитель вынес все со смирением и твердостью.
Через некоторое время истязатели остановились, чтобы не убить свою жертву раньше времени: его нужно было казнить публично для устрашения других «самозванцев». Оставалось дождаться утра, чтобы отвести Иисуса к Понтию Пилату: только представитель римской власти мог утвердить смертный приговор и привести его в исполнение.
Члены Синедриона не захотели войти во дворец прокуратора, поскольку это, как они полагали, осквернило бы их и лишило бы их права вкусить Пасху. Пилат вынужден был сам выйти к членам совета, чтобы решить дело, с которым они пришли. Когда прокуратор, как всегда, презрительный и угрюмый, спросил, в чем состояло преступление Иисуса, они стали увиливать от прямого ответа. «Если бы он не был преступником, мы бы не привели его к тебе», — говорили они. Пилат, желая поскорее отделаться от иудеев, напомнил членам Синедриона, что религиозная власть была в их руках и они могли наказать преступника по своим законам, хотя, конечно, он прекрасно понимал, что они хотели смерти для Иисуса, а для этого им нужно было одобрение прокуратора.
Первосвященники и старейшины продолжали упорствовать и требовали, чтобы Иисус был распят. Этот жестокий способ казни был принесен в Иудею римлянами, и на этот раз члены Синедриона при всей своей нелюбви ко всему, исходившему от Рима, настойчиво желали последовать римскому обычаю. Видя их упорство, Пилат решил сам допросить обвиняемого. Он вернулся во дворец и велел привести к себе Иисуса. Тот был в жалком состоянии: хромал, лицо его было покрыто гематомами и запекшейся кровью, а одежда — хитон, сотканный его матерью, — была перепачкана. Но несмотря ни на что, взгляд Иисуса по-прежнему не утратил безмятежности и величия.
Когда прокуратор впервые узнал, что некий галилеянин называет себя царем, он забеспокоился, решив, что это руководитель мятежников. Однако осведомители заверили Пилата, что это был кроткий человек, проповедовавший мир и любовь. Такой проповедник, решил тогда прокуратор, не представлял опасности для цезаря, по крайней мере сам по себе. Теперь, когда этот человек стоял перед ним, Пилат спросил у него, действительно ли он богохульствовал и называл себя царем. «Я царь, — ответил Иисус, — но царство мое не от мира сего». Прокуратор счел Учителя безобидным помешанным проповедником и, не найдя за ним никакой вины, пытался убедить членов Синедриона в том, что человек, которого они обвиняли, не заслуживал осуждения. Однако первосвященники и старейшины во главе с Каиафой требовали смерти для Иисуса, и Пилат, не желая идти против могущественного Синедриона, решил уступить.
Через несколько минут на площади перед крепостью Антония, где было полно евреев, подкупленных главным первосвященником, был разыгран отвратительнейший фарс за всю историю человечества. На Пасху римский наместник в Иудее имел обычай освобождать преступника, приговоренного к смерти. На этот раз таковых, помимо Иисуса, было еще трое: Варавва — мятежник-зелот, убивший римского легионера; Димас — бедняк, добывавший себе пропитание воровством, и Саул — вор, грабивший дома по ночам. На самом деле Варавва был обычным разбойником, но совершенное им убийство римского солдата превратило его в глазах народа в героя.
Пилат приказал привести к нему всех приговоренных к смерти и обратился к собравшейся на площади толпе: «Кого вы хотите, чтобы я отпустил вам: убийцу Варавву, разбойников Димаса или Саула или этого безумца, которого вы называете Царем Иудейским?» Раздалось несколько голосов, просивших отпустить Иисуса, но они были заглушены возгласами, требовавшими освобождения Вараввы. Это были люди, подкупленные первосвященниками, и ради нескольких монет они готовы были продать отца и мать.
Чернь неистовствовала, требуя отпустить Варавву. Эта толпа, не желавшая спасти невиновного, вызывала у прокуратора безграничное отвращение, словно сам он был непричастен к этому неправедному суду. Пилат долго смотрел на народ, с презрением слушая его крики. Мерзкие плебеи. Но ему нетрудно было выполнить то, чего они просили.
Прокуратор приказал отвести Иисуса во внутренний двор и бичевать, согласно римскому обычаю. Думая, что суровое наказание осужденного смягчит сердца его соотечественников, Пилат назначил ему неограниченное количество ударов, предупредив, однако, центуриона, руководившего экзекуцией, чтобы несчастный остался жив и мог держаться на ногах после экзекуции.
Иисуса раздели и приковали за запястья к низкому столбу так, чтобы он вынужден был стоять наклонившись, подставляя спину утреннему солнцу и ударам плетей. Пророка безжалостно бичевали два римских солдата, но он благодаря силе своего духа выдержал стоя больше половины ударов. Когда силы оставили его и он упал, палачи не сжалились и хладнокровно продолжали свое дело. Спина и плечи Иисуса были исполосованы и покрыты кровью.
Боясь, что осужденный умрет, центурион остановил экзекуцию. Палачи освободили руки Иисуса и поставили его на ноги, но он был так слаб, что не мог стоять и упал ничком на землю, разбив в кровь лицо.
Пока центурион отправился известить Пилата, легионеры надели на Иисуса багряницу и, посадив его на каменную скамью во дворе, стали издеваться над ним, говоря: «Радуйся, Царь Иудейский». Они плевали на него и били его по лицу, а один солдат сплел венец из терна, росшего в Иудее повсюду, и, надев его на голову Иисусу, несколько раз ударил его палкой по голове, чтобы шипы вонзились в плоть. Все захохотали и зашумели еще сильнее, Иисус же сидел неподвижно, устремив взгляд вдаль. В его глазах появились слезы, но он плакал не от боли и унижения, а от горечи за тех, чьи грехи должен был искупить.
Центурион вернулся, получив распоряжение от прокуратора. Пилат велел еще раз показать Иисуса народу, прежде чем вынести окончательный приговор. Солдаты снова надели на осужденного его одежду, и некогда белоснежный хитон Иисуса тотчас пропитался кровью от его ран. Истерзанный бичеванием, он едва держался на ногах, и из-под тернового венца по его лицу текли струйки крови, однако евреи, подкупленные Каиафой, не сжалились над Иисусом и снова закричали: «Распять, распять его!» Слышались и насмешки: «И это он называл себя царем?»
Последнее слово было за прокуратором. Пилат, желая смыть с себя несмываемый грех, приказал принести воды и, омыв ею руки перед народом, сказал: «Я невиновен в смерти этого человека. Кровь его на вас, потому что вы хотели ее. Иисус, как вы просите, будет распят сегодня, в час шестой, на Голгофе».
Казнь Иисуса должна была состояться в полдень. До этого оставалось еще больше двух часов, и Симон Бен Матфий вернулся к себе домой в сопровождении нескольких верных ему людей. Леввей недавно проснулся и завтракал. Он был чрезвычайно обеспокоен, потому что слуги рассказали ему о том, что посреди ночи хозяин спешно куда-то ушел. Это могло быть вызвано лишь чем-то очень серьезным.
Симон рассказал Леввею все, что произошло со времени собрания Синедриона до бичевания Иисуса. Иосиф из Аримафеи остался в крепости Антония и просил Понтия Пилата принять его, надеясь убедить прокуратора отменить приговор. Однако в счастливый исход этого дела уже никому не верилось. Тем более что никто из учеников Иисуса не вступился за своего Учителя. Все оставили его, и он был теперь совершенно один перед страшной участью, которая его ожидала.
Прежде чем Симон и Леввей успели отправиться к дворцу прокуратора, в доме объявился Иосиф. Пилат отказался принять его, несмотря на его настойчивость. Оставалось лишь со смирением ждать ужасной развязки: больше они ничего уже не могли сделать. Как не раз говорил Иисус, судьба его была в руках Отца, и он должен был покорно выполнить его волю. Он пришел в мир, чтобы искупить грехи людей, принеся себя в жертву.
Перед крепостью Антония было выстроено множество римских солдат для охраны порядка: посмотреть на казнь Царя Иудейского собралась огромная толпа народу. Приговоренных вывели несколько раньше назначенного. Их сопровождали несколько легионеров и центурион, которому было поручено руководить казнью. Связанные между собой за щиколотки, осужденные шли друг за другом. Иисус шел последний, позади преступников Димаса и Саула, схваченных незадолго до Пасхи и приговоренных к смертной казни за воровство.
Каждый из осужденных нес на плечах длинный деревянный брус — patibulum, поперечину креста. Иисус был высокого роста, поэтому поперечина, предназначавшаяся для его креста, была самой длинной и тяжелой. Он шел с трудом, пошатываясь на согнутых ногах, и хитон его был весь пропитан кровью. Лишь безграничная сила духа помогала Иисусу идти вперед с этой непосильной ношей на плечах. Лицо его, покрытое синяками и ссадинами, было залито кровью, струившейся из ран от шипов тернового венца, и в довершение всего из его бороды был выдран клок волос.
Путь на Голгофу был долгим и мучительным. Узкие улочки, ведшие к воротам, были забиты народом — иудеями и язычниками, среди которых были и мужчины, и женщины, и дети. Легионеры, шедшие впереди, оттесняли толпу, прокладывая дорогу для осужденных.
В конце концов Иисус не выдержал и упал на землю, не в силах больше нести на своих плечах тяжелый брус. Два других осужденных, связанные между собой за щиколотки, тоже чуть было не упали, но легионеры остановили их. Центурион, сжалившись над Иисусом, спросил у народа, не согласится ли кто понести брус за осужденного. И тогда добровольно вызвался один человек — простой крестьянин. Солдаты подняли Иисуса, и он снова пошел вперед, истекая кровью.
Леввей с ужасом смотрел на истерзанного Учителя, которого он совсем недавно видел полным жизни и сил. Леввей, Симон и Иосиф следовали за осужденными от самой крепости Антония, с трудом пробираясь через толпу. У ворот, ведших из города, собрались несколько тысяч людей, выкрикивавших злобные оскорбления Иисусу. По приказу центуриона через ворота из города вышли две декурии с обнаженными мечами: они должны были охранять порядок и ограждать осужденных от нападения толпы. От того места до Голгофы оставалось всего несколько сотен метров.
Заметив, что Иисус отчасти уже восстановил силы, насколько это было возможно, центурион решил снова заставить его нести брус для своего креста. Путь от города до Голгофы сначала шел слегка вниз, что несколько облегчало страдания осужденных, затем следовал небольшой участок ровной местности, и наконец начинался подъем в гору. На самой вершине холма мрачно возвышались три столба, ожидавшие осужденных.
Солнце, ярко светившее с утра, неожиданно затянулось тучами. Внезапно налетевший ветер стал поднимать с земли облака пыли и качать кусты сухого терновника. Римляне, всегда отличавшиеся суеверностью, были обеспокоены этими знаками. Казалось, будто стихии восстали против людей, виновных в ужаснейшем преступлении — несправедливости.
Восхождение на Голгофу было трудным. Разбойники, которых вели на распятие вместе с Иисусом, испугавшись близкой казни, стали кричать и упираться, однако солдаты ударами плетей и палок заставили их идти дальше. Почти у самой вершины осужденных ждали женщины с напитком из уксуса и смирны, притуплявшим чувства и помрачавшим сознание: его обычно давали людям, которым предстояло претерпеть жестокие мучения. На этом уровне легионеры оцепили холм, не позволив собравшимся людям подняться выше.
Разбойники выпили кислую одурманивающую жидкость, Иисус же отказался, желая остаться в полном сознании. Центурион с удивлением посмотрел на него: он начинал испытывать своего рода восхищение смелостью этого человека, осужденного на смерть по совершенно абсурдному, как ему казалось, обвинению. Центурион из жалости хотел заставить Иисуса пить, но, взглянув в его глаза, не увидел в них ни тени безумия: несомненно, этот человек понимал, на что идет. Еще раз поразившись, центурион решил не вмешиваться: осужденный имел право хоть чем-то распорядиться сам в последние часы своей жизни.
Ветер становился все сильнее. Сумрак окутал Иерусалим и его окрестности, насколько хватало глаз. Не мешкая, легионеры отвязали осужденных от поперечин, которые они несли, и раздели их. Приговоренных положили на землю с раскинутыми руками, и палач прибил каждому запястья к поперечному брусу. Раздались душераздирающие вопли обезумевших от боли разбойников. Иисус не издал ни звука. Осужденных подняли на поперечинах на столбы и прибили им ноги одним гвоздем.
Когда все было готово, легионер, несший табличку, сделанную по приказанию Пилата, приставил к кресту Иисуса лестницу и прибил дощечку к вершине столба. На этой табличке была сделана надпись: «IESUS NAZARENUS REX IUDAEORUM — ИИСУС НАЗАРЕТЯНИН, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ». Первосвященники вознегодовали, и по толпе, собравшейся внизу, пробежал возмущенный ропот.
У оцепления, созданного римскими солдатами вокруг места казни, стояли три женщины с юношей Иоанном — самым молодым из учеников Иисуса. Он единственный присутствовал при казни Учителя или по крайней мере был единственным, кого было видно. Иосиф из Аримафеи пояснил Леввею, что одной из женщин была мать Иисуса, другой — ее сестра, а третьей — Мария Магдалина, раскаявшаяся блудница, очистившаяся от своих грехов.
1888, Поблет
Жиль с трудом уснул и спал неспокойно, то и дело просыпаясь от дождя, настойчиво барабанившего в окно. Посреди ночи раздался оглушительный раскат грома, и Боссюэ, проснувшись, резко сел на кровати. В келье было так темно, что на мгновение он даже усомнился, открыты ли у него глаза. В следующую секунду вспышка молнии, осветившая комнату, дала ему понять, что они все-таки были открыты. По спине профессора текли струйки пота, несмотря на то что в келье было довольно прохладно.
Жиль попытался снова уснуть, но не смог. Гром грохотал за окном теперь с еще большей силой. Стекла дрожали при каждом раскате, и казалось, что они вот-вот разобьются вдребезги. Скинув с себя одеяло, Боссюэ неподвижно лежал на кровати с закрытыми глазами, решив, что таким образом можно по крайней мере отдохнуть, даже если не удастся больше уснуть. Однако вскоре он не выдержал и, поднявшись, зажег свет. Жиль не привык к бессоннице. Он никогда ею не страдал — даже в период экзаменов, в то время, когда был молодым нервным студентом.
Сев на кровати, Боссюэ взял одну из книг, привезенных из библиотеки: ему пришло в голову, что чтение, возможно, поможет справиться с бессонницей. Книга, попавшаяся Жилю, оказалась очень древней и ветхой. Он осторожно раскрыл ее, боясь, что она рассыплется. Пролог, принадлежавший перу некоего Игнасио де Вильены, был написан в начале XI века, то есть более чем за полтора века до основания монастыря Поблет. Речь в нем шла о крепости Святой Анны, и Жиль сначала подумал, что брат Агустин отложил ему эту книгу по ошибке или, возможно, по злому умыслу, чтобы заставить его везти лишний груз. Однако, прочитав пролог целиком, Боссюэ узнал, что крепость находилась в Конка-де-Барбера, неподалеку от Л’Эсплуга-де-Франколи, и, судя по описанию местности, именно там, где теперь располагался монастырь Поблет.
На следующих страницах рассказывалась история крепости, основанной в начале X века — примерно за сто лет до написания книги, которую Жиль держал сейчас в руках. Основатель ее был неизвестен, однако, согласно некоторым источникам, возникла она как небольшой скит, построенный в этом месте в благодарность за победу над сарацинами. Крепость служила прибежищем для жителей окрестных селений, и оттуда осуществлялись небольшие военные вылазки против мавров. Решив уничтожить вражеский оплот, сарацины напали на него с большим войском. Осада длилась семь дней, и в конце концов крепость пала. В наказание за мужественное сопротивление ее защитников предводитель мусульманского войска приказал сровнять крепость Святой Анны с землей и зверски убить всех ее обитателей, в том числе женщин и детей. Тех же немногих из женщин, кого оставили в живых, ожидала унизительная участь наложниц. О взятии сарацинами крепости Святой Анны и страшной участи ее защитников были сложены песни, пережившие долгие годы.
Подняв голову от книги, Боссюэ заметил, что уже начинало светать. Гроза стихла, и даже дождь уже прекратился, однако утро было серое, сумрачное. Остаток ночи пролетел незаметно, и Жиль подумал, что скоро брат Хосе придет его будить.
Жители Конка-де-Барбера восстановили крепость на месте разрушенной и, чтобы страшная трагедия больше не повторилась, вырыли там тайное подземное помещение, от которого вел длинный туннель, имевший выход далеко за крепостной стеной — позади линии, где могло бы находиться осадившее крепость войско. Благодаря этой хитрости в случае осады можно было послать кого-нибудь из крепости за помощью.
Прочитав это, профессор, уже начинавший клевать носом, встрепенулся, и сон с него тотчас слетел. Торопливо достав план монастыря, он положил его перед собой, чтобы еще раз удостовериться: на плане не было никакого намека на подземное помещение. Чрезвычайно взволнованный, Жиль подскочил с кровати, не выпуская книгу из рук. Внезапное открытие настолько потрясло его, что он просто не мог усидеть на месте. Охваченный лихорадочным возбуждением, Боссюэ перечитал отрывок, рассказывавший о существовании тайного подземелья. Да, это было написано черным по белому и не было плодом его воображения. Нервно расхаживая от стены до стены в узком пространстве между кроватью и горой книг, Жиль походил на зверя, мечущегося в бессилии по своей тесной клетке. В голове его вихрем проносилось множество мыслей, за которые он не успевал зацепиться. Следовало успокоиться и сосредоточенно проанализировать ситуацию.
— Нужно привести в порядок свои мысли, — сказал вслух Жиль, надеясь, что звук собственного голоса несколько успокоит его. В некоторой степени это действительно помогло, и Боссюэ смог наконец спокойно задать себе вопрос, бывший первой ступенькой в распутывании клубка загадок. «Существует ли на самом деле это подземелье и есть ли туннель, ведущий к нему? — спросил он себя и сам же ответил: — Очевидно, да». Жиль был уверен в этом. И еще он был уверен в том, что если святая плащаница хранилась в монастыре Поблет, то лучшего тайника для нее невозможно было придумать. Если существовало и то, и другое, то, несомненно, реликвия была спрятана в подземелье — это было совершенно логично. Из этого умозаключения Боссюэ сделал еще один вывод: очевидно, брат Агустин не был посвящен в тайну монастыря, потому что иначе он бы не допустил, чтобы подобная книга попала в руки к чужому человеку. «Это могло, конечно, случиться по недосмотру», — предположил было Жиль, но тотчас отверг такую возможность. Если плащаница Христова действительно находилась в монастыре столько времени, сколько он думал, ее хранители должны были быть людьми чрезвычайно осторожными и осмотрительными, и они никогда не допустили бы подобной оплошности… Горя желанием во всем разобраться, Жиль заставил себя снова сесть и продолжить чтение.
Далее в книге говорилось, что по мере продвижения Реконкисты крепость Святой Анны утрачивала свое значение и количество ее обитателей сокращалось, поскольку оплот христиан уже не требовалось защищать от нападения мавров. В результате к началу XI века, когда была написана эта книга, крепость оказалась совершенно заброшенной. Дальнейшая история была Жилю уже известна: полтора века спустя на месте полуразрушенной крепости Святой Анны монахами-цистерцианцами было основано новое аббатство.
Найдя в книге план крепости, Боссюэ, уже почти успокоившийся до этого, опять чрезвычайно разволновался. В расположении зданий узнавался современный монастырь Поблет, и крепостная стена, обозначенная на плане, была точно такой же формы, как и теперь. Из этого Жиль сделал вывод, что, очевидно, стены, окружавшие монастырь, были возведены на месте старых, чтобы использовать их фундамент и сохранившуюся наземную часть.
— Боже мой! — воскликнул вдруг Боссюэ, ошеломленный.
Это казалось слишком неправдоподобным, но он видел это собственными глазами: от башни в южной части монастыря перпендикулярно крепостной стене шли две линии, заканчивавшиеся у подножия ближних гор. И между этими линиями были втиснуты несколько маленьких неровных букв, составлявших слово «ТУННЕЛЬ». Боссюэ едва не разрыдался от переполнявших его чувств: он никогда бы раньше не подумал, что можно прийти в такой восторг при виде одного-единственного слова. В нижней части плана был отмерен сегмент с поставленным на нем числом «десять», обозначавшим, следовало полагать, масштаб. Рисунок был такой выцветший, что Жилю приходилось почти утыкаться в него носом, чтобы разглядеть линии. За неимением линейки он использовал для измерения расстояния просто листок бумаги: согласно этому замеру, вход в туннель должен был находиться метрах в пятидесяти от крепостной стены. На картинке у входа в подземный коридор была изображена женщина, стоящая на коленях с молитвенно сложенными руками, — вероятно, сама святая Анна, покровительница древней крепости.
Когда брат Хосе постучал в келью, Жиль был уже одет, и они вместе отправились в трапезную. Всецело поглощенный мыслями о своем неожиданном открытии, Боссюэ на этот раз едва прикоснулся к завтраку: ему не терпелось поскорее отправиться на поиски секретного туннеля. Брат Хосе, заметивший что-то странное в поведении Жиля, несколько раз за завтрак поинтересовался, все ли с ним в порядке. Брат Алехандро тоже не спускал с Боссюэ глаз, однако не сказал ему ни слова.
— И чем бы вам хотелось заняться сегодня? — спросил брат Хосе, когда они вышли из трапезной. — Даже не знаю, что бы еще вам показать, — вы и так уже видели почти весь монастырь.
Жиль решил воспользоваться моментом: все равно от монаха невозможно было избавиться, а в качестве провожатого он в любом случае мог быть полезен.
— Что ж, кое-что все же осталось, — сказал он задумчиво, словно эта мысль пришла ему в голову только что, — ведь я еще не видел крепостных стен и окрестностей монастыря.
— Вы и в самом деле хотите все это посмотреть? В такую-то погоду? — с сомнением спросил монах. — Здесь, конечно, есть живописные места вроде Ла-Пеньи — оттуда открывается потрясающий вид, — но вблизи монастыря нет ничего примечательного. Да и крепостная стена… что в ней особенного? В древности она была окружена рвом, но от него уже давным-давно не осталось и следа. Вряд ли она может представлять какой-либо интерес.
— Ну что вы, меня интересует абсолютно все, — заверил монаха Жиль. — Я уверен, без прогулки по окрестностям представление о вашем монастыре у меня будет неполным.
— Ну хорошо. Раз вы так настаиваете… — сдался наконец брат Хосе.
— Отлично, идемте! — воскликнул Жиль, ускорив шаг.
Монах опять удивленно на него посмотрел и открыл рот, словно собираясь что-то спросить. Однако в конце концов он так ничего и не сказал и лишь прибавил шагу, чтобы догнать Боссюэ.
Снаружи вдоль крепостной стены шла узкая тропинка, сильно заросшая во многих местах дикими растениями. Жиль порадовался, что надел вместо сандалий ботинки, более подходящие для прогулки в столь ненастную погоду. После ночного дождя тропинка превратилась в труднопроходимое болото, где на каждом шагу посреди грязного месива подстерегали предательские лужи. При виде этой удручающей картины брат Хосе опять попытался уговорить Жиля отказаться от прогулки и вернуться в монастырь, но тот был непреклонен, и монах вынужден был уступить.
Они отправились вдоль крепостной стены, начав с северной части. Боссюэ бодрым шагом шел впереди, а брат Хосе, едва поспевая, следовал за ним на расстоянии нескольких метров, подобрав полы своей сутаны, чтобы не измазать их грязью.
— Ну, вы прямо мадемуазель с картины Лотрека, — с усмешкой заметил Жиль, взглянув на своего гида.
Монах, как казалось, не услышал шутливого замечания. Он сосредоточенно смотрел в землю и, смешно поднимая ноги, перепрыгивал с одной стороны дороги на другую, чтобы не ступать в лужи. Боссюэ едва удержался от того, чтобы еще раз не подсмеяться над монахом: уж слишком он напоминал ему в таком виде танцовщицу, отплясывающую канкан в Мулен-Руж.
Как и говорил брат Хосе, крепостная стена ничем особенным не отличалась: выложенная из массивных каменных глыб, она достигала в высоту более десяти метров, и на ее зубчатом верху то здесь, то там были видны башни. Лишь в южной части стена имела особую архитектуру. В этом месте выдавалась вперед огромная квадратная башня, вход в которую закрывали мощные деревянные ворота. Вспомнив план крепости Святой Анны, Боссюэ понял, что именно с этого места нужно было отмерять вычисленное им расстояние, чтобы найти вход в туннель.
— Это задний вход в монастырь, — пояснил брат Хосе, кивком указав на башню.
Он стоял у стены, постукивая по ней ногами, чтобы стряхнуть с обуви прилипшую грязь, и с беспокойством поглядывал на свинцово-серое небо, не предвещавшее ничего хорошего. Жиль же тем временем встал спиной к воротам и, прикинув, что каждый его шаг должен равняться примерно метру, стал отмеривать нужное расстояние, считая шаги. Боссюэ шел неторопливо, глядя по сторонам, чтобы создавалось впечатление, будто он просто прогуливается. Пейзаж в окрестностях монастыря был довольно однообразный: вокруг были видны лишь редкие кустарники и деревья, а впереди, у подножия гор, начинался густой темный лес, поднимавшийся дальше по склону почти до самой вершины. Брат Хосе, к счастью, не обращал на Жиля никакого внимания: он по-прежнему стоял у крепостной стены и сосредоточенно чистил подол своей белой сутаны, который ему, несмотря на все предосторожности, не удалось уберечь от грязи.
— …сорок девять, пятьдесят, — прошептал Жиль.
Вход в туннель, по его расчетам, должен был находиться где-то в этом месте, однако его нигде не было видно. Боссюэ попытался проанализировать, в чем он мог ошибиться, но этот анализ оказался неутешительным: возможные причины постигшей его неудачи были слишком разнообразны. Возможно, подземный ход был засыпан много веков назад и теперь от него не осталось и следа. Или туннель существовал до сих пор, а засыпан был лишь вход в него и туда невозможно попасть. Также не исключено было и то, что приведенный в книге план крепости Святой Анны был просто ошибочным или ложным. Боссюэ удивился, как только ему не пришло все это в голову ночью, когда он читал книгу.
«В лучшем случае, — подумал Жиль, — и туннель сохранился, и план верен, а ошибку допустил я сам… Но какую ошибку?» Можно было предположить, что все дело в отклонении от перпендикулярной траектории. Но даже если это и так, отклониться в сторону он мог едва ли более чем на десять метров, а на таком расстоянии и даже дальше все равно не было видно никаких намеков на вход в туннель. Совершенно сбитый с толку, Жиль пошел обратно к стене, снова считая шаги, хотя в этом не было совершенно никакой необходимости.
— С вами все в порядке? — встревоженно спросил брат Хосе. — Вы как будто не в себе.
— Да-да, со мной все в порядке, — поспешно ответил Жиль, с трудом изобразив на своем лице подобие улыбки. — Только замерз я что-то, холодно здесь. Давайте-ка и в самом деле вернемся в монастырь.
Монах с радостью согласился и энергично зашагал обратно по грязной дороге. Боссюэ, опустив голову, уныло поплелся следом. Несколько минут назад он даже не сомневался, что ему удастся обнаружить вход в тайный туннель. Разумеется, Жиль ожидал, что этот вход достаточно хорошо замаскирован (иначе он не рискнул бы отправиться туда вместе с монахом), но ему даже в голову не приходило, что не удастся обнаружить вообще ничего. Боссюэ был крайне обескуражен своей неудачей и, что еще хуже, пребывал в чрезвычайной растерянности, не зная, что теперь делать. Возможно, следовало еще раз более тщательно изучить план и проверить сделанный им замер — не исключено, что именно в нем он допустил ошибку. Не мешало также прочитать оставшиеся книги в поисках упоминания о крепости Святой Анны и каких-нибудь новых зацепок… Впрочем, Жиль был уверен, что все это было бесполезно, но, по его глубокому убеждению, предпринимать хоть какие-то шаги было лучше, чем вообще ничего не делать.
После обеда Боссюэ сразу же отправился в свою келью. Брат Хосе взялся его проводить, видя, что с гостем происходит что-то неладное. По дороге монах изо всех сил старался развлечь Жиля, рассказывая ему занимательные истории о монастыре и расспрашивая про Париж. Боссюэ заметил старания брата Хосе и был очень тронут его добросердечием, но даже это не смогло поднять ему настроение. Жилю не давала покоя навязчивая мысль о туннеле.
— У меня есть идея! — с воодушевлением воскликнул монах.
— Что? — удивившись, переспросил Жиль, не понимая, что он имеет в виду.
— Я знаю, что вам поможет встряхнуться, — убежденно сказал брат Хосе. — Каждую пятницу перед ужином мы собираемся в капитулярном зале рядом с галереей, напротив библиотеки, чтобы подискутировать. Тема устанавливается в самом начале, но по ходу обсуждения часто возникают другие, не менее интересные. Я уверен, вас это развлечет. Приходите.
Боссюэ сомневался, что подобные дискуссии могли заинтересовать и развлечь его: он терпеть не мог бесконечные догматические прения и не имел ни малейшего желания в них участвовать — тем более в этот день. Однако ему просто не хватило решимости отказаться от приглашения брата Хосе: лицо монаха сияло таким искренним энтузиазмом, что Жиль не смог его огорчить.
— Да-да, конечно. Я приду, — пообещал он, постаравшись придать своему голосу максимум бодрости.
— Ну, вот и прекрасно! Уверяю вас, вы не пожалеете. Встречаемся в главной галерее в половине седьмого. Договорились?
— Договорились. До встречи.
Вернувшись в келью, Боссюэ первым делом принялся проверять правильность своего замера. Для этого он заново изготовил линейку, отложив на краю листа бумаги один за другим несколько отрезков, равных по длине сегменту, который был принят за единицу масштаба. Разделив в довершение каждый отрезок на десять равных частей, Жиль приложил эту самодельную линейку к плану и еще раз измерил расстояние от башни до входа в туннель. Полученный на этот раз результат отличался от предыдущего на одно неполное деление, что соответствовало расстоянию менее метра. Погрешность была совершенно незначительной.
Убедившись, что никакой ошибки в измерениях допущено не было, Жиль взялся за изучение оставшихся книг, однако все было безрезультатно: ни в одной из них ему не удалось найти упоминания о крепости Святой Анны. Практически все книги рассказывали одни и те же — уже прекрасно известные Жилю — факты из истории монастыря Поблет. О подземелье не говорилось ни слова.
Окончательно расстроенный, Боссюэ в седьмом часу отправился в главную галерею, где должен был встретиться с братом Хосе. Во дворе царил серый полумрак, и трудно было понять, где заканчивались каменные стены и начиналось небо. Погода как нельзя более верно соответствовала настроению Жиля: на душе у него было так же серо и уныло.
Когда он пришел в главную галерею, брат Хосе уже ждал его, стоя у высокой полукруглой арки, украшенной архивольтами. Капитулярный зал представлял собой большую квадратную комнату со стрельчатым сводом, державшимся на парных центральных колоннах. Зал был почти пустой. Монахи со своей обычной неспешностью рассаживались по местам. Жиль с братом Хосе вошли последними, и после их прихода никто больше не появился. Заняты оказались лишь первые три ряда.
— Приветствую вас, братья, — сказал один из монахов.
Жиль выпрямился на своем сиденье и отклонился в сторону, чтобы разглядеть за бритыми макушками того, кто говорил. Это был тот самый монах, который прошлым вечером читал Евангелие на повечерии. Он сидел по левую руку от аббата на деревянном, неудобном с виду стуле, с высокой спинкой, возвышавшейся над его головой. Его тонкие руки с длинными пальцами бессильно свисали с подлокотников. Справа от аббата, как всегда, сидел брат Алехандро. Стулья для всех троих в знак их иерархического превосходства стояли на небольшом возвышении. Боссюэ заметил, что говоривший монах отводил взгляд, когда он смотрел на него. «Наконец-то они все в сборе, вся троица», — сказал себе Жиль. Он был уверен, что именно эти трое были хранителями плащаницы и только им была известна великая тайна, остальные же братья были просто марионетками в их руках.
Боссюэ почувствовал, что внутри его все начало закипать. Только сейчас он наконец в полной мере осознал, насколько катастрофической была постигшая его неудача. Ему не удалось обнаружить подземелье, найденная им нить внезапно оборвалась. Совсем недавно Жиль был уверен, что уже близок к своей цели, — и вот все рухнуло в одно мгновение. То, ради чего он оставил дом и отправился в чужую страну, оказалось недосягаемым. Все было потеряно. Жиль почувствовал страшную пустоту в душе и понял, что не знает, как ему жить дальше. Однако вскоре на смену опустошению пришла ярость — единственное чувство, способное в такой ситуации противостоять отчаянию. Он почти возненавидел этих людей, которые с высокомерной самоуверенностью считали себя вправе скрывать от всех правду во имя своего Бога.
— Итак, сегодня предмет нашего обсуждения — справедливость, — объявил монах. — Как учил святой Августин…
— Справедливость, говорите? — мрачно воскликнул Жиль, подскочив со своего места: он уже не в состоянии был сдерживать переполнявшую его ярость.
Брат Хосе от неожиданности тоже вскочил. Услышав слова Боссюэ, он замер в растерянности, не зная, что предпринять. В конце концов брат Хосе снова уселся на свое место, не спуская с Жиля изумленных глаз.
— Будьте любезны сесть, — ледяным тоном сказал Боссюэ монах, — я еще не закончил свою вступительную речь.
— Справедливость! — не слушая его, с вызовом повторил Жиль: лицо его пылало от гнева. — Да что вы знаете о справедливости?
По залу пронесся неодобрительный гул. Брат Хосе сидел молча. Аббат и брат Алехандро тоже молчали, но последний недовольно ерзал на своем стуле.
— Как вы смеете осквернять это святое место своими ядовитыми речами?! — завопил монах, переменившись в лице. — Впрочем, стоит ли этому удивляться? — добавил он, обращаясь к остальным братьям. — Чего еще ждать от человека, явившегося к нам из города семи смертных грехов? Города, погрязшего в нечестивости! Из Парижа!
Монах яростно выкрикивал слова, потрясая в воздухе кулаком. Волосы его, прежде свисавшие по обе стороны лица, теперь были всклокочены. Пряди, прилипшие к мокрому лбу, закрывали густые брови.
— И как смеет француз, — сказал монах, презрительно указав на Боссюэ, — учить нас, что такое справедливость?!
Братья одобрительно закивали, оживленно переговариваясь между собой. Все обратили глаза на Жиля в ожидании его ответа. Брат Хосе осторожно потянул его за край одежды, шепотом умоляя сесть.
— Да что вы говорите! — с мрачной усмешкой воскликнул Жиль, не обращая внимания на брата Хосе. — Город семи смертных грехов, Боже мой! Да вы бывали в Париже хоть раз в своей жизни?
— В этом нет необходимости! — взревел монах. — Я и отсюда чувствую исходящее от него зловоние!
— Вот она, испанская справедливость, — на удивление спокойным голосом сказал Боссюэ, — или божественная справедливость, что для вас, испанцев, похоже, одно и то же. — После этих слов он повернулся к брату Хосе и шепотом произнес: — Простите, мне очень жаль.
В зале поднялся шум, и Жиль, не сказав больше ни слова, твердым шагом направился к выходу.
— Сеньор Боссюэ! — раздался за его спиной звучный голос, принадлежавший, несомненно, не тому монаху, с которым он спорил.
Жиль продолжал шагать.
— Жиль, — мягко повторил тот же голос.
Боссюэ остановился на полпути и медленно обернулся. В нескольких метрах от него стоял аббат. Несмотря на душившую его ярость, Жиль с чрезвычайной почтительностью взглянул на престарелого настоятеля. И вдруг внутри его зазвучал чей-то спокойный, умиротворяющий голос — тот самый, который он уже однажды слышал (как ему казалось, давным-давно) в химической лаборатории университета. Гнев отступил, и Боссюэ внезапно осознал, что его слова были далеко не так справедливы, как он полагал, ослепленный своей яростью.
— Жиль, — заговорил аббат, — вы должны оставить наш монастырь, чтобы в него снова вернулся мир.
В его голосе не было гнева — лишь искреннее сожаление, удивившее Боссюэ.
— Можете переночевать здесь, если хотите, — продолжал настоятель, — а завтра…
— Пускай он убирается сегодня же! — вмешался монах, с которым повздорил Жиль.
Аббат жестом заставил его умолкнуть и снова повторил Боссюэ:
— Можете провести эту ночь в монастыре, а завтра утром идите с Богом.
— Благодарю вас, — со всей искренностью ответил Жиль. — Так я и сделаю.
Все монахи молча наблюдали за этой сценой. В глазах у брата Хосе была такая печаль, что Боссюэ от всего сердца раскаялся в том, что сделал, но дороги назад уже не было.
Выйдя из зала, Жиль услышал, как монахи снова зашумели, обсуждая произошедшее. Ускорив шаг, он пересек галерею и до самой кельи шел не оборачиваясь, обреченно повесив голову, как душа, уносимая дьяволом.
I век, Иерусалим, Аримафея
Случилось самое страшное из того, что могло случиться. Теперь оставалось лишь надеяться на скорую развязку и ждать смерти, которая прекратила бы страдания Иисуса.
Леввей был не в силах больше смотреть на жестокую казнь и покинул Голгофу вместе с Симоном Бен Матфием и стариком Иосифом Аримафейским. Иосиф отправился на рынок, чтобы купить у купца из Дамаска тонкое сирийское полотно для савана. Он собирался попросить у Пилата тело Иисуса, когда он умрет, и похоронить его в новой гробнице, которую Иосиф готовил для себя самого, чувствуя приближение смерти. Он тоже был учеником Иисуса, но до сих пор не демонстрировал это открыто, опасаясь враждебности Синедриона. Теперь же Иосиф был готов на все для того, чтобы отдать последний долг человеку, пожертвовавшему своей жизнью ради спасения грешников.
Симон и Леввей, раздавленные горем и ужасом, дожидались Иосифа в доме Симона. Прошло уже три часа с тех пор, как Иисус был распят. Близился девятый час (то есть было почти три часа дня), когда раздался душераздирающий крик, а вслед за ним оглушительный раскат грома с затянутого черными тучами неба. Иисус испустил дух.
Вскоре после этого домой к Симону явился Иосиф Аримафейский. С ним пришел его друг Никодим — бывший фарисей и тоже последователь Иисуса. Никодим принес много мирры и алоэ для умащения, по иудейскому обычаю, тела покойного перед погребением. Оба были очень подавлены, несмотря на то что все произошедшее было исполнением Писания.
Вечером Иосифу из Аримафеи удалось наконец умолить Понтия Пилата отдать ему тело Иисуса, умершего несколько часов назад.
Вместе с Никодимом и самым молодым учеником Иисуса Иоанном Иосиф отправился на Голгофу. К этому времени уже совсем стемнело, и дорогу к месту казни им освещали факелы. В этой непроглядной темноте возвышавшиеся на холме фигуры распятых казались призрачными и далекими. Подойдя ближе и ясно увидев Иисуса, все трое разрыдались. Иоанн, убитый горем, бросился к Учителю и, споткнувшись, упал у основания креста. Иосиф и Никодим смотрели на юношу в глубокой печали.
Предстояло снять тело с креста, что было очень непросто. Никодим приставил к вертикальному столбу ту самую лестницу, которой этим утром воспользовался римский легионер, чтобы прибить к вершине креста табличку с надписью INRI. Он вынул гвозди из запястий Иисуса, а стоявшие внизу Иосиф и Иоанн поддерживали обвисшее тело Учителя. Спустившись с лестницы, Никодим освободил от гвоздя ноги распятого, после чего все трое с величайшей осторожностью взяли тело на руки и положили его на льняное полотно, купленное Иосифом.
Завернув тело в саван, они понесли его к гробнице, находившейся неподалеку. Ноша оказалась очень тяжела: Иисус был высок ростом и крепок, чем выделялся не только среди евреев, но даже и среди рослых в своем большинстве римлян, поэтому дорога была долгой и трудной. Добравшись наконец до гробницы, высеченной в скале, они внесли в нее Учителя и положили его на каменную плиту в центре. Никодим умастил его тело миррой и алоэ, а Иосиф прибрал его волосы и положил ему на глаза маленькие монетки. Оставшимися благовониями Никодим окропил пол и стены гробницы. Затем они снова накрыли Иисуса саваном и, покидая гроб, привалили к его входу огромный округлый камень.
Леввей решил остаться в Иерусалиме еще на несколько дней. Он хотел принять крещение от одного из учеников Иисуса, но все они, за исключением совсем еще юного Иоанна, где-то скрывались. Лишь вечером субботы к Иосифу Аримафейскому пришел Петр и сообщил, где они все находились. Однако Иосиф никому ничего не сказал до понедельника, последовавшего за днем Воскресения Иисуса.
Симон Бен Матфий принял твердое решение отказаться от своего места в Синедрионе. После того, что произошло, он не хотел больше принадлежать к преступному совету, забывшему древний закон. Симон, имевший большое состояние, решил наконец осуществить свою давнюю мечту и купить дом подальше от Иерусалима, чтобы спокойно прожить там до конца своих дней, возделывая сад и изучая Писание. Он разочаровался в своем народе, который всегда так любил. «Поистине, — думал Симон, — этот жестокий, неблагодарный народ заслуживает того, чтобы навечно остаться в рабстве у язычников римлян».
Страшная смерть Иисуса стала окончательным свидетельством безнадежного нравственного падения иудеев. Леввей с чувством глубокого омерзения смотрел на людей, наполнявших Иерусалим. Совсем недавно, как ему рассказал Симон, они с восторгом приветствовали въехавшего в город Иисуса, а теперь, когда тело его еще не остыло в могиле, им не было до него никакого дела. Народу запомнились лишь чудеса, произошедшие во время распятия: внезапно наступившая темнота, страшные раскаты грома, землетрясение. Все с удивлением обсуждали, что, когда Иисус испустил последний вздох, завеса в Иерусалимском храме сама собой разорвалась сверху донизу. Кроме того, было известно, что Иуда Искариот, предавший Иисуса, покончил с собой, не вынеся груза своей неискупимой вины… Как бы то ни было, смысл всех этих знамений иудеи, очерствевшие сердцем, были не в состоянии постичь.
* * *
В понедельник весь Иерусалим облетел слух: Иисус воскрес из мертвых — на третий день, как предсказывали пророки, — однако никто в это не поверил. Одни были убеждены, что ученики выкрали тело Мессии из гроба, а потом распустили слух о его мнимом воскресении. Другие, ссылаясь на то, что гробницу охраняли два легионера, посланные Пилатом, и туда невозможно было пробраться, утверждали, что Иисус вовсе не был там похоронен и что ученики спрятали тело где-то в другом месте. Некоторые вообще не соглашались ни с одной из версий.
Леввей не знал, что и думать. Он собственными глазами видел, как распяли Иисуса, и был уверен, что он умер. Это было несомненно — в противном случае римляне не позволили бы Иосифу из Аримафеи забрать тело Учителя. Но чтобы он воскрес… Леввей не мог постичь этого разумом. Однако что-то говорило ему, что этот кроткий и мудрый галилеянин действительно был Сыном Божьим, а не просто пророком. Да, некоторые называли его шарлатаном, но если бы это было так, разве сдался бы Иисус с такой покорностью в руки римских властей, зная, что его могут приговорить к смерти?
Учитель воскрес из мертвых… Что это было — чудо или пустой слух? Чтобы разобраться в этом, Леввей отправился в Аримафею, надеясь что-нибудь узнать у Иосифа. Ему очень хотелось верить, что произошло чудо.
К своему удивлению, в доме Иосифа Леввей встретил Петра, который рассказал, что он видел в гробнице, когда пришел туда наутро после субботы. Весть о чуде принесла ему Мария Магдалина, знавшая, где он скрывался. Придя ко гробу Иисуса, чтобы помолиться, эта женщина обнаружила, что камень был отвален от входа и стражники, поставленные римскими властями, исчезли. Мария очень удивилась, и вдруг с неба явился ангел, окруженный сиянием, и возвестил ей, что Иисус, Сын Божий, воскрес.
Услышав рассказ Марии, Петр тотчас поспешил к Голгофе вместе с молодым Иоанном. Юноша прибежал первым, но не решился войти в гробницу и дождался Петра. К своему великому изумлению, ученики Иисуса обнаружили, что погребальные пелены Учителя, покрытые пятнами крови, лежали неразвернутые, но тела в них не было. В саване они нашли лишь две бронзовые монеты. Петр недоумевал, откуда они взялись, но Иосиф объяснил ему, что сам положил эти монеты на глаза Учителя.
Ученики Иисуса, боявшиеся преследования со стороны Синедриона, прятались в пещере между Аримафеей и Эмаусом, и Леввей попросил у Петра позволения отправиться вместе с ним в их тайное убежище. Зная, что погребальные пелены считаются у иудеев нечистыми, он подумал, что ученики Иисуса согласятся отдать ему саван и он сохранит его как реликвию. Леввей собирался взять его с собой в Эдессу, чтобы жители его страны поклонялись савану как величайшей святыне. Кроме того, он хотел, чтобы кто-нибудь из учеников Иисуса совершил над ним обряд крещения: это было необходимо для того, чтобы стать настоящим последователем Христа. Петр, суровый и недоверчивый по своей натуре, охотно согласился взять Леввея с собой: он чувствовал, что этот человек любит Иисуса всем сердцем, как и остальные его ученики.
Посланник из Эдессы был крещен на следующий день апостолом Иудой Фаддеем, от которого он получил имя и стал называться Фаддеем. Ученики Иисуса разрешили ему забрать саван Учителя, зная, что в Эдессе он будет в надежных руках, а другую великую реликвию — Святой Грааль — они передали Иосифу из Аримафеи в благодарность за его безграничную преданность Иисусу.
Прежде чем отправиться обратно в Эдессу, Леввей-Фаддей пришел в Иерусалим, чтобы проститься с гостеприимным Симоном Бен Матфием и его семьей. Там он в последний раз увидел сына Симона — маленького Иосифа, которому впоследствии суждено было стать историком и гражданином Рима. Бывший свидетелем смерти Иисуса, а потом — разрушения Иерусалимского храма и гибели множества иудеев, он описал все виденные им события и вошел в историю под именем Иосиф Флавий.
1888, Поблет
В последнюю ночь в монастыре Жиль тоже почти не спал. Дождевая вода бежала по металлическим стокам, и этот непрерывный шум служил неотвязным аккомпанементом его кошмарам. Наутро Боссюэ проснулся в холодном поту, все тело его болело, словно он всю ночь тяжко трудился, а не лежал в постели. С трудом поднявшись с кровати, профессор оделся и собрал свои немногочисленные вещи. Затем он аккуратно сложил на тележку все книги, взятые в библиотеке, чтобы отвезти их обратно. За окном по-прежнему шел дождь. Жиль поискал, чем можно было бы прикрыть тележку, но не нашел ничего подходящего и решил оставить книги в келье, подумав, что рано или поздно помощник библиотекаря сам их заберет. Посох «паломника» стоял в углу, куда он поставил его в день своего прихода в монастырь, но теперь Жиль не собирался брать его с собой: он был ему больше не нужен. Маскарад закончился.
Прежде чем покинуть монастырь, Боссюэ хотел попрощаться с братом Хосе. Он думал, что монах, как и прежде, придет разбудить его утром, но уже наступил день, а брат Хосе так и не появился. Жиль решил разыскать его, хотя вовсе не был уверен, захочет ли тот его видеть. Боссюэ понятия не имел, где мог находиться в это время монах, но, поразмыслив, рассудил, что логичнее всего было начать поиски с церкви. Он надеялся, что ему удастся найти брата Хосе самостоятельно: в противном случае пришлось бы обращаться с вопросом к другим монахам, чего ему очень не хотелось.
Боссюэ направился к церкви через двор. От дома для паломников до храма было всего несколько десятков метров, но пока он преодолевал это расстояние, волосы его совершенно намокли от дождя, и, что было еще досаднее, по дороге он случайно наступил в глубокую лужу и набрал полные ботинки воды. Издавая противное хлюпанье при каждом шаге, Жиль отошел в сторону и, опершись одной рукой о стену, снял ботинок, чтобы вылить из него воду. В этот момент он заметил внизу на стене какую-то надпись. Жиль нагнулся еще ниже, чтобы лучше ее рассмотреть, и прочитал вслух:
— Родрио.
— Родриго, — поправил его голос брата Хосе.
Боссюэ поднял голову. Монах наблюдал за ним из центрального нефа добрым и грустным взглядом.
— Это каменотес, — продолжал брат Хосе, — один из сотен, которые обтесывали эти камни. На многих из них высечено имя мастера. И хотите узнать еще один интересный факт? Мерилом для этих камней был рост одного человека по имени Мартин де Техада. Этот человек, игравший заметную роль в жизни комарки[5] в XI веке, был настоящим великаном, под два метра, и его рост на протяжении двух веков был эталоном измерения на всей территории Конка-де-Барбера. Любопытно, правда?
Как только значение этих слов достигло сознания Боссюэ, он понял все. Это была именно та разгадка, которую он искал: она крылась, как оказалось, совсем рядом, в невозмутимых камнях церкви. Жиля переполняли одновременно радость и досада на собственную недогадливость. Он делал расчеты в метрах, и потому ему не удалось найти вход в туннель. Жиль удивлялся, как он мог упустить из виду, что расстояние, обозначенное на плане XI века, просто не могло быть выражено в метрах: ведь эта единица измерения была введена чуть более ста лет назад. «Мерилом для этих камней был рост одного человека», — задумчиво повторил про себя Боссюэ, растерянно глядя на монаха. В этой истории была еще одна очень большая странность.
— Вы все знали, — сказал он вдруг брату Хосе. — Всегда. С самого начала. Верно?
Жиль сам с трудом верил своим словам, но другого объяснения быть не могло: судя по всему, брату Хосе было прекрасно известно о существовании подземелья. Он знал, что искал Жиль прошлым утром у южной башни. Иначе вряд ли бы он рассказал ему о Мартине де Техаде. Но зачем он это сделал?
— Почему? Почему вы мне это рассказали? — с чрезвычайным любопытством спросил Жиль монаха.
В этот момент лицо брата Хосе показалось ему старше и серьезнее, чем обычно.
— Хороший вопрос, — с улыбкой сказал монах. — До свидания, сеньор Боссюэ. Мы с вами еще увидимся.
— Что я найду в этом подземелье? — дрогнувшим голосом прокричал Жиль вслед удалявшемуся брату Хосе.
Монах остановился и, медленно повернувшись, загадочно произнес:
— Это зависит от вас, Жиль. Только от вас.
Боссюэ не стал больше ничего спрашивать. От пережитого потрясения у него ком встал в горле: он просто не мог выговорить ни слова и некоторое время стоял неподвижно, слушая, как дождь стучит в окна церкви.
Когда Жиль добрался до южной стены монастыря, дождь прекратился, но небо было по-прежнему серым, а воздух — холодным и неспокойным. Ботинки профессора были полны жидкой грязи, и ему нелегко было отрывать от земли ноги, словно те были налиты свинцом. Однако несмотря на это, Жиль был полон воодушевления, почти ликования.
Приняв за единицу измерения рост человека, о котором ему рассказал брат Хосе, Боссюэ вычислил, что расстояние от башни до входа в туннель должно быть приблизительно вдвое больше, чем он предполагал прошлым утром. Встав спиной к башне, Жиль двинулся вперед, считая шаги. На этот раз нужно было отмерить сто метров вместо пятидесяти. Впереди был лес, и, отсчитав сто шагов, Боссюэ оказался в самой его гуще. Деревья в этом лесу росли очень близко друг к другу, а листва была такой пышной, что за ней не было видно не только открытой местности, находившейся не более чем в тридцати метрах позади, но и высоких крепостных стен монастыря. Жиль прекрасно помнил, что сделал в глубину леса всего тридцать шагов, но, несмотря на это, ему казалось, будто он находится уже в настоящей чаще, простирающейся на десятки километров во всех направлениях.
Боссюэ внимательно осмотрелся вокруг. Он надеялся, что не сильно отклонился от перпендикулярной траектории и вход в туннель находился где-то поблизости. В любом случае отыскать его в таких зарослях было очень непросто.
В поисках входа Жиль пристально всматривался в землю и оглядывался кругом, и внезапно взгляд его наткнулся на нечто в высшей степени странное. Сначала ему даже не пришло в голову, что это могло оказаться именно тем, что он искал. Жиль некоторое время постоял в раздумье и хотел уже двинуться дальше, как вдруг его осенила невероятная догадка: не сводя с этого места глаз, он стал медленно отходить назад и, запнувшись о выступавший на поверхность земли корень дерева, чуть не упал. Отступив еще на несколько метров, Боссюэ остановился, окончательно убедившись в правильности своей догадки. Это можно было разглядеть целиком лишь с некоторого расстояния.
Жиль с изумлением смотрел на то, что открылось его взгляду, и не верил своим глазам: перед ним возвышалось сухое дерево с широкой темной расщелиной в толстом стволе, оставшейся, очевидно, от удара молнии. Ствол был практически голый, лишь посередине него торчали две изогнутые толстые ветки, соединявшиеся вместе, как молитвенно сложенные руки. Слегка утолщенная вершина дерева походила на склоненную голову, а два толстых корня, выступавших дугой вперед и уходивших потом под землю, напоминали ноги стоящего на коленях человека. «Вот она — молящаяся женщина, которая изображена на плане», — подумал Жиль, зачарованный зрелищем. Сомнений не оставалось: вход в тайный туннель находился именно здесь.
Решив не терять больше времени, Боссюэ бросился вперед и, подбежав к дереву, принялся осматривать землю вокруг него, ползая среди густых зарослей папоротника. Листья хлестали его по лицу, а влажная рыхлая земля хлюпала под ладонями и коленями при каждом движении.
Обогнув дерево наполовину, Жиль обнаружил на земле небольшой не заросший папоротником участок — квадрат со стороной не более полуметра. Он скорее всего не заметил бы его, если бы не полз на коленях. Подобравшись поближе, Боссюэ осторожно ощупал этот участок. Его ожидания подтвердились: земля здесь была другой, более твердой, и даже при сильном надавливании из нее едва проступала вода. Кроме того, Жилю казалось, будто земля на этом участке дышала: он явственно чувствовал на своей руке ее дыхание. Боссюэ наклонился еще ниже, почти приложив ухо к земле, и его лицо просияло: снизу действительно доносилось едва уловимое дуновение, сопровождавшееся тихим, тонким свистом. Это был звук ветра, просачивавшегося сквозь щель закрытой двери — входа в тайный туннель.
Теперь у Жиля не осталось больше сомнений. Это было то самое место, которое он искал. Вокруг не было видно свежих следов, но буйная растительность рядом с засохшим деревом казалась несколько искусственной и, несомненно, свидетельствовала о том, что монахи следили за этим входом в туннель и заботились о его маскировке с помощью неправдоподобно густых зарослей. Все это говорило о том, что этому тайному ходу придавали в монастыре большое значение, как и почти тысячу лет назад, когда он был вырыт: благодаря ему можно было спастись в случае опасности, незаметно выбравшись далеко за пределы крепостных стен.
Жиль принялся с остервенением рыть землю руками, изо всех сил впиваясь в нее пальцами. Он тяжело дышал, и в прохладном влажном воздухе от его дыхания образовывались облачка пара. Вырыв ямку глубиной около двадцати сантиметров, Боссюэ наткнулся на твердую поверхность. Продолжая лихорадочно работать руками, он быстро расчистил весь остальной участок и смахнул ладонью остатки земли. Сердце едва не выпрыгнуло у него из груди, когда он увидел каменную плиту. Улыбаясь, Жиль постучал по ней костяшками пальцев, с наслаждением прислушиваясь к гулкому звуку, подтверждавшему, что внизу была пустота.
Схватив плиту обеими руками, он попытался приподнять ее, но безуспешно: естественно, она была рассчитана на то, чтобы ее открывали изнутри, а не снаружи. Жиль встал, чтобы иметь возможность приложить больше сил, и, нагнувшись, снова потянул плиту вверх. От невероятного усилия жилы на его шее вздулись, кровь прилила к щекам и взгляд затуманился. Однако все по-прежнему было безрезультатно. Решив немного передохнуть, чтобы собраться с силами, Боссюэ в последний раз отчаянно рванул плиту на себя, и она неожиданно поднялась. Легкий поток воздуха из отверстия ударил ему в лицо. Склонившись еще ниже, Жиль заглянул в темноту, обещавшую открыть ему тайну, ради которой он преодолел столько препятствий и разгадал столько загадок. Все недавнее прошлое, все надежды и ожидания смотрели на него из этой темноты. С того момента, как в руки ему попал медальон, Жилем завладело одно всепоглощающее стремление, которое и привело его в этот монастырь. Это было стремление к истине — к высшей истине, и Боссюэ был уверен, что в этом таинственном темном подземелье он найдет ответ на важнейший вопрос своей жизни.
Свесив голову вниз, насколько это было возможно, Жиль различил в темноте небольшую выемку, сделанную в стене, и нечто похожее на металлические перила. Повиснув на руках на краю ямы, он нашел ногой ступеньку и потопал по ней, чтобы убедиться в ее надежности. Затем Жиль набрал в легкие воздуха, как при прыжке в воду, и стал медленно спускаться вниз, ощупывая ногой каждую следующую ступеньку и стараясь не слишком налегать на изъеденные ржавчиной перила. Скоро глаза его привыкли к темноте, он стал различать силуэты перил и легче находил ступеньки, однако разглядеть дно ему так и не удавалось.
Жиль даже предположить не мог, какова была глубина колодца. Горя нетерпением поскорее ощутить под ногами твердую почву, он стал спускаться быстрее, и вдруг его нога с громким всплеском погрузилась в ледяную воду. Боссюэ тотчас отдернул ее, выругавшись сквозь зубы. Нужно было срочно решать, что делать дальше. Очевидно, весь колодец был заполнен водой, но выяснить, какова ее глубина, можно было лишь одним способом… Жиль содрогнулся при одной только мысли об этом, но другого выхода не было. Бормоча проклятия, он медленно стал спускаться по ступенькам, погружаясь в воду все глубже и глубже. Дно появилось неожиданно: Боссюэ опустил ногу в поисках очередной ступеньки и наткнулся на твердую поверхность. Вода в этом месте была ему уже по грудь. Дно было неровное, и Жиль, ощупав его ногами, понял, что там было постелено нечто вроде металлической решетки. Он чувствовал, как из-под ее прутьев под его весом выжималась вода.
Все тело его закоченело от холода. Стуча зубами, Боссюэ весь сжался и сунул руки под мышки, надеясь, что это поможет ему хоть немного согреться. Не отходя от лестницы, он повертелся на месте, чтобы осмотреться. В колодце была такая непроглядная тьма, что Жиль с трудом различил открывавшийся впереди коридор. Прежде чем направиться туда, он поднял голову, чтобы в последний раз посмотреть наверх. Отверстие колодца казалось снизу, из темноты, очень маленьким и округлым.
Вход в коридор предваряла низкая арка, и Боссюэ вынужден был пригнуться, чтобы пройти под ней. Ноги у него уже совершенно заледенели, и холод сковал все тело. Каждый шаг давался ему с огромным трудом, потому что приходилось, помимо всего прочего, преодолевать сопротивление воды. Жиль шел, вытянув вперед руки и ощупывая ими шершавые стены, по которым струились потоки воды, просачивавшейся сквозь почву. С потолка тоже беспрестанно падали ледяные капли, звонко шлепаясь в воду, наполнявшую коридор. Каменные стены во многих местах были покрыты мхом, слизью и еще какой-то гадостью, которая при надавливании на нее ладонью лопалась с противным хрустом, испуская отвратительную липкую жидкость. Жиль даже думать не хотел, что это могло быть.
Внезапно с потолка закапало сильнее: очевидно, снаружи снова начался дождь. И только тогда Жиль заметил, что пол в туннеле был несколько наклонным и вода стремительным потоком неслась ему навстречу. К счастью, в этом месте глубина была уже невелика, а по мере продвижения вперед становилась все меньше и меньше. Внезапно, в один момент, Жиль почувствовал, что капли перестали падать ему на голову: за его спиной по-прежнему слышался непрекращающийся шум струившейся с потолка воды, но впереди все было спокойно. Перемена была такой резкой и разительной, что вывод можно было сделать только один: этот участок туннеля находился непосредственно под зданием монастыря.
Жиль заметил, что коридор не только имел наклонный пол, но и постепенно отклонялся по дуге направо, отчего значительную часть пути ему не был виден тусклый свет, исходивший из зала в конце туннеля. Увидев наконец слабое свечение впереди, Боссюэ сначала испытал некоторое облегчение от того, что тьма в этом коридоре была небесконечна, но его тут же охватило сильное беспокойство. Прижавшись спиной к стене, он замер и стал напряженно смотреть вперед, чтобы выяснить, двигался ли свет по направлению к нему или был неподвижен. Через несколько минут Жиль снова пошел вперед, убедившись, что свет, видневшийся в глубине, находился на одном месте. Дойдя до конца коридора, он обнаружил там лестницу, ведшую наверх, в зал, откуда и исходил свет. Ступеньки лестницы были отполированы, истерты и оббиты временем — вернее, ногами тех, кто много веков назад строил это секретное подземелье.
Боссюэ поднялся по лестнице наверх, оставляя своими ботинками мокрые следы на ступеньках, и, прижавшись к одной из колонн арки, ведшей в зал, заглянул внутрь. Пол в зале был выложен огромными отполированными плитами, а стены — грубо обтесанными гранитными глыбами. Три пары факелов, вставленных в ржавые кольца на стенах, освещали распятие и небольшой алтарь, покрытый тканью с изображением креста. В стене напротив входа находилась узкая и низкая металлическая дверь со следами ржавчины, которая, как смертельная болезнь, медленно и неуклонно пожирала ее на протяжении многих веков. В верхней части двери имелась решетка, очевидно, служившая в прежние времена для того, чтобы опознавать человека, входящего в зал из туннеля.
Одежда Жиля была насквозь мокрой, и его била дрожь от пробиравшего до костей холода. Чтобы немного согреться, он приблизился к одному из факелов и с наслаждением ощутил исходившее от него тепло. На несколько мгновений Боссюэ даже перестал беспокоиться о том, что кто-нибудь внезапно войдет и обнаружит его. От ласкового тепла факела никуда не хотелось уходить, и Жилю пришлось собрать в кулак всю свою волю, чтобы заставить себя сдвинуться с места. По-прежнему содрогаясь от холода, он подошел к металлической двери и заглянул через решетку в соседнюю комнату, погруженную в полумрак. Она оказалась намного больше, чем та, в которой он находился, но через решетку ее невозможно было разглядеть целиком. Напротив двери частично была видна лестница. В комнате, как казалось, никого не было — по крайней мере в той части, которая находилась в поле зрения профессора. Заглядывая через решетку с разных сторон, Жиль вдруг заметил, что дверь была слегка приоткрыта. Это обстоятельство немало его удивило. На такое везение он даже не надеялся. Можно было подумать, что удача улыбалась ему, однако в свете последних событий Жиль все больше и больше убеждался, что удача здесь была ни при чем. Что-то говорило ему, что все счастливые случайности, сыпавшиеся на него в последнее время, были далеко не случайны.
Боссюэ толкнул дверь, и она со скрипом открылась. Сделав шаг вперед, он опять оказался перед небольшой лестницей, ведшей наверх: пол в зале, куда он вошел, находился на уровне его глаз. Жиль с беспокойством огляделся по сторонам и, поднявшись по высоким узким ступенькам, бесшумно скользнул в тень, куда не доходил слабый янтарный свет нескольких факелов, освещавших зал. Это было единственное место, где можно было оставаться незамеченным. В голове Жиля мелькнула мысль, что подобные предосторожности были излишни: ведь если монах добровольно подсказал ему, как найти туннель, зачем бы он стал его выдавать? Боссюэ был уверен, что брату Хосе это было совершенно ни к чему, но в любом случае благоразумнее всего было не пренебрегать осторожностью и делать все возможное, чтобы не выдать себя.
Зал был довольно просторный, с низким сводчатым потолком. По левую руку находилась большая двустворчатая дверь, украшенная искусной резьбой. Створки ее были распахнуты настежь, но что находилось за ними, разглядеть было невозможно, потому что вход был завешен плотной пурпурной портьерой. По-прежнему держась в тени и то и дело бросая беспокойный взгляд на лестницу, Боссюэ осторожно приблизился к двери и слегка отодвинул портьеру, чтобы заглянуть внутрь.
Это место было хорошо освещено, и Жиль, напряженно прислушиваясь, то и дело оглядывался на лестницу, боясь быть застигнутым врасплох. Зал за портьерой оказался очень большим и темным. По обе стороны от входа возвышались две экзотического вида колонны, казалось, совсем не вписывавшиеся в строгую архитектуру монастыря. Но самым странным в этом зале был алтарь, находившийся у противоположной стены (впрочем, Жиль был не совсем уверен, действительно ли то, что он видел перед собой, можно было назвать алтарем). В центре стоял большой стул, похожий на тот, на котором сидел аббат в капитулярном зале; позади на стене висел красивый гобелен с неизвестными Боссюэ странными символами, а над ним возвышалось всевидящее Божественное Око, окруженное звездами. «Созвездие Близнецов», — сразу же понял Жиль, хорошо разбиравшийся в астрономии. Эта часть зала была освещена каким-то теплым призрачным светом, исходившим явно не от висевших на стенах факелов. Он долго смотрел на эту завораживающую картину и вдруг понял все.
Уже не прячась и не боясь быть обнаруженным, Жиль решительным шагом вошел в зал. По обеим сторонам зала на стенах висели гербы и знамена, слегка колеблемые неизвестно откуда веявшим ветерком. Боссюэ двигался так стремительно, что факелы гасли на его пути и зал за его спиной погружался во мрак. Когда он приблизился к дальней стене, странный свет, исходивший от нее, вспыхнул на мгновение сильнее и исчез. Оказавшись в полной темноте, Жиль продолжал пристально всматриваться на стену, и вскоре ему удалось различить на ней две параллельные полоски света, находившиеся в том месте, где висел гобелен. Ловко обойдя стул, несмотря на то что его не было видно в темноте, профессор подошел вплотную к стене и вытянул вперед руку. И вдруг тьма начала отступать: за отодвинутым гобеленом открылась узкая полукруглая арка — такая низкая, что Боссюэ пришлось нагнуться, чтобы пройти под ней. В зале, куда он попал, освещение было довольно тусклым, но оно казалось Жилю ослепительным после тьмы, в которой он только что находился. Сначала ему не было видно практически ничего, кроме белой стены впереди. Однако, по мере того как глаза Жиля привыкали к свету, перед ним стало постепенно проявляться призрачное, едва уловимое изображение. Это была святая плащаница, саван Христа, сохранивший отпечаток его тела, — реликвия, на поиски которой он отправился, как ему казалось, давным-давно, в невероятно далеком прошлом.
Охваченный благоговением и переполняемый неведомыми ему доселе чувствами, Боссюэ со слезами на глазах опустился на колени перед Изображением. Он тщетно пытался вспомнить молитвы, которым его учили в детстве, но все равно молился — без слов, всем сердцем, вознося Богу невыразимую, искреннюю благодарность.
Внезапно за спиной Жиля раздался голос. Позади него на каменном стуле сидел аббат.
— Я ждал, что вы придете, — спокойным, величественным голосом сказал он.
Боссюэ ничего не ответил. Несколько мгновений они оба хранили молчание, глядя на плащаницу.
— Завораживает, правда? — снова заговорил аббат.
— Да, — с трудом выдавил Жиль, не оборачиваясь.
— Я был уверен, что вы найдете то, что ищете, друг мой. И мне всегда было известно, что ваши намерения чисты. Я прочитал это на вашем лице, как только увидел вас.
— Я всего лишь профессор математики. Парижанин, живущий во власти мирской суеты. Атеист… — произнес Жиль, склонив голову и закрыв глаза. Слезы текли по его щекам и падали на каменный пол.
— Атеист? — переспросил настоятель и покачал головой: — Атеист не станет преклонять колени перед святыней, не сможет так горячо молиться… — Аббат подошел к Жилю, положил руку ему на плечо и, с благоговением глядя на плащаницу, спросил: — Ты чувствуешь, сын мой, какая сила исходит от этого образа?
— Да, — чуть слышно прошептал Боссюэ.
Сердце его неистово колотилось, но в душе было какое-то необыкновенное умиротворение. Вся жизнь пронеслась в этот момент перед его глазами головокружительным вихрем. Жиль не узнавал сам себя. Ему казалось, что он стал совсем другим человеком. Впервые в жизни Боссюэ не мог рационально объяснить, что с ним происходило, но это нисколько не огорчало его. Напротив, он был счастлив. Он обрел в этом монастыре себя самого, свою душу и понял, что ни при каких обстоятельствах не покинет теперь Образ Христа.
1997, Мадрид
— Извините, сеньор, пристегните ремень, пожалуйста.
Энрике Кастро открыл глаза и несколько мгновений не мог понять, где находится, пока не увидел приветливое лицо стюардессы, пытавшейся его разбудить.
— Ремень? Ах да, конечно… — Окончательно проснувшись, Энрике пристегнул ремень.
— И столик тоже нужно убрать, — добавила девушка. — Мы приземляемся через несколько минут.
Энрике машинально выглянул в иллюминатор. Внизу уже можно было различить Мадрид, над которым возвышалось полдюжины высотных зданий. Ему уже доводилось раньше видеть эту картину. С некоторой ностальгией Энрике вспомнил, как впервые прилетел в столицу Испании из своего родного Мехико. Как и многие другие важные события его жизни, это путешествие было результатом целой цепочки случайностей. За несколько месяцев до этой поездки Энрике получил степень лиценциата философии и филологии в Национальном автономном университете Мексики — древнейшем и самом престижном учебном заведении страны. В дальнейшие его планы входило написание диссертации при этом же университете. Теперь Энрике даже не помнил, какую тему он тогда для себя наметил. Но в его памяти навсегда остался тот день, когда он явился в секретариат факультета для оформления документов в аспирантуру и, чтобы чем-то заняться в ожидании, пока подойдет его очередь, рассеянно изучал многочисленные объявления, висевшие на доске. Среди них он наткнулся на небольшой листок бумаги, на котором аккуратным почерком было написано, что в этот день должна состояться лекция на тему «Расцвет и гибель ордена тамплиеров». Докладчиком был некий Эдуардо Мартин из мадридского университета Комплутенсе. В то время, более десяти лет назад, Энрике знал о тамплиерах лишь то, что это были монахи-рыцари, игравшие значительную роль в Европе в период Высокого средневековья. Этим его знания и ограничивались…
Воспоминания прервал донесшийся из динамиков голос командира экипажа, объявивший, что самолет заходит на посадку в аэропорту Барахас. Началось резкое снижение, отчего лежавшие перед Энрике бумаги тотчас сползли на край раскрытого столика. Еще секунда — и они рассыпались бы по полу, если бы ему не удалось подхватить их в последний момент. Кастро вытащил из-под переднего сиденья свой чемоданчик и небрежно сунул в него весь ворох бумаг, кроме одной, которую он, повертев в руках, аккуратно положил в карман того же чемоданчика.
В тот знаменательный день, когда Энрике наконец дождался своей очереди, в секретариате ему сказали, что его документы еще не готовы, и попросили прийти попозже, в середине дня. Ужасно раздосадованный, он хотел сначала отправиться домой, чтобы пообедать, но потом решил перекусить в университете: это было разумнее всего, потому что жил он далеко и дорога туда и обратно заняла бы слишком много времени. После легкого обеда в университетском кафе Энрике стал раздумывать о том, чем заняться в оставшееся до открытия секретариата время, и вдруг вспомнил про лекцию о тамплиерах. Она могла оказаться интересной, и в любом случае таким образом можно было неплохо скоротать время. Когда Энрике пришел, лекция уже началась. В аудитории, погруженной в полумрак, было не более дюжины человек. На большом экране в этот момент появился слайд, и докладчик пояснил, что это была гравюра, изображавшая битву при Никее во время Крестового похода 1095 года. На этой лекции Энрике впервые услышал имена основателей ордена бедных рыцарей Христа: Гуго де Пейен, Годфруа де Сент-Омер… Эти люди со временем стали для него более реальными, чем многие из тех, которые его окружали.
Лекция о тамплиерах совершила в жизни Энрике настоящий переворот. С тех пор он предался изучению храмовников с таким рвением, с каким некогда сами рыцари служили идеалам ордена. Он отказался от всех своих прежних планов и добился поступления в аспирантуру мадридского университета Комплутенсе. Через два года Энрике защитил диссертацию, посвященную рыцарям храма: в честь памятной для него лекции Эдуардо Мартина, ставшего его научным руководителем, он назвал свою работу «Расцвет и гибель ордена тамплиеров».
Впоследствии Энрике удалось получить место преподавателя на кафедре философии и филологии в своей альма-матер — Национальном автономном университете Мексики. Наряду с преподаванием он продолжал активно заниматься научной деятельностью, путешествуя по всему миру в поисках информации об ордене тамплиеров. И вот теперь, через много лет после той первой лекции, открывшей ему тамплиеров, Энрике снова отправился в Мадрид. Цель у него, как всегда, была одна — изучение знаменитого Воинства Христова. Листок бумаги, столь бережно уложенный им в карман чемоданчика, содержал ценную библиографию — плод множества конференций, изысканий и общения по Интернету с учеными всего мира. В особенности с испанскими, потому что из всех европейских стран, за исключением Франции, именно в Испании тамплиеры оставили наиболее заметный след. Большинство книг, интересовавших Энрике, находились в Национальной библиотеке Мадрида. Это было новейшее приобретение библиотеки, и он горел желанием ознакомиться с ним.
Несмотря на свой научный авторитет, Энрике пришлось немало хлопотать, чтобы добиться от университета предоставления командировки и гранта на проведение исследования. Два дня назад он узнал, что хлопоты его увенчались успехом. Не теряя времени, Кастро сразу же купил билет на самолет, забронировал номер в отеле и позаботился о том, чтобы из университета отправили в Национальную библиотеку Мадрида документы, подтверждающие его статус ученого-исследователя. Это было необходимо для восстановления его читательского билета, дававшего право доступа в зал Мигеля Сервантеса, где хранились древние рукописи, инкунабулы и другие ценные экземпляры.
Когда молодой ученый вышел из здания аэропорта и направился к остановке такси, ему пришлось сразу же снять пиджак. Было начало лета, и в эти утренние часы стояла невыносимая жара. Через пять минут он уже сидел, наслаждаясь прохладой, в салоне автомобиля с кондиционером. По дороге в гостиницу, находившуюся на площади Санто-Доминго, Энрике с интересом смотрел в окно такси: город значительно изменился и был уже во многом не таким, каким он его помнил. По приезде в отель Энрике получил ключ у администратора и поднялся в свой номер. Приняв душ и переодевшись, он решил не выходить никуда до вечера, пока не спадет жара. Ранний вечер был лучшим временем для прогулки, и, дождавшись, когда в воздухе немного посвежело, Энрике отправился погулять. Он долго бродил по знакомым улицам, удивляясь, насколько они изменились за несколько лет, и в завершение своей прогулки пришел на пласа Майор, чтобы поужинать в находившемся неподалеку мексиканском ресторанчике, который он любил посещать, будучи аспирантом.
Вернувшись в гостиницу, Энрике снова принял душ и сразу же лег спать. Он был очень утомлен после долгого путешествия, и к тому же наутро его ждало много работы в Национальной библиотеке. Уснул он почти мгновенно, несмотря на шум кондиционера и пробивавшийся сквозь задернутые шторы свет.
На следующее утро Энрике проснулся довольно рано. Быстро позавтракав, он взял такси и отправился на площадь Колумба, чтобы не терять времени: Национальная библиотека открывалась в девять часов. Пройдя мимо будки охранника и шлагбаума, преграждавшего дорогу автомобилям, Кастро оказался внутри огороженной территории — перед фасадом здания, всегда удивлявшего его своей архитектурой. Вход в библиотеку находился на уровне первого этажа, но внимание от него отвлекала помпезная парадная лестница, ведшая наверх, к трем огромным дверям в центральной части фасада. Войдя в библиотеку и пройдя через металлодетектор под пристальным взглядом другого охранника, Энрике направился в канцелярию, находившуюся слева от входа.
— Добрый день, — поздоровался он с пожилой сотрудницей, встретившей его любезной улыбкой.
— Добрый день. Чем могу вам помочь?
— Меня зовут Энрике Кастро. Я из Автономного университета Мексики. У моего читательского билета закончился срок несколько месяцев назад, и из моего университета вам должны были прислать документы для его восстановления.
— Хорошо, подождите минутку, пожалуйста, — ответила женщина. — Простите, как, вы сказали, ваше имя?
— Кастро Бургоа. Энрике Кастро Бургоа.
Женщина несколько раз старательно просмотрела бумаги, лежавшие у нее на столе, но не нашла нужной, и лицо ее приняло озабоченное выражение. Извинившись, она вышла в соседнюю комнату и через минуту вернулась с листком в руке.
— Нашла! — торжествующе объявила Энрике сотрудница канцелярии и, протянув ему бланк, напечатанный на голубой бумаге, добавила: — Заполните, пожалуйста, это.
Взяв его, Энрике принялся заносить в анкету свои данные и отвечать на вопросы относительно темы, характера и продолжительности запланированного им исследования. Заполнив бланк, он передал его сотруднице библиотеки, и та принялась стучать на электрической печатной машинке.
— Ну вот, готово. Возьмите, пожалуйста, — сказала она через некоторое время, протянув Энрике новый читательский билет.
Поблагодарив сотрудницу, он направился в другую комнату, значительно уступавшую по своему размеру вестибюлю. Получив у дежурного оранжевую карточку с надписью «ЧИТАТЕЛЬ», Энрике прикрепил ее к нагрудному карману своей рубашки и проследовал к лифтам по длинному узкому коридору, заставленному картотечными шкафами. Поверху, по всей длине коридора, тянулся переход, державшийся на тонких металлических столбах и предназначенный, должно быть, для сотрудников библиотеки.
Поднявшись на лифте на второй этаж, Энрике повернул направо и, миновав короткий коридор, оказался перед высокой узкой дверью, ведшей в читальные залы для ученых. Пройдя мимо стола дежурного, он направился в зал Мигеля Сервантеса, который всегда напоминал ему библиотеку профессора Генри Хиггинса из «Пигмалиона». Фигуры с огромных картин, висевших на стенах, невозмутимо взирали на людей, сидевших за столами, занимавшими практически весь зал. А под картинами стояли высокие шкафы со стеклянными дверцами, полные старинных книг.
Отдав сидевшему в зале сотруднику библиотеки свой читательский билет, Энрике получил от него большую пластиковую карточку с номером стола, за который он должен был сесть, и прежде чем направиться в соседнюю комнату, где находился каталог, взял из пластмассовой коробки полдюжины маленьких бланков и один большой лист. На каждом из маленьких бланков нужно было указать данные заказываемой книги и свои собственные, а на большом листе составить список всех требуемых экземпляров.
Выписав из каталога все нужные данные, Энрике дал подписать бланки сидевшему за столом библиотекарю и, вернувшись в читальный зал, отдал их сотруднику, у которого остался его читательский билет. Тот бегло просмотрел заполненные бланки и с любезной улыбкой сообщил, что принесет книги на отведенный ему стол через двадцать — тридцать минут. Энрике решил воспользоваться этим временем, чтобы посетить находившееся внизу кафе.
Когда он вернулся, все заказанные им экземпляры уже лежали на его столе. Несмотря на то что за свою жизнь Энрике приходилось держать в своих руках немало древних книг, каждый раз при виде их он испытывал необыкновенное волнение: его до глубины души потрясала мысль о том, что слова, заключенные в этих старинных томах, были единственным, что осталось от людей, их написавших.
Книги, заказанные им на этот раз, действительно представляли большой интерес. Энрике с головой углубился в чтение, беспрестанно делая в своей тетради записи карандашом (в зале Сервантеса в целях предохранения от порчи бесценных печатных и рукописных книг было запрещено пользоваться другими письменными принадлежностями). Чтение так увлекло ученого, что он смог оторваться от него лишь в четвертом часу, когда чувство голода стало совсем невыносимым. Кроме того, от длительного напряжения Энрике чувствовал сильную резь в глазах, но это ничуть не уменьшало его энтузиазм. Погружаясь в чтение в гробовой тишине библиотеки и вдыхая волнующий запах старинных книг, он был по-настоящему счастлив и чувствовал себя ближе к великим людям — главным действующим лицам истории.
Наскоро перекусив в библиотечном кафе, Энрике поспешил вернуться в зал Сервантеса, чтобы продолжить чтение. Третья книга, за которую он взялся, была намного толще двух предыдущих. Это был редкий красивый экземпляр — копия «Хроники Хайме I Завоевателя», сделанная в конце XIV века в каталонском монастыре. Рукопись, пережившая, вероятно, пожары и другие бедствия, плохо сохранилась: ее страницы были опалены и прожжены во многих местах. Каждый раз, когда Энрике попадался в руки такой экземпляр, он, зачарованный соприкосновением с историей, спрашивал себя, какие события довелось пережить этой книге и какие тайны скрывали в себе ее ужасные раны.
Хайме I, сын Педро II и Марии де Монпелье, был третьим королем Арагона, что и делало его фигуру интересной Энрике. Королевство Арагонское было одним из главных центров ордена храма, и именно туда бежали многие французские рыцари, после того как руководители тамплиеров были сожжены на костре в Париже в начале XIV века. Когда был основан орден храма, на Пиренейском полуострове активно шла Реконкиста, и включившиеся в эту борьбу тамплиеры стали охотно обосновываться на освобожденных от арабов территориях: короли Арагонские и графы Барселоны и Урхеля благоволили к воинам Христовым, жалуя им крепости и предоставляя различные привилегии.
Хайме I Завоеватель был известен также тем, что хотел создать в Палестине христианское государство, и хотя это стремление так и не было реализовано, оно привело к дальнейшему упрочению его связей с тамплиерами — хранителями христианских территорий в Святой земле.
Энрике с интересом читал о подвигах могущественного короля и бедных рыцарей Христа. Книга так увлекла его, что он даже не заметил, как дошел до ее трети. Однако в этом месте одно непредвиденное обстоятельство заставило его прервать чтение: перевернув очередную страницу, ученый не нашел там продолжения фразы, на которой он остановился. Как бы то ни было, это ничуть его не удивило. По своему опыту Энрике знал, что подобный казус объяснялся всегда довольно просто: либо из книги были вырваны листы, либо (что нередко случалось с рукописями) страницы склеились между собой из-за попавшей между ними капли воска или непросохших чернил. Рассмотрев страницы, он убедился, что в данном случае причина была вторая: два листа плотно склеились между собой, и между ними оставался с одной стороны лишь едва заметный зазор. Их нужно было как-то разъединить, но делать это следовало с большой осторожностью, чтобы не повредить ветхую бумагу. Энрике решил обратиться за помощью к сотруднику библиотеки, но, подняв голову, обнаружил, что того не было на своем месте. Встав из-за стола, он заглянул в соседний зал, однако там тоже не было никого, кто мог бы ему помочь. Подождав несколько минут, Кастро все-таки решился самостоятельно разъединить страницы — раньше ему уже не раз приходилось это делать, особенно в университетской библиотеке.
Вынув из кармана бумажник, он достал оттуда одну из своих визиток и, взяв ее двумя пальцами, осторожно вставил ее в небольшой зазор между страницами. Медленно проведя карточкой между листами, Энрике отделил их друг от друга по краю. Однако визитка была слишком мала, чтобы ею можно было полностью разъединить страницы, и он решил использовать для этой цели большую пластиковую карточку с номером его стола. Аккуратно разделив до конца страницы, Энрике, к своему удивлению, обнаружил между ними небольшой сложенный вдвое белый листок, исписанный по-французски. По своей текстуре и формату он был явно намного моложе грубой желтоватой бумаги, из которой были изготовлены страницы книги. Сгорая от любопытства, Энрике поспешил развернуть листок, чтобы прочесть написанное на нем. Тонкая белая бумага была покрыта аккуратными изящными буквами, выведенными не черными или бурыми, а синими чернилами. Энрике, видевший за свою жизнь сотни книг и рукописей различных эпох, сделал вывод, что листку, попавшему ему в руки, было около века. Очевидно, сто лет назад кто-то положил его в эту книгу, а потом навсегда забыл о нем. Заинтригованный, Энрике углубился в чтение загадочного послания, и оно повергло его в еще большее изумление.
Дорогой Жиль!
Вот уже почти год как я не имею от тебя никаких вестей. В своем единственном письме ты написал, что не хочешь устанавливать переписку, но, думаю, тебе все же будет приятно получить письмо от меня.
Все это время я не переставал задаваться вопросом, действительно ли ты нашел плащаницу. Ты ничего не говорил мне об этом в своем письме, но ничем иным я не могу объяснить твое решение навсегда остаться в Поблете и постричься в монахи, отказавшись от своей прежней жизни и кафедры в Сорбонне. Ведь ты всегда был убежденным атеистом. Сейчас я с ностальгией вспоминаю наши жаркие споры с тобой, и иногда мне даже хочется вернуть то время — вовсе не потому, конечно, что я хотел бы снова видеть тебя атеистом, а потому, что я просто хочу тебя видеть.
У меня не раз уже возникала мысль о том, чтобы навестить тебя в Поблете, хотя ты категорически запретил мне это. Не сомневаюсь, что у тебя есть для этого веские основания, но все равно мне очень хочется повидаться с тобой.
В нашем Париже все по-прежнему — все та же суета и шум. Кстати, у нас появилась новая достопримечательность — построенная Эйфелем башня. На мой вкус, ее облик слишком уж необычен, но, думаю, тебя порадует известие о том, что педант Бодо проиграл пари: башня стоит и будет стоять во славу Франции.
И вот еще что. Я часто вспоминаю ту ночь, когда ко мне в церковь явился тот перепуганный насмерть лавочник с медальоном. Я тогда подумал, что он пьян… А потом я принес медальон тебе в университет… Ну да ладно, не буду больше огорчать тебя своей ностальгией.
Да и к чему грустить? Я очень рад, что ты наконец обрел веру. И пусть Провидение всегда хранит и направляет тебя на этом пути.
I век, Эдесса
944, Константинополь
1204, Сен-Жан д’Акр
Вернувшись в Эдессу, Фаддей передал царю святой саван и пересказал ему все ужасные события, свидетелем которых ему довелось стать. Авгарь, опечаленный известием о смерти Иисуса, велел построить у реки Дайсан небольшое святилище для хранения реликвии: там должен был вечно гореть огонь в память об Учителе.
Однако по прошествии нескольких веков огонь перестали поддерживать, и он погас. Однажды, спасая плащаницу от наводнения, ее перенесли в одну из самых высоких башен городской крепости, где она и пролежала забытая более трехсот лет. В те времена на полотне еще не было изображения Христа. Лишь во время войны, когда город был осажден врагами, святой саван был вновь обнаружен и вынесен из башни для поклонения. Жителям Эдессы удалось выстоять и разгромить врага, и свою победу они стали связывать с образом Спасителя, чудесным образом появившимся на плащанице. Весть о найденном саване Христа облетела весь христианский мир.
Таким образом, плащаница хранилась в Эдессе почти тысячу лет, окруженная легендами и фантастическими преданиями. Однако в 943 году, когда иконоборческое движение в христианстве утихло, византийский император Роман Лакапин потребовал выдать ему реликвию. Разумеется, ответом на это требование был отказ: жители Эдессы считали, что плащаница по праву принадлежит их городу, поскольку она хранилась в нем с незапамятных времен — с первых лет зарождения христианства.
Когда послы византийского императора возвратились к нему с пустыми руками, Роман Лакапин привел к непокорному городу войско. Осада длилась почти год. За это время жители Эдессы несколько раз пытались перехитрить императора, посылая ему выполненные художниками копии савана с изображением Христа, однако, несмотря на то, что тот никогда не видел подлинной плащаницы, его не удалось обмануть грубыми подделками. Осада закончилась в 944 году, когда жители Эдессы, истощенные длительным сопротивлением, вынуждены были сдаться и уступить реликвию Византии.
Роман Лакапин завладел плащаницей и 16 августа с триумфом вернулся в столицу империи Константинополь. Народ, ликуя, приветствовал императора как победителя, захватившего величайший трофей. Императорское войско вошло в Константинополь через Золотые ворота. Едва войдя в город, Роман сразу же передал реликвию представителям высшего духовенства, и те с большой торжественностью пронесли ее по городу до церкви Святой Софии, где она была наконец развернута и показана народу, жаждавшему увидеть великую святыню. Однако когда плащаница предстала перед глазами толпы, многие были разочарованы: изображение на ней было едва заметным, практически неуловимым, и лишь немногие — истинно верующие — смогли постичь увиденное своим сердцем и проникнуться к образу настоящим благоговением.
Перед наступлением сумерек плащаница снова была торжественно сложена и перенесена в Буколион — дворец и резиденцию императора, где и хранилась на протяжении двух с половиной веков в императорской капелле Святой Марии.
В 1204 году крестоносцы, опираясь на помощь Венеции, предоставившей им свой флот, захватили Константинополь и основали на территории Византии Латинскую империю. Большинство рыцарей, принимавших участие в захвате Константинополя, были французами. В войске крестоносцев сражался и отряд тамплиеров под предводительством Гийома де Шарни, рыцаря высшего ордена Савойи, бывшего в родстве с герцогами Бургундскими и прославившегося своими подвигами на Святой земле. Рыцари ордена храма были отправлены в этот поход самим Великим магистром Филиппом де Плессье. Тамплиеры должны были увезти из Константинополя плащаницу.
Об этой реликвии Филиппу де Плессье рассказал свергнутый король Иерусалима Амори, с которым он познакомился в Сен-Жан д’Акр. Много лет назад, находясь в Константинополе по приглашению императора Мануила Комнина, Амори попросил, чтобы ему позволили взглянуть на святую плащаницу Христову. Уступив горячей просьбе набожного короля, Мануил привел его в капеллу в Буколионе, где хранилась реликвия. Это было огромной честью, потому что лишь члены императорской семьи и представители высшего духовенства имели доступ к святыне.
Амори был до глубины души потрясен увиденным, но в сердце его тотчас закралось сомнение: справедливо ли было то, что величайшую реликвию христианства скрывали от глаз простых верующих и видеть ее могли только избранные? Амори искренне сказал то, что думал, императору, однако Мануил обиделся на это и попросил молодого короля покинуть Константинополь.
Через много лет Амори рассказал об этом случае Великому магистру ордена храма и открыл все, что ему было известно о месте хранения плащаницы. Тайник находился в подземелье, куда можно было попасть из капеллы императорского дворца. Вход в этот коридор был скрыт под великолепным мраморным алтарем капеллы. На его барельефе были изображены двенадцать апостолов, и наверху каждой фигуры находилась небольшая табличка с вырезанным на ней именем. Нужно было одновременно нажать на несколько из этих табличек (Амори не помнил, на какие именно), чтобы привести в действие механизм, установленный под алтарем. Благодаря этому плита отодвигалась, и открывался вход на лестницу, ведшую в подземелье. В подземном зале, стены которого были обиты золотистым сукном и украшены драгоценными камнями, на небольшом алтаре и находился тетрадиплон — плащаница, сложенная вчетверо таким образом, что виден был лишь лик Христа.
К концу XII века в Византийской империи сложилась очень сложная ситуация. В последние сто пятьдесят лет территория ее все уменьшалась, а с ней иссякало и могущество державы. Кроме того, страну ослабляли междуусобные распри. О слабости Византии было хорошо известно как Западу, так и туркам. Рано или поздно это должно было привести к падению Нового Рима, как назвал столицу империи основатель города Константин. Этот исход, как считал Амори, был неизбежен, но ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы плащаница попала в нечестивые руки. Тамплиеры должны были найти реликвию и увезти ее из Константинополя ради ее спасения.
Через несколько лет предсказания короля Амори сбылись. После первого захвата столицы империи крестоносцами в 1204 году положение Византии стало настолько зыбким, что скорое и окончательное падение Константинополя было уже неминуемым. Узнав об этом, Великий магистр Филипп де Плессье собрал самых надежных рыцарей ордена и велел им отправляться в Византию, чтобы присоединиться к войску крестоносцев, готовившемуся к штурму Константинополя. Во главе отправлявшихся в поход тамплиеров Великий магистр поставил Гийома де Шарни — самого молодого, но в то же время самого смелого и рассудительного из рыцарей, не раз доказавшего свою доблесть в сражениях.
Филипп де Плессье рассказал рыцарям, где находилась плащаница, и дал указания, как следовало действовать. Войдя в город, тамплиеры должны были переодеться в одежду простых горожан, чтобы никто не узнал в них рыцарей ордена храма, опередив крестоносцев, проникнуть во дворец и унести оттуда реликвию. Этот план нужно было держать в строжайшем секрете: никто чужой не должен был знать об истинной цели участия тамплиеров в захвате Константинополя.
1997, Мадрид
На загадочном письме, найденном Энрике в книге, не было ни печати Национальной библиотеки, ни какого-либо другого штампа, однако на основании этого еще нельзя было сказать, что листок не был зарегистрирован в библиотечном каталоге. В любом случае находка была в высшей степени любопытной. Энрике, как истинный ученый, привык ко всему относиться с определенной долей скептицизма, но на этот раз он был действительно заинтригован.
Еще раз перечитав письмо, Энрике глубоко задумался: его чрезвычайно заинтересовало упоминание плащаницы. Об этой христианской реликвии ему было известно не так уж много. Энрике знал, что плащаница (по крайней мере та, что официально была признана подлинной) с XV века принадлежала Савойскому дому и на протяжении более ста лет перевозилась из одного места в другое, пока наконец не осталась навсегда в кафедральном соборе Турина. Кроме того, он знал (и это был менее известный факт), что до герцогов Савойских хранителями плащаницы Христовой долгое время были графы де Шарни, тесно связанные с орденом тамплиеров. Представитель этого рода — Кристиан де Шарни — был одним из девяти основателей ордена.
«Несомненно, — думал ученый, — упоминавшаяся в письме плащаница была лишь одной из многочисленных копий, наполнявших христианский мир в прошлые века». Но даже несмотря на это, он был очень взволнован своей находкой. Это письмо некоего Жака было пронизано какой-то смиренной грустью и тихой радостью, которую Энрике не мог до конца постичь. Загадкой выглядел для него и адресат этого письма Жиль — бывший атеист, ставший монахом и решивший навсегда порвать со своей прошлой жизнью. Не менее загадочным был и упоминаемый Жаком медальон… Какую роль сыграл он во всей этой истории? И была еще одна важная деталь: название монастыря — Поблет. Энрике был уверен, что уже слышал его раньше, только не мог вспомнить где. Все это его чрезвычайно интриговало, хотя он прекрасно понимал, что за всей этой загадочностью могла стоять самая заурядная история.
Рассмотрев листок на свет и убедившись, что на нем не было водяных знаков, Энрике тщательно переписал письмо в свою записную книжку. Все оставшееся время он посвятил его анализу и выяснению некоторых данных. В тексте письма имелось несомненное подтверждение того, что оно — как верно предположил Энрике еще до его прочтения — было написано сто с небольшим лет назад. Жак (судя по всему, священник) писал о недавно построенной Эйфелевой башне и некоем Бодо. Найдя это имя в энциклопедии, Энрике узнал, что Анатоль де Бодо был известным архитектором-рационалистом, занимавшимся реконструкцией Сорбонны и выступавшим за ее тотальное архитектурное обновление, включая перестройку старинного коллежа кардинала Ришелье и капеллы. Противником Бодо, в конце концов взявшим над ним верх, был другой великий архитектор — молодой Анри-Поль Нено, которому университет и был обязан своим нынешним обликом. Другим современником Бодо, тоже не сходившимся с ним во взглядах, был Александр Гюстав Эйфель — создатель знаменитой башни, построенной для Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Из письма священника Жака также было ясно, что и сам адресат — Жиль, профессор Сорбонны, — не питал особых симпатий к Бодо.
Таковы были выводы, сделанные Кастро на основании содержания письма. Хотя, по сути, все это не имело никакого отношения к той теме, ради изучения которой он прибыл в Испанию. Он понимал, что совершенно напрасно теряет время, но что-то не позволяло ему оставить этот неожиданно появившийся и, казалось бы, такой незначительный объект исследования… Когда охранник заглянул в зал и сообщил Энрике, что библиотека закрывается, у того возникло непреодолимое желание сунуть письмо в портфель и унести его с собой. На мгновение в голове его даже мелькнула мысль — не спрятать ли листок под одеждой, чтобы можно было пронести его мимо рентгеновского аппарата? Конечно, Энрике вовсе не собирался красть из библиотеки письмо — просто ему хотелось подольше подержать его у себя. За долгие годы исследовательской работы ему постоянно приходилось убеждаться в том, что знание подобно наркотику — такое же сильное и затягивающее, хотя и не разрушительное. Однако, как ни сильна была в нем эта страсть, Энрике все же решил, что не имеет права выносить из библиотеки найденное письмо. Вернув книги и получив назад свой читательский билет, он направился в соседний зал и подошел к столу библиотекаря.
— Добрый вечер, чем могу помочь? — сказала она, оторвавшись от книги и поднявшись со своего стула.
Это была женщина лет сорока, напомнившая Энрике своей одеждой Айседору Дункан.
— У меня есть для вас кое-что интересное, — с улыбкой сказал он библиотекарше.
— Что, простите? — переспросила она, непонимающе глядя на Энрике.
В ответ он протянул ей листок, найденный им в книге, и пояснил:
— Я обнаружил это в рукописи «Хроники Хайме I»… между страницами.
— Между страницами? — задумчиво повторила женщина, устремив на Энрике свои проницательные голубые глаза, и, снова взглянув на листок, кивнула: — Да-да, все ясно.
Ему показалось, будто библиотекарша заподозрила, что дело было не совсем так, как утверждал Энрике, но решила закрыть на это глаза.
— Мы выясним все, что возможно, об этом листке, — сказала она, прочитав письмо, и, пристально глядя на Кастро, добавила: — Благодарю вас от имени библиотеки за то, что вы сообщили нам об этой находке. Это очень любезно с вашей стороны.
— О, не стоит благодарности, любой бы на моем месте поступил так же, — несколько смущенно ответил Энрике, зная, что его слова вовсе не соответствуют действительности и что библиотекарше это тоже прекрасно известно. — Но я бы хотел вас попросить, — после короткой паузы продолжал он, — если вас не затруднит, сообщите мне, что вам удастся узнать об этом письме. Я занимаюсь исследованием, так что буду приходить сюда каждый день.
— Конечно, конечно, о чем речь, я обязательно вам все сообщу, — охотно пообещала библиотекарша.
Охранник снова вошел в зал и еще раз объявил, что библиотека закрывается.
— Спасибо, — сказал Энрике женщине, направившись к выходу, — до свидания.
— До свидания, сеньор…
— Кастро. Энрике Кастро.
В эту ночь Энрике долго не мог уснуть, думая о письме. Оно не выходило у него из головы с тех пор, как он покинул библиотеку. О Жаке известно было немного: лишь то, что он скорее всего был священником. Намного интереснее была фигура Жиля — атеиста, обратившегося к Богу и ставшего монахом под влиянием какого-то, несомненно, экстраординарного события. Что привело этого человека в монастырь? Какую роль в его судьбе сыграл загадочный медальон? Эти вопросы не давали Энрике покоя. Он лежал с широко раскрытыми глазами на кровати и думал. Ему хотелось, чтобы поскорее наступило утро. Включив лампочку на будильнике, Энрике, к своему разочарованию, обнаружил, что было всего два часа ночи. Кастро заставил себя закрыть глаза и попытался прогнать неотвязные мысли. Ему не совсем это удалось, но в какой-то момент сон все-таки одолел его. Энрике проспал несколько часов, как вдруг внезапная мысль пронзила его сознание, и он проснулся.
— Арранц! Как же я мог забыть его? Херман Арранц! — воскликнул он.
Подскочив с постели, ученый принялся ходить из угла в угол в чрезвычайном волнении. Было раннее утро, и солнечный свет уже проникал внутрь сквозь щель между шторами. Внезапно Энрике остановился посреди комнаты как вкопанный, неподвижно глядя на окно невидящим взглядом. И эта отрешенная сосредоточенность в конце концов помогла ему отчетливо вспомнить то, что секундной вспышкой мелькнуло в его голове несколько минут назад. Должно быть, его мозг продолжал напряженно работать во сне, и благодаря этому из темных глубин памяти всплыло наконец давнее воспоминание, ускользавшее от него во время бодрствования. Это произошло девять лет назад в Монтеррее, в 1988 году, во время конгресса, посвященного ордену тамплиеров.
Доклад падре Арранца был последним на конференции. Энрике всегда подозревал, что организаторы сделали это сознательно, догадываясь, какую бурную реакцию вызовет это выступление. Это был первый значительный конгресс, в котором Энрике участвовал после защиты своей диссертации. Среди докладчиков были самые известные специалисты, в том числе и Арранц Хернар — священник, принадлежавший к ордену Святого сердца Иисуса и читавший лекции по Средневековью на историческом факультете мадридского университета Комплутенсе. «Но теперь, — подумал Энрике, — скорее всего он уже не работает в университете, потому что даже тогда, девять лет назад, он был уже стар». Не исключено было и то, что орден направил Арранца с проповеднической деятельностью куда-нибудь за границу, и теперь его не было в Испании.
Тогда, в Монтеррее, Энрике чуть не пропустил доклад падре Арранца, потому что за две недели до конгресса его сестра серьезно пострадала в дорожной аварии и попала в больницу. Возможно, именно из-за этих переживаний он не вспоминал потом о других событиях, совпавших с ними по времени. Но эти события не могли не задержаться в его памяти.
Человеку, не занимающемуся историческими исследованиями, полемика, вызванная выступлением профессора на конгрессе в Монтеррее, показалась бы преувеличенной или вовсе не обоснованной. Однако многие присутствовавшие специалисты сочли его заявления возмутительными. Им пришлось не по душе, что такой признанный ученый, как Арранц, решил возвести в ранг исторической правды то, что всегда считалось не более чем смелыми домыслами.
Согласно общепризнанной точке зрения, после уничтожения ордена тамплиеров их прямыми наследниками стали франкмасоны, воспринявшие идеи, традиции и ритуалы бедных рыцарей Христа. Первые тайные ложи вольных каменщиков появились в XIV веке в Англии, вследствие чего эта страна стала считаться новым оплотом тамплиеров в Европе. Такова была концепция, которой придерживались авторитетные ученые-историки.
Однако падре Арранц в своем докладе опроверг эту точку зрения. Не отрицая, что многие идеи тамплиеров действительно были унаследованы франкмасонами, он утверждал, что орден храма не имел преемников, а продолжал существовать, несмотря на то что руководители его были казнены. Эти тамплиеры впоследствии переняли некоторые символы франкмасонов, однако сохранили свои собственные обычаи, ритуалы… и власть.
Именно так сказал Арранц. Энрике хорошо это помнил. Эта фраза ясно запечатлелась в его памяти, но смысл ее до сих пор был для него загадкой. Орден храма был обезглавлен, лишен владений и фактически уничтожен — уцелевшие тамплиеры в страхе бежали из Франции… И в то же время орден, по словам падре Арранца, сохранил свою власть. Таинственную власть, которая была выше утраченного ими земного могущества.
Истории было известно, что после того, как французский король расправился с орденом, многие тамплиеры бежали из Франции в Арагон и Каталонию. Однако профессор утверждал большее: по его мнению, после уничтожения ордена храма во Франции центр его переместился в Каталонию, а именно — в один из монастырей Таррагоны — Санта-Мария де Поблет. Тогда Энрике впервые услышал это название, и больше ему нигде не попадалось упоминание об этом монастыре вплоть до вчерашнего дня, когда он прочитал случайно найденное в книге письмо.
Падре Арранц также заявил в своем докладе, что после уничтожения ордена в Европе по-прежнему существовало несколько тайных центров тамплиеров: один из них, главный, находился в Париже, а другой, менее значительный, — в Лондоне. Когда они каким-то образом были раскрыты и уничтожены, единственным оплотом и средоточием ордена храма стал монастырь Поблет. В качестве доказательства Арранц продемонстрировал предметы и документы, найденные в подземельях одного из английских монастырей и другой разрушенной обители, находившейся в Париже на острове Сите. Все эти находки свидетельствовали о том, что после XIV века орден тамплиеров продолжал существовать еще долгое время. Падре Арранц рассказал также о том, что в одной разрушенной английской церквушке за деревянным запрестольным образом было обнаружено изображение, очень похожее на лик со святой плащаницы. Этот факт чрезвычайно заинтересовал Энрике, поскольку ему было известно, что лицо, запечатленное на саване Христа, впервые ясно проступило на негативе фотографии, сделанной в 1898 году итальянским адвокатом. В подтверждение своей теории священник привел массу документальных свидетельств — и все они говорили о том, что монастырь Поблет играл огромную роль в сохранении ордена тамплиеров.
Никогда в своей жизни — ни до, ни после этой конференции — Энрике не слышал более страстного и убежденного выступления, чем доклад падре Арранца. Он слушал его с чрезвычайным увлечением, однако большинство остальных слушателей негодовали, и по завершении доклада поднялся такой шум, что Кастро, задавший вопрос докладчику, так и не получил на него ответа. После этого конгресса ученые-историки, коллеги Арранца, сделали все возможное, чтобы дискредитировать его в научном мире, подвергая яростной критике его теорию и выступая против приглашения его на новые конференции. Энрике, напротив, очень заинтересовала изложенная падре Арранцем точка зрения, и он попытался отыскать другие публикации ученого на эту тему, однако, как оказалось, выступление на конгрессе в Монтеррее было первым и последним публичным представлением изысканий о тамплиерах и их связи с монастырем Поблет. Обнаружив это, молодой ученый решил встретиться со старым профессором лично, чтобы пообщаться на очень интересовавшую его тему, однако эта встреча так и не состоялась…
Быстро позавтракав в буфете гостиницы, Энрике позвонил в телефонную справочную, чтобы узнать номер телефона исторического факультета университета Комплутенсе. Затем он связался с секретариатом факультета, где ему ответила девушка, сообщившая, что падре Арранц не работает в университете уже несколько лет. Она не знала, где он находился в настоящее время, и долго не соглашалась сообщить его прежние координаты, однако под напором Энрике в конце концов все же уступила. Как ему удалось узнать, Падре Арранц жил (по крайней мере раньше) в колледже Фрай Луис де Леон, который, судя по названию улицы, находился неподалеку от храма Дебод и площади Испании. Энрике решил сначала позвонить туда не только из соображений вежливости, но и для того, чтобы узнать, живет ли там сейчас падре Арранц или нет.
Взяв телефонную трубку, он нервничал как школьник, осмелившийся позвонить домой учителю. Лишь с третьего раза ему удалось правильно набрать номер. Длинный гудок в трубке повторился раз десять, прежде чем на другом конце провода раздался недовольный женский голос. Энрике сбивчиво представился и принялся было объяснять, что ищет падре Арранца, но не уверен, живет ли он до сих пор в колледже, как вдруг женщина прервала его равнодушным «соединяю».
Энрике не успел еще поздравить себя с необыкновенной удачей, как в трубке уже раздался размеренный звучный голос:
— Слушаю.
Он сразу же узнал голос Хермана Арранца: он был такой же, как и девять лет назад, хотя, возможно, чуть менее бодрый. Только потом Энрике узнал, какой на самом деле удачей было то, что он так просто нашел профессора: оказалось, что священник жил теперь в обители ордена в Саламанке, а в Мадрид приехал ненадолго по делам.
— Падре Арранц? — обрадованно произнес Энрике.
— Да, это я, — бодрым и несколько ироничным тоном ответил профессор и тут же более строгим голосом поинтересовался: — Простите, а с кем я говорю?
— Боюсь, вы меня не помните, — снова немного занервничав, сказал Энрике. — Я Энрике Кастро, из Мексики. Мы с вами встречались в Монтеррее, в восемьдесят восьмом году на конгрессе, посвященном ордену тамплиеров. Я задавал вам много вопросов по ходу вашего доклада.
— Энрике Кастро… — задумчиво повторил падре Арранц, и по его тону стало понятно, что он не помнил никакого Энрике Кастро. — Да, тот конгресс я хорошо помню…
Повисло неловкое молчание.
— Энрике Кастро, Энрике Кастро… — после некоторой паузы недоуменно пробормотал профессор и вдруг совершенно другим тоном воскликнул: — Энрике Кастро! Ну разумеется! Молодой преподаватель из Автономного университета Мексики. Конечно же, я вас помню! Я тогда подумал о вас: «Этот молодой человек подает большие надежды…»
— Спасибо, — сказал Энрике, чрезвычайно польщенный словами ученого.
— Не за что. Вы, я полагаю, о чем-то хотели со мной поговорить?
— Да, я обнаружил кое-что, что может вас заинтересовать.
— В самом деле? — несколько скептически спросил падре Арранц.
— Это касается монастыря Поблет… — Энрике сделал паузу, чтобы придать своим словам больше значительности. — Дело в том, что в рукописи XIV века я нашел спрятанное между страницами письмо, в котором упоминается Поблет.
Слово «спрятанное» вырвалось у него непроизвольно, но он почувствовал, что оно должно произвести впечатление на профессора.
— Поблет? В письме, спрятанном между страницами рукописи? — Падре Арранц старался говорить как можно равнодушнее, однако его волнение все равно прорывалось наружу.
— Да, именно так, — подтвердил Энрике.
— Хорошо, — немного подумав, ответил профессор. — Правда, сегодня я должен быть у архиепископа, но мы можем встретиться раньше, если вас это устраивает.
— Да-да, конечно, я могу прийти в любое время, — поспешил согласиться Энрике, радуясь, что ему удалось заинтересовать профессора.
— В таком случае давайте встретимся в четыре часа у нас в колледже. Вам это подходит?
— Конечно, я буду ровно в четыре, — радостно пообещал Энрике. — Большое спасибо, профессор.
— До встречи, сын мой, — ответил падре Арранц, прежде чем повесить трубку.
1204, Константинополь, Печ
Сражение крестоносцев с защитниками Константинополя было недолгим. Войска встретились под крепостной стеной северо-западной части города. Венецианские корабли, вошедшие в бухту Золотой Рог, тотчас парализовали немногочисленный византийский флот. Численный перевес был на стороне крестоносцев, и вскоре византийское войско устремилось обратно в город. На поле боя остались сотни воинов, бессмысленно погибших в этом сражении, исход которого был заранее предопределен.
Бой внутри городских стен также оказался непродолжительным. Среди защитников города вскоре началась паника, и захватчики почти не встречали сопротивления на своем пути. В войске было около ста рыцарей храма, и Гийом де Шарни выбрал среди них восемь самых надежных для выполнения тайной миссии. Тамплиеры сражались в первых рядах и вошли в город во главе всего войска. Никто из них не погиб в битве: это были отважные, опытные воины, закаленные в сражениях с сарацинами. Едва оказавшись внутри городских стен, Шарни и восемь посвященных рыцарей незаметно отделились от остального отряда и, переодевшись простыми горожанами, отправились на поиски плащаницы. Они шли по заранее продуманному маршруту, пролегавшему по узким боковым улочкам, где была мала вероятность встречи с византийскими солдатами. В городе царила паника, и рыцари легко смешались с толпой. На них никто не обращал внимания: все бежали, охваченные ужасом, спасая себя и свое имущество. Многие здания в той части города, куда ворвалось войско, были объяты огнем.
Константинополь был одним из самых больших городов того времени, и рыцари преодолели немалое расстояние, прежде чем их глазам предстал величественный Буколион. Солдаты все еще охраняли дворец, хотя император уже сбежал из своей резиденции, поняв, что все потеряно. Как бы то ни было, попасть на территорию дворца оказалось несложно: тамплиеры сняли двух часовых, охранявших ворота, и проникли внутрь, а затем, никем не замеченные, подобрались к капелле. В церкви не было ни души: служители в страхе покинули ее, узнав о взятии города.
Приблизившись к белоснежному мраморному алтарю, находившемуся в глубине центрального нефа, рыцари сдернули с него покров и увидели фигуры апостолов с табличками, о которых рассказал Великому магистру король Амори. Оставалось только нажать на несколько из этих табличек, чтобы плита отодвинулась. Времени было очень мало. Шарни решил действовать в соответствии с заранее продуманным принципом: он надавил на первую табличку и, не отпуская ее, принялся нажимать по очереди все остальные. Эту операцию следовало повторить со всеми табличками: если нужную комбинацию составляли всего две из них, рано или поздно механизм должен был сработать. Однако Гийом сомневался, что все было так просто: вход в подземелье скорее всего был защищен намного более сложным кодом. Вскоре в этом не осталось сомнений: Шарни перепробовал все простейшие комбинации, но безрезультатно.
Рыцари были растерянны. Их план, шедший так ровно с самого начала, наткнулся на препятствие, казавшееся непреодолимым. В отчаянии некоторые принялись нажимать таблички наугад, надеясь отыскать нужную комбинацию. Шарни тем временем стоял в стороне, размышляя. И вдруг его осенила спасительная мысль: решение было простым, но очень смелым. Не мешкая больше ни секунды, он тут же раскрыл свой замысел остальным братьям. Прежде чем приступить к осуществлению своего намерения, рыцари опустились на колени и перекрестились.
— Прости нас, Господи, за кощунство, которое мы собираемся совершить, — сказал Шарни, воздев руки, и сделал знак двум самым крепким рыцарям. Они взяли огромные железные канделябры высотой в человеческий рост и принялись изо всех сил наносить ими удары по алтарю. Куски мрамора с ужасным грохотом разлетались во все стороны, и вскоре посередине плиты появилась трещина. Еще несколько мощных ударов — и алтарь раскололся пополам.
Рыцари оттащили куски плиты и увидели перед собой вход в подземелье, о котором рассказывал король Амори. Внизу была кромешная тьма. Шарни и еще один рыцарь взяли факелы и стали спускаться по винтовой лестнице, ведшей глубоко под землю. Когда лестница закончилась, они оказались в большом зале, украшенном золотом и драгоценными камнями. Посередине него на невысокой колонне лежала плащаница, накрытая тонким прозрачным шелком.
Оба рыцаря опустились на колени перед святыней и вознесли Богу жаркие, искренние молитвы. Потом, приблизившись, Шарни сдернул с реликвии шелковое покрывало и положил ее на правую руку, а в левую взял факел. Поднявшись по лестнице наверх, он показал плащаницу остальным рыцарям, и те благоговейно преклонили колени при виде божественного лика.
Однако нужно было торопиться: с каждой минутой звуки сражения становились все ближе. Понимая, что медлить больше нельзя, Шарни спрятал плащаницу на груди под одеждой и велел рыцарям следовать за ним.
Тамплиерам удалось покинуть Буколион до появления крестоносцев и уйти незамеченными. От дворца они направились в условленное место, где их ждали несколько братьев с лошадьми. Снова переодевшись в свою одежду, восемь рыцарей во главе с Шарни покинули Константинополь и поскакали на северо-запад, держа путь во Францию, где в то время находился центр ордена тамплиеров. Им предстояло пересечь все Балканы.
В дороге рыцари оставались на ночлег в обителях ордена или ночевали под открытым небом, закрываясь толстыми шерстяными плащами. Таким образом они миновали Македонию и Сербию и прибыли в Венгрию, которая двадцать пять лет назад, после смерти императора Мануила Комнина, освободилась от власти Византии. Там рыцари нашли приют в монастыре тамплиеров, находившемся у подножия горы Мечек, неподалеку от города Печ, известного им под немецким названием Фюнфкирхен, то есть «Пять церквей».
В этом монастыре Шарни встретил своего старого друга — строителя храмов Ласло из города Орослань. Недавно ставший королем Венгрии Андрей II решил в благодарность Богу за восхождение на трон и освобождение своего народа восстановить пострадавшую при землетрясении романскую церковь. Тамплиеры с радостью приняли каменщиков, прибывших восстанавливать храм, в своем монастыре.
С Ласло Гийом де Шарни познакомился десять лет назад в Майнце, где тот занимался возведением монастыря для тамплиеров. Это был простой и открытый человек, выглядевший значительно моложе своих лет и обладавший огромной физической силой. Начав работать простым каменотесом, он со временем стал главным строителем, доказав свое мастерство и талант архитектора.
Шарни подумал, что такому мастеру, как Ласло, будет под силу изготовить ларец, необходимый для хранения плащаницы. Отлить его следовало непременно из благородного металла, но, поскольку денег в распоряжении Шарни в данный момент было немного, он решил ограничиться серебром.
Ласло был очень удивлен тем, что Шарни попросил его — всю жизнь работавшего с камнем, а не с металлом — изготовить серебряный ларец. Однако он охотно согласился выполнить эту просьбу, узнав, что сундучок был нужен для хранения священных реликвий и поручить его изготовление было больше некому. Мастер даже предположить не мог, какая великая святыня будет храниться в изготовленном им ларце.
При монастыре тамплиеров имелась кузница, и настоятель по просьбе Шарни без лишних расспросов позволил мастеру работать в ней над изготовлением ларца. Ласло, следуя указаниям рыцаря, высек из камня модель с фигурами апостолов. Затем он вылепил из высококачественной глины форму, обжег ее в печи и с помощью работавшего при монастыре кузнеца залил в форму расплавленное серебро. Потом таким же образом Ласло отлил крышку и прикрепил ее к ларцу двумя петлями.
Шарни остался доволен работой своего друга: получившийся ларец вполне подходил для хранения плащаницы. Поблагодарив Ласло за работу и попрощавшись с настоятелем монастыря, предоставившим им кров, Гийом вместе с сопровождавшими его рыцарями снова отправился в путь.
Миновав обширную германскую территорию, тамплиеры наконец оказались во Франции, где род Шарни имел большие владения. Великий магистр ордена велел Гийому на некоторое время спрятать реликвию в своем замке. Он не хотел, чтобы тамплиеры оказались в центре скандала, а чтобы его избежать, плащаницу следовало держать в тайне от всех до тех пор, пока страсти вокруг ее исчезновения не улягутся.
1997, Мадрид, Эль-Пардо
Такси остановилось на пересечении двух узких улочек — Мартин-де-лос-Эрос и Эваристо Сан-Мигель. Энрике вышел из машины на углу перед строгим и величественным пятиэтажным зданием. Над дверью из кованого железа была выложена мозаика из камней, складывавшихся в название «Колледж Фрай Луис де Леон».
Входная дверь вела в вестибюль, продолжением которого был длинный коридор. По правую руку от входа стоял бронзовый бюст основателя ордена, казалось, встречавший проходивших мимо учеников суровым предупреждением: «Войдя сюда, веди себя достойно». С левой стороны у ведшей вниз лестницы находилась комнатка дежурной. Приблизившись, Энрике сказал сидевшей внутри женщине, что пришел к падре Арранцу. Дежурная по телефону сообщила профессору о приходе гостя и передала Энрике, что падре скоро спустится.
Через несколько минут в коридоре появилась степенная фигура профессора. На нем были черные брюки и рубашка со стоячим воротничком, ставшим уже большой редкостью среди современных священников. Энрике заметил, что лицо падре Арранца значительно постарело. Он шел медленно, с некоторым трудом, но движения его были размеренны и гармоничны. Лишь правая рука профессора немного тряслась, что стало намного заметнее, когда он протянул ее Энрике, чтобы поздороваться. Очевидно, у профессора начинала развиваться болезнь Паркинсона.
— Надеюсь, на этот раз вы будете задавать не такие сложные вопросы, как на том конгрессе, — добродушно пошутил падре Арранц.
— Постараюсь, — улыбнувшись, ответил Энрике. Он был очень рад встрече с профессором, чей доклад некогда произвел на него такое неизгладимое впечатление.
Падре Арранц попросил Энрике следовать за ним. Они прошли по коридору и, войдя в боковую дверь, оказались в небольшом зале, стены которого были увешаны фотографиями выпускников колледжа с преподавателями.
— Ну, что ж, Энрике, расскажите мне наконец, что это за загадочное письмо, которое так вас заинтриговало, — сказал старый священник, как только они уселись.
— Вот его копия, — сказал Энрике, протягивая листок бумаги, на который он переписал письмо. — Но вполне возможно, что это ложный след.
Падре Арранц достал из кармана рубашки очки в небольшой аккуратной оправе и, держа листок обеими руками, принялся внимательно читать. Глаза его быстро двигались из стороны в сторону, скользя по строчкам.
— Любопытно, очень любопытно, — сказал профессор, закончив чтение. — Письмо конца девятнадцатого века, конкретно — 1889 года.
Энрике кивнул: эту дату нетрудно было вывести благодаря тому, что в письме говорилось о недавно построенной Эйфелевой башне.
— Да, все верно, профессор, — подтвердил он и, с трудом сдерживая волнение, добавил: — Но что действительно меня заинтриговало, так это упоминание в этом письме…
— Плащаницы, — закончил фразу Энрике падре Арранц. — Я не ошибся?
— Да, именно так, — ответил Энрике и продолжал: — Позвольте, я расскажу вам, что мне известно об этой реликвии. Как я выяснил, с 1453 года плащаница принадлежала герцогам Савойским. В 1578 году она была перенесена из Шамбери в Турин, где и находится по сей день… Также известно, что существует множество копий подлинной плащаницы, каковой считается именно эта, Туринская. Хотя… недавно проведенные исследования датируют ее XVI веком, а некоторые ученые и вовсе не могут определить ее возраст. И еще один интересный факт: на протяжении более века хранителями реликвии были тамплиеры, а именно дом Шарни. Поскольку я занимаюсь изучением ордена храма, мне чрезвычайно интересно все, что связано с тамплиерами. Именно потому я и решил обратиться к вам. Сегодня утром мне вспомнился ваш доклад на конгрессе в Монтеррее: вы упоминали там цистерцианский монастырь Поблет — тот самый, о котором говорится в найденном мной письме. Как вы считаете — там может находиться еще неизвестная копия плащаницы?
Падре Арранц взглянул на Энрике с хитрой улыбкой и загадочно произнес:
— А может быть, и подлинник…
Слова профессора поразили Энрике, однако на этот раз им не удалось толком поговорить, потому что через час падре Арранцу нужно было быть у архиепископа. Однако профессор чрезвычайно заинтересовался тем, что узнал от молодого коллеги, поэтому они договорились на следующий день пообедать вместе, чтобы продолжить свою беседу.
Сидя в уютном ресторанчике в пригороде Мадрида Эль-Пардо, Энрике и падре Арранц неторопливо беседовали, рассказывая друг другу о своей жизни и исследованиях. Профессор поведал Энрике, как он боролся за то, чтобы выяснить и обнародовать всю правду о тамплиерах, наталкиваясь на этом пути на яростное сопротивление со стороны историков, отстаивавших незыблемость традиционной, официально признанной версии.
Разговор о плащанице зашел лишь после обеда, когда Энрике и Арранц отправились погулять по роскошному, ухоженному саду, окружавшему ресторан. Росшие в нем деревья — ивы, сосны и тополя — давали прекрасную тень.
— Вчера ты мне рассказал, что тебе известно, ну а сегодня моя очередь, Энрике, — сказал падре Арранц. — Свойство памяти таково, что иногда из нее всплывают события, которые, как казалось, навсегда погребены в ее глубине. Через некоторое время после нашего вчерашнего разговора я вспомнил один такой любопытный факт… Думаю, он имеет отношение к твоему нынешнему исследованию.
Энрике и профессор сели на одну из скамеек, окружавших фонтан с обезглавленной статуей в центре, и профессор продолжил:
— В молодости, во время учебы в Риме, я наткнулся в библиотеке Ватикана на один очень странный документ, истинное значение которого стало ясно мне только сейчас, пятьдесят лет спустя.
И падре Арранц рассказал Энрике, как однажды ему попалась подборка папских документов эпохи понтификата Александра VI — валенсийца Родриго Борджиа. Там были личные письма, дневниковые записи, размышления и другого рода бумаги, написанные рукой папы. Многие из них могли кого угодно вогнать в краску своим бесстыдством, однако действительно любопытной была одна запись, сделанная папой по-каталански за несколько дней до смерти. Благодаря своей фотографической памяти падре Арранц помнил ее почти дословно:
«Чезаре сказал, что все вышло отлично. Правда, бедную девушку пришлось обезглавить. Мой сын немного жесток, надо бы держать его в узде. Да только, кажется, сам я в его руках вроде куклы.
Нудос, как всегда, выполнил работу великолепно: я видел ее всего один раз, но этого было достаточно, чтобы оценить его мастерство. Часто думаю в последнее время: какая все же головокружительная вершина — трон Святого Петра… не каждый осмелится взойти на него, да и не каждый захочет. А я на этой вершине чувствую себя рабом в горностаевой мантии.
Не знаю, что сделал Чезаре с Саваном. Он хочет владеть им один… Мой сын амбициозен, но меня в свои планы не посвящает и обращается ко мне лишь тогда, когда ему нужна поддержка папского трона. Он говорит, что герцоги Савойские остались довольны. Надеюсь, они никогда ничего не узнают».
— Ну, что ты на это скажешь? — спросил падре Арранц, закончив пересказ сделанной понтификом записи, в которой дальше шла речь о его преступной страсти к своей дочери Лукреции.
— Что ж, папа упоминает в своей записи некий саван. Думаете, он имеет в виду плащаницу?
— Слово «Саван» — Llencol по-каталански — там было написано с большой буквы, это я хорошо помню. Но самое интересное в данном случае — это то, что здесь фигурирует не кто иной, как Чезаре Борджиа, сын папы. Последний, как ты знаешь, после смерти отца бежал в Неаполь. Там он был взят в плен Великим Капитаном, Гонсало Фернандесом де Кордовой. Есть основания полагать, что этот человек, рыцарь ордена Святого Иакова, принадлежал и к ордену тамплиеров, центр которого в то время находился, вероятно, в Поблете.
— К сожалению, я не совсем вас понимаю. Какая связь может быть между всеми этими фактами?
— Ну, это же очевидно, Энрике. Допустим, в записи папы упоминается подлинная плащаница. Итак, она каким-то образом попала в руки Чезаре Борджиа, а потом, должно быть, оказалась у Великого Капитана. Как ты считаешь: куда тамплиер мог отвезти великую христианскую реликвию?
— В Поблет? Вполне вероятно. Однако в этой версии слишком уж много домыслов…
— Да, это так. И твоя задача — превратить эти домыслы в факты, то есть доказать их.
— Но почему вы сами не стали развивать эту версию? Почему не взялись за нее сразу же?
— В этой цепочке мне не хватало звена, обнаруженного тобой, — указания на связь плащаницы с монастырем Поблет. Найденное тобой письмо расставило все по местам. Теперь ты должен продолжить это исследование. К сожалению, сам я не могу в этом участвовать — я уже старый больной человек… — Профессор немного помолчал и вдруг спросил: — Кстати, ты ничего не заметил любопытного во фразе «Нудос, как всегда, выполнил работу великолепно»?
Имя Нудос действительно показалось Энрике странным, но он решил, что это была просто описка.
— «Нудос» по-каталански звучит как «Нусос», — продолжал падре Арранц, не дожидаясь ответа Энрике. — Раньше было принято переводить иностранные имена и фамилии или модифицировать их таким образом, чтобы они звучали более привычно.
— Честно говоря, не понимаю, к чему вы клоните.
— Что ж, поясню, друг мой. Как будет «Нудос»[6] по-итальянски?
Энрике задумался на секунду, и вдруг его осенило.
— Винчи! — воскликнул он, потрясенный таким неожиданным поворотом.
— Именно: Винчи. В таком случае какую работу выполнил Леонардо да Винчи для Борджиа? Уж не копию ли святой плащаницы? Вот еще один веский повод заняться этим исследованием.
Энрике проводил падре Арранца до колледжа и пообещал, что будет держать его в курсе всего, что ему удастся узнать. На прощание профессор напомнил Кастро, что во время гражданской войны монастырь Поблет послужил оборонительной крепостью для республиканской армии. После сражения на реке Эбро, летом 1938 года, Республика стала терять свои позиции. В этом же году на Рождество республиканцы оборонялись в Поблете от осадившей его национальной армии. Бомбардировки и пожар уничтожили значительную часть монастыря. Все монахи погибли, унеся свою тайну в могилу.
1314, Париж
1315, Шампенар
Плащаница более века хранилась в тайне от всех во Франции. Лишь в 1350 году Жоффруа де Шарни, сын Пьера, приходившегося братом последнему магистру ордена храма Нормандии, и его супруга Жанна де Вержи решили построить в Лире капеллу, чтобы выставить в ней плащаницу для поклонения. Жоффруа не знал, каким образом эта реликвия попала в руки его семьи, но хотел, чтобы видеть ее и поклоняться ей могли все желающие.
Дом Шарни был неразрывно связан с орденом храма с 1118 года — со дня его основания на Святой земле. Изначально в орден бедных рыцарей Христа входили лишь девять французских крестоносцев, среди которых был и Кристиан де Шарни. Орден был создан для того, чтобы защищать христиан, совершавших паломничество к святым местам. Тысячи пилигримов, устремлявшихся в Святую землю, были совершенно беззащитны на ее дорогах, где их подстерегали разбойники и убийцы. Именно поэтому Гуго де Пейен из Шампани и фламандец Годфруа де Сент-Омер, собрав еще семерых рыцарей, обратились к королю Иерусалима Балдуину II за разрешением основать орден монахов-воинов, которые не только соблюдали бы обет бедности, целомудрия и послушания, но и защищали бы своим мечом паломников-христиан.
Король Балдуин одобрил идею создания ордена и согласился оказать рыцарям поддержку: он выделил им некоторую сумму денег и предоставил в их распоряжение небольшое здание в Иерусалиме — часть храма Соломона, от которого орден и получил свое название.
В первые же годы существования ордена ряды тамплиеров значительно пополнились в основном за счет французской аристократии. Вскоре бедных рыцарей Христа насчитывалось уже несколько сотен. Тамплиеры, взявшие на себя защиту христианских паломников, сразу же проявили себя доблестными воинами, и слава о них разнеслась по всему христианскому миру. Их деятельность заслужила внимание самого Бернара Клервоского, который написал в их честь «Похвалу новому рыцарству». С того времени орден тамплиеров стал пользоваться и расположением папы.
До собора в Труа, состоявшегося в 1128 году, тамплиеры придерживались устава ордена августинцев. Однако впоследствии по совету святого Бернара они стали следовать более строгому уставу ордена цистерцианцев, несколько модифицировав его. Тамплиеры носили белый плащ из грубого сукна, что должно было символизировать их чистоту и бедность. Позже воины-монахи стали изображать на своем плаще с правой стороны красный крест — в знак своего вечного подвижничества во имя христианской веры.
Со временем орден тамплиеров превратился в очень влиятельную и могущественную организацию. Он подчинялся исключительно власти папы, был освобожден от уплаты церковных налогов и получал в дар деньги и земли от европейских провинций. Тамплиеры основали банковскую систему и создали собственный флот. Они пользовались доверием королей, которые нередко обращались к ним за советом и призывали их в свидетели при необходимости подписать какой-либо документ в присутствии людей чести.
Однако вскоре орден тамплиеров, жизнь которого всегда была скрыта от посторонних глаз и окружена тайной, стал объектом самых невероятных домыслов. Поползли слухи о том, будто рыцари ордена занимаются оккультными практиками, магией и алхимией, поклоняются дьяволу и темным силам. Паломники и солдаты, возвращавшиеся со Святой земли, рассказывали о таинственных ритуалах и странных обычаях тамплиеров.
Подобные утверждения, будучи доказанными, были бы достаточным основанием для обвинения тамплиеров в преступлениях против веры, однако, пока рыцари храма были могущественной силой на христианском Востоке, церковь не обращала внимания на ходившие вокруг них слухи. Ситуация коренным образом изменилась после падения Иерусалимского королевства и утраты христианами Святой земли: в это время, в конце XIII — начале XIV века, храмовники перестали играть свою прежнюю роль защитников от мусульман, а потому в значительной степени лишились и своего влияния. Вынужденные покинуть Святую землю, рыцари храма перебрались в Европу — главным образом во Францию, — на родину большинства тамплиеров, в том числе и основателей ордена. Однако в этой стране их ждала коварная и безжалостная расправа: французский король Филипп IV Красивый решил завладеть богатствами тамплиеров и уничтожить орден. Помимо алчности, им руководило еще и желание избавиться от потенциальной угрозы: король боялся, что тамплиеры, подобно госпитальерам на Мальте и рыцарям тевтонского ордена в Германии, создадут во Франции свое собственное государство.
Чтобы добиться уничтожения ордена и конфискации имущества тамплиеров, Филипп решил обвинить рыцарей в ереси и страшных преступлениях против христианской религии. Слухи, давно опутывавшие орден, прекрасно подготовили почву для этих обвинений, а признание из уст самих тамплиеров король рассчитывал получить с помощью пытки.
В 1307 году во Франции начались жестокие преследования тамплиеров. Многие рыцари были схвачены и брошены в застенок — в том числе и Великий магистр Жак де Моле, магистр Нормандии Жоффруа де Шарни (потомок Гийома де Шарни, участвовавшего в походе на Константинополь) и другие руководители ордена.
С одобрения папы Климента V против тамплиеров был начат инквизиционный процесс. Рыцарей ордена обвинили в отступничестве от христианской веры, попрании ее святынь и поклонении рогатому идолу Бафомету. Под пытками от тамплиеров требовали признать, что они занимались черной магией и алхимией, использовали в своих практиках каббалистические символы и проводили в храмах ордена сатанинские ритуалы, сопровождавшиеся хулой на Спасителя и осквернением креста.
В течение семи долгих лет — с 1307 по 1314 год — Жак де Моле и Жоффруа де Шарни упорно отстаивали честь своего ордена, отказываясь признавать возводимые на него гнусные обвинения. Однако в конце концов пытки сделали свое дело: палачам удалось добиться того, чтобы рыцари, раздавленные жестокими истязаниями, оговорили себя. За преступления, в которых им пришлось сознаться, они были приговорены к смертной казни.
Процесс над орденом тамплиеров закончился жестокой расправой. Жак де Моле, Жоффруа де Шарни, Гуго де Перо и Жоффруа де Гонвиль были публично сожжены на костре. Перед казнью они отреклись от своих показаний, восславили Спасителя и прокляли Филиппа IV и папу Климента V, предсказав им скорый конец. Во время казни рыцари держались достойно и с мужественным смирением приняли мученическую смерть.
После расправы над тамплиерами Климент V прожил всего тридцать семь дней, а спустя восемь месяцев умер и король Филипп.
У Жоффруа де Шарни был брат по имени Пьер, имевший большие поместья в Нормандии, но живший в Париже. Братья были совсем не похожи друг на друга: Жоффруа был набожен и всю свою жизнь посвятил служению Иисусу, Пьер же любил земные наслаждения и только в них видел смысл своего существования. Два столь разных человека едва ли могли найти общий язык, и именно поэтому братья не общались друг с другом более десяти лет.
Как бы то ни было, когда начался процесс против ордена тамплиеров, Пьер очень переживал за брата. Он не верил в обвинения, выдвинутые против Жоффруа и других рыцарей, и пытался, употребив все свое влияние, освободить брата из тюрьмы, однако все его усилия оказались тщетными: противники ордена были слишком могущественны, и 19 марта 1314 года Жоффруа де Шарни был сожжен на костре.
Смерть брата стала для Пьера большим ударом, к тому же за несколько месяцев до этого умерла его жена. Потеряв еще одного близкого человека, Шарни, убитый горем, удалился в свое имение Шампенар в Верхней Нормандии, подальше от Парижа с его бессмысленной суетой. Так прошел год. Пьер жил в уединении, всем сердцем молясь за души брата и жены: это было единственное, что он мог теперь для них сделать.
Летом 1315 года в ночь Святого Иоанна разыгралась ужасная гроза. Пьер подскочил на кровати, разбуженный сильными ударами грома. Июнь был довольно жаркий, и он спал с открытым окном, наслаждаясь свежим воздухом и ароматом цветущих полей. Ворча сквозь зубы на небеса, потревожившие его сон, граф подошел к окну, чтобы закрыть его, и вдруг при вспышке молнии увидел в ближайшей роще какую-то тень. Он стал напряженно вглядываться в темноту, однако при следующей вспышке молнии ему не удалось ничего разглядеть. Сказав себе, что в роще никого не было и быть не могло, Пьер спокойно закрыл окно и, повернувшись снова лицом к комнате, остолбенел: перед ним на пороге стоял призрак его брата в сияющем белом одеянии. Лицо Жоффруа было серым, как пепел, а голос звучал глухо, словно доносясь из глубокого подземелья. Пьер опустился на колени, охваченный ужасом. Он не знал, действительно ли явившийся призрак был его братом или это дьявол принял обличье Жоффруа, чтобы утащить его за собой в ад.
— Брат мой, брат мой… — отчаянно взывал призрак.
Но Пьер не отзывался. Страх парализовал его, и он не мог вымолвить ни слова. Однако видение не исчезало, а загробный голос продолжал настойчиво звать его.
— Чего ты хочешь? — прокричал граф, сбросив с себя оцепенение, но по-прежнему леденея от страха.
— Ради всего святого, выслушай меня, брат мой, — ответил призрак. — Я явился сюда из чистилища, потому что мне нужна твоя помощь. Я совершил грех и предал своих товарищей… Если ты любил своего бедного брата, пожалуйста, сделай, что я прошу. Отправляйся к монастырю ордена тамплиеров в Париже (теперь он принадлежит королю). Подойди к нему ночью, взяв с собой железный лом, но без факела, чтобы никто не увидел тебя. Сосчитай камни в нижнем ряду на выходящем в сад фасаде, начав с правой стороны, и вынь из стены девятый камень. За ним ты найдешь тяжелый серебряный ларец. Заверни его в ткань и уходи как можно скорее. Спрячь ларец, не открывая его, у себя в доме и передай его своему сыну Жоффруа в день его свадьбы. Пускай он откроет его после венчания. Богу угодно, чтобы содержимое этого ларца принадлежало твоему сыну, но он не должен знать, как он попал к тебе. Это нужно сохранить в тайне от всех. Сделай все, как я прошу, умоляю тебя. И еще… закажи отслужить мессу за упокой моей души. О своей жене не печалься: она уже наслаждается вечным блаженством на небесах… Прощай, брат мой. Помни меня…
С этими словами призрак исчез так же неожиданно, как и появился. Пьер с трудом поднялся с колен, еще не придя в себя от пережитого потрясения. Спотыкаясь, он добрался до кровати и повалился на нее, совершенно обессиленный. У него кружилась голова, и он не мог понять, что произошло. Вероятно, это видение было плодом его расстроенного воображения. Но в то же время все произошедшее казалось ему таким реальным…
Проснувшись на следующее утро, Шарни сразу же вспомнил свое ночное видение, и его опять охватил страх. Бледное лицо умершего брата стояло перед его глазами, а в ушах настойчиво звучали слова, произнесенные призраком.
Пьер попытался себя уверить, что это был просто кошмарный сон. В тот вечер он слишком плотно поужинал и в результате плохо спал, мучимый кошмарами. «Вот и объяснение», — подумал граф, несколько успокоенный, однако, когда он принялся умываться из таза, стоявшего на комоде, все его рациональные объяснения пошли прахом: на обеих его ладонях проявились, как стигматы, алые кресты — символ ордена тамплиеров.
1997, Поблет
Энрике вел машину по второму национальному шоссе в направлении на Лериду. Монотонный шум мотора всегда наводил на него сон, но на этот раз он был бодр как никогда, несмотря на то что практически не спал этой ночью. Интригующая история, которую ему предстояло расследовать, ни на секунду не выходила у ученого из головы. После разговора с падре Арранцем его интерес к ней обострился еще сильнее. Ночью он никак не мог уснуть и без конца перебирал в голове все известные ему факты, пытаясь заполнить логическими умозаключениями остававшиеся пробелы. Однако, несмотря на все усилия, на очень многие вопросы невозможно было дать ответа.
Энрике горел желанием поскорее начать расследование, и поэтому ранним утром он собрал свои вещи, сдал ключ от номера администратору и взял напрокат машину, чтобы отправиться в Поблет. С тех пор прошло уже пять часов, и Кастро, судя по указателю на шоссе, находился в шестнадцати километрах от Лериды. Затем предстояло проехать около пятидесяти километров по шоссе № 240 и выехать на дорогу, ведущую в Л’Эсплуга-де-Франколи.
План с отмеченным на нем маршрутом лежал рядом с Энрике на сиденье маленького «ситроена», взятого им напрокат этим утром. Машина была без кондиционера, и воздух с резким свистом врывался в открытые окна, досаждая водителю. В агентстве «Герц», через которое отель всегда заказывал автомобили, свободных машин с кондиционером не оказалось. Гостиница не работала с другими агентствами, и поэтому, если бы Энрике отказался от предлагаемого ему варианта, ему пришлось бы заниматься поисками машины самому. Администратор гостиницы посоветовал ему обратиться в агентство «Авис», однако Энрике, поразмыслив, решил не тратить время на лишние хлопоты и удовольствоваться автомобилем без кондиционера. Возможно, разумнее было бы подождать день, чтобы отправиться в путешествие со всем комфортом, но азарт исследователя гнал его вперед, не давая терять ни минуты.
В Л’Эсплуга-де-Франколи ученый приехал во втором часу дня. Припарковав машину у церквушки, находившейся на реконструкции, он отправился в ближайший ресторан, чтобы пообедать и разузнать, где можно было остановиться.
Это было спокойное, уютное заведение, где Энрике смог в полной мере насладиться изысками местной кухни, в том числе и заказанным по настоятельной рекомендации хозяина десертом carquinyolis, состав которого остался для него загадкой.
Расплатившись за обед, Энрике решил расспросить хозяина насчет гостиницы.
— Здесь, в Л’Эсплуга, — сказал тот после некоторого раздумья, словно ему не приходилось уже тысячи раз отвечать на подобный вопрос, — у нас есть гостиница «Осталь-дель-Сенглар». Хорошее место, правда, недешевое. В пригороде есть еще два отеля — «Монастерио» и «Масиа Кадет», но они менее комфортабельные.
— А какой ближе всего к монастырю Поблет? — спросил Энрике.
При этих словах добродушная приветливость на лице хозяина тотчас сменилась неприязненным выражением.
— Вы что — тоже из этих? — подозрительно спросил он.
— Из каких «этих»? — недоуменно переспросил Энрике.
— Из этих, — с раздражением продолжал хозяин, — богачей из Барселоны, которые останавливаются в санатории Вилья-Энграсия. Приезжают сюда каждые выходные и ведут себя так, будто этот город принадлежит им! Думают, если у них есть деньги, то они хозяева мира! Да никакие миллионы не спасут их души, когда они будут гореть в вечном огне!
Энрике, не ожидавший такой гневной тирады от хозяина ресторана, поспешил заверить его:
— Да нет, что вы, я вовсе не из «этих». Я работаю преподавателем в Автономном университете Мексики, а сюда я приехал, чтобы заниматься исследованиями по истории монастыря Поблет.
— Да, вот как? — сказал хозяин, испытующе глядя на Энрике, и через несколько секунд молчания добавил: — Тогда добро пожаловать. Можете остановиться в санатории, только я вам этого не советую. Думаю, вам больше всего подойдет гостиница «Хайме Первый». Она находится рядом с шоссе и всего в одном километре от аббатства. Красивое место, и там очень дешево. Раньше была еще одна гостиница, даже ближе к монастырю, но теперь в ее здании сделали школу английского языка. Забавно, правда? Мы тут и так не можем договориться между собой, на каком языке говорить, а эти иностранцы еще решили учить нас своему.
Хозяин захохотал, довольный своей шуткой, и снова пришел в хорошее расположение духа. Подробно объяснив, как добраться до отеля, он настоял на том, чтобы гость попробовал его домашний ликер. Напиток оказался действительно отменным, и Энрике с удовольствием его выпил — возможно, даже несколько больше, чем следовало, потому что, встав из-за стола, он немного пошатнулся, еще сильнее развеселив хозяина.
Выехав из города, Энрике, следуя полученным указаниям, свернул на развилке на левую дорогу. Путь до отеля занял всего пять минут — при том, что Энрике, слегка опьяневший от ликера, не решился вести машину со скоростью больше сорока километров в час. Белые стены и крыши он заметил издалека. Гостиница состояла из нескольких корпусов, среди которых выделялся один наиболее современный. Оставив машину на парковке, Энрике направился к стойке администратора, чтобы узнать, есть ли в отеле свободный номер. Был четверг, и в гостинице не наблюдалось большого оживления, однако администратор довольно долго изучал свой журнал, прежде чем нашел свободную комнату.
Наконец оказавшись в номере, Энрике принял душ, чтобы освежиться после длительного путешествия и взбодриться. Ему не терпелось поскорее увидеть монастырь своими глазами, и поэтому, несмотря на ужасную жару, он снова вышел на улицу и сел в машину. Проехав небольшой участок шоссе, Энрике миновал узкий каменный мост и оказался перед развилкой. Прочитав указатели, он узнал, что одна дорога вела в Ла-Пенью, а другая к источнику.
Шум мотора был единственным звуком, нарушавшим царившую вокруг гармонию. Ученый с наслаждением вдыхал свежий горный воздух, проникавший в открытые окна автомобиля, и слушал пение птиц. Когда он увидел возвышавшиеся впереди величественные стены монастыря, его охватило некоторое волнение. Наконец он был почти у цели.
Оставив машину на парковке, где стояло еще около десятка автомобилей, Энрике направился в ресторан под названием «Фоноль», бывший одновременно и магазином сувениров.
Внутри ресторана стояла приятная прохлада, и в воздухе чувствовался тонкий аромат десертов. Почти все столики были свободны. Энрике подошел к барной стойке, у которой одиноко сидел за чашкой кофе седой морщинистый старик лет семидесяти, и поздоровался.
— Добрый день, — в один голос ответили старик и официант.
— Чего желаете? — спросил официант.
— Бутылку минеральной воды без газа, и похолоднее, пожалуйста.
— Вы впервые в этих местах, верно? — раздался рядом с ним голос.
— Что?.. А, да-да, впервые, — ответил Энрике, оторвав взгляд от приглянувшихся ему аппетитных булочек и повернувшись лицом к старику.
Однако тот ничего больше не сказал, и Энрике, подозвав официанта, заказал булочки.
— Да, я сразу это понял, — вдруг снова заговорил старик. — И знаете как? По выражению вашего лица, когда вы смотрели на монастырь.
Энрике невольно повернул голову к окну и посмотрел наружу, удивляясь, как с такого расстояния можно было разглядеть выражение его лица.
— Пожалуйста, сеньор, — сказал официант, принесший заказанные Энрике булочки.
— О, вы сделали правильный выбор! — воскликнул старик. — Эти булочки просто великолепны. Я живу здесь уже больше пятидесяти лет и всегда их заказываю.
— Вы монах? — спросил Энрике.
Старик был одет не в сутану, а в серые брюки и белую рубашку с короткими рукавами, но по одежде нельзя было с уверенностью сказать, был он монахом или нет.
— Нет-нет, я не монах, — со странной грустью в голосе сказал старик, — я мирянин, работаю при аббатстве. Кстати, меня зовут Хуан, — добавил он своим прежним тоном.
— Энрике Кастро, — в свою очередь, представился Энрике, крепко пожав руку своему новому знакомому. — Очень приятно.
— Ну, Энрике, — с улыбкой сказал старик, похлопав его по плечу, — рассказывайте, откуда вы.
— Из Мадрида. Я там сейчас…
— О-о-о, Мадрид… — перебил Энрике старик и, глядя куда-то в пространство, задумчиво произнес: — Мадрид, Мадрид, чудесный город.
— Да, это точно, — согласился Энрике и, убедившись, что его собеседник не собирается больше ничего сказать, продолжил: — Так вот, я сейчас работаю в Мадриде — занимаюсь исследованием. Вообще-то я мексиканец, преподаю в Автономном университете Мексики, а в Испанию приехал изучать манускрипты о тамплиерах, недавно приобретенные Национальной библиотекой.
— Так вот оно что — тамплиеры… — почтительным шепотом произнес Хуан. — Тогда наша комарка как раз то, что вам нужно. Сколько легенд я слышал от своего деда о бедных рыцарях Христа… Эти истории передавались из поколения в поколение. В наших краях до сих пор сохранились крепости и монастыри, некогда принадлежавшие тамплиерам. И Поблет — самый знаменитый из них. На протяжении нескольких веков он имел большое значение для ордена тамплиеров. По крайней мере так уверял мой дед, и я тоже так считаю. Знаете что? — доверительно сказал старик, понизив голос. — В подземных помещениях монастыря, куда нет входа посторонним, я видел много очень странного.
Услышав эти слова, Энрике чуть не подавился булочкой, которую он жевал.
— Правда? — только и смог выдавить он, с трудом проглотив застрявший в горле кусок.
Хуан важно кивнул и допил последний глоток своего кофе, после чего, помолчав несколько секунд, добавил:
— Кроме монахов и меня, подземелье монастыря видел лишь еще один человек. Это было много лет назад. Сюда приезжал ученый вроде вас, но он был еще и священником. Насколько я помню, фамилия его была Арранц…
— Херман Арранц?! — взволнованно воскликнул Энрике.
— Да-да, именно так, его звали Херман, — ответил старик. — Вы его знаете?
— Ну да, конечно, — уверенно заявил Энрике, хотя видел профессора всего три раза за свою жизнь. — Это потрясающий человек, несмотря на его угрюмый характер.
— Это вы верно сказали, он такой… — согласился Хуан. — И как он там сейчас поживает?
— Нормально. У него немного дрожат руки из-за болезни Паркинсона, но его бодрости и ясности ума, как всегда, можно позавидовать.
— А все-таки… как тесен мир, — задумчиво пробормотал старик. — Когда увидите падре Арранца, передавайте ему привет от меня.
— Обязательно, — пообещал Энрике.
— Хотите, буду вашим гидом по монастырю? — предложил Хуан. — Друг профессора Арранца — мой друг.
— Спасибо, — обрадовался Энрике, — я буду вам очень признателен.
1315, Шампенар, Париж
Видение произвело в душе Пьера де Шарни настоящий переворот. Он был потрясен, обнаружив на своих ладонях несомненное доказательство того, что призрак брата действительно являлся к нему. Пьер чувствовал себя так, будто он был слеп от рождения и внезапно прозрел, впервые увидев своими глазами свет и краски жизни.
После своего духовного перерождения Пьер решил в первую очередь исповедаться. Он много грешил в своей жизни, и теперь, когда ему предстояло столь рискованное предприятие, в котором он мог погибнуть, ему хотелось подготовить свою душу к Суду.
Священник из местного прихода, за которым послал граф, явился незамедлительно, чрезвычайно встревоженный: Шарни, не отличавшийся особой набожностью, никогда раньше не приглашал его к себе в дом, и падре решил, что, раз его вызвали теперь, значит, дело серьезное и граф не иначе как нуждается в соборовании.
Однако, как оказалось, Пьер пригласил священника вовсе не по этой причине. Он хотел исповедоваться и попросить падре позаботиться о его детях — сыне и двух дочерях, — если он не вернется с дуэли в Руане. Священник попытался отговорить графа от этой затеи, но безуспешно: по словам Пьера, это было дело чести, и он обязан был выполнить свой долг даже ценою жизни.
На прощание граф де Шарни попросил также отслужить мессу за упокой души своего брата Жоффруа.
На рассвете следующего дня Пьер выехал из Шампенара в Париж. Он отправился в путь один, взяв с собой запасную лошадь, на которой можно было бы увезти ларец, хотя вовсе не был уверен, суждено ли ему вернуться обратно…
По прибытии в Париж де Шарни сразу же, пока еще не стемнело, отправился к монастырю ордена тамплиеров, находившемуся в западной части Сите. Он решил побродить по его окрестностям, чтобы сориентироваться и подумать, как осуществить свой план. С одной стороны монастырь окружала невысокая стена, а с другой находилась река. Монастырские ворота, ведшие в сад, закрывали с заходом солнца, однако высота стены была такова, что Пьер мог без труда перелезть через нее. Правда, с ларцом сделать это было бы уже невозможно, тем более что тот, как сказал ему призрак Жоффруа, был тяжелым. Пьер долго ломал голову над этой проблемой, перебирая самые невероятные варианты, пока наконец не остановился на более или менее приемлемом. Он не был уверен, сработает ли придуманный им план, но в любом случае другого выхода не было.
Под покровом ночи де Шарни снова отправился к монастырю, захватив с собой железный лом и большой кусок грубого сукна. Луна была почти полная, поэтому света хватало. Спрятавшись в укромном месте, Пьер наблюдал за монастырем на протяжении двух долгих часов. Внутри никого не было видно. Монахи там больше не жили, а поскольку все богатства ордена были уже конфискованы, здание никто не охранял.
Собрав все свое мужество, Пьер осторожно приблизился к невысокой стене. Она была сложена из необтесанных камней, благодаря чему на нее можно было легко взобраться, цепляясь руками за выступы и упираясь ногами в углубления.
Забравшись на стену в том месте, где на нее не попадал лунный свет, граф спустился вниз и подбежал к правому углу фасада. Начав считать оттуда камни в нижнем ряду, он остановился перед девятым и вынул спрятанный под одеждой лом. Камни фасада были хорошо обтесаны, и между ними оставался лишь едва заметный зазор. Вставив в него конец лома, де Шарни принялся расшатывать камень, чтобы вынуть его из стены. Обливаясь потом, он изо всех сил работал ломом, однако безрезультатно: камень, как казалось, стоял в стене намертво.
Пьер разогнулся, чтобы передохнуть и вытереть струившиеся по лбу ручьи пота, и в этот момент где-то неподалеку раздался яростный лай собаки. Де Шарни замер и прислушался: лай приближался с каждой секундой, и вскоре из-за угла монастыря появился силуэт огромного пса с ярко блестевшими при лунном свете глазами. Животное застыло на секунду, устремив взор на свою жертву, и опять с диким лаем бросилось вперед. Бежать было некуда, и Пьер стоял неподвижно с ломом в руке, собираясь нанести удар, когда пес подбежит и кинется на него. Однако внезапно собака остановилась в нескольких метрах от де Шарни, жалобно заскулила и смирно легла на землю.
Это было настоящее чудо. Должно быть, высшие силы защищали человека, пришедшего спасти тайное сокровище тамплиеров. Не спуская глаз с собаки, Пьер снова взялся за дело. Камень наконец стал поддаваться. Это придало де Шарни сил, и он с удвоенным остервенением принялся работать ломом. Камень выдвинулся еще немного вперед. Через несколько минут Пьеру удалось вытащить его целиком. С трудом отодвинув в сторону невероятно тяжелую глыбу, он встал на колени и просунул обе руки в тайник. Ничего не нащупав, Пьер лег на живот и залез еще глубже в отверстие, моля Бога, чтобы собака не бросилась на него в тот момент, когда он был совершенно беззащитен.
Отверстие было очень глубоким, и де Шарни пришлось залезть в него по пояс, прежде чем его пальцы наткнулись на холодную гладкую поверхность ларца. Осторожно, чтобы не поцарапать дно, Пьер потянул его на себя и вытащил наружу. Старинный ларец был сделан мастером с большой любовью, хотя, очевидно, работа была не очень тонкой. Вставив камень обратно в стену фасада, Пьер завернул ларец в сукно и тщательно перевязал его веревкой, закрепив ее конец у себя на поясе. Взяв ларец в руки, он направился к стене, окружавшей сад, и в последний раз, не переставая удивляться, взглянул на спокойно лежавшую на земле собаку, не выражавшую ни малейшего желания броситься на него.
Граф взобрался на стену, оставив ларец на земле, и затем поднял его за собой на веревке. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что никого вокруг не было, он осторожно спустил ларец вниз, после чего спрыгнул сам.
Все прошло удачно. Оставалось лишь дождаться рассвета и увезти ларец в Шампенар. Поручение Жоффруа было выполнено.
* * *
Вечером этого же дня де Шарни был уже дома. Передав лошадей конюху, он сразу же поднялся к себе в спальню, горя нетерпением рассмотреть привезенный ларец. Развернув ткань, Пьер долго и внимательно разглядывал его, любовно поглаживая крышку кончиками пальцев. Ему очень хотелось открыть ларец, чтобы узнать, что было внутри, но он не осмеливался нарушить наказ брата. Хранившееся в ларце бесценное сокровище можно было извлечь оттуда лишь в день свадьбы его сына Жоффруа, которому пока было всего десять лет.
Граф снова завернул ларец в сукно и, перевязав бечевкой, запер в шкафу. В самое ближайшее время нужно было подыскать для него надежный тайник. Он решил подумать над этим за ужином, который приказал принести себе в спальню.
Пьер очень устал с дороги, и его одолевал сон. Он потер слипавшиеся глаза ладонями и с удивлением обнаружил, что красные кресты, появившиеся на них после того, как его посетил призрак Жоффруа, бесследно исчезли.
1997, Поблет
Расплатившись с официантом, Энрике и Хуан вышли из ресторана. Жара все еще не спала, но с ближайших гор веял приятный спасительный ветерок.
— Вон там, вдалеке, — сказал Хуан, показав рукой вдаль, — вершины горной цепи Монтсант, а те, что вокруг монастыря, — это горы Прадес.
Они шагали под палящими лучами солнца по раскаленным камням, жар которых Энрике чувствовал даже через подошву туфель. Хуан рассказывал ему обо всем, мимо чего они проходили, а Энрике делал на ходу записи и зарисовки в своей записной книжке. Они вошли в ворота, носившие название Прадес — как и окружавшие монастырь горы. По обеим сторонам двора стояли небольшие строения, в которых, как пояснил Хуан, издавна жили монастырские работники. Дальше находилась капелла Сан-Жорди, построенная в середине XV века по указанию Альфонса V. В глубине двора возвышалась стена с обитыми бронзой воротами, которые традиционно называли Золотыми в память о том, что некогда они были украшены золотом по случаю приезда в монастырь Филиппа II. На каменной стене красовались гербы Арагона и Каталонии, а также Кастилии — в честь католических королей Фердинанда и Изабеллы, также посетивших Поблет.
Золотые ворота вели на главную площадь монастыря. Проходя по ней, Энрике обратил внимание на магазинчик, у которого толпилось десятка два туристов, выбиравших сувениры и покупавших билеты на экскурсию с гидом. Напротив были руины старинного административного здания монастыря и дома для паломников и нищих. Рядом с ними взамен разрушенной строилась новая гостиница, но Энрике с горечью подумал, что возврата к прежнему уже нет: современные паломники будут приезжать в монастырь на машинах и должны будут платить за проживание, а для нищих здесь и вовсе не будет места.
Хуан провел Энрике в небольшую капеллу Санта-Каталина. Осмотрев ее, они снова вышли на площадь, где возвышался старинный крест аббата Жуана де Гимера. По совету своего проводника Энрике трижды обошел вокруг креста: в монастыре, по словам Хуана, существовало древнее поверье, что сделавший это обязательно снова вернется в Поблет.
Энрике был в восторге от всего, что видел вокруг. Монастырь оказался намного больше, чем он предполагал. Здания и стены хорошо сохранились, однако повсюду — в том числе и на кресте, и на плитах, которыми был вымощен двор, — были видны какие-то щербины и вмятины.
— Что это за следы на камнях? — с недоумением спросил Энрике.
— А, вы про эти выбоины… — сказал старик с таким выражением, будто ждал этого вопроса. — Это случилось в 1938 году, перед Рождеством, в самый разгар гражданской войны. Никогда этого не забуду… Мне было тогда, — Хуан прикрыл глаза, вспоминая, — одиннадцать лет. Мой дом находился в нескольких километрах отсюда, неподалеку от Риудабелья. Мы с друзьями любили бродить по горным лесам, хотя моя мать мне строго-настрого запрещала туда ходить — в те годы в лесах было полно оголодавших волков. Также я часто приходил в монастырь, посмотреть, как монахи и поденщики работают в виноградниках. Они были очень добры ко мне — всегда давали мне ломоть хлеба, гроздь винограда и иногда даже горшочек меда. В те времена в монастыре был замечательный аббат — очень старый, наверное, лет девяноста. Удивительной доброты был человек, да и вообще какой-то необыкновенный — говорил с каким-то странным акцентом, и звали его Жиль…
Это имя прозвучало для Энрике как удар грома. Он тотчас прикинул, что если в конце прошлого века Жилю было лет сорок, то в 1938 году ему как раз было бы около девяноста. Все сходилось: несомненно, этот аббат был тем самым Жилем, которому было адресовано письмо французского священника, найденное Энрике в старинном манускрипте. Тем временем Хуан продолжал свой рассказ:
— Это был первый день рождественских каникул, хотя вообще-то с тех пор, как начались сражения на Эбро, занятия у нас в школе и так постоянно отменяли в основном из-за бомбардировок… Представляете, что здесь творилось? — Энрике рассеянно кивнул, хотя понимал, что этот вопрос не требовал никакого ответа. — В тот день я очень рано пришел в монастырь. Было очень холодно, и все небо было сплошь покрыто белыми тучами. Я сидел в комнате с камином — она находилась рядом со старой трапезной — и вдруг услышал громкие крики. Я выглянул в галерею, чтобы узнать, что случилось, и от увиденного у меня кровь в жилах застыла. Монахи в ужасе метались по галерее и кричали: «Республиканцы! Республиканцы!» Я был тогда совсем мальчишкой и мало что понимал в политике. Я знал лишь то, что франкисты бросали бомбы, а республиканцы не любили священников и монахов. Мне было очень страшно, я бросился бежать и спрятался на кухне. Не знаю, почему мне пришло это в голову, но, выходит, я поступил правильно, раз остался жив.
Они сидели на каменной скамье в тени дерева, и Энрике, едва поспевая, записывал рассказ Хуана в записную книжку.
— Через несколько минут раздались оглушительные удары в Королевские ворота — это те, что находятся между двумя шестиугольными башнями, — а потом стали стрелять. Я никогда раньше не слышал выстрелов. У моего отца было охотничье ружье, но он никогда не брал меня с собой на охоту. Я был ужасно напуган и не знал, что делать: то ли бежать куда глаза глядят, то ли затаиться в шкафу и ждать, что будет дальше. Я забрался в шкафчик, где монахи хранили хлеб, — в дверцах там были сделаны прорези, чтобы внутри не скапливалась влага, и благодаря этому было намного легче дышать. Я весь перепачкался в муке и подумал, какой нагоняй получу от матери, когда она увидит меня. Представляете? Монастырь захватывают республиканцы, а мне в голову лезут такие глупости! Абсурд, казалось бы, но сейчас я понимаю, что таким образом я просто убеждал себя, что непременно вернусь домой, что со мной ничего не может случиться.
Карандаш у Энрике к этому времени уже настолько затупился, что им едва можно было писать. Он машинально коснулся рукой кармана рубашки и, к своему удивлению, обнаружил там неизвестно откуда взявшуюся ручку. Вероятно, он случайно прихватил ее со стойки администратора в отеле.
— Сквозь прорези в дверце шкафа мне была видна значительная часть галереи и почти вся трапезная, поэтому я хорошо видел, как республиканцы вошли во внутренний двор и принялись занимать позиции. Повсюду слышался шум и топот: очевидно, ворвавшиеся в монастырь солдаты обыскивали его сверху донизу. Никогда в жизни мне не было так страшно, как в тот момент, когда в кухню вошли двое солдат и один из них открыл дверцу соседнего шкафчика. Я зажмурился от ужаса и вжался в угол, моля Бога, чтобы меня не обнаружили. Они находились так близко ко мне, что я чувствовал запах их грязной формы и слышал их дыхание. Не знаю, что солдаты искали, но, должно быть, им удалось это найти, потому что, когда я открыл глаза, их уже не было на кухне. Зато я увидел нечто другое, заставившее меня опять содрогнуться от ужаса. Аббат Жиль стоял посередине галереи перед двумя людьми в форме, один из которых убеждал другого расстрелять монахов. Однако второй — вероятно, командир захвативших монастырь республиканцев — не согласился. Услышав его ответ, я от облегчения выдохнул с такой силой, что мука разлетелась и попала мне в лицо. Я испугался, что чихну и выдам себя, но, к счастью, мне удалось сдержаться.
Энрике был так увлечен рассказом Хуана, что иногда замирал, завороженный, на несколько секунд, а потом, опомнившись, снова принимался лихорадочно писать.
— Меня поразило безграничное спокойствие, которое было написано на лице аббата, когда военные решали между собой, жить ему или умереть. Откровенно вам скажу, сеньор Кастро: я всю свою жизнь посвятил Господу, но не думаю, что перед лицом смерти смог бы проявить такую же твердость, как этот человек. Рядом с аббатом в тот момент стоял еще один монах — брат Хосе, и на его лице я тоже не увидел ни тени страха. Они стали просить командира позволить им похоронить брата, умершего накануне. Это очень удивило меня и по сей день не перестает удивлять. Как я уже вам сказал, в тот день я пришел в монастырь рано утром и не заметил никакого намека на траур. Никто из монахов не упоминал о смерти кого-то из братьев… Кажется, я уже смертельно надоел вам своим рассказом? — спросил вдруг Хуан, словно очнувшись. — Вы уж простите меня — старики всегда чересчур болтливы. Наверное, мы боимся, что никто о нас и не вспомнит, когда мы умрем, — вот и чешем языком по любому поводу. А вам, наверное, это вовсе не интересно…
— Что вы, что вы! — воскликнул Энрике, испугавшись, что Хуан не закончит свой рассказ. — Продолжайте, прошу вас, это очень любопытная история!
— Ну хорошо, как хотите, сеньор Кастро, — сказал старик. — Только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Хотя вообще-то рассказывать осталось не так уж много. Так вот, аббат и брат Хосе попросили у командира разрешения похоронить умершего монаха. Он согласился, но другой — тот, что требовал расстрела монахов, — опять стал возмущаться и кричать, размахивая руками. Тогда командир, чтобы унять буяна, приказал ему заняться организацией оборонительных позиций за монастырской стеной. Тот нехотя подчинился. Я был тогда совсем ребенком, но что-то говорило мне, что все это может закончиться очень плохо… Через несколько секунд галерея опустела: монахи отправились готовить усопшего к погребению, и республиканцы тоже куда-то исчезли. Я остался один, совершенно один — кругом не было ни души. Это так напугало меня, что я зарыдал, изо всех сил сдерживаясь, чтобы меня никто не услышал. Когда мне наконец удалось успокоиться, горло у меня было сдавлено, словно меня кто-то душил, и после того дня оно еще очень долго болело.
В записной книжке Энрике осталось уже не больше десяти листов, но он надеялся, что этого хватит, чтобы записать рассказ Хуана до конца.
— Минут через пятнадцать монахи снова появились в галерее. Четверо из них несли на своих плечах скромный сосновый гроб. Процессию возглавляли аббат и брат Хосе, а за гробом шли все остальные монахи. Вслед за ними отправились и несколько республиканцев, появившихся в галерее незадолго до выхода процессии. Все, что произошло потом, было скрыто от моих глаз, но через несколько минут я услышал выстрелы и душераздирающие крики ужаса и боли. Столько лет прошло, но я до сих пор, бывает, слышу эти леденящие душу вопли в кошмарных снах и просыпаюсь в холодном поту. Я не видел расстрел своими глазами, но уверен, что аббат и брат Хосе умерли, не проронив ни звука — так же достойно, как прожили свою жизнь… Я снова зарыдал, на этот раз уже в голос, оплакивая Жиля, и брата Хосе, и всех остальных монахов. Мои ноги затекли и онемели до такой степени, что я совсем уже не чувствовал их. Мне было страшно за себя, и на меня наводил ужас весь этот абсурд войны, причины которой я тогда даже не понимал.
Энрике поднял глаза и увидел, что старик плачет: по его морщинистому лицу ручьем текли слезы.
— Простите, — сказал Энрике, — можете не продолжать, если эти воспоминания для вас так тягостны.
Хуан вытер слезы своими мозолистыми ладонями и знаком показал Энрике, что с ним все в порядке.
— Это вы простите меня, старика, — с горечью сказал он. — Я давным-давно никому не рассказывал эту историю и думал, что теперь мне будет уже не так больно все это вспоминать. Но, оказывается, старая рана болит по-прежнему… Ну да ладно, раз уж начал рассказывать, нужно закончить. Так вот, вскоре после выстрелов послышался какой-то грохот, который я сначала принял за гром. Потом над монастырем пролетел самолет, и раздался взрыв сброшенной бомбы. Взрывная волна была такой силы, что вся кухонная утварь посыпалась с полок, а шкаф, где я прятался, зашатался. Мне пришлось собрать всю свою волю, чтобы заставить себя выбраться из него: я открыл дверцу и упал на пол с высоты около метра. Затекшие ноги меня не слушались, и я даже не мог подняться. В это время над монастырем опять пролетел самолет. На этот раз бомба упала ближе — раздался взрыв, оглушивший меня, и я подумал, что останусь глухим на всю жизнь. К счастью, этого не произошло, но с тех пор я не очень хорошо слышу левым ухом. После второго взрыва шкаф так угрожающе закачался, что казалось, он вот-вот упадет и раздавит меня. Преодолевая боль, я с трудом выполз из кухни, подгоняемый страхом. Кругом на полу валялись кастрюли, подносы, миски, чашки и другая всевозможная утварь. Все было в дыму, сильно пахло порохом, и у меня невыносимо щипало глаза. Во дворе я увидел ужасную картину: каменные плиты были залиты кровью, и в этих кровавых лужах лежали оторванные руки и ноги. Но страшнее всего были душераздирающие крики раненых, которые не мог заглушить даже грохот взрывов. Я с трудом поднялся и на слабых ногах пошел прочь. На меня никто не обращал внимания. На секунду я остановился перед каменным крестом, под которым лежали тела убитых монахов, и бросился бежать через площадь по направлению к воротам. Мне казалось, что меня вот-вот настигнет смертоносная пуля, но все обошлось: я добежал невредимым до крепостной стены и спрятался за ней. Когда самолеты скрылись, я оглянулся на монастырь: от многих его строений остались лишь дымящиеся руины. У меня сжалось сердце, и только в этот момент я заметил кровь на своем предплечье. Рана была почти до кости — наверное, от картечи. У меня до сих пор шрам остался, — сказал старик, показав Энрике правую руку, и заключил: — Ну, вот и все, больше я ничего не помню. Очнулся я в больнице, а рядом со мной сидела моя мать…
— А как вы думаете, что там произошло? — спросил Энрике, находившийся под сильным впечатлением от рассказа. — Я имею в виду: что произошло с монахами? Как, по-вашему, они погибли?
— Не знаю, — ответил Хуан и едва слышным шепотом добавил: — Это теперь одному только Богу известно.
Энрике кивнул и отвел глаза: почему-то ему было трудно выдерживать взгляд старика. Взглянув на свою записную книжку, он заметил, что чистым остался всего один лист.
— Вы первый человек, так сказать, со стороны, не из моей семьи, которому я рассказал эту историю.
Энрике снова молча кивнул.
— Так что оправдывайте мое доверие, — добавил Хуан, стараясь снова говорить бодрым голосом. — Если вдруг напишете по моей истории книгу или что-то вроде того, уж сообщите мне — я тоже лицо заинтересованное.
Энрике поднял взгляд на старика. Слезы еще не высохли на его морщинистых щеках, но в глазах его уже сияла улыбка.
— Девяносто процентов дохода — вам, десять — мне? — тоже улыбнувшись, спросил Энрике.
Хуан помолчал, словно всерьез обдумывая это предложение, и наконец ответил:
— Да чего уж там, давайте уж поровну… Я бы и сам написал, да, думаю, у вас это лучше получится.
Хуан и Энрике одновременно расхохотались. Смех был просто необходим им в эту минуту, чтобы отогнать от себя призрак страшного прошлого — трагедии, разыгравшейся в монастыре Поблет на Рождество почти шестьдесят лет назад.
1327, Шампенар
1453, Лире
Пьер де Шарни был счастлив: наступил день свадьбы его сына. Невестой Жоффруа была красивая и добрая девушка Жанна де Вержи. Граф с нетерпением ждал того момента, когда он сможет узнать, что за сокровище хранилось в ларце тамплиеров. Призрак брата наказал ему передать ларец сыну перед свадьбой, и после свадебной церемонии его содержимое уже не должно было быть тайной.
Однако радость Пьера была недолгой. Во время праздничного обеда он, смеясь, подавился бараньей костью и стал задыхаться. Никто не мог ему помочь, и несколько священнослужителей, совершавших обряд венчания, соборовали Пьера, когда стало ясно, что его уже не спасти. Так радость внезапно сменилась горем, а белый свадебный цвет — трауром.
В то утро Пьер позвал своего сына, чтобы показать ему ларец, пролежавший более десяти лет в винном погребе в запертом на замок сундуке, окруженном бочонками и бутылками с вином. Он передал Жоффруа слова своего брата о том, что Богу было угодно, чтобы содержимое этого ларца принадлежало ему. Юный Жоффруа решил, что это была старинная и очень ценная семейная реликвия. Что это было на самом деле, он даже не мог предположить.
Смерть отца повергла Жоффруа в глубокую скорбь: самый счастливый день в его жизни принес ему горе. После похорон траур в Шампенаре длился целый месяц. Жители горько оплакивали смерть графа, заслужившего всеобщую любовь своей добротой, справедливостью и милосердием, однако жизнь продолжалась, и его наследник должен был найти в себе силы, чтобы жить дальше. Жанна поддерживала своего супруга, помогая ему оправиться после тяжелой утраты. Бесценная реликвия, переданная ему отцом, также укрепляла душевные силы Жоффруа: он чувствовал свою ответственность за сохранение доставшейся ему в наследство великой святыни и был горд тем, что провидение возложило эту миссию именно на него.
Святая плащаница была скрыта от всех еще четверть века. Жоффруа не знал, как он должен был распорядиться реликвией. Жанна советовала отправить ее папе, но Жоффруа сомневался в правильности такого решения: ведь, по словам отца, призрак его дяди сказал, что Богу было угодно, чтобы содержимое ларца принадлежало ему. Не желая совершить ошибку, Жоффруа стал ждать знамения, которое ясно указало бы ему, как следовало поступить.
В середине XIV века между Францией и Англией шла война за французский престол (эта война, начавшаяся в 1337 году и закончившаяся лишь в 1453-м, получила название Столетней). Французский король Филипп VI, сын Карла де Валуа и племянник Филиппа Красивого, и наследник английского трона Эдуард, прозванный Черным принцем за цвет его доспехов, впервые встретились в битве при Креси в 1346 году. Вскоре после этого, во время осады Кале, Жоффруа де Шарни был взят в плен и заключен в крепость в ожидании выкупа.
Однако Жоффруа, как доблестному рыцарю, казалось унизительным, чтобы его семья платила деньги за его свободу, и он смог сам бежать из плена, рискуя жизнью. Накануне побега ему приснился загадочный сон, в котором он ничего не видел, а слышал лишь далекий голос, повелевавший ему бежать, уповая на Святой Лик Господень. Проснувшись среди ночи после этого сна, Жоффруа дал обет построить на своей земле капеллу для хранения плащаницы, чтобы все верующие могли приходить и поклоняться ей. Он был уверен, что это было то самое знамение, которого он ждал двадцать пять лет, храня реликвию как зеницу ока в своем доме.
Жоффруа выполнил свой обет. Вернувшись домой в 1349 году, он с одобрения папы Климента VI построил в Лире церковь Святой Марии и выставил в ней плащаницу. Слух об этом вскоре разнесся по всему христианскому миру, и в Лире потянулись паломники, желавшие поклониться святому савану, в который было завернуто тело Спасителя, воскресшего на третий день после смерти на кресте. Однако вскоре у Шарни появились и недоброжелатели — епископы, завидовавшие привилегиям, предоставленным хранителям плащаницы папой римским, и прежде всего их баснословным доходам — щедрым пожертвованиям благочестивых паломников. Все это положило начало многочисленным коварным интригам, и в это же время герцоги Савойские — кровные родственники Шарни — стали требовать передать им реликвию как наиболее знатным представителям их рода.
Жоффруа погиб в битве при Пуатье в 1356 году, когда королем был уже сын Филиппа VI Иоанн II, попавший в этом сражении в плен. На протяжении всего следующего столетия плащаница по-прежнему оставалась в Лире у семьи Шарни. Все это время герцоги Савойские продолжали настойчиво требовать ее выдачи, и в 1453 году — в тот самый год, когда Константинополь был захвачен турками и Византийская империя пала, — Маргарита де Шарни наконец согласилась расстаться с реликвией.
Долгие годы она ревностно охраняла принадлежавшую их семье плащаницу, и герцогам Савойским никогда не удалось бы заполучить реликвию, если бы они не прибегли к коварному плану. У Маргариты была дочь по имени Катерина — добрая и великодушная, но очень некрасивая девушка. У нее было мало шансов выйти замуж, но и в монастырь идти она не хотела, как делали многие подобные ей девушки. Катерина не чувствовала в себе призвания к монашеской жизни и в двадцать пять лет еще надеялась повстречать человека, который бы ее полюбил.
И в один прекрасный день мечты девушки сбылись: ей стал оказывать знаки внимания молодой красивый гвардеец. Однажды он подал ей святую воду в церкви, куда Катерина приходила со своей матерью, и потом стал ухаживать за девушкой, добиваясь ее расположения. Маргарита была рада этому знакомству: молодой гвардеец был хорошей партией для ее дочери. Их отношения были идиллическими, и вскоре состоялась помолвка. Однако все это было лишь частью подлого плана, задуманного Людовиком Савойским.
Катерина, не ведая того, попалась в расставленные ей сети. Любовь ослепила ее, и незадолго до свадьбы она поддалась на страстные уговоры своего жениха и отдалась ему. После этого соблазнитель вел себя как ни в чем не бывало, но в день свадьбы оставил невесту на брачном ложе и отправился к ее матери.
Он объявил Маргарите, что ее дочь вышла за него замуж, будучи уже не девственницей, а потому он должен был отказаться от этого брака и предать Катерину в руки святой инквизиции. Маргарита, не понимая, как ее дочь могла совершить такой проступок, но очень испугавшись за нее, стала умолять гвардейца никому ничего не рассказывать. Тот заставил себя долго упрашивать и наконец согласился молчать при условии, что плащаница будет передана герцогам Савойским.
Услышав это, Маргарита де Шарни тотчас поняла, кто стоял за этой грязной интригой, но ей уже ничего не оставалось, кроме как выполнить требование шантажиста. Однако и она сама поставила ему условие: он должен был прожить с Катериной не меньше года, играя роль любящего супруга, а потом покинуть ее под предлогом участия в военном походе и, предварительно написав жене пару писем, имитировать свою смерть. Маргарита знала, что это заставит Катерину сильно страдать, но ей хотелось, чтобы дочь была счастлива хотя бы недолго. Кроме этого условия, безоговорочно принятого гвардейцем, Маргарита поставила еще одно: она не хотела ступать на землю герцогов Савойских и потому назначила им встречу в Женеве.
22 марта 1453 года во дворце Варамбон святая плащаница Христова, столько лет принадлежавшая благородному роду Шарни, была передана герцогам Савойским. С того времени она находилась в руках этой семьи до 1502 года, когда была похищена и подменена Чезаре Борджиа. Однако герцоги Савойские так и не обнаружили подмены, и копии савана, хранившейся сначала в Шамбери, а затем в Турине, поклонялись как подлинной плащанице на протяжении многих столетий.
1997, Поблет
Энрике по-прежнему в сопровождении Хуана подошел к лавке сувениров, чтобы купить новую записную книжку. По счастью, к этому времени все иностранные туристы уже разошлись, поэтому им не пришлось стоять в длинной очереди. По дороге к Королевским воротам Энрике обратил внимание на купол церкви, величественно возвышавшийся над колокольней. Он был похож на дозорную башню средневекового замка и, возможно, некогда действительно выполнял эту функцию, теперь же в огромных стрельчатых арках по всему периметру многоугольного купола были видны окна, расположенные друг над другом в два ряда.
— А туда можно подняться? — спросил Энрике своего проводника, показывая на купол. — Оттуда, наверное, открывается потрясающий вид.
— Конечно, можно, — сказал Хуан. — Да и, думаю, нам это будет очень кстати — после такой грустной истории не мешало бы немного освежить голову. Там, наверху, такой славный ветерок.
«Славный ветерок» на самом деле оказался сильным и порывистым. Вид с купола действительно был впечатляющим, но Энрике приходилось прикрывать глаза ладонью, чтобы они не слезились от ветра. Машины на парковке и снова столпившиеся у лавки с сувенирами туристы казались с этой высоты просто цветными пятнами. День был ясный, поэтому вдали были хорошо видны горы Монтсант и разбросанные по их склонам селения. Сильный ветер, гулявший на высоте под палящими лучами солнца, действовал освежающе.
Энрике в последний раз окинул взглядом открывавшуюся вокруг картину, и вдруг его внимание привлек участок, который ему не удалось выделить раньше на общем буром фоне монастырских строений, частично скрытых под зеленью кустарников и деревьев.
— А что там? — прокричал он Хуану во весь голос, чтобы свист ветра не заглушил его слова.
Посмотрев в ту сторону, куда указывала рука Энрике, старик ответил:
— Это кладбище. Ему уже больше восьми веков, но его уже не используют. Теперь монахов хоронят на другом кладбище, внутри стен.
— А зеленые пятна, которые колышутся на ветру? — спросил Энрике.
— А, это виноградные лозы, — сказал Хуан, снова взглянув на кладбище. — Им столько же веков, сколько самому кладбищу, и я удивляюсь, как они до сих пор не засохли. Во времена моего детства их листва покрывала большую часть кладбища и давала хорошую тень, а сейчас лозы почти голые. Если хорошо присмотреться, то отсюда видны и деревянные столбики, вокруг которых они обвиваются.
Энрике пристально вгляделся и действительно увидел кое-где возвышавшиеся над зеленой листвой толстые столбики, выкрашенные в белый цвет. Слегка сгорбившись, чтобы закрыться от ветра, он достал свою новую записную книжку и перелистал уже исписанные страницы, на которых он сделал несколько заметок еще до того, как они поднялись наверх. Дойдя до чистой страницы, Кастро тщательно зарисовал на ней кладбище — в том числе и виноградные лозы, перекидывавшиеся с одного на другой столбик.
Когда они снова спустились вниз на площадь, Энрике почувствовал, что кожа на губах у него стала совсем сухой от ветра и солнца. Близился вечер, и, хотя солнечные лучи уже не были обжигающими, жара все еще не отступала. Ученому не терпелось поскорее увидеть подземелье, но, прежде чем отправиться туда, они с Хуаном зашли в кафе, чтобы освежиться прохладительными напитками.
В просторном вестибюле монастыря было довольно прохладно, что особенно хорошо чувствовалось благодаря контрасту с температурой снаружи. Подняв голову, Энрике взглянул на высокий, строгий по архитектуре потолок, и в это время сверху донеслись далекие голоса туристов, спускавшихся по лестнице. Хуан пояснил ему, что эта лестница вела наверх, в зал, носивший название Дворец короля Марти, и кельи монахов. Прежде чем туристы успели спуститься в вестибюль, Хуан и Энрике вошли в деревянную дверь, находившуюся на противоположном от входа конце зала. Пройдя по коридору мимо библиотеки, они вышли в просторный двор и направились к правому концу восточной стены, где возвышалось большое величественное здание. Хуан провел Энрике внутрь через маленькую металлическую дверь. Интерьер здания оказался таким же строгим, как любая другая часть монастыря. Это был темный зал без окон, пересеченный двумя рядами толстых колонн. Имевшаяся в зале деревянная мебель казалась чрезвычайно древней и хрупкой. У стены справа находился почерневший камин, очевидно, служивший верой и правдой не одному поколению братьев.
— Сеньор Кастро, вы мне не поможете? — услышал Энрике голос Хуана, донесшийся с другого конца зала.
Старик, кряхтя, пытался сдвинуть с места массивный и очень тяжелый с виду шкаф. Когда они совместными усилиями отодвинули его в сторону, Хуан присел на корточки и убрал с пола толстый пыльный ковер. Как оказалось, под ним была скрыта плита, по всему периметру которой был виден едва заметный зазор.
— А теперь… — торжественно произнес старик, словно фокусник, собирающийся удивить публику, — смотрите внимательно.
При этих словах Хуан подошел к камину и надавил на один из камней у его основания. Энрике услышал, как что-то застучало, заскрежетало, после чего послышался глухой звон цепей. Онемев от удивления, он увидел, как плита опустилась вниз на глубину около метра, а затем отодвинулась в сторону, открыв каменные ступеньки, ведшие в кромешную тьму.
— Невероятно! — восхищенно воскликнул Энрике.
— Хитроумное приспособление, а?
Хуан подошел к небольшому дубовому комоду и вынул из ящика фонарь.
— Идите за мной и будьте осторожны, не поскользнитесь на ступеньках — они сырые и скользкие.
Старик стал медленно спускаться, освещая предательские ступеньки фонарем и отодвигая свободной рукой паутину. Энрике внимательно, ни на секунду не отводя взгляда, смотрел под ноги, чтобы не оступиться.
— Рассказывают, что через несколько дней после бомбардировки армия франкистов взяла монастырь. — Голос Хуана гулко и таинственно звучал в темноте, отчего по спине у Энрике пробегал холодок. — От этого здания остались практически одни руины, что, собственно, и позволило им обнаружить вход в подземелье. Говорят, что солдаты нашли там знамена и гербы тамплиеров, а также странный гобелен с символами строителей храмов. Дальнейшая судьба всего этого неизвестна, но то, что франкисты не смогли взять с собой, сохранилось, и скоро вы это увидите своими глазами. В последние месяцы войны монастырь служил штаб-квартирой, и в это время подземелье было оборудовано под бункер.
Лестница вела в просторный, погруженный во мрак зал. В конце ее Хуан так внезапно остановился, что Энрике наткнулся на его спину.
— Здесь тоже будьте осторожны, не оступитесь, — предупредил старик, осветив фонарем дальний конец зала, где была видна узкая лестница, ведшая вниз, к металлической ржавой двери. — А та дверь ведет в длинный туннель. Раньше по нему можно было добраться до самого леса, который находится к югу от монастыря, но теперь туннель наполовину обрушен, и туда опасно входить. К тому же во время войны солдаты засыпали выход.
Энрике все это безумно нравилось: секретное подземелье, туннель, загадочные находки… Все это казалось слишком фантастическим, чтобы быть правдой.
— Вот здесь были найдены гербы, гобелен и все остальное, — сказал Хуан, войдя в соседний зал, намного более просторный, чем предыдущий. — А видите эти изогнутые колонны?
— Колонны Яхин и Боаз — хранители храма Соломона, — сказал Энрике, пристально посмотрев на них.
Когда Хуан осветил фонарем стены, Энрике отчетливо увидел следы некогда висевших на них гербов: эти места были несколько светлее остальной поверхности.
— А гобелен закрывал вот этот вход, — сказал Хуан, осветив проем в дальней стене. — И посмотрите, что изображено наверху.
Энрике подошел поближе, чтобы лучше разглядеть символы, высеченные на стене над узкой и низкой аркой.
— Это Божественное Око, — принялся пояснять старик, — и…
— Созвездие Близнецов, — закончил за него Энрике, — а близнецы — один из важнейших символов ордена тамплиеров. Два рыцаря на одном коне — так их обычно изображали. Но что это?.. Хуан, можно ваш фонарь на минуту?
— Да, конечно. Но что случилось?
— Да просто хочу кое-что рассмотреть, — рассеянно ответил Энрике, приблизив свое лицо вплотную к стене. — Вот видите? Вот здесь, вокруг звезды Кастор.
Старик придвинулся ближе, чтобы разглядеть, что показывал ему Энрике.
— Ничего не вижу.
— Да вот же он! Неужели не видите? Темный круг — кажется, сделанный краской.
— Да-да, теперь вижу! — воскликнул Хуан. — Вы правы.
Они осмотрели все звезды одну за другой, но нигде больше не нашли подобного знака.
— Как вы считаете — это что-нибудь значит? — спросил Энрике.
— Понятия не имею, — пожал плечами Хуан. — Возможно, когда-то и значило.
Освещая фонарем свою записную книжку, Энрике перерисовал в нее все символы, изображенные на стене, в том числе и странный знак, которым была отмечена звезда Кастор, одна из двух самых ярких звезд созвездия Близнецов.
— Пойдемте, я покажу вам еще кое-что интересное, — сказал старик, пройдя под низкой аркой, вход в которую некогда закрывал гобелен.
С трудом заставив себя оторвать взгляд от высеченных на стене символов, Энрике проследовал за ним и оказался в маленькой пустой комнате с высоким потолком.
— Это святая святых монастыря, — прошептал Хуан, словно говорить в полный голос в этом месте было кощунством, — секретная комната.
— Прекрасный тайник для хранения бесценной реликвии, — пробормотал Энрике, окинув взглядом голые каменные стены.
Когда они поднялись наверх, был уже почти вечер. Энрике занес в записную книжку еще некоторые сведения о подземелье и, сердечно поблагодарив Хуана за неоценимую помощь, попрощался с ним, пообещав прийти на следующий день.
По дороге в гостиницу ученый не переставал думать обо всем увиденном в монастыре. Теперь у него уже не осталось сомнений в том, что версия падре Арранца, высказанная им на конгрессе в Монтеррее, была верна. Кроме того, он был уверен, что в монастыре хранилась копия плащаницы. «Или подлинная плащаница», — подумал Энрике, вспомнив слова профессора.
Он не знал, как жил загадочный Жиль, но теперь благодаря рассказу Хуана ему по крайней мере было известно, как он умер. Как бы то ни было, без ответа оставалось еще слишком много вопросов, и Энрике чувствовал, что именно здесь крылся ключ к главной тайне. До сих пор невозможно было объяснить, что заставило профессора Сорбонны отправиться из Парижа в монастырь, затерянный в горах Таррагоны, в поисках плащаницы. Не мог понять Энрике и того, почему монахи хранили реликвию в секретном подземелье, полном символов тамплиеров. Также трудно было предположить, какую роль во всей этой истории играл медальон, упоминаемый Жаком в письме.
Кастро на секунду оторвал взгляд от дороги, чтобы взглянуть на две записные книжки, лежавшие рядом с ним на сиденье автомобиля. Он был уверен, что разгадка таилась на их страницах. Вдали уже показались огни гостиницы, как вдруг ему вспомнилась последняя фраза падре Арранца, произнесенная им на конгрессе: «Иногда история содержит шокирующие факты, и нам хочется скрыть от себя самих пугающую нас правду. Но я думаю, не следует бояться того, что уже произошло, — нужно просто быть способным изменить…»
— …свою точку зрения, — пробормотал Энрике. Идея, осенившая его в этот момент, потрясла его настолько, что он, потеряв управление автомобилем, съехал с шоссе и чуть не врезался в дерево. К счастью, Энрике успел вовремя затормозить и ремень безопасности спас его от удара головой о руль. Он долго не мог прийти в себя и сидел неподвижно, чувствуя сильную боль в груди, куда впился ремень.
Энрике выключил зажигание и включил свет в машине. Затем с огромным усилием он поднял упавшие на пол салона записные книжки и принялся лихорадочно листать одну из них. Найдя наконец то, что искал, он вырвал страницу и тотчас схватился за другую записную книжку.
— Ну где же это, где? — пробормотал Энрике, судорожно сжимая в одной руке вырванный лист, а другой перелистывая страницы. — Ага, вот оно, наконец… Боже мой, — в ту же секунду прошептал он, — как же я сразу этого не заметил?
Энрике, пораженный своим открытием, медленно разжал ладонь, сжимавшую вырванный из первой записной книжки листок. Он был весь смятый, как увядший цветок, и ученый, тщательно разгладив его на колене, положил рядом с наброском, сделанным с купола. Все еще не веря своим глазам, он перевернул записную книжку и опять сравнил оба рисунка. То, что он видел перед собой, казалось просто невероятным: столбики на монастырском кладбище в точности повторяли расположение звезд созвездия Близнецов!
Потрясенный, Энрике долго сидел в машине, бессильно опустив руки на колени и глядя невидящим взглядом на мерцавшие впереди огни гостиницы. Когда наконец ему удалось сбросить с себя оцепенение, он сосредоточенно положил листок в карман и включил зажигание. Двигатель хрипло зарычал, но машина не завелась.
Взяв с собой фонарик, Энрике вышел посмотреть, что случилось. В воздухе было уже довольно свежо, и прохладный вечерний ветер заставил его поежиться. Грудь у него уже почти не болела, но он чувствовал резкую боль в колене, ушибленном в момент резкой остановки автомобиля. Прихрамывая, Энрике обогнул машину и, открыв капот, обнаружил, что радиатор был сломан. В последний раз взглянув на огни гостиницы, он решил вернуться в Поблет. До монастыря было меньше километра, но в темноте казалось, что он находится гораздо дальше. Ветви деревьев, дававшие днем приятную тень, теперь выглядели устрашающе, а в зарослях леса по бокам шоссе то и дело мелькали ярко светившиеся в темноте глаза каких-то животных.
Когда Энрике, пройдя через ворота Прадес, снова оказался на территории монастыря, кругом не было ни души. Беспокойно озираясь по сторонам, он направился к небольшому строению, где, как он заметил, проходя мимо утром, хранился различный инвентарь. Убедившись, что внутри никого не было, Энрике вошел и, включив фонарик, принялся рыться в куче инструментов в поисках кирки и лопаты. Найдя то, что ему было нужно, он снова погасил фонарик и добрался в темноте до зарослей кустарника в северной части монастыря.
К этому времени воздух стал еще холоднее. Звездное небо постепенно затягивалось тучами, предвещавшими бурю. Энрике услышал далекий удар грома, и внезапно ему вспомнился рассказ Хуана о самолете, сбрасывавшем на монастырь бомбы.
Через десять минут он уже стоял у старого кладбища. Оно было обнесено двухметровой стеной, выложенной из необтесанных камней. К тому времени тучи окончательно скрыли небо и нависли над землей, как тяжелая серая плита. Едва Энрике вошел на кладбище через решетчатую металлическую дверь, как начали падать первые капли дождя. Он не решался держать фонарь включенным, боясь, что свет заметит кто-нибудь из монахов, и поэтому лишь изредка освещал свой путь по направлению к противоположному концу кладбища, где, по его расчету, должна была находиться нужная могила. Энрике осторожно шагал в темноте среди надгробных плит, то и дело спотыкаясь о них. В нескольких метрах от противоположной входу стены он запнулся о корень и во весь рост растянулся на земле. Кирка и лопата полетели вперед и с оглушительным звоном ударились о каменную стену. Дождь разошелся не на шутку. Тяжелые капли сильно барабанили по спине Энрике, словно желая пригвоздить его тело к земле.
С трудом поднявшись, он включил фонарик, чтобы отыскать инструменты. Они лежали у стены рядом с одним из столбов. Присев, чтобы поднять их, Энрике застонал от боли — своим падением он еще сильнее разбередил ушибленное колено. Направляя луч света от фонаря в разные стороны, Кастро стал осматриваться вокруг.
— Поллукс, — прошептал он, осветив столб перед собой, — а значит, где-то здесь должен быть и… — Энрике резко повернулся, и его рука, державшая фонарь, затряслась от волнения. На находившейся перед ним могиле не было надгробной плиты. Там стоял лишь скромный крест, сделанный наскоро из двух связанных веревкой досок. Сжав фонарик двумя руками, чтобы луч света не прыгал, Энрике направил его прямо на крест и осветил полустершуюся надпись: «БРАТ КАСТОР».
Дождь по-прежнему лил как из ведра. Вода струилась по его голове, плечам, рукам и стекала с пальцев. Несмотря на то что ему предстояло осквернить могилу, Энрике чувствовал себя необыкновенно спокойным. Он положил фонарь на землю, направив его свет на холм, и взял лопату. Когда он вонзил ее в землю, раздался оглушительный удар грома. Энрике принялся с остервенением раскапывать могилу, не обращая внимания на новые раскаты, словно возвещавшие конец света.
Через двадцать минут одежда его промокла насквозь и стала невероятно тяжелой, а холодная мокрая ткань прилипала к телу. В вырытой яме скопилась вода, и Энрике стоял уже по щиколотку в жидкой грязи. Однако к счастью, гроза стала отдаляться — так же неожиданно, как и началась, — и через несколько минут от нее остался лишь едва ощутимый моросящий дождик, который вскоре и вовсе прекратился.
Энрике снова заработал лопатой, и вдруг она с глухим стуком ударилась обо что-то твердое. Отбросив лопату, он опустился на колени и погрузил руки в грязь. Его пальцы тотчас нащупали грубую поверхность деревянного гроба. Именно там, под его крышкой, Энрике должен был найти ответ на то, верны ли были все его умозаключения или он пошел по ложному следу.
Нанизав все известные ему факты на одну нить, Энрике пришел к выводу, что под Рождество в 1938 году был похоронен вовсе не монах, а хранившаяся в монастыре великая реликвия — подлинная плащаница, захваченная Великим Капитаном при пленении Чезаре Борджиа, который каким-то образом похитил ее у герцогов Савойских и заменил на копию, сделанную по его заказу Леонардо да Винчи. Святыня много веков хранилась в подземелье монастыря, и ее хранители тщательно оберегали эту тайну. После захвата Поблета республиканцами аббат Жиль, испугавшись за судьбу реликвии, решил схоронить ее на кладбище до лучших времен. Вероятно, этот план созрел в его голове уже давно, и он хорошо продумал, как сделать так, чтобы в случае гибели всех, кто знал, где была спрятана плащаница, она не осталась потеряна навсегда. По указанию аббата гроб с реликвией был закопан в определенном месте кладбища — возле столба, соответствовавшего звезде Кастор созвездия Близнецов. Жиль специально пометил эту звезду на стене подземного зала, чтобы в случае гибели всех монахов кто-нибудь мог впоследствии отыскать плащаницу по этому знаку.
И вот, шестьдесят лет спустя, судьба привела в Поблет страстного исследователя истории тамплиеров, который шаг за шагом принялся распутывать попавшую ему в руки нить и оказался наконец на этом кладбище перед могилой брата Кастора.
Наполнявшая яму вода уже впиталась в землю, и, расчистив поверхность гроба, Энрике увидел полусгнившее дерево, почти рассыпавшееся под его пальцами. Он без труда открыл киркой крышку, едва державшуюся на проржавевших гвоздях, и аккуратно поднял ее, чтобы грязь не попала в гроб. Сердце Энрике бешено заколотилось, когда он увидел, что внутри лежит какой-то большой предмет, завернутый в грубое сукно. Осторожно достав его из ямы, Кастро разорвал ткань и обнаружил под ней почерневший от времени серебряный ларец, украшенный фигурами святых. Дрожащими от волнения пальцами он открыл замочек и стал медленно поднимать крышку. Петли, на которых она была закреплена, слегка заскрипели, но ларец открылся. Подняв с земли фонарик, Энрике направил свет внутрь ларца, но не смог разглядеть, что лежало в нем, накрытое темным шелком. Посмотрев на перепачканные грязью ладони, он тщательно вытер их о рубашку и медленно, почтительно принялся поднимать ткань.
— Господи!.. — прошептал Энрике, не в силах сдержать слезы при виде того, что находилось в ларце. Плача от счастья под усыпанным звездами небом, он как завороженный смотрел на безмятежный лик Иисуса. И только в этот момент он понял, насколько заслуженно Леонардо да Винчи называли Божественным.
1998, Париж
Прошло уже полгода с тех пор, как Энрике Кастро отправил найденную им реликвию в Ватикан. С того времени он больше не имел о ней никаких известий, но мысли его постоянно возвращались к плащанице: вспоминая лик Спасителя, он всегда обретал необыкновенное умиротворение. Этот божественный образ помог Энрике подняться над рациональностью и вырваться из ее тесных рамок, сковывающих сознание большинства людей, которые, как аквариумные рыбы, не видят ничего, кроме окружающего их маленького мирка.
Находка плащаницы стала переломным моментом как в его профессиональной, так и в духовной жизни. Многие казавшиеся незыблемыми опоры, на которых держалось прежде его мировоззрение, обрушились, и на их месте появились другие. Энрике продолжал верить в рациональное научное знание, подчиненное логике, но теперь он был убежден и в том, что оно было не единственным. Несомненно, существовал и другой мир, без обращения к которому просто невозможно было дать ответ на многие вопросы бытия.
Иногда Энрике удивлялся, как у него хватило духу преодолеть столько испытаний: отправиться ночью на кладбище во время ужасной бури, раскопать могилу и достать из гроба ларец с плащаницей, а потом пронести реликвию, спрятанную среди вещей в чемодане, в самолет в аэропорту Барахас. Если бы таможенники досмотрели его багаж, возможно, сейчас он сидел бы в тюрьме за попытку вывоза из страны ее культурного достояния. Однако Энрике считал, что реликвия должна была принадлежать человечеству, а не храниться в тайне от всех: по его глубокому убеждению, это было бы равноценно ее утрате. Херман Арранц, придерживавшийся того же мнения, поддержал Энрике в его намерении увезти плащаницу в Мексику, чтобы тщательно изучить ее. Падре Арранц согласился даже спрятать у себя дома ларец до тех пор, пока не придет время отправить реликвию в Ватикан.
Энрике хотел, чтобы любой человек — и верующий, и атеист — имел возможность увидеть подлинную плащаницу своими глазами. Он решил передать реликвию папе, как человеку, имевшему наибольшее моральное право быть ее хранителем. Отослав плащаницу понтифику, Энрике стал ждать его реакции, однако Ватикан так и не сделал никаких заявлений в прессе. Это было очень странно — тем более что к плащанице Энрике приложил копию исследования, тайно проведенного им и несколькими его коллегами из Автономного университета Мексики — специалистами в различных областях знания. Это исследование содержало чрезвычайно любопытные и даже сенсационные факты.
Энрике долго терзался сомнениями, однако 25 мая 1998 года они наконец разрешились. Это произошло в Париже, куда он приехал на несколько дней в отпуск со своей женой Мерседес. В то утро они ходили осматривать Эйфелеву башню — «монстра» из кованого железа, весившего более шести тысяч тонн. Отведав вкуснейшего cafe au lait[7] в уютном ресторанчике, они отправились в Лувр, где провели много времени, бродя из одного зала в другой. Супруги долго стояли, зачарованные, перед самым знаменитым творением Леонардо да Винчи — «Джокондой», защищенной от возможных покушений пуленепробиваемым стеклом. Мона Лиза завораживала своей загадочной улыбкой, в которой можно было увидеть и чистоту, и порочность. Это была величайшая загадка, очевидно, не имевшая разгадки.
Энрике и Мерседес покинули Лувр уставшие, но полные незабываемых впечатлений. Потом по настоянию Мерседес они сразу же отправились к Сене, где в антикварных лавках можно было купить старинные книги, гравюры, монеты… Уже настало время обеда, когда они уселись наконец на скамейку на берегу реки, чтобы передохнуть. Энрике купил газету и довольно равнодушно листал ее, как вдруг наткнулся на сообщение, представлявшее для него большой интерес. В короткой заметке сообщалось о последнем визите папы Иоанна Павла II в Турин, куда он приехал, чтобы поклониться святой плащанице… «То есть ее копии, — подумал Энрике, — занявшей место подлинника в начале XVI века».
ИОАНН ПАВЕЛ II ПРИЗЫВАЕТ УЧЕНЫХ СНОВА ВЗЯТЬСЯ ЗА ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАЩАНИЦЫ
Папа римский, прибывший вчера в Турин, чтобы поклониться святой плащанице, своими заявлениями вновь подогрел интерес к проблеме подлинности реликвии.
Приветствуемый тысячами верующих, понтифик посетил Туринский кафедральный собор в сопровождении премьер-министра Италии Романо Проди и кардинала Джованни Сальдарини, архиепископа города и хранителя плащаницы. Несмотря на плохое состояние здоровья, папа явился поклониться особо почитаемой им реликвии — величайшей святыне христианства, вот уже почти пять веков хранящейся в Туринском соборе.
Понтифик назвал плащаницу «символом мученичества Спасителя и миллионов христиан, пострадавших за веру», а также «неоспоримым подтверждением Евангелия, свидетельством божественной любви и человеческой греховности».
В своей речи папа заявил, что плащаница является «настоящим вызовом разуму и требует от всех людей, прежде всего от ученых, максимальных усилий для постижения ее истинного значения». «Плащаница завораживает, — сказал понтифик, — и позволяет нам ясно представить описанные евангелистами муки Спасителя, умершего за нас на кресте».
Кроме того, папа призвал ученых всего мира взяться за новые исследования реликвии в продолжение уже проведенных в семидесятые годы: «Церковь призывает ученых вновь заняться изучением плащаницы без какой бы то ни было предвзятости, с единственной целью: постичь истину».
Заключение, сделанное на основании изучения плащаницы
Доклад «Жиль»
Данный доклад, получивший название «Жиль» в честь французского профессора, обнаружившего плащаницу в монастыре Поблет, основан на строго научном изучении реликвии и не содержит каких-либо произвольных измышлений. Вся представленная здесь информация получена путем наблюдения, анализа и исследования; то, что является просто предположением, обязательно содержит на это четкое указание. Работа проведена в строгом соответствии со всеми принципами научного исследования; сознательное искажение фактов в данном случае полностью исключено.
Перед исследованием не стояла задача дать ответ на вопрос, является ли человек, изображенный на плащанице, Иисусом Христом, однако ученые, участвовавшие в работе, сошлись во мнении, что имеются все основания ответить на этот вопрос положительно в свете открывшихся в результате исследования фактов и сопоставления их с данными Евангелий. Как показал тщательный анализ плащаницы, человек, чье изображение она сохранила, обладал в высшей степени исключительными качествами. Был ли он действительно Сыном Божьим — это, разумеется, вопрос веры, но трудно себе представить более совершенного человека.
Следует также отметить, что волос, найденный в ткани плащаницы и использованный для проведения генетического анализа, был отправлен в Ватикан в герметичной стальной коробке вместе с самой реликвией. Образец ДНК, полученный в процессе исследования, был уничтожен, чтобы никто не мог завладеть им для создания клона этого человека, кем бы он ни был.
Ткань плащаницы
Плащаница представляет собой кусок льняного полотна очень высокого качества (Linum ustatissimum) с небольшим добавлением хлопковых нитей (herbaceum). По типу использованного переплетения ткань представляет собой саржу, для которой характерен нахлест трех нитей на одну. Этот способ известен в Европе лишь с XIV века, но наиболее древние образцы такой ткани, найденные в египетских захоронениях, датируются II веком до н. э. Сохранилась нельняная ткань подобного типа плетения, принадлежавшая XII египетской династии и датируемая XX–XVIII веками до н. э.
Ткань была соткана на ручном ткацком станке (такого типа, какой появился в Египте по меньшей мере за тридцать веков до рождения Христа). Плотность утка составляет тридцать восемь нитей на квадратный сантиметр, плотность основы — двадцать шесть. Неодинаковая на разных участках толщина ткани показывает, что использованная для изготовления полотна нить была спрядена не одним человеком.
Точный размер плащаницы — 4,36 м в длину и 1,1 в ширину. Можно предположить, что местом изготовления ткани был город Пальмира, находящийся неподалеку от Дамаска, современной столицы Сирии. В первом веке нашей эры этот город был одним из важнейших центров ткацкого ремесла на Востоке.
Благодаря своему качеству полотно отличается необыкновенной тонкостью и легкостью: вес его, колеблющийся в зависимости от состояния окружающей среды и прежде всего от влажности, составляет от 240 до 290 г на квадратный метр. Таким образом, вес всей плащаницы колеблется между 1150 и 1390 г.
Физические характеристики человека с плащаницы
Человек, запечатленный на полотне, имел крепкое телосложение, совершенное с точки зрения антропометрии[8], и высокий рост — между 181 и 182 см (укороченность левой ноги в данном случае в расчет не принималась, поскольку этот дефект, несомненно, является следствием деформации, произошедшей в процессе казни). Примерный вес человека с плащаницы — 80 кг; возраст — 30–35 лет.
По антропологическим характеристикам его трудно отнести к семитскому типу; черты лица этого человека лишь отдаленно напоминают еврейские, а рост и сложение вовсе не соответствуют параметрам евреев, какими они были две тысячи лет назад. Антропологический тип человека с плащаницы можно определить как средиземноморский; сделать более конкретные уточнения не представляется возможным.
Следы истязаний на теле человека с плащаницы
Все тело человека с плащаницы покрыто следами бичевания — за исключением левой стороны груди, которая, очевидно, не подвергалась ударам во избежание остановки сердца. В большей степени исполосованы плечи, спина и грудь, в меньшей — ноги, ягодицы и живот. Для бичевания были использованы две плети, известные у римлян под названием flagrum: плеть этого типа состояла из двух ремней, каждый из которых имел на конце по два шарика (вероятно, свинцовых или костяных). Всего на теле человека насчитывается около ста двадцати следов от ударов плетьми.
У человека с плащаницы пробиты руки в области запястий[9] (полулунная кость при этом не повреждена). Гвоздь, вбитый в правое запястье, плохо вошел между костями и по неизвестной причине погнулся, из-за чего его вытащили и вбили снова (возможно, это повторилось даже два раза). По этой причине рана на правом запястье больше, чем на левом (примерно 15×20 мм), и имеет овальную форму. Гвоздями были затронуты срединные нервы, отчего пальцы рук напряженно вытянулись, а большой палец втянулся внутрь ладони. Гвозди вызвали гемостазию[10], благодаря чему человек с плащаницы не истек кровью.
Ноги были прибиты (к кресту?) вместе — одним гвоздем, вошедшим между второй и третьей плюсневыми костями[11]. Левая нога оказалась при этом поверх правой, что вызвало искривление первой и удлинение последней. Можно с уверенностью сказать, что человек с плащаницы не был хромым. Левая нога кажется на отпечатке короче потому, что она долго (во время казни на кресте?) находилась в согнутом положении и, вследствие наступившего после смерти окоченения, так и осталась в таком состоянии.
Знаменитый терновый венец, надетый в насмешку на голову приговоренного к казни, был на самом деле сплетен в форме митры, а не венка. Шипы его оставили на голове человека с плащаницы многочисленные раны — в лобной, височно-теменной и затылочной части. Можно насчитать около тридцати четко различимых ран. Сильнее всего кровоточила рана на лбу. Извилистая форма кровавого пятна на этом участке обусловлена тем, что, реагируя на боль, лобный мускул судорожно сокращался. Растение с острыми двойными шипами, из которого был сплетен венец, носит теперь название «Терновник Христа» (Ziziphus spina Christi).
Когда человек с плащаницы был уже мертв, его бок пронзили острым предметом, глубоко вошедшим в тело почти под прямым углом. Края раны остались открытыми, и процесс свертывания крови не начался: это говорит о том, что удар был нанесен уже после смерти. Рана хорошо видна на изображении, однако на этом участке пятно крови выглядит довольно размытым и неярким. Острие прошло между пятым и шестым ребрами, пронзив гемоторакс[12] с правой стороны груди, и из раны вытекла кровь и сукровица. Вероятно, удар был нанесен римским копьем — обычным оружием легионеров в эпоху империи. Его острие имеет овальную форму — похожую на лист дерева, но более удлиненную.
Правое плечо человека с плащаницы слегка смещено вниз. Если допустить, что он был распят, то, возможно, это связано с тем, что, прибивая этого человека к кресту, палач резко дернул его правую ногу вниз, чтобы пригвоздить ее вместе с левой к stipes[13].
Должно быть, человек с плащаницы нес перед казнью тяжелый деревянный брус (patibulum[14] креста?), чей вес, судя по следам, оставленным им на спине и плечах, был около 60–70 кг. Шипы тернового венца глубже вонзались в затылок под тяжестью бруса, а на правом плече (над лопаткой и в области акромиона[15]) от него осталась большая потертость размером примерно 9 на 10 см. Подобная же потертость, но меньшего размера, видна и в области левой лопатки. Толщина бруса, очевидно, была около 15 см, а значит, учитывая его примерный вес, можно сделать вывод, что в длину он достигал 1,6–1,7 м.
На щиколотках человека с плащаницы видны следы от веревки[16]. Подобные следы остались и на запястьях (вероятно, он был привязан за руки к столбу во время бичевания). Потертости от веревки имеются также на плечах, груди и в подмышечных впадинах (в данном случае, должно быть, веревкой был привязан деревянный брус).
Лицо человека с плащаницы несет на себе следы жестоких побоев. Носовая перегородка смещена влево, в области правой скулы имеется сильная припухлость — вероятно, от удара палкой диаметром 5–6 см. Удар был нанесен левой рукой (в соответствии с еврейским обычаем). Следы сильных ударов видны также на груди и животе. О жестоком избиении и издевательствах свидетельствуют также распухшие губы и вырванный из бороды клок волос.
Судя по ушибам коленей человека с плащаницы (особенно левого), он много раз падал — должно быть, на неровную каменную мостовую.
На уровне поясницы имеется обильный подтек крови, вытекшей из пронзенного копьем гемоторакса и попавшей на спину, вероятно, тогда, когда человека снимали с креста (если он действительно был распят).
При погребении усопшему, по иудейской традиции, положили на веки небольшие монеты, приблизительно соответствовавшие по своему размеру глазницам. В данном случае это, вероятно, лепта[17]. Кроме того, прежде чем завернуть покойного в саван, на голову ему повязали плат, завязав его под подбородком, чтобы челюсти оставались сомкнутыми.
Человек с плащаницы имел длинные волосы, которые перед погребением были собраны на затылке: такой обычай существовал в Палестине I века н. э. у ессеев.
Голова покойного втянута в плечи, что, как показывают различные исторические свидетельства, характерно для умерших на кресте.
Анализ савана
В ткани савана присутствуют частицы воска, фрагменты насекомых, споры и пыльца, шерсть и тонкие волокна розового и голубого шелка.
В результате палинологических[18] исследований в волокнах полотна была обнаружена пыльца растений, характерных для засушливых областей Палестины: идентичные образцы были найдены в районе Генисаретского озера в древних пластах земной коры возрастом около двух тысяч лет.
В ткани также были обнаружены пыльцевые зерна растений, распространенных на территории Византии (Константинополь), Франции, Италии, Малой Азии (Эдесса) и Испании. Некоторые из этих зерен принадлежат к уже исчезнувшим видам растений. Совершенно очевидно, что подобное разнообразие флоры не могло быть скоплено на одном географическом участке, а значит, исследуемый саван проделал длинный путь по всем вышеуказанным территориям.
В ткани присутствует большое количество железа (компонента, содержащегося в крови): наибольшая его концентрация наблюдается в местах самых серьезных ран. Это показывает, что на данных участках вытекло большое количество крови. В некоторых местах полотно пропитано кровью насквозь. Тот факт, что она не растеклась по ткани, а осталась в местах соприкосновения с телом, говорит о том, что кровь была очень густой (в связи с крайней обезвоженностью организма). Частицы железа распределены по всему полотну — вероятно, вследствие того, что саван хранился в сложенном состоянии.
Как бы то ни было, химический и рентгеноструктурный анализ пятен на полотне не позволяет идентифицировать данное вещество как кровь. При просвечивании ткани ультрафиолетовыми лучами флуоресценции не наблюдалось — следовательно, можно с уверенностью говорить об отсутствии гемоглобина. Проба с помощью бензидина оказалась отрицательной: никакого изменения цвета не произошло. Микроспектроскопия, проведенная с целью выявления гемохромогена, дала отрицательный результат; так же, как и хромография ультратонких слоев. Дело в том, что пятна на саване очень древние, поэтому белки крови давно распались и утратили характеристики, позволяющие их распознать. О том, что это все же была кровь, свидетельствует обнаружение на этих участках метагемоглобина и билирубина.
На полотне были обнаружены животные белки — однако они присутствуют лишь в пятнах крови, а не на всей поверхности савана, как было бы в том случае, если бы изображение было результатом работы художника. Эти белки соединены с другим органическим веществом — сероальбумином, входящим в состав серозной жидкости. При растворении пятен гидразином наблюдалось их окрашивание в красноватый цвет, характерный для гемохромогена.
Анализ отпечатка на саване
Можно с уверенностью сказать, что отпечаток на погребальном полотне образовался не в результате контакта тела с тканью; отсутствуют на ней и следы каких бы то ни было красителей. Кроме этого, исследование рентгеновскими лучами показало, что изображение на саване не является следствием химического или бактериологического воздействия на ткань. Ввиду чрезвычайной древности отпечатка следует также исключить возможность того, что изображение было получено путем термического воздействия.
Изображение на полотне, образованное потемнением ткани, очень поверхностное: оно затрагивает лишь самый верхний слой льняных волокон. Это касается даже наиболее темных участков: в этих местах потемнение затрагивает большее количество волокон, но его интенсивность остается неизменной. Изображение имеется лишь на той стороне савана, которая непосредственно соприкасалась с телом. Под пятнами крови отпечаток отсутствует.
Потемнение ткани, образующее изображение, вызвано дегидратацией и обугливанием верхнего слоя волокон на определенных участках. Потемневшие части ткани имеют серый цвет, но изображение кажется светло-коричневым из-за желтоватого оттенка самого полотна и освещения.
Изображение на саване является трехмерным. Объем создается различиями в светлоте отпечатка. Степень интенсивности пятен обратно пропорциональна расстоянию между телом и тканью, в которую оно было завернуто.
В сущности, отпечаток на полотне представляет собой фотографический негатив (за исключением пятен крови): т. е. те участки, которые в реальности были светлыми, вышли на изображении темными, а темные — наоборот, светлыми. Изображение возникло в результате излучения, исходившего от самого тела. Природа этого явления неизвестна, и пока не представляется возможным высказать достаточно обоснованную гипотезу.
Генетический анализ человека с плащаницы
Материалом для генетического анализа послужил обнаруженный на полотне волос. Из него была получена полная цепочка ДНК[19], позволившая составить достаточно полное представление о человеке с плащаницы.
Сделаем небольшой экскурс в генетику, чтобы ввести ее основные понятия. Как известно, генетические признаки передаются из поколения в поколение от родителей к детям: половина хромосом, содержащих наследственную информацию, достается ребенку от отца и половина — от матери. В клетках человеческого организма содержится диплоидный (парный) хромосомный набор, однако половые клетки — гаметы (яйцеклетка, сперматозоид), посредством которых осуществляется размножение, имеют гаплоидный (одинарный) набор хромосом. Носителем генетической информации является ДНК, а участок ДНК, ответственный за формирование какого-либо (определенного признака, называется геном. Из совокупности всех генов организма складывается генотип, состоящий из двух геномов — гаплоидных наборов хромосом, полученных от отца и матери.
Человек имеет двадцать три пары хромосом — то есть всего сорок шесть. Каждый ген располагается в определенном участке хромосомы — локусе. Варианты одного гена, расположенные в одинаковых локусах гомологичных (парных) хромосом, называются аллелями. Хромосомы очень различаются между собой по размеру, и во всех них находится предположительно около ста тысяч различных генов (несколько тысяч из них связаны с наследственными болезнями). Для создания полной генетической карты хромосом необходимо расшифровать генетический код человека (в настоящее время он расшифрован на 30 %).
Если гомологичные хромосомы несут одну и ту же форму какого-либо гена, то организм является гомозиготным по этому гену. Если же аллели одного гена представлены разными формами, то человека следует считать гетерозиготным по данному гену. Из двух разных форм одного гена (аллелей) всегда проявляется доминантная. Рецессивная аллель может проявиться лишь при отсутствии доминантной — т. е. только в случае гомозиготности по этому гену. При гетерозиготности рецессивная форма гена не оказывает влияния на формирование признака, за который отвечает данный ген, однако рецессивная аллель вполне может передаться детям.
Гены, расположенные в негомологичных хромосомах, наследуются независимо друг от друга; гены, находящиеся в одной хромосоме, являются сцепленными. Каждый признак организма формируется под влиянием какого-либо определенного гена (или нескольких генов). Большинство важнейших характеристик человека определяются совокупностью его генов.
Физические характеристики человека с плащаницы
— Крепкое телосложение;
— Высокий рост;
— Широкие плечи;
— Удлиненная форма головы (долихокефалия[20]);
— Светлая кожа;
— Светло-каштановые, слегка вьющиеся волосы;
— Светлая борода;
— Удлиненный нос;
— Губы среднего размера;
— Маленькие уши;
— Темные округлые брови;
— Зеленовато-карие глаза;
— Группа крови AB, положительный резус-фактор Rh+;
— Безупречное состояние всех физиологических систем организма;
— Отсутствие хромосомных мутаций;
— Отсутствие врожденных генетических аномалий;
— Устойчивая иммунная система;
— Отсутствие генов, связанных с наследственными болезнями.
Психические характеристики человека с плащаницы
— Мощный интеллект. Коэффициент интеллекта без учета внешних факторов около 150 (менее 1 % населения Земли);
— Способность к ясному логическому мышлению;
— Превосходная память;
— Хорошо развитое абстрактное мышление;
— Высокая эмоциональная устойчивость;
— Здоровая нервная система;
— Прекрасно развитые психомоторные способности;
— Отсутствие наследственных психических заболеваний.
Проведенный генетический анализ позволил установить, что в генотипе человека с плащаницы отсутствуют пары рецессивных аллелей, то есть организм данного индивида является гетерозиготным по всем генам, имеющим рецессивные формы (в гомозиготе обе аллели доминантны, а в гетерозиготе — одна доминантна, а другая — рецессивна). Это означает, что в фенотипе человека с плащаницы проявляются лишь доминантные аллели, поскольку рецессивные гены могут проявиться только в гомозиготе.
Каждый из 3 тысяч изученных генов человека с плащаницы имеет по меньшей мере одну доминантную аллель. Вероятность возникновения подобного генотипа равна 1 из 23 000 (это число намного больше гугола[21] — самого большого числа, используемого математиками). Для сравнения следует отметить, что вероятность того, что каждый житель Земли в своей жизни выиграет первый приз в лотерею, неизмеримо больше, чем вероятность появления человека с подобным генотипом.
Евангелие от Матфея
(Во дворце Каиафы.) Тогда плевали Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил Тебя?
(Во дворце Пилата.) Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. / Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на Него весь полк и, раздев Его, надели на Него багряницу; и, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову и дали Ему в правую руку трость; и, становясь пред Ним на колени, насмехались над Ним, говоря: радуйся, Царь Иудейский! и плевали на Него и, взяв трость, били Его по голове.
(Крестный путь.) И когда насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, и одели Его в одежды Его, и повели Его на распятие.
(Распятие.) Распявшие же Его делили одежды его, бросая жребий.
(Упоминание плащаницы.) […] и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился.
Евангелие от Марка
(Во дворце Каиафы.) И некоторые начали плевать на Него и, закрывая Ему лице, ударять Его и говорить Ему: прореки. И слуги били Его по ланитам.
(Во дворце Пилата.) А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали приветствовать Его: радуйся, Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему.
(Крестный путь.) Когда же насмеялись над Ним, сняли с Него багряницу, одели Его в собственные одежды Его и повели Его, чтобы распять Его. И заставили проходящего некоего Киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест Его.
(Распятие.) Распявшие Его делили одежды Его, бросая жребий, кому что взять.
(Упоминание плащаницы.) Он [Иосиф из Аримафеи], купив плащаницу и сняв Его, обвил плащаницею, и положил Его во гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба.
Евангелие от Луки
(Во дворце Каиафы.) Люди, державшие Иисуса, ругались над Ним и били Его; и, закрыв Его, ударяли Его по лицу и спрашивали Его: прореки, кто ударил Тебя?
(Крестный путь.) И когда повели Его [на распятие], то, захватив некоего Симона Киринеянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом.
(Распятие.) И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его […]
(Упоминание плащаницы.) Тогда некто, именем Иосиф, […]; из Аримафеи, города Иудейского […], пришел к Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. / Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, и пошел назад, дивясь сам в себе происшедшему.
Евангелие от Иоанна
(Во дворце Пилата.) Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его. И воины, сплетши венец из терна, возложили Ему на голову, и одели Его в багряницу, и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его по ланитам.
(Крестный путь и распятие.) И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распяли Его […]
(Распятие.) Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху.
(Удар копьем.) Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.
(Упоминание плащаницы.) Итак они [Иосиф из Аримафеи и Никодим] взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают Иудеи. / Они [Симон Петр и (?) сам Иоанн] побежали оба вместе; но другой ученик бежал скорее Петра, и пришел ко гробу первый. И, наклонившись, увидел лежащие пелены; но не вошел во гроб. Вслед за ним приходит Симон Петр, и входит во гроб, и видит одни пелены лежащие, и плат, который был на главе Его, не с пеленами лежащий, но особо свитый на другом месте.
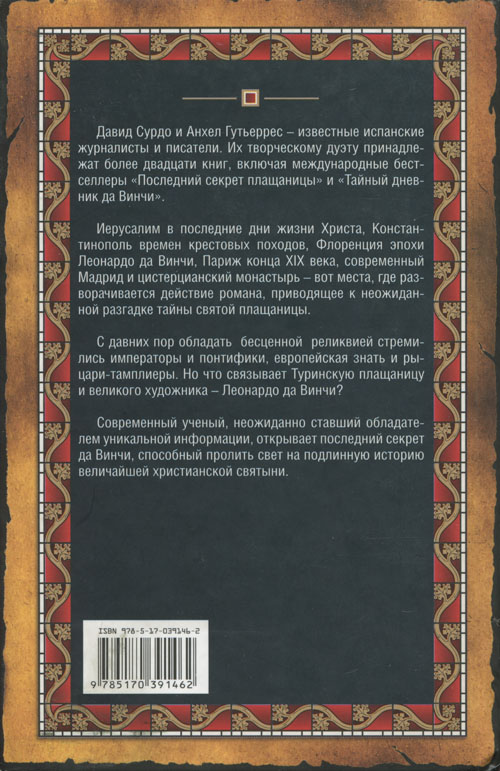
1
He нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу (лат.).
2
«Сложенная в четыре раза». — Здесь и далее примеч. пер.
3
Ошибка авторов. Апостол Павел не был учеником Иисуса и никогда его не видел. — Примеч. научн. редактора.
4
Цитаты из Библии здесь и далее приводятся по Синодальному переводу.
5
Неофициальное, но закрепленное традицией название района в Испании. Каждая комарка отличается не только своими экологическими особенностями, занятиями населения, культурой и языком, но и природой, включая климат. — Примеч. ред.
6
Узы (исп.).
7
Кофе с молоком (фр.).
8
Антропометрия — наука, являющаяся частью антропологии и занимающаяся измерением человеческого тела и изучением пропорций.
9
Участок верхней конечности, находящийся между пястью и предплечьем и состоящий из восьми мелких костей, расположенных в два ряда.
10
Застой крови.
11
Плюсна — часть стопы, состоящая из пяти коротких трубчатых костей и расположенная между предплюсной и фалангами пальцев.
12
Скопление крови в полости плевры.
13
Вертикальный столб креста.
14
Поперечина креста.
15
Часть лопатки, сочлененная с ключицей.
16
Если этот человек — Иисус, то можно предположить, что это следы веревки, которой он был привязан к двум другим осужденным во время пути на Голгофу.
17
Бронзовая монета, ходившая в Иудее.
18
Палинология — раздел ботаники, изучающий пыльцу и споры растений.
19
Дезоксирибонуклеиновая кислота.
20
Ширина головы составляет менее 0,77 длины.
21
10 в сотой степени.