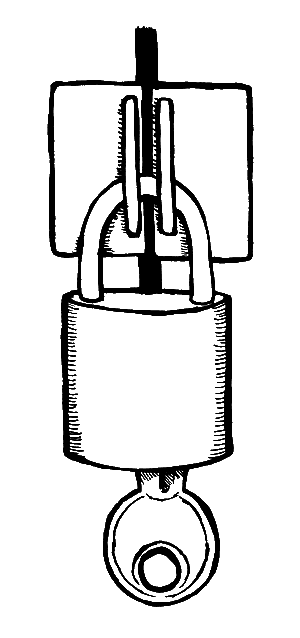Книга: Мемуары младенца (сборник)

Мемуары младенца
Сборник рассказов
© О. Батлук, 2018
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Чем старше я становлюсь, тем выше к горлу подступает прошлое.
Я ностальгирую по своему советскому детству.
Я засиживаюсь допоздна на сайтах с фотографиями старой Москвы, изучая, как выглядел мой район в восьмидесятые. Оказывается, аптека перед моим домом существовала уже тогда. Сорок лет она остается архитектурной доминантой квартала. Ничего интереснее за все эти годы с нами не случилось. Меняются люди, меняются лекарства. И только болезни одни и те же. А на одном снимке конца шестидесятых на большом перекрестке рядом с этой аптекой – пробка. Из трех машин. И все три разные. Пробка в СССР в шестидесятые на окраине Москвы из нескольких авто разных марок. Мой район уже в те годы чудил.
Было время, когда я любил запрыгнуть в машину и отправиться в окрестности Преображенки. Там я провел часть своего детства, в одном из затерянных в тупике у леса дворов. Из-за этой особенности своего расположения двор дошел до наших дней почти не тронутый будущим. Я парковался заблаговременно, чтобы не въезжать на заповедный островок своей памяти на современном авто и не разрушать микроклимат восьмидесятых. Шел пешком, осторожно, почти на цыпочках: вдруг из-за поворота выбегу кудрявый белобрысый я. Но недавно перед моим прежним домом зачем-то срубили все деревья, те самые, что сохранили наши сокровенные детские тайны. Я застал, как рабочие увозили срубленное. Деревья тянули ко мне ветки из кузова грузовика, прощаясь. Я перестал туда ездить.
Понятно, что я ностальгирую скорее не по советскому, а по детству. Если бы мое детство прошло в Древнем Риме, я бы точно так же ходил вокруг разрушенных терм и боялся встретить за углом Цицерона.
Но тут есть нечто большее. Ведь для чего-то мне нужно переноситься в одну и ту же точку в прошлом.
Я думаю, в этом заключается сокровенное желание каждого человека – отмотать свою жизнь к началу. К той сердцевине, откуда разбегается роза ветров. К тому райскому цветению возможностей, каким является наше детство. Когда все, кто не жив, еще живы. Когда мечты бродят непугаными розовыми слонами прямо посреди будней. Когда впереди столько бесхозного несчитаного времени, что оно смахивает на вечность.
Прелесть машины времени – в том, что она дарит нам иллюзию другого будущего.
У каждого времени есть свои отпечатки пальцев, по которым его легко опознать. В моем советском детстве таких было несколько.
Например, бабушки у подъезда. Мне казалось, что наши пятиэтажки так и сдавались в эксплуатацию в комплекте с этими бабушками. С годами они все глубже врастали в лавочки. Старушки перед моим домом всегда оставляли на скамейке место с краю. Там сидел Гоша – кот с первого этажа. Гоша был глуховат, но при этом любил слушать разговоры бабушек. Может быть, потому что они шелестели для него, как ленивый грибной дождик. По крайней мере, для меня эти разговоры шелестели именно так.
Или дворник. Дворники в то время были уважаемыми людьми. Домовыми двора. Его ангелами-хранителями. Их знала вся округа. И они знали всю округу. У нас работал дворник Володя. Татарин, плохо говорящий по-русски. Имя Володя было его псевдонимом. Однажды он поведал кому-то, что взял себе имя, как у Ленина, чтобы добиться уважения окружающих. Но Володю и так все уважали, и без Ленина.
Он состоял при нашем дворе несколько десятилетий. При нем рождались и умирали жильцы. По роду занятий внимательный к деталям, Володя хранил родословные в памяти. Он мог часами рассказывать внукам об их ушедших дедушках, причем в таких подробностях, которые не всегда были известны их бабушкам. Сам Володя никогда не старел, оставался всегда одинаковым и умер молодым в восемьдесят лет. Ушел дворник в последний день листопада – настоящий профессионал. Его хоронили всем двором. По дороге похоронной процессии не встретилось ни листочка, ни пылинки: лучше эпитафии не придумаешь.
Володя охотно общался со всеми. Как Глеб Жеглов, он держал в голове целую картотеку. Утром он мог крикнуть мне, малолетке: «Ну что, Бальтюк (тяжела была моя фамилия для татарина), сегодня сочинение писать, да?», а вечером: «Эй, Бальтюк, тройка исправил, что ли?» Володя был для всех нас еще одним членом семьи. Некоторыми ребятишками он занимался даже больше, чем их родные отцы. Эти детки бежали из школы с почетными грамотами в руках, чтобы показать их Володе, а не у себя дома. Дворник радовался за них, как за своих детей. Возможно, потому что своих у него не было. У него вообще за душой ничего не было, кроме метлы летом и лопаты зимой. Ничего, кроме самой души, огромной, на килограмм, при наших стандартных шести граммах, как посчитали ученые. Мы все и были его семьей.
И, наконец, политинформация. Этот странный идеологический аппендицит перед первым уроком. Наша классная руководительница, женщина в возрасте, с букетом болезней, ненавидела утро. Утро – это вообще время молодых. Только юные и здоровые его любят. А все остальные: старые и больные, а порой, кому повезет, и просто похмельные, – утро ненавидят.
Учительница ненавидела политинформацию заодно с утром. На моей памяти она не провела ни одного такого урока. Их все провел я. Меня каждый раз единогласно выбирал класс. Ритуал повторялся в точности изо дня в день.
«Кто сегодня прочтет политинформацию?» – трагически вопрошала классная.
«Батлук!» – орали все в один голос.
Меня выбирали потому, что вместо политинформации я пересказывал одноклассникам Жюля Верна. У нас дома было полное собрание его сочинений. Классная руководительница засыпала при первых звуках моего голоса и просыпалась ровно через пять минут. Как Штирлиц под Берлином. Профессиональное, годы тренировок.
Эти пять минут политинформации были только наши, детские, антивзрослые и страшно аполитичные.
Случались, конечно, и казусы. Классная, бывало, просыпалась в самый неподходящий момент. Например, когда профессор Аронакс с Недом Лендом впервые попадали на «Наутилус». Но я, как вражеский шпион, всегда следил одним глазом за периметром. И был готов к любым неожиданностям.
«Кто вы? – спросил профессор незнакомца», – произносил я зловещим голосом. Класс полулежал на партах от предвкушения, подавшись вперед. И тут просыпалась учительница. Мутным заспанным взглядом она обводила класс и останавливалась на мне.
«Кто вы?» – по инерции успевал повторить я, прежде чем замечал движение в периметре.
«Брежнев!» – моментально исправлялся я.
Класс продолжал лежать на партах, но уже беззвучно давясь от хохота.
«Молодец, Батлук, продолжай», – бормотала классная и засыпала снова.
Бабушки на лавочках, родной дворник Володя, уроки политинформации – мое советское детство, где ты?
Наверное, до сих пор плаваешь где-то в бескрайнем океане прошлого неуловимым «Наутилусом» под командованием молчаливого капитана Брежнева, хранящего твои тайны.
С детских лет меня тянуло к сбитым летчикам. В то время как у остальных ребят в друзьях были яркие харизматики и лидеры мнений, мне вечно доставались какие-то неудачники-инферналы.
Взять, к примеру, легенду моего детства – ребенка по кличке Пончик. Мы с ним якшались, по меткому определению тогдашних взрослых, в детском саду. Свою кличку он получил не из-за полноты – напротив, Пончик был худым, как жердь. Просто однажды эта тростинка тайком сожрала целый поднос пончиков, приготовленных для нашей группы. Вот уж ни разу не мыслящий тростник, по Паскалю.
Пончик как-то сам приблудился ко мне. И тем самым он моментально отогнал от меня остальных потенциальных друзей в детском саду. Правда, сейчас, с высоты прожитых лет, я понимаю, что в те годы я не был королем танцпола и, скорее всего, никто и так не стал бы дружить с настолько тухлым ребенком. Таким образом, Пончик оказал мне первую бесценную психотерапевтическую услугу, распугав других детей, которые и не собирались со мной знакомиться, чем сэкономил мне ручьи слез по поводу неразделенной взаимности.
Впоследствии Пончик оказал мне множество подобных, по сути, чисто психотерапевтических услуг.
На длинной дистанции наша с ним дружба оказалась для меня психоаналитическим Клондайком. И хотя Пончик все делал не нарочно, каждый раз он ненароком приносил мне врачебную пользу. Такой вот неуклюжий ангел-хранитель. Я до сих пор не понимаю, чем приглянулся тогда этому странному грустному терминатору. Возможно, он встретил во мне родственную душу: я тоже мечтал сожрать целый поднос пончиков, но так и не решился.
Во-первых, Пончик научил меня главному в жизни – есть зубную пасту. В нашем советском детстве была такая детская зубная паста с вишневым, кажется, запахом. Каждый раз во время чистки зубов мне казалось, что я выплевываю в раковину целую горсть сладких спелых вишен. Мне очень хотелось попробовать содержимое тюбика, но однажды родители мне это запретили, когда я, наивный чистый ребенок, спросил у них про это напрямую. Я так бы и заработал на всю жизнь невроз непроглоченного тюбика, если бы не Пончик, который был кем угодно, но только не наивным чистым ребенком. Как-то раз в детском саду он подошел ко мне во время утреннего моциона, взял мою вишневую пасту и начал чистить зубы. Мне так показалось. Только потом я обратил внимание, что щетки-то у него в руках нет. Пончик стоял рядом со мной и за обе щеки уминал вишневую пасту. Позавтракав таким нехитрым способом, он протянул тюбик мне. И тогда я тоже попробовал. Божественная эссенция. По сравнению с ней настоящая вишня – сплошная химия.
Во-вторых, Пончик избавил меня от комплекса неваляшки. Была у нас в том же советском детстве популярная игрушка – пластмассовая девочка с большими печальными глазами, которая не могла лечь спать. Ты ее наклоняешь на бочок – она возвращается в исходное положение. Я страшно переживал за неваляшку из-за ее бессонницы, я пытался помочь малышке, придавливая ее подушкой и садясь сверху. Но девица каждый раз восставала из спящих. И когда у меня уже начал дергаться правый глаз, Пончик подошел ко мне с кирпичом и разбил неваляшку. Неваляшка с гигантской дырой в нижнем шаре очень даже неплохо лежит на боку.
В-третьих, Пончик вылечил меня от котлетного расстройства. Мы с ним на пару терпеть не могли котлеты. Точнее, сначала котлеты не переносил только Пончик. Но после того, как он на ухо сообщил мне новость о том, что котлеты – это дохлые хомячки, я тоже их сразу разлюбил. В те годы в детских садах процветало пищевое насилие. Воспитатели воспитывали нас под популярным лозунгом кубинской революции «Котлета или смерть!». Но Пончик нашел выход. Элегантный и интеллигентный, как все в его арсенале. Он насаживал котлету на вилку и закидывал ее на шкаф. Скоро Пончик и меня научил этому нехитрому приему. Мы с ним сидели за последним столом, на галерке, как и полагается социально чумным детям. Нас было плохо видно. Шкаф стоял почти вплотную: котлетам лететь недалеко. Так что мы практически не промахивались. Через неделю в столовой появился странный запах. Через две он стал невыносимым. Источник смрада обнаружился благодаря местному слесарю, вызванному чинить канализацию. Он слез с того шкафа седым. Видимо, разложившиеся котлеты мутировали в какую-то другую, отвратительную форму жизни, как в фильме ужасов. Иначе чем еще можно объяснить испуг бывалого слесаря, к тому же ни разу не трезвого. Нас с Пончиком разоблачили, усадили за стол в первом ряду и принялись кормить запеканкой со сгущенкой, изверги.
Наконец, с помощью Пончика я преодолел синдром непризнанного гения. С самого детства у меня все валилось из рук. Я родился с коротким тельцем, и руки у меня какое-то время действительно росли оттуда. Снизу. В смысле – не из плеч.
Однажды к празднику Седьмого ноября в нашем саду запланировали выставку детских поделок из пластилина. Целый месяц детвора лепила. Все, кроме Пончика. Он выступал в индивидуальном зачете – рисовал карандашами в темном углу, за отдельным столом. Я тоже лепил. Насколько это было вообще возможно для ребенка, у которого все валится из рук.
В день выставки все пластилиновые поделки выставили на всеобщее обозрение. Среди узнаваемых кошечек, собачек, птичек, рыбок и даже одного узнаваемого слона выделялось одно пластилиновое нечто. Мое. По замыслу под нечто тоже подразумевалась кошечка. Вот только хвостик у нее рос прямо из лобика, и это было наименьшей из ее проблем. Милые детки, они так радовались моему фиаско.
«Это что такое, наверное, батлукоглаз!», «это что такое, наверное, батлукорук!» – неслось со всех сторон.
Так виртуозно мою фамилию ни до, ни после больше никому не удавалось просклонять. Надо отдать воспитателям должное, они пресекли это словотворчество. Ровно в тот момент, когда креативные малыши, перебирая части тела сверху вниз, подозрительно приблизились к области ниже пояса. Воодушевленные моим позором, дети пошли обедать.
Во время тихого часа Пончик несколько раз вставал и отлучался куда-то. Потом возвращался и хомячил что-то в одиночку под одеялом. Видимо, печенья, разложенные для полдника на столах, таскает, решил я тогда.
После полдника пришли родители, чтобы посмотреть выставку. Я с удивлением обнаружил, что печенья на полднике оказались на месте, не тронутыми. Родителей вместе с нами, детьми, пригласили в игровую комнату, где были выставлены поделки.
«Вот – результат месяца нашей кропотливой работы», – по-стахановски отрапортовала воспитательница и жестом предложила собравшимся пройти к экспонатам.
Сначала заплакала девочка, сказавшая «батлукоглаз». Потом зарыдал мальчик, крикнувший «батлукорук». А за ними заголосила и вся группа в полном составе.
Поделки были изуродованы. Кошечки без голов, собачки без ног, слоник с головой и ногами, но без туловища, вот незадача.
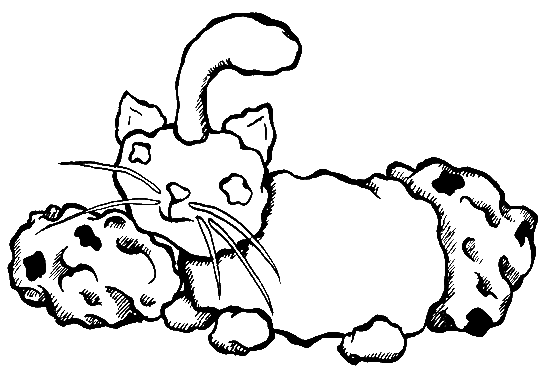
«Пончик!» – заорала воспитательница.
Все обратили взгляды в его сторону.
Пончик стоял у края стола с выставкой и доедал попку у предпоследней целой мышки. С остальными экспонатами он благополучно расправился, пока детский сад спал.
Ах да, я, кажется, не упомянул об этом. В пантеоне странностей Пончика была еще одна, довольно милая: он ел пластилин. Видимо, в организме ребенка не хватало каких-то важных микроэлементов, и он их таким образом восполнял. С помощью пластилина. Да, и еще зубной пасты. Но только не котлет. Воспитатели знали об этом его баге и не позволяли ему лепить. Именно поэтому во время лепки экспонатов Пончика специально отсадили, снабдив тупыми карандашами, которыми нельзя покалечиться. Но никто из взрослых функционеров детского сада и представить себе не мог, что Пончик покусится на святая святых, детское творчество, и за тихий час сожрет целую пластилиновую выставку.
На столе, среди груды бесформенного неузнаваемого пластилина выделялась одна узнаваемая кошечка. Моя. Пончик не тронул ее. Пощадил, единственную. И даже хвостик, торчащий из головы, теперь мою кошечку уже не портил.
На фоне уродливых монстров, в которых превратились поделки других детей, она выглядела лапочкой. И даже немножко шедевром.
Впоследствии, во взрослой жизни, я встречал много прекрасных талантливых психологов.
Но ни один из них и рядом не стоял с малолетним психотерапевтом Пончиком.
Самое яркое спортивное воспоминание из моего раннего детства – ярко-желтая, сочная, кристально-лимонная форма сборной Швеции по хоккею.
Как рассказывал отец, я радовался каждой шайбе, которую сборная Швеция забрасывала в ворота сборной СССР: скакал от восторга и хлопал в ладоши, кретин малолетний.
Как ни пытался папа мне объяснить, что наши играют в красных свитерах, я только пуще прежнего орал:
«Золтые, золтые!»
4. Наполеон с улицы Подбельского
Мое советское детство распадается на две части: до нашей эры и после.
До нашей эры – это несусветная рань моей жизни, когда на окраинах Москвы пели петухи (там, где новые кварталы пятиэтажек граничили с деревнями), в гостиных еще не появилось видеомагнитофонов, а над страной безбрежно колосились брови генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Мое советское детство до нашей эры прошло во дворах на улице Подбельского. Я жил там у бабушки с дедушкой до шести лет.
Это удивительный квартальчик на окраине Преображенки. Хотя, возможно, и не удивительный. Мое отношение к нему, как к бывшей возлюбленной, уже никогда не будет объективным. Эти дворы до краев наполнены моей ностальгией.
Я вспоминаю, как мы с бабушкой могли целый час подниматься к себе домой. На первый этаж. Потому что по дороге нам встречались бесконечные соседи, с каждым из которых бабушка обязательно беседовала. Я тихонько стоял у нее в ногах, в прохладной полумгле подъезда, под невидимым мостом из слов над моей головой, причастный к чему-то взрослому.
Я вспоминаю деда, полковника-пограничника, уважаемого человека, местного «лидера мнений», как бы сейчас сказали. Вот он показался на горизонте, возвращается из магазина. В руке уважаемого человека – извечная авоська, из которой, как из Ноева ковчега, торчит каждой твари по паре: белые батоны, пухлые колбасы, ряженки в розовых шапочках, загадочные зеленые бутылки с пеной внутри, но не «Буратино», и непременно, как вишенка на торте, какая-нибудь игрушка. Из батонов, колбас и ряженки обязательно виднелись колеса грузовика или пластмассовый приклад ружьишка.
И, главное, я вспоминаю Кальдерманца. Это был мой легендарный друг детства. Настолько легендарный, что я до сих пор не уверен, правильно ли я запомнил его фамилию. Его имени история не сохранила: в нашем дворе Кальдерманца все звали только по фамилии.
Кальдерманц доблестно разрушил одну половину моего детства (над второй потрудился знаменитый мультфильм ужасов «Варежка»). Парадоксально, но друг испортил мне детство из благих побуждений. Кальдерманц был, как бы это сказать, моим телохранителем, но телохранителем неуклюжим. Он каждый раз хотел, как лучше, а получалось по-кальдерманцевски.
Мое детство, как у всей советской детворы конца семидесятых – начала восьмидесятых, прошло в стиле «милитари», в вечной тени ядерного гриба. Мы круглые сутки играли во дворе в «войнушку». Это был наш «Дом-2», мы отдавали этой забаве свои юные жизни без остатка.
Как известно, в игре дети моделируют взрослых. У нас, малышей, была та еще конкуренция. Почти как в том же «Доме-2». На пятачке двора сошлись два пятилетних альфа-самца – я и, кажется, Петров. Или Иванов. У моего Сальери была какая-то простейшая амебообразная фамилия, абсолютно не героическая. Не то что у меня – Батлук! Героика, аж звон в ушах. Вот с этим Сидоровым мы и соревновались за должность командира отряда. Я рос малышом с большими амбициями. Я любил власть и не любил торт «Наполеон», потому что природа запрещает пожирать себе подобное.
Наше соперничество подпитывалось происхождением. Я был из семьи потомственных военных, а папа условного Сидорова служил в каком-то жалком ГАИ. У всех остальных детей во дворе жизнь не удалась: они происходили из простого народа, поэтому не могли претендовать на командные должности. Этот жестокий негласный детский этикет всеми соблюдался.
Наше противостояние с Сидоровым заключалось в том, кто быстрее из нас двоих притащит из дома во двор очередной командирский атрибут. Выскочил он на улицу первым с милицейской полосатой палкой – он командир. Я подсуетился и нарисовался с биноклем – во главе сводной дивизии шантрапы генералиссимус Батлук (с должностями мы не мелочились).
На моей стороне было бесспорное преимущество. У Сидорова к силовым органам имел отношение только один отец. А у меня – целых трое: дед-полковник, дядя- моряк, военврач, и папа – военный инженер. Все они дружно поддерживали этот нездоровый ажиотаж. С каждым разом я появлялся во дворе все более сложно экипированным, как Шварценеггер в «Коммандо», так что в какой-то момент местные голуби начали подозрительно коситься в мою сторону.
Но тут Кальдерманц. Мой верный Санчо Панса. Мой милый враг. Кальдерманц сразу прочухал, на чьей стороне сила и влиятельные родственники с экипировкой, и везде таскался за мной в качестве адъютанта его превосходительства. При всей своей доброте и незлобивости Кальдерманц обладал крайне изношенной кармой. Это был человек-бедоносец, король неуклюжих. У него все валилось из рук.
Мне запомнились три характерных случая.
В первый раз дядя-моряк выдал мне свой парадный морской кортик. Без самого кортика, естественно. Одни ножны. Но и они стоили по детским меркам целое состояние. Когда я появился во дворе с пустыми ножнами, вся детвора сразу припала к моим ногам. Абсурд, конечно, но дети малые, что с них возьмешь. Даже из соседних дворов прибыло пополнение, прослышав про ножны. Я деловито расхаживал по плацу, строя личный состав. Личный состав в рваных колготках, шортиках на одной бретельке и панамках набекрень охотно строился. И даже Сидоров, присмиревший при виде кортика без кортика.
Мы построились, и я уже собирался скомандовать «в атаку». Но тут мне за спину тенью шмыгнул Кальдерманц. Шепотом он посоветовал мне высоко поднять кортик, чтобы все видели. Сказал, мол, так делал главный в одном фильме про войну. Совет был дельный, ничего не скажешь. Я громогласно скомандовал «в атаку», взметнул ввысь ножны на вытянутой руке, и мы толпой с гиканьем и улюлюканьем понеслись по двору.
Из-за дома вальяжно выплыл наш местный участковый. Вдали он увидел детвору, бегущую в его сторону, и, глядя на нас, по-отечески заулыбался. Внезапно улыбка слетела с его лица: он заметил младшего Батлука с кортиком над головой (оказавшимся там по мудрому совету Кальдерманца). На таком расстоянии, естественно, участковый не разглядел, что самого оружия у меня нет. В несколько прыжков милиционер подскочил к нам и ловким движением выхватил ножны из моих героических пальчиков. Личный состав мгновенно разбежался. Их можно было понять: получается, они воют с официальными органами, по сути с советской властью, раз уж участковый напал на их командира и разоружил его. Затем последовал долгий унизительный допрос на тему, где я зарыл кортик. Когда все выяснилось, Сидоров уже успел принять командование.
Во второй раз дед выдал мне планшет. Конечно, я бы просто убил местную детвору ipad pro, но тогда планшеты были другими. Кожаными, на ремне через плечо и с картой местности внутри (причем не Яндексом!). Для пущей убедительности дедушка запихал под слюду свежий номер журнала «Крокодил»: личный состав все равно еще не умел читать. Далее – по накатанному сценарию. С планшетом, даже не ipad pro, я тем не менее сразу выбился в командиры. Малышня снова выстроилась под моим командованием. Я приказал «в атаку», и мы побежали. Верный Кальдерманц, как ведомый в авиации, бежал за мной, прикрывая тыл. Проблема заключалась в том, что он и ходил-то нестабильно, постоянно падая в какие-то люки и ямы. А бег – так это было и вовсе не его. Уже через несколько секунд после старта Кальдерманц благополучно наступил мне сзади на планшет, который на слишком длинном для моего роста ремне волочился за мной по земле. Я мгновенно встал на дыбы в прерванном аллюре и шлепнулся на спину. Кальдерманц грациозно приземлился сверху. Сидоров смеялся громче всех, понятное дело.
Наконец, третий и самый унизительный конфуз приключился ровно в тот день, который обещал стать днем моего окончательного триумфа над Сидоровым. В то утро дядя-моряк выдал мне свою белую парадную фуражку. Слов нет, чтобы описать это чудо. Вот воистину – головной убор. Погода стояла прекрасная, поздняя весна, выходной день, наши дедушки, бабушки, родители и соседи блаженствовали на лавочках. Взрослые, все как один, не могли отвести восторженных взглядов. От меня. Я расхаживал перед строем с дядиной фуражкой в руке. Кокарда сверкала на солнце и слепила ребятишек. Они почтительно морщились. Сидоров, отправленный мной в последний ряд, тянул шею – видимо, хотел получше разглядеть из-за спин свое фиаско. Свершилось: Наполеон с улицы Подбельского наконец подобрал себе корону по размеру. Не треуголка, конечно, но все же. С другой стороны, карапуз в рваных колготках и треуголке – это был бы еще тот разрыв шаблона.
Я стоял лицом к своей грозной армии в коротких штанишках и вновь, в который раз, собирался отдать им приказ «в атаку». Краем глаза я заметил, как дедушка в предвкушении привстал со своей скамейки. Приказ «в атаку» я обычно отдавал немного не по уставу – говорил «на старт, внимание, марш». Но кто посмел бы поправить человека с морской парадной фуражкой. Не эти же сухопутные крысы. «На старт!» – пролетел над улицей Подбельского мой грозный писк. «Внимание!» – даже Сидоров, отбросив вражду и осознавая исключительность и торжественность момента, весь подобрался. И за секунду до того, как я гаркнул «марш!», едва не выплюнув свои маленькие легкие, Кальдерманц успел крикнуть мне: «Фуражку надень!»
Я молниеносно напялил на себя фуражку, развернулся на сто восемьдесят градусов от ребят и стартовал по асфальтовой дорожке с пробуксовкой и разгоном до 100 км/ч за три секунды. Я же командир, я должен бежать первым! Гигантская фуражка моментально сползла мне на лицо, полностью закрыв обзор. В результате вместо ста восмидесяти градусов я развернулся где-то лишь на сто и по красивой отчаянно прямой траектории на всем бегу сослепу врезался в дерево…
Кальдерманц, если ты читаешь эти строки, я не сильно переврал твою фамилию и ты узнал себя, знай, что ты – спонсор всех моих неврозов.
Хотя…
Если бы не ты рядом, какое бы у меня было детство там, на Подбельского? Маленький солдафон, повелевающий другими с помощью пустых ножен?
Нет уж.
Спасибо тебе за такие нужные уроки, мой любимый Кальдерманц.
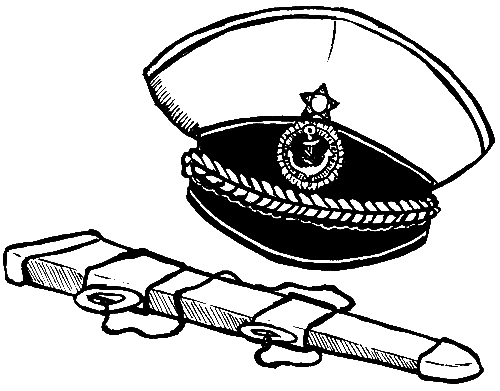
Мне всегда нравились девушки выше меня. Быть выше меня несложно при моих метр двадцать.
Долгое время я считал, что в этом моем предпочтении есть что-то от метафизического архетипического стремления мужчины обладать чем-то большим, весомым, осязаемым.
Вот такой я загадочный самец, думал я.
Оказалось, все проще.
Оказалось, что корни – в глубоком детстве, как всегда. И никаких загадок.
Моя матушка однажды припомнила, как в детском саду я дружил с девочкой на две головы выше меня.
В младшей группе мы ходили обнявшись, насколько это было возможно при наших физических различиях: она обнимала меня за шею, я ее – за колено.
В старшей группе девочка еще подросла, а я как будто даже скукожился. И она меня бросила и стала ходить в обнимку с равновеликим гренадером.
Очевидно, что мой роман был обречен изначально: я играл с ней в большую любовь, а она со мной – в дочки-матери.
Получается, вожделея впоследствии высоких, я пытался дотянуться своими короткими ручками до недосягаемой высоты той своей детсадовской любви.
Надо дождаться, когда каланче из садика стукнет восемьдесят, и она согнется в три погибели от ревматизма.
Классный план.
Только вот что со мной-то тогда будет в восемьдесят? Страшно представить.
Да и будет ли.
Лет до тридцати я любил праздновать свой день рождения. Пока не понял, что это обратный отсчет.
Моя мама собирала родственников и устраивала приемы в мою честь. У нее даже был фирменный тост: она каждый год поднимала бокал за то, каким противным ребеночком я рос и каким прекрасным вырос. Правда, из трехминутного тоста часть про противного ребеночка занимала 2 минуты 40 секунд, а дифирамбы – всего 20 секунд.
Основным атрибутом противного Олежки, по воспоминаниям матушки, было недовольное лицо. Даже не так. «Вечно недовольное лицо» – так она говорила. По ее словам, я даже смеялся с недовольным лицом.
На моем лице рос кактус. Вместо лица я носил чернослив. На моем лице жил ослик Иа-Иа. Мое лицо умело сворачиваться ежом.
А у моего папы про это была своя история.
Однажды я приехал на выходные в гости к бабушке и дедушке, папиным родителям. Я вошел в их квартиру с такой физиономией, как будто принес им вести о начале ядерной войны. Их кот при виде меня в последний раз мяукнул и пошел вешаться с тоски.
В коридор из комнаты грандиозно выплыл дед. Он всегда так появлялся. Бабушка и мама суетились вокруг меня, стягивая с принца верхнюю одежду. Я подзастрял в неуклюжем зипуне. Бабушка тянула меня за один рукав, мама – за другой. При этом мама нервничала и причитала, что я опять приехал к родственникам с недовольным лицом, поэтому зипун и не снимается (такая кармическая теория). Она требовала у меня немедленно снять недовольное лицо и надеть довольное.
Тем временем дедушка степенно подошел ко мне, сел передо мной на корточки (а это был смертельный номер по причине его лишнего веса и больных коленей) и взял меня за свободное лицо. Пока бабушка с мамой пытались оторвать мне руки, дед большими теплыми пальцами принудительно распрямил суровые складки моей недовольной физиономии. Он прошелся своей широкой ладонью по моему лицу, как утюгом, и вернул мой рот, съехавший в приступе младенческого скептицизма куда-то к уху, на место под нос. В качестве последнего штриха дед вылепил из моих губ улыбку. Тут и женщины как раз подоспели, и я с веселым чпоком вылетел из зипуна.
Мама и бабушка одновременно ахнули: я стоял посреди коридора и улыбался.
«Ну вот, – заметил дедушка философски, – а вы говорите „недовольное лицо, недовольное лицо“. Весельчак!»
7. Родина слышит, Родина знает
Никто еще серьезно не исследовал, как советские мифы (по-современному – «мемы») влияли на пластилиновую детскую психику. Я готов сделать первый вклад в такое исследование, рассказав о своем опыте.
В советском детстве меня отчаянно будоражил мем «строительство коммунизма». У меня в альбоме была марка «молодые строители коммунизма – вперед к новым успехам». Я воспринимал ее буквально, как прямое обращение партии и правительства лично ко мне. Вообще, если бы мои родители в то время узнали, что кто-то разговаривает со мной через почтовые марки, они бы, наверное, сильно расстроились. Я догадывался, что мои детские забавы и шалости не имеют отношения к строительству коммунизма. В школу я еще не ходил, а детский сад, даже во всем величии его старшей группы, не тот масштаб.
Как-то раз по телевизору я услышал выражение «стройки коммунизма», еще один фееричный мем. Я сходил на соседнюю стройку, но меня оттуда с матюками прогнал сторож, и я понял, что здесь, видимо, строят что-то другое.
Интуиция подсказывала мне, что строительство коммунизма ведется где-то там, на широких проспектах столицы нашей родины. И вот моя детская истерзанная поисками психика нашла решение. И я, наконец, научился строить коммунизм.
Я делал это двумя способами.
Во-первых, я читал настенную газету. В то время на улицах и даже в переулках размещались специальные стойки, на которых вывешивалась свежая газета. Рядом с моим домом стояла такая, и родители разрешали мне туда ходить. Читал газету – это громко сказано. Читать я тогда толком еще не умел, да и по росту дотягивался только до нижних газетных строчек. Я просто подолгу стоял неподвижно возле газеты и старательно тянул нос вверх, к передовице. Я был в восторге: еще бы, у подножия газеты «Правда» я строил коммунизм. Подозреваю, что со стороны это выглядело фриковато: шкет без признаков жизни, с глазами в кучу и задранным кверху носом. Вспоминаю, как однажды незнакомый дядька сделал мне замечание. Он спросил, не собираюсь ли я тут ссать на «Правду». Так он спросил.
Во-вторых, я много говорил по телефону. Напротив газетной стойки располагалась телефонная будка. Та самая, советская, с телефоном-автоматом внутри. Я торчал в ней до посинения, приложив трубку к уху и глазея на похожих изнутри. Я чувствовал, что мы с ними вместе делаем одно общее дело – строим коммунизм. Прохожие проходили мимо, наверняка удивляясь сосредоточенному лицу карапуза в будке и гадая, с кем же он там разговаривает. А я разговаривал с партией и правительством, не меньше! В этом я ни на секунду не сомневался: в одном фильме по телевизору Ленин беседовал с кем-то по точно такой же тяжелой черной никелированной трубке.
И, самое невероятное, партия и правительство мне отвечали!
«Московское время восемнадцать часов двадцать пять минут», – отвечали мне партия и правительство.
При социализме была крутая, качественная мифология.
В моем детстве гремел рассказ про Ленина и чернильницу. Кажется, Бонч-Бруевича. Кстати, это еще одно доказательство крутой мифологии: я думал, что это два разных человека, Бонч и его друг Бруевич, а потом оказалось, что все-таки один.
В том рассказе описывался случай, когда Ленин в тюрьме молоком из чернильницы, сделанной из мякиша хлеба, нацарапал то ли манифест Троцкому, то ли любовное письмо Крупской. А когда вошли жандармы, Ленин ее съел. В смысле, чернильницу, а не Крупскую.
Кто из моего поколения после этого не пробовал писать молоком? Писать молоком – знак принадлежности к эпохе, наш тайный код. Я не уверен, что у кого-то из нас получилось…
Лично меня мама однажды застала на кухне в луже молока, облепленного хлебными крошками, и наказала за надругательство над хлебом. После этого я начал сомневаться в Ленине.
И начал подозревать, что Бонч с другом Бруевичем вовсе не те, за кого себя выдают.
Для советского ребенка познание мира начиналось не с прописей, не с букварей, не с учебников. Познание мира для советского ребенка начиналось с мультиков.
Советский Союз знаменит своей мультипликацией. Неоднозначной и непростой, как и все в Советском Союзе.
Я уверен, что мультипликация в СССР была еще одной формой диссидентства, эзоповым языком протестующей интеллигенции. Это такой официальный самиздат. Многие советские мультфильмы глубоки, как Достоевский. Через головы детей они обращались к взрослым, с помощью тайнописи подтекста.
Некоторые шифровки мультипликаторов, спрятанные ими в невинных на первый взгляд сюжетах, в свое время дошли до моего детского подсознания.
Эти мультики стали моими любимыми. «Шпионские страсти», «Паровозик из Ромашково», «Винни-Пух», «Малыш и Карлсон», «Ну, погоди!». Именно они произвели во мне коперниканскую революцию посреди тотальной птолемеевой ереси.
В «Шпионских страстях» я тайно сочувствовал шпионам. К счастью, у меня хватило куриных мозгов не признаться на очередном уроке политинформации, что я мечтаю стать предателем родины. А как было не мечтать об этом? Главный герой, которого совращала Антанта, делал ровно то, о чем я в начальной школе грезил ночи напролет, подергивая во сне ножкой: курил папиросы, ходил по ресторанам и встречался с роковой красоткой на три головы выше его.
В «Паровозике из Ромашково» я таял, как рафинад в кипятке, при виде поезда на обочине. Образ «поезда на обочине» был антисоветским по сути, ментальной катастрофой. «Наш паровоз, вперед лети» – эпоха на всех парах мчалась в ближайшую вечность, сияющую на картине Богаевского «Днепрострой». В «Паровозике из Ромашково» поезд не «сошел», а «ушел» с рельсов: между этими двумя глаголами лежала мировоззренческая бездна. Советский поезд мог покинуть рельсы только в результате трагического инцидента, но не своего осознанного выбора. Не сомневаюсь, что «Паровозиком из Ромашково» диссидентствующие мультипликаторы протестовали против строительства БАМа.
Отечественный «Винни-Пух» был энциклопедией советской жизни, парадом типажей. Я обожал этих персонажей, всех без исключения, что не удивительно, ведь их списали с моих знакомых и соседей. Винни напоминает откинувшегося уголовника. Отчасти эту аллюзию подпитывал Евгений Леонов, озвучивший медвежонка и сыгравший урку в «Джентльменах удачи». Но не только. Винни-Пух постоянно совершает различные правонарушения: гоп-стоп с пчелами, разбой у Кролика дома, разводилово Совы с ослиным хвостом. Винни-Пуху не хватает только смачной татухи на лапе, хотя не исключено, что на первых эскизах она была. Пятачок – классическая «шестерка», «слабак», «заблуждающийся». Кстати, самая серьезная статья в итоге светит как раз этой неуверенной в себе свинье – за применение огнестрельного оружия против пчел. Сова восходит к классическим перекупщицам в малинах, воспетых в «Место встречи» в лице Верки Модистки. Немудрено, что у нее нашелся ворованный хвост. Что касается ослика, тут все совсем очевидно, так как это образ вечно пьющей русской интеллигенции: депрессия в день рождения, где-то потерянная накануне часть тела, неузнавание себя в зеркале вод.
«Малыша и Карлсона» советские мультипликаторы обременили сразу несколькими подпольными смыслами. Во-первых, это пацифистский мультик: Карлсон – боевой вертолет, уволенный из армии за доброту и человеколюбие. Во-вторых, это протест против карательной педагогики в лице Домомучительницы. Карлсон – первый советский Монтессори.
Антагонисты в мультфильмах той эпохи были всегда привлекательнее протагонистов. Положительные герои вызывали отрицательные эмоции. За ними не хотелось идти даже до следующего столба, не то что до конца. В моем случае это наиболее яркое проявилось с «Ну, погоди!». Я от всей своей чистой детской души желал Зайцу смерти. Причем мучительной. Я не понимал, какого лешего этот гиперпозитивный хмырь докопался до несчастного Волка. Последний, опять же, олицетворял для меня очередную ролевую модель: я тоже мечтал носитель тельняшку, гонять на бетономешалке и опрокидывать урны.
Но самый разрушительный эффект на мое еще не оперившееся и покрытое нежной пыльцой детское подсознание произвел вроде бы совсем невинный и непритязательный мультфильм «Ох и Ах».
«Ох и Ах» – это еще одна филигранная фальшивка про двух антиподов.
Ох – антиобщественник, вредный элемент, нахлебник. Это в терминах той эпохи. Или: слоупок, депрессант, асоциал, мизантроп и прокрастинатор, если говорить современным языком. Такой мультипликационный Обломов.
Ах – его противоположность: энтузиаст, вертихвост, стахановец и передовик, или стартапер-адреналинщик, по-нашему. В вечной движухе и гиперактивности.
Ах постоянно норовит перевоспитать Оха, форматирует его, тормошит.
Официальная мораль советского мультфильма понятна: будьте, как Ах.
Но на меня лично сила этого произведения искусства действовала, как и было задумано его создателями, с точностью до наоборот. Я завидовал Оху и хотел жить как он – в кладовке и в паутине. Я снова, как и в случае с Зайцем и Волком, не понимал, почему этот розовощекий Ах до него докопался. И, когда в итоге по сюжету Оха заставили постричься и убрать паутину, я почти физически страдал.
После просмотра «Оха и Аха» я каждый раз доставал из ящика для стирки грязные вещи и отказывался идти в школу.
«Кладовка или смерть!» – скандировал я родителям.
Ах – это такой советский мультипликационный анти-Че Гевара.
В итоге после «Шпионских страстей» я, конечно, не стал шпионом, зато освоил английский и полюбил путешествия заграницу.
«Паровозик из Ромашково» научил меня тому, что в конце великого пути нет ландышей. Ландыши растут на обочинах. А в конце великого пути – лишь тьма гулкого депо.
«Винни-Пух» подготовил меня к разнообразию человеческой природы и к тому, что совы – не то, чем кажутся.
«Малыш и Карлсон» помог мне принять очень важное в моей жизни решение: после восьмого класса я перешел из обычной школы в экспериментальный лицей.
А благодаря «Ну, погоди!» я усвоил золотое правило, которому следую до сих пор, – держаться подальше от зайцев.
Как ни крути, получается, что всем хорошим во мне я обязан советской мультипликации.
В детстве художественный вымысел был для меня непосильной ношей. Если других детей искусство лишь слегка увлекало, то меня безвозвратно засасывало.
Так, после просмотра мультика про «Варежку» я наотрез отказался носить варежки. Тот просмотр очень некстати случился зимой, на улице стояли морозы, а не лежала прохлада, как нынче, в двадцать первом веке. Матушка, батюшка, бабушки, дедушки и тетушки использовали весь свой коллективный IQ, чтобы убедить меня утеплиться, но я извивался с воплями, что не собираюсь надевать на себя дохлых собак.
По словам Достоевского, все мы вышли из «Шинели» Гоголя. Про всех не скажу, но я лично вышел из «Варежки» режиссера Романа Качанова.
Кино имело надо мной тираническую власть. Кино продолжалось во мне и после кино.
Как-то раз, еще в начальной школе, я решил поиграть в «Четыре танкиста и собаку». В Советском Союзе гремел такой фильм польских кинематографистов.
Дома, в своей комнате, из подручных предметов я легко соорудил себе танк: четыре стула, впереди швабра – вот и весь военпром. И хотя стулья стояли в ряд, как в трамвае, главной бедой моего танка было даже не это. До четырех танкистов мне не хватало ровно трех танкистов.
Со вторым танкистом я решил вопрос довольно быстро, пригласив в гости закадычного друга детства Сему. Но дальше начались проблемы. С остальными членами экипажа возникли сложности: дело в том, что мы с Семой в то время больше не знали никаких других детей, кроме друг друга. «ВКонтакте» тогда еще не было, и оперативно расширить круг знакомств не представлялось возможным.
Сема предложил сделать вид, что два других танкиста погибли. Я готов был согласиться на эту уловку, но, как маньяк чистого искусства, выдвинул одно условие: тела мертвых танкистов должны быть настоящими. Сему это озадачило настолько, что он даже заплакал.
Я не мог позволить себе подвести польских кинематографистов. Горшочек моего мозга отчаянно варил, правда, как всегда, не по рецепту. Поэтому я довольно скоро нашел элегантное решение. Я объявил, что два других танкиста уехали в командировку. Звучало загадочно и торжественно.
Мы вчетвером – я, Сема и два танкиста в командировке – заняли свои места в танке. И тут я осознал, что у нас нет собаки.
Весь следующий час мы с Семой носились по двору перед домом за бездомной дворнягой. Несчастное животное неосмотрительно выбрало наш микрорайон для послеобеденного сна. Когда собачка уже почти сдалась и стояла на задних лапах, держась за березу и кашляя вместо лая, Сема запаниковал.
Он начал скакать вокруг меня и кричать, что, даже если мы поймаем собаку, мы никогда не сможем поймать девочку. Шельмец был формально прав. В фильме «Четыре танкиста и собака» фигурировала некая возлюбленная главного героя, рыжая бестия. Сема настолько не верил в наши с ним перспективы поймать целую девочку, что вторично за день заплакал. Собака отдышалась, на прощание лизнула плачущего Сему и убежала.
Из двора нас забрала моя бабушка, вернувшаяся из магазина.
Пока мы поднимались наверх в квартиру, бабушка уточнила причину Семиных слез. Добрая женщина сразу согласилась стать рыжей бестией. Моего непритязательного приятеля это устроило. Я же потребовал у бабушки снять очки и причесаться, малолетний шовинист.
Но даже причесанная бабушка не решала проблему собаки.
Ее решил мой хомяк.
До того момента он уже целый год влачил бессмысленное существование в моей комнате. Наконец для него настал великий день, постановил я и повысил это бесполезное существо до собаки. Я разместил его в танке в коробке из-под ботинок.
И вот высшая художественная справедливость восторжествовала: четыре танкиста в составе меня, Семы, а также двух командированных товарищей вместе с собакой в виде хомяка гордо двигались навстречу рыжей бестии шваброй вперед, а рыжая бестия в исполнении причесанной бабушки без очков приветственно, хотя и подслеповато, махала нам рукой.
Мой папа, вернувшийся в тот момент с работы и заставший нашу артистическую инсталляцию, воскликнул:
«Ого! В человека рассеянного с улицы Бассейной играете?»
Действительно, есть у Маршака такое стихотворение.
Но оно совсем про другое, катастрофически про другое.
Мой папа всегда был непоправимо далек от искусства.
Кто смотрел советский мультфильм «Варежка», тот над «Хатико» не плачет.
Правда, самое страшное кино из детства и спонсор моего заикания – это все-таки не «Варежка», а «Всадник без головы».
Я посмотрел его в деревне в четырехлетнем возрасте. На ночь. Я бы точно поседел, если бы на тот момент и так не был блондином.
После просмотра этого веселого семейного приключения с безголовым трупом, привязанным к лошади, я весь вечер ни на секунду не отходил от взрослых.
Взрослые же в полном составе пошли сидеть на лавочке за ворота: так делал весь местный деревенский бомонд. Селяне на лавочках за воротами переговаривались через улицу, перекидывались последними новостями. Это был прототип современного «Фейсбука».
Я увязался со своими и уселся с краю, вцепившись маленькими побелевшими пальчиками в отца.
Фильм закончился, но только не для меня. В моей голове звучала тревожная музыка, прямо как пишут в титрах.
Разговоры постепенно смолкли. Все наслаждались тихим очарованием летней ночи. Небо было высокое, усыпное. Крупные гроздья звезд аж звенели. Цикады поигрывали на тонких струнках души.
«А-А-А-А», – раздался истошный вопль, и по улице в гулком безмолвии пронесся я.
На этом мои воспоминания о том прекрасном вечере заканчиваются. По легенде, меня потом несколько дней не могли выковырять из-под кровати и носили туда еду.
Вторая часть истории вошла в анналы уже по воспоминаниям родственников, в частности моего отца.
Селяне на лавочках молча проводили меня взглядом, пока я не добежал до калитки нашего дома и не исчез за ней.
«Чего это он?» – спросила соседка из дома напротив.
«Фильмов пересмотрел», – ответил мой отец и указал ей в начало улицы, на пригорок.
Там в начале улицы, на пригорке, в багровом зареве закатного солнца стоял всадник без головы.
Но, кроме меня, его почему-то никто не испугался.
Всадник без головы спустился с пригорка и поехал вниз по улице.
Как только он поравнялся с нашей лавочкой, все узнали в нем местного пастуха Петьку.
Петька ехал верхом на своей старой кляче, набросив на голову капюшон куртки от комаров. Старая кляча очевидным образом делала его всадником, а капюшон – без головы.
Петька уже миновал лавочки, когда соседка из дома напротив крикнула ему в след:
«Петька, придурок, кончай бухать! Вон ребенка за версту напугал своим перегаром!»
При наших современных городских тропических зимах Дед Мороз – это уже давно комический персонаж.
Ну, какой Мороз, право. Скорее, Дед Оттепель. Или Дед Слякоть. Или Дед Какой Придурок Опять Рассыпал Эту Соль. Правда, последнее имя – совсем уж экзотическое для Деда.
В наше время из-за глобального потепления эти двое находятся в хронической противофазе: Дед с Морозом встречаются только в мультиках.
А вот в моем советском детстве было и то и другое – и деды, и морозы.
Родители старались, чтобы Дед Мороз приходил ко мне на каждый Новый год. «Старались» – не в том смысле, что подсыпали мне галлюциногены в еду. Они наряжались. Косплеили Деда, как бы мы сейчас сказали. Для нас, советских детей, у Деда Мороза было знакомое лицо, потому что это лицо обычно принадлежало кому-то из наших родственников.
Впервые Дедушка Мороз вошел в наш дом, когда мне было годика три. Накануне торжественного события я так нервничал, ожидая анонсированного родителями Деда, что никак не мог заснуть. Мама полночи читала у постели начинающего невротика книжку. Это был сборник рассказов для детей про Ленина. В них его через строчку называли «дедушка Ленин».
Поэтому, когда на следующее утро в дверях квартиры возник мой отец, переодетый Дедом Морозом, и собравшиеся по случаю родственники хором спросили меня: «Кто это, Олежка?», я не задумываясь ответил: «Дедушка Ленин!»
В шестилетнем возрасте во мне стали пробиваться слабые признаки интеллекта.
По рассказам родителей, в мой последний перед школой Новый год они всерьез озаботились правдоподобием наших ритуальных мистерий с Дедом Морозом. Папа, много лет послушно игравший эту роль, вдруг пошел в отказ.
«Я уже давно перерос этот образ! Я не развиваюсь! Это актерская смерть! Я хочу сыграть Макбета, Свидригайлова!» – кричал он.
Ладно, не кричал. Но дедморозить отказывался…
Он заявил маме, что, по его мнению, я начинаю что-то подозревать. Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу, сказал папа, цитируя анекдот. И потребовал себе замену.
Все эти сомнения посетили папу очень вовремя, за пять минут до выхода на сцену. Я уже сидел в комнате под елкой, ожидая рутинно-волшебного звонка в дверь. (В шесть лет некоторые из моих сверстников уже пить бросали, а я все Деда Мороза под елкой ждал – это так, штрихи к портрету.)
На маме был стол.
«На мне стол!» – воскликнула мама и побежала на кухню, пригнувшись и втянув голову в плечи, как будто стол был на ней не в фигуральном, а в прямом смысле.
В коридоре остались двое – папа и бабушка.
За одну минуту папа уговорил бабушку, за вторую он надел на нее костюм Деда Мороза, за третью укоротил на ней огромный красный тулуп, за четвертую вручил ей мешок с подарками и на пятой минуте отец торжественно вытолкал бабушку за дверь. Эта бабушка была мамой моей мамы, то есть папиной тещей. Поэтому не исключено, что в тот момент сбылась одна тайная папина мечта.
Наконец, в дверь позвонили. Я выбежал в коридор.
Дед Мороз 2.0 в исполнении бабушки был в два раза короче стандартного типового Деда Мороза.
Бабушка попыталась минимизировать женственность своего голоса, поэтому Дед Мороз 2.0 говорил как алкоголик, который сжег себе связки техническим спиртом.
В довершение этого фиаско накладная борода оказалась бабушке слишком велика. Поэтому борода Деда Мороза 2.0 начиналась прямо от бровей, что делало его похожим на Вия, о котором я, к счастью, в те годы еще не знал.
Но бабушка играла самозабвенно, с лихвой компенсируя провал костюмера.
Родителям показалось, что я ничего не заметил. Все шло прекрасно.
И тут мама с папой обратили внимание, что я как-то странно кошусь на ноги Деда Мороза.
Они присмотрелись. Папа слишком сильно укоротил бабушке тулуп. На ее ногах, доступные всеобщему обозрению, красовались домашние тапочки. «Фирменные» бабушкины тапочки с большими помпонами, которые она всегда носила по дому.
Все прямо как в том дурацком детском анекдоте, снова про Штирлица: ничто не выдавало в Штирлице русского разведчика, кроме буденновки и балалайки.

Пока родители пытались предсказать мою реакцию на их вероломство и измерить глубину нанесенной ребенку травмы, я продолжал принимать подарки и водить хороводы, как ни в чем не бывало.
По воспоминаниям мамы, папа прошептал ей тогда:
«У него, видимо, шок».
И вот очередной домашний ТЮЗ подошел к концу, и мы направились в коридор провожать сказочного гостя.
Там я попросил Деда Мороза наклониться ко мне и что-то шепнул ему на ухо. Дед Мороз в ответ погладил меня по голове и вышел за дверь. А я побежал в комнату разбирать подарки.
Через несколько минут бабушка-оборотень незаметно прокралась обратно в квартиру в своем человечьем обличье.
Родители немедленно бросились к ней:
«Что он сказал? Что сказал?»
Бабушка улыбнулась и ответила.
Родители тоже начали улыбаться.
А папа даже добавил:
«Вот она, сила искусства!»
В коридоре, у входной двери, я прошептал Деду Морозу на ушко:
«Я знаю, что ты надел бабушкины тапки. Но я тебя не выдам!»
В детстве я проводил лето на даче с бабушкой.
Как-то раз бабушке нужно было отъехать на несколько часов в Москву.
Она сказала, что ненадолго отведет меня к соседке.
И я разрыдался. Как клоуны в цирке – ручьями. Один раз я уже был у той соседки – больше не хотелось.
«Олежка, тебе там не нравится?» – спросила бабушка.
«Она – Баба-яга», – раскрыл я свои карты.
«Почему Баба-яга?» – удивилась бабушка.
«Она пьет гриб!» – разрыдался я пуще прежнего.
У советских людей был такой фетиш – гриб. Они держали его в неволе в трехлитровой банке в воде, пока он не отдаст им все свои живительные соки. А потом пили эту гомеопатическую амброзию. Гриб выглядел ужасно – как мертвый распухший блин. Он плавал в банке у той соседки и в первый мой визит страшно меня напугал.
Но бабушке очень надо было в Москву.
«Пойдем, – сказала бабушка, – я тебе кое-что покажу».
Мы направились к соседке.
Пока мы шли от ее калитки к дому, пионы вдоль дорожки поворачивали ко мне свои румяные бутоны и шептали:
«Тебе конец, глупый мальчик!»
В доме произошла катастрофа. Моя бабушка взяла у соседки ту самую банку с дохлым блином внутри, налила себе стакан и выпила!
«Вот видишь, ничего страшного, очень даже вкусно», – собиралась сказать бабушка, но успела произнести только «вот видишь…»
Потому что я опять разревелся.
«А-а, – кричал я, – теперь и ты Баба-яга!»
В итоге в Москву мы поехали с бабушкой вместе…
Та соседка по даче, кстати, до сих пор жива, дай ей Бог здоровья. В свои девяносто носится по участку и одной рукой выкорчевывает пни. Натуральная Баба-яга.
По ночам ее дом жалобно трещит всеми дощечками. Это рвется на волю гигантский гриб. Можно себе представить, как он должен был вырасти за эти годы.
В моем детстве на даче у бабушки стоял старый советский ламповый радиоприемник «Аккорд». Деревянный, на ножках, размером с телевизор.
В верхней части радиоприемника, на втором этаже, помещался проигрыватель виниловых пластинок. Каждый раз, когда мы запускали у него на голове пластинку, радиоприемник расстраивался из-за того, что его использовали не по назначению – так мне тогда казалось.
По вечерам, сразу вслед за сумерками, когда дачные собаки деликатно замолкали, пропуская вперед ночь, наступало мое время. Родители укладывали меня в комнате и уходили на террасу смотреть телевизор. Меня телевизор не интересовал: я оставался наедине с настоящим, а не тем поддельным чудом – с радиоприемником.
Едва я нажимал на белую пузатую кнопку, прибор оживал. Он светился изнутри каким-то нездешним лунным светом и тихо дышал, шипя.
Я завороженно вглядывался в лучистую шкалу: КВ2, КВ1, ДВ, СВ, МП, УКВ – это была поэзия, тайный шифр мироздания.
Я осторожно трогал колесико справа с настройкой частоты. Осторожно, потому что оно управляло душой радиоприемника. Я медленно вращал теплый (от моих пальцев) диск, намеренно пропуская станции с песнями и голосами людей. Тихонько, на цыпочках, я приближался туда, к заветному краю шкалы, вдоль которой мерцали названия невиданных городов: Прага, Дрезден, Турку, Стокгольм, Белград, София… Наконец, я миновал их все, вертикальная красная линия проплыла мимо загадочного Беромюнстера, и вот она, цель моего путешествия, вот он, мой таинственный собеседник, в тысячах километрах от подмосковной дачи, в миллиметре от загадочного Беромюнстера.
Каждый раз, когда я подводил поисковую проволоку к этой точке на шкале, из радиоприемника раздавался сигнал. Что-то слабо, едва различимо пикало в динамиках, через одинаковые интервалы в несколько секунд.
Однажды мы с папой нашли это место на шкале, и он сказал, что, возможно, какое-то судно в океане посылает нам радиосигнал. Папа сказал именно так, слово в слово, довольно сухо.
Из-за того, что он употребил слово «судно», а не «корабль», «океан», а не «море», наконец, «радиосигнал», а не «пиканье», приемник на моих глазах из непонятной деревяшки мгновенно превратился в волшебную лампу Аладдина. Я знал: мой папа, по профессии радиоинженер, не мог ошибаться в таких вещах.
Я засыпал под нечленораздельное шипение советского лампового радиоприемника «Аккорд», вслушиваясь в мягкую раковину подушки, и представлял одинокое судно в ночной дали океана, посылающее мне сигнал через бесконечность.
15. Школа эстетического воспитания
В нашем районе в советское время существовало такое чудище морское – «Школа эстетического воспитания».
«Школа эстетического воспитания» располагалась в безобразной подворотне. Родители водили меня туда на занятия в последний год перед поступлением в школу. Это было оправданной мерой. Я рос довольно сермяжным ребенком: мог сесть за стол без ножа для рыбы и при слове «жопа» не собирался падать в обморок.
В той школе, среди прочего, нас учили рисовать. А потом устраивали маленькие выставки из детских работ. Отец до сих пор любит мне припоминать, что мои картины можно было узнать сразу. Еще за три квартала. На черном небе – черное солнце, а под ними – черные дома на черной земле и скелеты черных людей. И все это с черными эстетическими разводами. Школа-то эстетического воспитания. Вот я и старался соответствовать.
Однажды на очередной выставке к моему папе подошел педагог и попросил уделить ему одну минутку. Преподаватель начал рассказывать отцу о том, какой я сложный ребенок, какой лиричный, какой мыслящий, какой ищущий и даже сомневающийся. И все в том же духе. Папа периодически испуганно оглядывался на меня, стоящего поодаль, сверяя оригинал с интерпретацией педагога. По словам отца, я во время их беседы хомячил огромное яблоко. Немытое.
На словах учителя о том, какая я невероятно глубокая и тонкая личность, я закончил есть яблоко, рыгнул и выбросил огрызок в окно.
16. С немытой головой в светлое будущее
От важных событий в памяти через много лет остаются одни лоскуты. Как будто они истрепались на ветру времени.
Про свое 1 сентября я помню какую-то чушь.
Я запомнил, что мы с мамой, и бабушкой, и папой, и соседкой, и ее собакой, и нашим дворником, и еще с десятком каких-то неравнодушных людей так спешили торжественно проводить меня в первый класс, что забыли помыть мне голову.
Когда мы большой делегацией, замыкаемые собакой, шли от дома к школе, мама так и сказала:
«Ой, мы забыли помыть ему голову».
Едва она это произнесла, голова у меня стала чесаться.
Я рос крайне чувствительным и мнительным ребенком, и к тому моменту, когда впереди показался пестрый гудящий школьный двор, я мог думать только о своей немытой голове.
Директор школы произносил речь про «самый важный день в жизни», а я стоял и психовал, что в самый важный день в жизни у меня на голове птичье гнездо. Тогда я еще не подозревал, сколько разных директоров впоследствии будут задвигать мне про «самый важный день в жизни».
Я накрутил себя про немытую голову настолько качественно, что решил прикрыть ее от посторонних взглядов букетом цветов, плотно прижав его к лицу.
Директор отмикрофонил по бумажке, и торжественная линейка под веселую музыку стала расползаться в светлое будущее, по классам. Букет, за которым я прятал немытую голову, полностью закрывал мне обзор. Я шел в толпе наугад, за шорохом шагов впереди. Через несколько минут шорох шагов впереди начал стихать. И в то же мгновение над школьным двором раздался чей-то металлический голос из мегафона:
«Чей ребенок идет в стену?»
Это был чей надо ребенок, ребенок своих родителей, моих родителей, то есть я. Из-за того дурацкого букета поверх лица я отбился от стада и шел по направлению к глухой школьной стене. Меня поймали и вернули в строй. Впоследствии я еще долгое время фигурировал среди учителей и родителей под кодовым наименованием «ребенок, идущий в стену». В прекрасном японском это наверняка называется одним красивым словом, вроде «камикадзе».
Но самое ужасное случилось уже в классе, куда нас, первоклашек, привела учительница. Мы все кучковались у входа в помещение, пожирая взглядом вожделенные парты, пока учительница зачитывала что-то торжественное по бумажке. Толпа детишек оттеснила меня в самый угол при входе в класс. Там я наконец отлепил букет от лица и огляделся. И первое, что я увидел, была раковина.
«РАКОВИНА!» – подумал я и начал сползать в обморок.
У нас в классе в углу при входе почему-то располагалась обыкновенная раковина с краном.
Я понял, что сейчас мне прилюдно, на глазах у всех этих незнакомых детишек, будут мыть немытую голову, ведь с немытой головой за такую чистую прекрасную парту, очевидно, садиться нельзя. Возможно даже, директор лично придет натирать мою жалкую черепушку хозяйственным мылом.
Я попытался выбраться из угла, как боксер в клинче, но передо мной стояло сразу несколько рослых девочек. Это было советское время, и тогда с экологией дела обстояли куда лучше, чем сейчас, поэтому девочки получались как на подбор – высокие, крупные.
В руках девочки-гренадеры держали одинаковые букеты гладиолусов. Это все был, конечно, полный сюрреализм и 1 сентября в Твин Пиксе, если бы я тогда знал, что значить «сюрреализм», не говоря уже о «Твин Пиксе».
Я оставил попытку вылезти из-за девочек (в любом другом контексте это, пожалуй, звучало бы даже романтично) и затаился в углу, как хорек.
Торжественная речь учительницы размеренно шелестела сквозь гладиолусы, и я немного подуспокоился. Я даже слегка осмелел и подумал, что, может быть, меня на первый раз пощадят и не станут мыть голову.
И в этот момент мой взгляд упал на портрет Ленина, висевший на стене класса.
«Без валиантов – мыть!» – сказал портрет картаво. И я снова начал терять сознание…
Через много лет у меня постепенно выпали волосы, и я облысел.
Уверен: от последствий того стресса 1 сентября.
Я не люблю свой день рождения.
Не люблю с того момента, когда мне подарили деревянную лошадку. Мне сказали «беги скорей сюда, малыш, мы подарим тебе лошадку», и я побежал. За живой лошадкой. А лошадка оказалась мертвой. В смысле – деревянной, что, по сути, для ребенка одно и то же.
В другой раз, тоже в малолетстве, я так лихо задул свечи на праздничном торте, что спалил себе брови. Безбровый бледный ребенок – то еще зрелище, матушку потом отпаивали шампанским. С тех пор я не приемлю тортов со свечами. Вообще, задувать свечи после тридцати опасно – можно сгореть заживо.
«Все неврозы из детства», – как хором скандируют неврозы на своем ежегодном слете в подвале Клиники неврозов.
Я не исключение. Мертвая лошадка в подарок – это так, не серьезно. Не серьезно. Не серьезно. Не серьезно. Отвечает у меня только за невроз навязчивых состояний.
Было кое-что и пострашнее.
В начальной советской школе у нас практиковался такой обычай: в свой день рождения каждый именинник приносил в класс большой пакет с конфетами. Ходил с ним по рядам и раздавал сладости одноклассникам.
Мой день рождения приходился аккурат после зимних каникул. Горечь окончания праздников и стресс возвращения на школьные галеры для моих товарищей каждый год компенсировались пакетом с лакомством от Батлука. И в этом была проблема.
Родители школьников подходили к задаче формирования подарочного пакета весьма серьезно. Ведь это был своего рода пакет тщеславия, индикатор благосостояния семьи. Один мальчик как-то раз принес кулек с ирисками – его потом до восьмого класса так и обзывали. Нет, не ириска, если бы. Кулек.
Мои матушка с батюшкой не были исключением. Подарочный пакет они наполняли с размахом членов ЦК КПСС – только элитными шоколадными конфетами, вроде «Белочки» или «Мишки на Севере». Это сейчас ассортиментом никого не удивить. А в советское время с белочкой хорошо было только в плане последствий от алкоголя, а в плане конфет с «Белочкой» наблюдался дефицит.
Подарочный пакет от Батлука был очень щедрым, в то время как сам Батлук был очень жадным. И в этом заключалась проблема. Я до зубной боли, до покраснения конечностей не хотел делиться с этими упырями-одноклассниками своими конфетами.
Особенно шоколадными медалями. Это были хоть и шоколадные, но все-таки медали, а я рос очень амбициозным мальчиком. Отдавать свои медали другим детям – за что, с какого перепугу? Разве они тряслись над ними, так же как я, сгрызая ногти до фаланг от жадности? Нет! Только я, я, ребенок без пальцев, заслужил их!
В пакете шоколадных медалей и так было совсем немного – всего пара штук. И эти троглодиты, мои одноклассники, каждый раз их обязательно из пакета выметали. Под ноль. К концу праздничного обхода в пакете почти ничего не оставалось: двоечники брали оттуда и по две, и по три конфеты (а еще про них говорили, что они считать не умеют – чушь). Я, конечно, старался подсунуть детворе побольше сладостей под названием «Раковые шейки». Лично меня эти конфеты настораживали. Перспектива глотать нечто, сделанное не просто из раков, а из их шей, откровенно пугала. Но эти мелкие мерзавцы беспардонно копались в пакете, залезая своими шаловливыми ручонками в самые заветные недра, где на дне мною были надежно, как мне казалось, припрятаны медальки.
И в третьем классе я не выдержал. Я спрятал шоколадные медальки в настолько укромном месте, что оттуда их смог бы достать разве что проктолог. Я их съел.
Прямо перед тем, как идти утром в класс, под лестницей на первом этаже школы. Схомячил. Все медальки без остатка, едва золотую фольгу не проглотил.
Потом посидел, подумал и для верности съел еще все «Мишки на Севере». Тоже вкусная конфета была. Эти мелкие обжоры все равно не оценят, решил я тогда.
Затем я прикончил все «Белочки». «Еле „Белочку“ раздобыла», – сказала накануне мама отцу. И чтобы плоды трудов бедной женщины достались этим неблагодарным коротышкам? Ни за что!
Через пять минут на дне пакета остались две «ириски», непонятно как затесавшиеся в кондитерскую элиту.
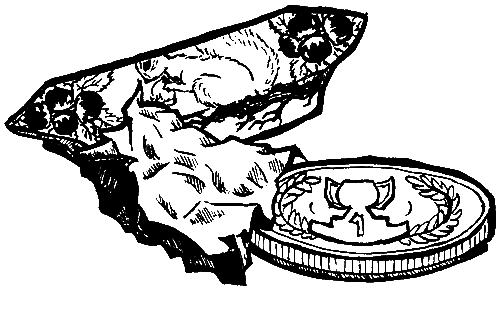
С двумя ирисками в народ не пойдешь, здраво заключил я и вместо народа пошел к школьному доктору.
Я направлялся к нему соврать, что у меня болит живот. Пока дошел, живот и вправду разболелся – пакет был увесистым. Доктор дозвонился к нам домой, до моей бабушки, и она забрала меня из школы до начала уроков.
Я лежал в кровати, отчаянно переваривая мишек с белочками, и представлял себе перекошенные лица этих упырей, этих мелких обжор, этих неблагодарных коротышек – своих любимых одноклассников, так и не дождавшихся заветного пакета. И медалек! Да, и медалек, конечно.
Это был самый лучший день рождения в моей жизни.
Ведь именно тогда я понял, что означает «сладкая месть».
В моем детстве во время аномальных зимних морозов отменяли занятия.
Чтобы дети по дороге в школу не отморозили себе большое социалистическое будущее.
Школьники были благодарны правительству. И не только за заботу о здоровье. Но и за прекрасно проведенное время.
Потому что уже через полчаса после сообщения об отмене уроков вся наша школа в полном составе собиралась на самой большой в районе ледяной горке.
К третьему классу я научился хорошо писать.
И на этом спокойная жизнь моей семьи закончилась: джинн малолетнего подсознания вырвался наружу.
Я исписывал по маленькой тетрадке в день. Обеспокоенные родители начали покупать мне общие тетради по 48 листов – я исписывал по общей тетради в день, всю до листочка. Я мог писать на листах в клетку, в линейку, в крупный и мелкий горошек, в альбомах для рисования, на полях газет, на обоях и на салфетках. Я писал на всем, на чем пишется.
Я сочинял истории. Истории обо всем: о людях и животных, о людях-животных, о живолюдях и людиживах – моему бестиарию вымышленных существ мог бы позавидовать любой Борхес. В те советские годы в школах еще не существовало должности штатного психолога: уверен, ему было бы, о чем со мной побеседовать, пока санитары надевали бы на меня смирительную рубашку.
Спокойная жизнь мой семьи закончилась, собственно, потому, что все эти тонны испорченной белизны требовали прочтения. Исписав очередную общую тетрадь, свежую газету или рулон туалетной бумаги, я бежал к родителям все это зачитывать вслух. Папа, мой самый благодарный слушатель, умел спать с открытыми глазами и поэтому из всех родственников пострадал меньше всего. А матушка сильно мучилась, бедняжка.
И в один прекрасный день она не выдержала.
«Олежка, тебе нужно найти своего читателя», – сказала она мне тогда.
Мама объяснила, что даже самый великий писатель не может нравиться всем без исключения, а только истинным ценителям своего творчества. Вот и мне надо приобрести таких ценителей, это и называется – «найти своего читателя». Матушка расписала мне все очень подробно, в надежде, что я больше никогда не постучусь в ее дверь с трехтомником свежих обоев под мышкой. Ей показалось, что теория про «найти своего читателя» – вполне доступное объяснение для третьеклассника.
На следующий день после школы я привел домой мальчика, своего одноклассника, тихого, затюканного, безотказного. Безотказным он был потому, что его никогда и не спрашивали – просто брали и волокли в неизвестность. Он родился добряком с большими ранеными глазами.
Мама была уже дома. Она накрыла в моей комнате столик с чаем и сладостями и деликатно оставила нас с тем мальчиком вдвоем, закрыв за собой дверь.
«Веселитесь», – сказала она нам на прощание. Мой гость вздрогнул.
И мы начали веселиться.
Я достал из-под кровати стопку свежеисписанных тетрадок.
Своего тихого гостя я усадил за столик с яствами, а сам воздвигся перед ним в полный рост памятником собственной гениальности.
Я приступил к чтению. Мы шли довольно бегло – по тетрадке в час.
Тихий гость поначалу робко клевал печенье, но скоро затих окончательно.
Наш попугай в клетке на окне мурлыкал, как кошка, довольно, самозабвенно. Дело в том, что в обычные дни эти килограммы бесхозной прозы доставались ему одному, несмотря на всю его птичесть: я не гнушался декламировать даже фонарному столбу. А в тот раз волнистого малыша впервые оставили в покое.
Дальше эту историю я рассказать не могу, так как весь с головой ушел в свой советский стендап и больше не замечал ничего и никого вокруг.
В этом месте я уступаю трибуну своей матушке, которая до сих пор любит живописать тот случай в красках, не упуская возможности всячески меня унизить на разных семейных торжествах.
Матушка сидела в соседней комнате и смотрела телевизор. Внезапно ей показалось, что кто-то смотрит на нее. Она машинально взглянула в сторону двери и вскрикнула. Там в дверном проеме бесшумно стоял мой тихий гость. Матушка вскрикнула еще и потому, что за окном был поздний вечер, и она не сомневалась, что одноклассник ее сыночка давно ушел.
«Простите, а можно я уже пойду?» – умоляюще пролепетал гость.
Мама в панике схватила моего одноклассника и лично проводила его домой (благо, он жил в соседнем дворе). Она обратила внимание на то, какие красные у мальчика уши. Эти уши буквально горели во мраке, освещая им путь в темноте.
Так я нашел своего читателя.
Когда матушка вернулась в квартиру и заглянула ко мне в комнату, я по-прежнему читал вслух что-то из очередной исписанной тетради. Отряд не заметил потери бойца.
И лишь на окне в клетке в истерике бился попугай, пытаясь утопиться в крохотном поильнике.
В детстве я страдал словоблудием. У моего крана с даром речи была сорвана резьба.
Из меня без остановки лилось, струилось, капало, пенилось, журчало, источалось.
Радиоточку в нашей квартире даже не включали. Меня ставили на стульчик в углу, и я витийствовал на своих коротеньких волнах. Когда на подоконниках завяли все цветы, меня стали выносить во двор.
Дети с интересом собирались вокруг меня послушать странного мальчика-репродуктора. Тот контент, который я выдавал в эфир (еще не придуманными в то время) терабайтами, официально назывался «историями». Мамочки рукоплескали, говоря своим чадам: «Ступай, малыш, Олежка сейчас расскажет историю». Олежка заряжал очередную «Сагу о Форсайтах» на десять часов, а внезапно освобожденные женщины Востока радостно чирикали о чем-то ни о чем на лавочках.
«Гений! Гений!» – дежурно подбадривали они меня на исходе десятого часа, и я, возбужденный овациями, начинал по новой.
Детям во дворе почему-то нравилось. Тогда по телевизору вещало всего два канала, а единственным доступным для нас ютубом было окно на первом этаже, в котором круглые сутки ругалась и била посуду одна веселая семейка, недавно пережившая серебряную свадьбу.
Как-то раз ко мне подошел местный алкоголик. В округе его называли художником. Видимо, потому что он вечно ходил в какой-то краске. Правда, сейчас я понимаю, что этот дядька вполне мог оказаться простым маляром. Но публике хотелось верить в прекрасное – в художника, живущего по соседству, пусть и алкоголика. Алкоголизмом тогда было никого не удивить. В те годы страна делилась на пьяниц и сочувствующих, на тех, кто уже или еще да, и тех, кто уже или еще нет.
Художник-алкоголик-маляр-под-вопросом подошел ко мне и сказал:
«Нет, ты не гений. Гении все чокнутые. Для гения ты слишком нормальный».
В тот день я вернулся домой в слезах.
«Я норма-а-а-а-льный», – рыдал я в подол матери.
«Ну, какой же ты, нормальный, посмотри на себя», – утешала меня матушка, как могла.
Где-то через месяц после моего разговора с художником я упал с велосипеда и ударился головой.
Очень сильно. По моей версии. Я требовал перебинтовать себе голову, как у Щорса, и похоронить меня в Кремлевской стене.
Слегка. По версии родителей. Они на всякий случай помазали мне зеленкой лоб в том месте, где они подозревали царапину.
Падение явно пошло мне на пользу. Тональность моих публичных выступлений резко изменилась.
Если до своего тройного сальто в асфальт я давал Донцову, то после него резко включил Пелевина. Ряды моих слушателей стали стремительно редеть. Один мальчик как-то раз вернулся домой седым. Другой бросил секцию бокса и пошел заниматься скрипкой в музыкальную школу.
Однажды вечером я закончил очередной перформанс и впервые за все время своего витийства огляделся (ведь не дело звезды – заботиться о кассовых сборах): меня слушал ребенок, кот и художник-алкаш.
Причем первых двух можно было засчитать мне в актив только весьма условно: ребенку было не больше года, и он, скорее всего, с удовольствием ушел бы, если бы умел ходить. Кот же страдал ожирением и не менял дислокации годами.
В предвечерней тишине двора раздавались жидкие одиночные хлопки.
Это хлопал художник, через раз промахиваясь одной ладошкой мимо другой.
«Браво! – кричал он мне, показывая большой палец вверх: – Бис!»
В тот день на его лице было особенно много краски.
Равно, как и на моем. Потому что я моментально покраснел.
Я понял, что наконец стал гением.
Из-за своей безответной любви к словам в детстве я мечтал стать геологом.
В геологию меня манил минерал под названием «лучистый колчедан».
В этом названии было столько магии и поэзии, что у меня снесло мою юную, еще не крепко сидящую крышу. Я представлял себе сияющее сияние и лучистые лучи и заходился от восторга. И это все было только от «лучистого». О «колчедане» я боялся даже мечтать, настолько это казалось грандиозным.
Когда я учился в седьмом классе, в музее минералов мы наконец встретились – я и кучка прессованных фекалий, которую представлял собой в реальности лучистый колчедан. После этой встречи я за один вечер стал мудрым и седым ребенком.
С тех пор я старался мечтать осторожнее. И уж если мечтал, то в своих мечтах избегал объектов со звучными прилагательными.
И еще на всю жизнь я запомнил: если ты выглядишь как говно, никакие эпитеты тебе не помогут.
В детстве я воспринимал фразу «парадоксов друг» из пушкинского «и гений, парадоксов друг» как нечто вроде «сукин сын». До сих пор иногда хочется выругаться во время ссоры «да пошел ты, парадоксов друг».
В детстве я считал, что в строке «Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам» «Неуклюжи» – это такие сказочные создания, милые и неповоротливые.
В детстве язык вообще воспринимается мифологически, как дремучая грандиозность.
С годами он мельчает и рассыпается на междометия.
На последнем этаже нашей старой советской школы располагался странный кабинет. Он был закрыт, почти всегда. А когда приоткрывался, всего на мгновение, внутри чернел мрак. Мы не приближались к нему даже в разгар самых вдохновенных игр. Во время салочек и жертва, и охотник делали большой крюк, оббегая таинственную дверь.
Однажды в пятом классе на уроке ботаники учительница построила нас и повела куда-то наверх. Мы поднялись на последний этаж. И я понял, что она ведет нас за ту самую дверь.
Окна кабинета были занавешены тяжелыми черными шторами. Нас рассадили по партам, в произвольном порядке. Дверь закрылась, и мир погрузился в кромешную темноту.
Все происходящее, особенно внезапная произвольность рассадки, убедило меня в том, что началась ядерная война.
Но вместо ядерной войны вдруг начался фильм. В дальнем конце кабинета застрекотал проектор. Нам показали учебную картину про водоросли.
В тот день я мог умереть дважды. Первый раз – от ядерной войны. Второй – от удушья, потому что я забывал дышать.
Стрекотание проектора, шелестящий голос диктора, вибрация динамиков, пульсация экрана в темноте – для меня это стало чем-то сродни религиозному опыту.
После посещения странного кабинета я, круглый отличник, стал прогуливать школу.
Я пробирался в заветный кабинет на последнем этаже, на чужие уроки ботаники, прятался перед началом под парту и смотрел учебный фильм про водоросли, третий, пятый, десятый раз. Голос диктора убаюкивал, в динамиках журчала вода, и я представлял себя на дне глубокого озера, счастливейшей из рыб. Пока на одиннадцатый раз меня не выловили из-под парты за жабры.
Именно тогда, под сверчок проектора в ночи среди белого дня, я самозабвенно, страстно и беззаветно полюбил кино.
24. Буденный на новогодней елке
Однажды в канун Нового года в начальных классах советской школы нам дали задание: разузнать какой-нибудь секрет изготовления елочной игрушки своими руками и рассказать о нем перед классом.
А я же готовился в пионеры-герои. Мне же больше всех надо.
Меня в те годы так и спрашивали: «Батлук, тебе что, больше всех надо?»
А я отвечал: «Да, больше всех».
А потом меня либо били, либо награждали, в зависимости от того, кто спрашивал – хулиганы или учителя.
Поэтому я, конечно, принял участие в этом челлендже в первых рядах.
Свой секрет изготовления елочной игрушки я подглядел по телевизору.
Там рассказали, как из втулки для рулона туалетной бумаги (это тот круглый картонный цилиндр внутри, на который наматывается рулон) сделать лошадку.
В то время на советском телевидении были популярны такие рубрики и даже целые передачи: елка из швабры своими руками, автомобиль из старой стиральной машинки своими руками, дом из пенопласта своими руками, муж из грузчика-алкаша своими руками. Подозреваю, это была политика. Ведь страна, в которой все можно сделать своими руками, легко обойдется без экономики.
Технология производства лошадки из рулона туалетной бумаги не была секретной: туловище из втулки, ноги из спичек, голова из коробка, грива из ваты, хвост из веревки. Мне кажется, в те годы многие вещи в СССР так делали.
Я справился за полчаса.
Все оставшееся время я штудировал речи Черчилля и Цицерона, особенно речь последнего против Гая Верреса, чтобы достойно выступить перед классом на следующий день.
Ну, хорошо, не штудировал. Я рос нормальным ребенком и читал «Мурзилку», как другие дети.
Но маленький Черчилль и крохотный Цицерон все же были предустановлены во мне, по дефолту.
Мое выступление в школе началось с конфуза: над моей картонной лошадкой стали хихикать. Одноклассников можно было понять: этот спичечно-веревочный монстр даже отдаленно не напоминал четвероногое. Причем никакое четвероногое не напоминал, а не только лошадку.
И вот тогда-то маленький Черчилль и крохотный Цицерон и отодвинули косноязычного Батлука на задний план, а сами вышли на авансцену.
Сначала они взяли одноклассников на понт (есть такой популярный риторический прием, известный еще с Древнего Рима), объявив, что те вовек не догадаются, из чего сделано туловище лошадки. Никто не догадался, а Цицерон, назвав правильный ответ, победоносно пучил глаза (правда, по свидетельству современников, Марк Туллий так никогда не делал, так что, возможно, глаза пучил все-таки косноязычный Батлук).
При этом Черчилль с Цицероном ни словом не обмолвились про телевизор и честно присвоили авторство идеи себе. То есть мне.
Затем, в ответ на провокационную реплику одного мерзкого отличника с не-ве-ро-ят-но оригинальной идей вырезания снежинки из сложенного втрое листка бумаги про то, что никто не вешает на елки лошадей, Черчилль с Цицероном дали достойный отпор и не стушевались (когда эти парни тушевались, особенно выступая вдвоем, правда же?). Они ответили, мол, это не простая лошадь, а лошадь Буденного, поэтому ей на советской елке самое место. Хотя сейчас я уже сомневаюсь, что это придумал Черчилль. Он же ненавидел советскую власть. Скорее всего, все-таки Цицерон. Да, конечно, Цицерон, он же про советскую власть даже не знал. Правда, теперь, на дистанции времени, Буденный на новогодней елке уже не кажется мне таким уж очевидным решением. Но тогда меня горячо поддержала учительница. В те годы приветствовался любой абсурд, если он питался из вечного первоисточника советской мифологии.
Наконец, отпустив Черчилля с Цицероном, слово снова взял я. Класс к тому моменту был уже моим. Девочки не дышали, некоторые полуобморочно жевали банты. Мальчики расписывались в собственном поражении в тетрадках в линейку. Я распухал, как тесто на дрожжах гордыни, и скоро уперся липкой головой в потолок. В заключение я сказал, что, к великому сожалению, родители выдали мне только одну втулку от рулона туалетной бумаги, поэтому на свет появилась только одна невероятно прекрасная и романтическая туалетная игрушка. А вот если бы у меня было больше таких втулок, я завалил бы мир прекрасным с горкой.
В моей последней сентенции заключалась сермяжная правда. В Советском Союзе туалетная бумага была в дефиците.
На следующий день после моего триумфа одна особо впечатлительная девочка, которая накануне изгрызла бант до корней волос, принесла мне в школу втулку от рулона туалетной бумаги. Через день мне передали еще несколько втулок. К концу недели одноклассники и ребята из других классов буквально засыпали меня втулками от бумаги. Какой-то мальчик даже принес мне целый рулон. Он признался, что выкрал его ночью из специального шкафа у родителей.
«Там еще была банка красной икры, – в нерешительности добавил мальчик, – но тебе же икру не надо?»

«Икру не надо», – снисходительно разрешил я.
Главный хулиган всея школы притащил мне довольно странную втулку, влажную с одного конца. Я не решился задать ему вопрос, откуда он ее вытащил. Наверное, лучше мне было этого не знать…
А через много лет, уже старшеклассником, я узнал про байку, ходившую по школе после того случая со втулками.
Когда на педсовете учителя дежурно обменивались последними новостями и наша учительница рассказала про массовое туалетное помешательство школьников, которое она назвала «трогательной историей», наш историк, подозреваемый коллегами в диссидентстве, буркнул себе под нос, но так, что услышали многие:
«Дожили. Учащиеся Первомайского района какают исключительно ради Батлука».
Становление моей сексуальности напоминало артхаусный триллер. В период полового созревания я влюблялся в женщин на упаковке продуктов. Полово созревать в Советском Союзе был тот еще квест. Сначала меня томила красотка с пачки плавленого сыра «Виола». Потом незнакомка с пакетика хрустящей картошки. Наконец, блондинка с коробки духов «Наташа».
По моей нездоровой фиксации на продовольственных товарах профильные специалисты могли бы написать монографии и защитить диссертации. Но о ней никто не подозревал. По ночам, втихаря, я шуршал дрожащими пальчиками хрустящей картошкой и закатывал глаза. Я ходил в «Продукты», как на свидание. Если бы пионерская организация в то время узнала, что после школы в обычных советских магазинах я покупал себе женщин, у нее бы галстуки встали дыбом.
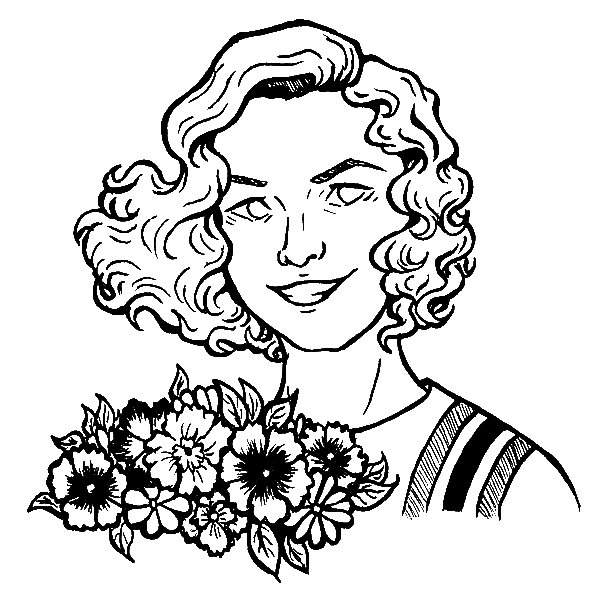
Самое клиническое в этой истории заключается в том, что мои первые реальные девушки были похожи на своих предшественниц с упаковки.
То есть фактически одно время я встречался с плавленым сыром.
Как-то раз мой друг детства Сема, когда ему было лет восемь, беседовал со своим дедушкой, острым на язык. Дедушка спросил его о девочках в классе. И Сема поведал, как на первом уроке он тайком разглядывал Катю, на втором – Свету, а на третьем – снова Катю и еще немного Машу. «Ну, ты и бабник», – резюмировал дедушка.
Вот и я тоже в детстве был – бабник.
Но каждый раз я честно сгорал дотла. Спичка была коротка.
И к половозрелому возрасту уже все свое отлюбил, как в песнях Вертинского.
И после были только книжки и латиноамериканские сериалы. А потом сразу жена.
Я стал бабником благодаря пионерским лагерям. Мои воспоминания о летних пионерлагерях – сплошная улица красных фонарей. Грядка с клубничкой. Аномальное это место – пионерский лагерь. Там нас учили любить партию, но любили мы преимущественно друг друга. Игривый прищур Ильича так на пионеров действовал, что ли.
Однажды я был навеки влюблен, в очередной раз. Мне было лет одиннадцать – двенадцать. В то время по видеосалонам гремел фильм с Майклом Дугласом «Роман с камнем». У меня было отдаленно похоже. Очень отдаленно.
Ее звали Лиза, почему-то. Обычно мне попадались девочки с простыми крестьянскими именами, а тут Лиза. Хотя и я, в общем-то, не Вася. Олег – тоже вполне себе аристократично.
Я демонстрировал свою любовь, как мог: по ночам я мазал Лизу зубной пастой более толстым слоем, чем остальных девочек. К концу смены у нее на щеке появилось устойчивое дерматологическое раздражение.
Амур, приставленный ко мне античными богами, был резвый, но жирный. Стандартные крылья его не выдерживали, и он частенько срывался в пике. В сущности, все мои истории любви напоминали одно и то же: пикирование жирного амура головой вниз.
Лиза меня бросила. Бросила эпично, с грохотом.
В одночасье.
Вот так же падает стенной шкаф, внутренностями наружу.
Первая любовь не умеет прощать.
К нам в пионерский лагерь просачивались деревенские. Эти ребята были постарше, некоторым уже исполнилось шестнадцать. Особенно нас полюбил местный хулиган на мотоцикле Иж «Юпитер-5». Он приезжал к нам в гости со своим самоваром, красивой стройной брюнеткой, и учил жизни.
Мы собирались на спортивной площадке возле футбольного поля и слушали его, разинув рты. А он периодически совал в них сигареты. Со стороны этот ритуал напоминал кормление птенцов.
Иж Юпитер-5 был тем, кого принято называть «баловнем судьбы». Есть болваны судьбы, а он был именно баловнем, это редкая порода, в отличие от первых. Судьба одарила его не только мотоциклом, но и красотой. Настоящей мужской красотой, той самой, которую признают даже сами мужчины. И горой мускулов. Иж Юпитер-5 был настолько хорош, что воспитательницы не могли найти в себе достаточно сил, чтобы прогнать его с территории пионерлагеря.
Однажды, в день моего эпичного расставания с Лизой, Иж Юпитер-5 превзошел сам себя.
Он снял майку, ботинки и повис на турнике. Там и в майке было, на что посмотреть. А без – так вообще атомный взрыв, хоть ложись головой по направлению к вспышке.
Но красавец не унимался. Его кунаки вдвоем приволокли здоровенный камень, и Иж Юпитер-5 зажал его между щиколоток. В таком положении он начал подтягиваться на турнике. С утяжелением, что называется. Турник скрипел, девушки, включая воспитательниц, лежали штабелями в обмороке.
Иж Юпитер-5 подтянулся раз десять. Камень у него забрали, и он спрыгнул на землю, к нам, простолюдинам. Его самовар, красивая стройная брюнетка, подошла к нему и обвила рукой его могучий слегка вспотевший торс. Получился готовый рекламный ролик. Не знаю, чего именно, допустим, мотоцикла Иж «Юпитер-5».
«Ну что, пионэры (он всегда почему-то так это произносил – через „э“), кто повторит?»
И в этот момент я почувствовал на себе, где-то в области печени, проникающий взгляд. С таким же успехом можно было направить на меня мощный прожектор. Лиза прожгла во мне взглядом Марианский желоб. В этом взгляде читался сценарий следующей серии: если я повторю, она точно так же подойдет ко мне и обнимет за торс или что там у меня будет на месте торса.
А надо сказать, что, по местным меркам, я был спортсменом. Подтягивался я тогда раз двадцать (неужели это было то же самое тело, что сейчас расползается студнем по дивану).
И я сделал шаг вперед. Навстречу взрослой жизни.
Я тоже снял майку. В обморок никто не попадал, конечно, но что-то там бугрилось. То есть не прямо позор-позор (неужели это было то же самое тело… и далее по тексту).
Иж Юпитер-5 посоветовал мне снять кеды, мол, так удобнее будет держать утяжеление.
Я повис на турнике. Мои малолетние кунаки сначала вдвоем, потом втроем и, наконец, вшестером приволокли ко мне тот же самый камень. Кое-как пристроили его между моих лодыжек. Я изловчился эту глыбу подхватить и зафиксировать.
И я подтянулся. Один раз.
Был в те годы другой популярный фильм – «Коммандо». Так вот не про меня ни разу.
Когда мой подбородок оказался над перекладиной, случилось страшное.
У моих тренировочных штанов, эпичных советских «треников», была очень слабая резинка. Едва я подтянулся, камень начал скользить вниз, увлекая за собой мои штаны. Несколько секунд я висел с подбородком над перекладиной в неравной борьбе с силой тяжести. Но камень победил. Он окончательно сполз вниз и упал на землю. Вместе с моими трениками.
Трагедия была не в том, что с меня сползли штаны. Это несколько подмывало героику момента. Но с этим еще можно было жить.
Трагедия была под штанами.
А под штанами у меня скрывались черные семейные трусы, гигантские, почти до колен, из того же советского эпоса.
Точно в таких же трусах на зарядку выходил наш местный физрук. Над ним ржал весь лагерь: физрук был худой, как жердь, и в этих трусах-парашютах вместе с ним легко мог поместиться взвод десантников в полной выкладке.
Те трусы в СССР не зря назывались «семейными»: по задумке партийных модельеров, в трудные годы в них должна была помещаться вся советская семья.
«Хьюго боссов» мужикам в Советском Союзе не полагалось – только бесполые трусы с функцией плащ-палатки.
В них я и висел под страшный гогот собравшихся. Под тот же гогот я спрыгнул с турника, элегантно спланировав над землей в трусах-парашютах. Если бы я просто повис с голым задом, и то было бы меньше позора, точно говорю.
В итоге рука все-таки обвила мой стан, даже несмотря на то, что я не вспотел. Только мужская. Это была рука Иж Юпитер-5. Он, единственный, не ржал. Красавец утешал меня, приговаривая, что подтянуться с таким утяжелением даже один раз для моего возраста – отличный результат. Потом он полчаса катал меня на мотоцикле вокруг футбольного поля, спасая мое реноме.
Но это не помогло. Лиза с того дня обходила меня стороной.
Очевидно, аристократическое имя Лиза и пролетарские семейные трусы не могли сосуществовать в одной системе координат.
Пионерские лагеря в СССР функционально напоминали древнегреческие мистерии: там последний крестьянин мог повстречаться с первым из богов.
В пионерлагере на практике воплощалась формула из «Интернационала»: «Кто был никем, то станем всем». Кем бы ты ни был на свободе, в лагере ничто не мешало тебе стать калифом на час.
За это я, тихий ботаник, затерянный между страниц Паустовского, пионерские лагеря обожал. И старался выжать максимум из своего недолговечного инкогнито.
Особенно мне запомнилась одна летняя смена в пионерлагере «Пионерские зори».
В те годы еще можно было стать душой компании благодаря книгам. На дворе стояли восьмидесятые, в стране еще работают библиотеки. Я, начитанный мальчик, перед сном в палате пересказывал своим новым друзьям безотказное: Дюма, Конан Дойл, Жюль Верн.
Я пересказывал артистично, самозабвенно, возможно даже, страшно сказать, увлекательнее оригинала, собирал толпы. В ночи изо всех щелей приползали ребята из других отрядов. На моей тумбочке всегда лежали свежие фрукты, вафли, шоколад, жвачки.
Но когда я пребывал в зените славы, к нам в палату подселили новенького, нашего ровесника. Он почему-то приехал в лагерь не с начала смены. Новенький первым делом раздал всем невиданную американскую жвачку. Я сразу его невзлюбил. Дешевые методы завоевания аудитории, мистер, сказал я про себя. А наутро он вообще охамел – надел джинсы и начал в них ходить! Чем создал вокруг себя нездоровый ажиотаж. И даже турбулентность. Но я лишь усмехался. Подожди, выскочка, бормотал я в темном углу, кусая ногти. Наступит ночь, и ты увидишь, кто здесь король танцпола. Ночь наступила, и я в очередной раз блистал со своими авторскими пересказами классики. Дюма, Конан Дойл, Жюль Верн. Класс, здорово, воскликнул новенький, когда я закончил. Хотите, я вам тоже кое-что расскажу, пока Олег отдохнет, добавил он.
«Пока Олег отдохнет».
Олег после этого отдыхал всю оставшуюся смену. Потому что новенький в тот вечер стал пересказывать всем порнофильм. По его словам, однажды он нашел в шкафу у родителей запрещенную кассету. И посмотрел ее на видике. Дважды, как утверждал новенький. Хотя врал, наверное. После двух раз его детская психика разрушилась бы окончательно. Скорее всего, один раз посмотрел, но и этого хватило, чтобы мальчишка все запомнил досконально.
С того рокового для меня дня новичок каждый вечер пересказывал собравшимся этот порнофильм. Один и тот же. Посекундно. К нашему корпусу стекался народ из соседних деревень. Гомеру не снилась такая популярность. Как только юный порнограф заканчивал свой рассказ, его дружно просили начать заново. Через неделю у слушателей уже появились любимые места. То тут, то там во время его выступления раздавался громкий шепот: «Смотри, смотри, вот сейчас он ее как чпок! слушай! слушай!»
Несколько раз я пытался повернуть историю вспять. Когда рассказчик замолкал, чтобы глотнуть «Буратино» со своей тумбочки, на которую, к слову, к тому моменту благополучно перекочевали все мои фрукты, вафли, шоколад и жвачки, я робко интересовался: «Может, „Собаку Баскервилей“?» В ответ на меня со всех сторон шикали: «Какую, на хер, собаку, не мешай слушать». Я и сам начал деградировать. Почти каждую ночь мне снился Шерлок Холмс, который вел себя с Миледи далеко не как сыщик, да и вообще не как джентльмен. А уж что у капитана Немо на подводной лодке в моих тогдашних снах творилось, даже вспоминать не хочется. Мы с новеньким повторили классический сюжет из «Человека с бульвара Капуцинов». Он стал моим альтер-эго, этот Мистер Сэконд, паразитировал на низменных инстинктах моих товарищей.
В довершение новичок увел у меня девушку. Ну, какая девушка может быть в одиннадцать лет. Я поцеловал ее один раз в лоб, а она меня два раза в ухо. Любовь на всю жизнь до следующей смены. Неуклюжая такая роковая страсть. Алина ее звали. Как выглядела – не помню, но имя в памяти навсегда застряло, необычное, красивое. (Кстати, Алина, если ты меня сейчас читаешь, будь ты проклята. Всю жизнь ты мне тогда испортила, все мои комплексы из-за тебя.) Так вот, эта Алина всегда танцевала только со мной. Я ей шептал безумное из Дюма, из Конан Дойла. А однажды припозднился я на танцы, глядь, а моя Алина уже с этим выскочкой, с этим малолетним Тинто Брассом вальсирует. Мне хватило одного взгляда на нее, чтобы все понять. Стоит моя Алина красная головы до пят, волосы дыбом, уши в три раза больше стали, а новичок ей тихонько что-то рассказывает, рассказывает… Понятно, что рассказывает, пол-лагеря уже наизусть эти его рассказы знает.
В тот вечер я поймал Алину и спросил, почему она меня бросила. Точнее, дословно я не так спросил. Я спросил, зачем ты воткнула мне в спину нож, зачем задушила нашу любовь. Что-то в этом ключе. Я тогда еще затейник был, жил широко. А она мне и отвечает, задумчиво так, проникновенно:
«Понимаешь, Олег, он такой интересный человек, столько в жизни уже повидал…»
«Повидал».
Знаем мы, что в жизни повидал этот интересный человек. VHS-кассета BASF, Германия, 180 минут.
Все самые главные тайны мироздания мы, советские дети, открывали вместе с дверью шкафа. Возможно, это вообще не связано с советскостью нашего детства: во все времена в юном возрасте шкаф – сакральный объект, как в Нарнии.
В пионерском лагере мы с девочками любили играть в игру со странным названием «кис мяу». Ее суть состояла в следующем. Каждый по очереди поворачивался спиной к остальным. Ведущий указывал пальцем на кого-то в толпе и говорил «кис». Если стоявший спиной отвечал «брысь», водящий продолжал. Если «мяу», тот, на кого указали, целовался с тем, кто стоял спиной. Поцелуи совершались под контролем амуров в стенном шкафу. Такая незамысловатая завязка простенького порнофильма.
Как-то раз мне выпала судьбоносная миссия стоять спиной. Я говорил «брысь» уже довольно долго, тем самым как бы показывая всем, что я крепкий орешек и еще поломаюсь. И вдруг на свое последнее «брысь» я услышал за спиной устрашающий бас:
«Нет, не брысь!»
Я даже не успел толком обернуться, как чьи-то сильные руки утащили меня в зияющий мрак шкафа. Я, грешным делом, даже успел предположить, что меня похитил местный физрук, внезапно помешавшийся и влюбившийся в меня с первого взгляда.
Но нет. Хуже. В шкаф меня уволокла ровесница, на две головы выше меня, здоровенная деваха с мужеподобным басом. Из-за нее все мальчики лагеря боялись играть в эту мегаэротическую при других обстоятельствах игру.
Из шкафа я вернулся другим. Мудрым, задумчивым, седым ребенком. Ребята утешали меня, надруганного, как могли, приговаривая, что гигантесса сделала это со мной не со зла, а по большой неразделенной любви. Хороша версия, но, увы. Сейчас я не сомневаюсь, что малолетняя Жанна Д’Арк выбрала меня просто потому, что я, нежный беззлобный цветок, показался ей наиболее уязвимым и легко доступным.
До сих пор, тридцать лет спустя, в тревожных предутренних снах я пересматриваю эту сцену с документальной точностью: в бездонном сумраке шкафа большие шрекообразные руки ощупывают мою крохотную черепушку, притягивают ее к себе, и две гигантские губки, каждая в три раза больше, чем у меня в ванной, засасывают меня пылесосом так, что внутри у меня что-то отчаянно хрустит.
Скорее всего, это хрустели мои молочные зубы.
В тринадцать лет я впервые попал на море. В полузакрытый ведомственный пионерлагерь, в котором готовили морских котиков. Ладно, котиков не готовили, но некий отбор существовал.
Из своей первой поездки на море я запомнил кипарисы, зарницы и девочку с ногами.
Имя девочки я забыл. В памяти остались только ее ноги как олицетворение всей девочки. Такая девочка – синекдоха.
В тринадцать лет я уже начал подозревать, что ноги девочкам даны не только для ходьбы. А еще – для ослепления очей и сведения с ума.
У нас с ней было все серьезно. Однажды в кладовке я поцеловал ее в нос, а она меня в плечо. В кладовке было очень темно, и мы немножко промахнулись.
Всю смену девочка с ногами дефилировала передо мной в каком-то магическом сиянии. Возможно, меня просто слепило солнце – курорт все-таки. Возможно, что-то ярче него.
Все шло к тому, что я уеду из этого лагеря глубоко женатым человеком. Ну, по меркам тринадцатилетних. Я даже написал своей избраннице что-то страшно лирическое в альбом (тогда у девочек были альбомы), как Пушкин Смирновой.
За несколько дней до окончания смены мы большой компанией сидели под теми самыми кипарисами и наблюдали те самые зарницы. Даже у двоечников на глаза наворачивались стихи. И тут моя девочка с ногами подошла ко мне и неожиданно сказала:
«Знаешь, что? А ты ведь не Олег Батлук».
«А кто?» – робко поинтересовался я.
«Ты – Олег Б…дь».
И она захохотала. И сияние вокруг нее мгновенно исчезло.
Раньше ее смех казался мне звоном маленьких колокольчиков в лапках добрых белочек. В тот раз он напоминал нездоровый кашель старых болезненных гномиков.
В ее понимании это была классная шутка. Игра слов, звукопись. Возможно, потом она стала известной поэтессой. Оставим этот полемический вопрос на суд потомков.
В тот момент надо мной нависла реальная угроза проходить остаток смены «Олегом Б…дью»: известно, как в подростковой среде прилипчивы прозвища.
Но, к моему удивлению, кроме девочки с ногами никто не засмеялся.
Более того, девочка с глазами сказала:
«Фу, как глупо».
У девочки, которая это сказала, были удивительные глаза: с длинными ресницами, широко распахнутые, такие глаза-бабочки.
Я посмотрел на нее и вдруг подумал о том, как я мог всю смену не замечать этих невероятных крылатых глаз.
Из лагеря я уезжал глубоко женатым на девочке с глазами.
И с наглядным доказательством того, что зеркало души – это все-таки не ноги.
Одну знакомую, мою ровесницу, как-то раз вызвали в школу к сыну на родительское собрание. Она мама современного старшеклассника.
На собрании разбиралось вопиющее поведение класса, в котором учится ее сын. Так обозначили тему встречи педагоги. Классы уже другие, а поведение учеников по-прежнему «вопиющее», как в моем детстве.
Вопиющее поведение заключалось в следующем. Класс долго ждал на урок учительницу. Она сильно опаздывала, и через пятнадцать минут ученики в полном составе встали и ушли, оставив учительнице записку.
На собрании классная руководительница долго возмущалась нынешним состоянием молодежи, признавалась в своем неверии в их будущее и умывала (фигурально) руки в бессилии повлиять на развращенные умы.
По словам знакомой, она все собрание проерзала в предвкушении того момента, когда им наконец озвучат содержание оставленной школьниками записки. Как модный шоураннер, классная нагнетала по полной, приберегая заветный «бабамс!» под финал.
В какой-то момент от дефицита информации моя знакомая начала гадать, вспоминая свои собственные школьные годы в СССР. Как они детьми рисовали на доске «череп и кости», подбрасывали учителям записочки «здесь был Фантомас», запускали в класс бродячих котов и даже, было дело, одного бродячего нетрезвого старшеклассника. Знакомая все больше нервничала и предполагала ужасное.
Наконец, под нажимом родителей, классная руководительница все же решилась огласить содержание страшной улики.
«Мы не Хатико, ждать не будем», – говорилось в записке.
Да, расслабились современные педагоги. Их бы в нашу советскую средневековую школу с его черепами и Фантомасами…
31. Герой капиталистического труда
Уроки труда в советских школах способствовали тунеядству.
Мы свои в основном прогуливали. У нас с трудовиком был заключен своего рода пакт о ненападении: мы не обременяли его своим присутствием, а он целыми днями торчал у себя в кладовке, строгая что-то для дачи.
Но все в одночасье изменилось, когда наступило время производственной практики. Так в то время назывались специальные уроки труда, на которых ученики производили что-то особенно бесполезное для народного хозяйства и получали за это реальные деньги. По сути, это было репетицией зоны. Тем, кому сильно нравилось, могли продолжить заниматься любимым делом в настоящей колонии. К слову, некоторые из выпускников нашей высокоинтеллектуальной школы со спортивным уклоном так и поступили.
Эти «платные» уроки никто не пропускал. Алчные двоечники бежали сломя голову, в первых рядах. Все как один стали героями капиталистического труда.
Мы собирали бронетранспортеры. Не настоящие (хотя за деньги мы взялись бы и за настоящие) – игрушечные. Такие красные с зелеными солдатиками, которые вставлялись в круглые отверстия. Этим мы и занимались – вставляли солдат в отверстия. За что и получали деньги. Копейки, в буквальном смысле. Тариф был какой-то колониальный – десять копеек за миллион собранных бронетранспортеров или что-то в этом роде.
Мне, юному интеллектуалу, процесс сборки казался мучительным. Раз в неделю несколько часов подряд (у нас были сдвоенные уроки, страна нуждалась в пластмассовых бронетранспортерах) я усаживал солдат в БТР. Я уже и разговаривать с ними начал, чтобы как-то разнообразить процесс: «Товарищ рядовой, вы почему не хотите садиться на место? Это приказ! Чей? Мой приказ! Я кто? Я генерал-аншеф, каналья!» Вот в таком духе, иногда путая исторические эпохи. То есть я рос настолько интеллигентным ребенком, что даже у игрушечных солдат получалось спорить со мной. Правда, жадности во мне было все-таки не в пример больше, чем интеллигентности, поэтому я хоть и мучился, но на эти уроки труда ходил.
От их монотонности и рутины страдал не я один. Мой товарищ, с которым мы всю среднюю школу просидели вместе за одной партой, двоечник, хулиган и спортсмен, томился не меньше. Он в те годы уже реально достиг определенных спортивных высот – товарищ был чемпионом мира по боксу среди всех детей Первомайского района. Ну, или около того. Высокие разряды он точно имел. Учился плохо, но был спортивной гордостью школы.
Его папа тоже был боксером. То есть груша от груши недалеко упала. Хотя в случае с моим одноклассником этот каламбур не вполне уместен: на тот момент малолетний чемпион на ринге ни разу не падал и в нокаут не собирался. Мама моего соседа по парте преподавала скрипку в нашей музыкальной школе и по происхождению была чуть ли не графиней де Монсоро. Как я понимаю уже теперь, с высоты прожитых лет, женщина несколько тяготилась своим мезальянсом и такой родословной для своего ребенка по отцовской линии и предпринимала различные меры, по большей части косметические, чтобы починить его пролетарскую карму. Так, она назвала сына аристократическим именем Юлиан. В школе мальчика благополучно окрестили Юлькой, но после первых успехов в боксе сразу перестали так его называть. Он позволял это только одному человеку – мне. Это был пароль нашей дружбы. Взамен Юлька наградил меня кличкой Каблук. Кстати, не самая обидная аллитерация на мою фамилию, бывали варианты и поядренее.
Юлька мечтал о мотоцикле. Он копил на него, сколько себя помнил, лет с трех. Юлька вообще был такой цельный, монолитный, человек одной мечты, настоящий Юлиан. В отличие от меня, взъерошенного изнутри. Поэтому он, хоть и страдая, уроков труда тоже не пропускал.
Юлька нашел еще более оригинальный способ убивать время на тех уроках труда. Он вставлял солдатиков в бронетранспортеры вверх ногами. Головой в отверстие. Да, голова была значительно больше отверстия, но спорт и наследственность делали свое дело. Юлька произвел целую дивизию таких клоунских БТР. Он ходил по классу и с гордостью показывал всем свой шедевр. Пока не наткнулся на трудовика. Трудовик был человеком традиционной культуры и изящество бронетранспортера с торчащими из него задницами солдат не оценил. Учитель раскраснелся, топнул и приказал приятелю все переделать.
И в этот момент моя счастливая звезда в очередной раз вышла покурить. Потому что двери класса торжественно распахнулись, и возникший в проеме физрук срочно вызвал Юльку на какие-то показательные выступления в наш спортзал на пятом этаже, где собралась высокая комиссия из «гороно»…
Трудовик стоял посреди класса и в задумчивости вертел в руках бронетранспортер с раскоряченным личным составом.
«Значит так, Батлук, – неожиданно сказал он, не глядя на меня, – возьми его бронетранспортеры и все переделай».
«А почему я?» – мужественно взвизгнул я.
«Потому что это твой товарищ, – завел трудовик традиционную советскую пластинку, – потому что ты сидишь с ним за одной партой. Потому что ты за него отвечаешь. И это ты за ним не уследил».
В общем, знакомое всем нам по классике «это не мне дали пятнадцать суток, это нам дали пятнадцать суток».
И пока я набирал воздуха в легкие, чтобы дать решительный отпор и упасть с мольбами на колени, трудовик добавил уже тише, наклонившись к моему уху:
«А не сделаешь, я тебя самого так же вверх ногами засуну».
Аббревиатура «УПК» – это не только уголовно-процессуальный кодекс, но и учебно-производственный комбинат. В моем детстве эти два значения причудливым образом переплелись.
Учебно-производственный комбинат был грибовидным наростом на древе советской школы. В этом отдельно расположенном здании школьников обучали разным взрослым профессиям. Раз в неделю, дополнительно к остальным урокам.
В нашей школе УПК начинался с седьмого класса. Профессии дети выбирали себе сами.
Например, мой дальновидный друг Сема предпочел торговлю. После первого же занятия они со своим товарищем купили в ближайшем киоске десять брикетов мороженого по сорок восемь копеек и пошли торговать ими у метро. Их тут же замела милиция. Мороженое конфисковали, а пожилой сержант долго сокрушался в отделении, какая меркантильная пошла молодежь, нет, чтобы портвейн по подворотням дуть, как все нормальные подростки делают.
Я же пошел на самый элитный факультатив – автодело. Там нам даже обещали практические занятия. Правда, все иллюзии на этот счет разом испарились, когда мы увидели автопарк нашего УПК – старенький «Москвич 408». Конечно, машина есть машина, вот только «Москвич» стоял на четырех столбиках из кирпичей без колес. Видимо, на нем будущие шоферы ударно отрабатывали навык открывания и закрывания багажника.
«Москвич» без колес был наименьшей из моих бед в том УПК. Дело в том, что в учебно-производственный комбинат набирались ребята из всех районных школ. Классы формировались заново, с нуля. Нетрудно представить, чем был для меня, очкастого интроверта-отличника, воспитанного на рассказах Бианки, новый, с иголочки, коллектив. В своем 7-м «А» я уже давно находился под программой защиты свидетеля: меня опекал боксирующий товарищ Юлька. Здесь же мою юную тушку с нетронутой пыльцой бросили прямо в подростковый муравейник.
Проблемы на свою розовую припухлость я нашел мгновенно, в первый же день: меня невзлюбил местный хулиган. Невзлюбить меня было просто: я ползал улиткой без раковины и всем своим видом просился на мишень. Хулигана звали Пуля. Выигрышная кличка, особенно на фоне его настоящей фамилии – Пулькин. «Пулькин» звучало вовсе не так героически и уж точно не так перспективно, как «Пуля».
Пуля был не простым хулиганом. Он сидел. Об этом мы узнали от его свиты – двух полноватых увальней вроде Добчинского и Бобчинского. Пуля сидел не то в колонии для несовершеннолетних, не то в интернате для трудных подростков, не то в «Алькатрасе» – формулировки раз от разу разнились. Природа щедро наградила Пулю всеми атрибутами рецидивиста – шрамом над глазом, отколотым зубом и наглым взглядом.
Этот взгляд испепелял. Аннигилировал. Возвращал тебя обратно в состояние зародыша. Когда Пуля с Добчинским и Бобчинским проходили по коридору УПК, вдоль стен чернели кучки пепла. Моя – самая большая, с обугленными очками сверху.
Для Пули я был шит белыми нитками. Он не утруждал себя сложными издевательствами. Часами напролет он склонял мою фамилию. Приходя домой после УПК, я прятал глаза от отца: каблуковый репчатый лук батат не имел право называться его сыном.
Как-то раз в классе для практических занятий по автоделу я замешкался на пути Пули и услышал от него традиционное: «Каблук, сдрисни». Мои глаза в одночасье почернели от ужаса: еще бы, ведь я причинил неудобство главному Аль Капоне Первомайского района г. Москвы! Я настолько перепугался, что от страха присел и из этого положения двинул Пуле снизу кулаком в челюсть. Я честно собирался сказать ему «извините», как делал до этого десятки раз, но от стресса все перепутал и трусливо вломил ему в тыкву.
Пуля стремительно отлетел к стене, полностью оправдав свою кличку. Там на него благополучно упал макет двигателя внутреннего сгорания. Я был уверен, что малолетний гангстер одним движением сбросит с себя досадную бутафорию и растерзает меня на тысячу маленьких каблуков. Но Пуля продолжал лежать под экспонатом, придавленный двигателем, и смешно шевелил тоненькими ручками и ножками. Ему могли бы помочь Добчинский с Бобчинским, если бы они во время этих событий каким-то мистическим образом не растворились в воздухе.
На гогот класса прибежал учитель: дело было на перемене. Он вытащил окровавленную Пулю – мой трусливый апперкот с приседанием сделал свое дело. Хулигана отвели в медпункт. Он затравленно смотрел в мою сторону, прячась за монументальным животом преподавателя. А мне в дневник огромными красными буквами написали:
«Родители! Ваш сын дрался на уроке! Срочно зайдите в УПК!»
Папа, к которому вечером того дня я впервые подошел, не пряча глаза, взглянул на запись в дневнике и хмыкнул:
«И охота тебе была ради дурацкого розыгрыша дневник портить».
Естественно, в УПК мои родители не пошли, как я ни пытался донести до них правду. Они не поверили, что очкастый интроверт-отличник, воспитанный на рассказах Бианки, способен на такие зверства.
С того дня в стенах УПК Пулю почему-то все стали называть по фамилии Пулькиным, а меня – Лука. Бобчинский с Добчинским тем же мистическим образом материлизовались из воздуха, приблудились ко мне и всюду сопровождали. Поговаривали, что я сидел не то в колонии для несовершеннолетних, не то в интернате для трудных подростков, не то в «Алькатрасе».
Миф Пули благополучно прилип ко мне.
33. Мат интеллигентного человека
Самое большое заблуждение в отношениии ненормативной лексики вот это: интеллигентный человек не матерится. Отнюдь! Интеллигентному человеку мат необходим гораздо больше, чем, допустим, подзаборному алкашу. Жаргон не поможет алкашу сказать ничего нового: в его случае он служит для передачи простейших одноклеточных эмоций. Интеллигентный человек прибегает к обсценной лексике в те критические моменты, когда все его словари подошли к концу. С помощью мата он передает сложнейшие субстанции на грани именования.
Для меня вопрос насущной необходимости мата для интеллигенции был окончательно закрыт много лет назад, после истории, рассказанной мне одним приятелем. В средней советской школе этот приятель слыл конченым «ботаником». Мало того что он читал книги вне школьной программы, посещал музеи и носил очки. Он вдобавок учился в музыкальной школе по классу скрипки. «Со скрипкой во дворе» – это вызов, равносильный «без трусов в филармонии». Если бы приятель был весь покрыт струпьями, от него и то шарахались бы меньше. У него был лишь один друг – такой же, как он, пиши-читай из параллельного класса, который занимался в той же музыкальной школе фортепиано.
Однажды мой приятель-скрипач возвращался домой со своим другом-пианистом после отчетного концерта в музыкальной школе. Их путь лежал через враждебные прерии кровожадных индейцев – дворы пятиэтажек. То тут, то там, как семечки, была рассыпана шпана. По словам скрипача, в тот вечер они, скорее всего, сумели бы проскочить без потерь, если бы не жабо. На обоих были концертные костюмы с белоснежными жабо. «С жабо во дворе» – это вызов, аналогов которому в параллельном мире не найти, потому как, что может быть страшнее «без трусов в филармонии»? Но это было страшнее в разы. Как заметил скрипач, шпана была возмущена настолько, что их сразу начали бить. Обошлись без прелюдий, без всех этих «а вы чьих будете», «кого знаете» и «дай прикурить».
Товарищей спасла музыка. Не то чтобы они изловчились устроить импровизированный концерт для «птушников» и тем смягчили их сердца. Просто скрипачу пару раз удалось удачно попасть футляром со скрипкой, которым он отмахивался от нападавших, кому-то по голове, и свора отхлынула. А тут как раз подоспело классическое «да что ж это делается» от бабушек на лавочке, в ближайшем доме оказался опорный пункт, на порог которого вышел участковый и стал грозно почесывать пузо, – одним словом, ребята сумели ускользнуть.
Отбежав на безопасное расстояние, они осмотрелись и поняли, что изрядно потрепаны. Пианист предложил скрипачу пойти к нему домой, чтобы умыться и привести себя в порядок. Скрипач согласился – у него были строгие родители, и, если бы он явился на порог в текущей редакции, они бы с удовольствием завершили начатое шпаной.
«А у тебя кто дома? – внезапно спохватился скрипач. – Нас не будут ругать?»
«Не беспокойся, у меня только бабуля», – ответил пианист.
«Бабуля» – это синоним всепрощения и олицетворение сил добра в противоположность родительской империи зла, поэтому скрипач уверенно зашагал в будущее. Он уверенно шагал в будущее, и, набираясь постфактум невероятного мужества, как любой интеллигент после драки, думал о преимуществе фортепиано перед скрипкой в сражении. Вот если бы у него было с собой фортепиано, а не чахлая скрипка, ух он бы тогда поотшибал хулиганам пальцы крышкой.
По дороге к нему домой пианист рассказывал скрипачу о своей бабушке. О том, что она по профессии переводчик, знает много языков, выписывает «Роман-газету» и была знакома с Нейгаузом. Вот такой странный винегрет. После этого описания у скрипача сформировался четкий образ бабули в виде пугливой болонки в больших очках.
Дверь им открыла крупная пожилая женщина с большими руками и крупными чертами лица. От болонки остались только очки. Бабушка сразу напомнила скрипачу Раневскую.
Бабуля с порога заметила эстетические несостыковки в экстерьере мальчишек и сразу провела их через темный коридор в гостиную, где горела гигантская люстра под красным абажуром. Там она принялась их осматривать, причмокивая и цокая языком и ни капельки не церемонясь. Очевидно, там было, на что посмотреть. Волосы – колтунами, концертные костюмы – клочьями, пуговицы – рваными нитками. Особенно пострадали жабо – все черные и потрепанные. Как будто их обладатели несколько раз падали в оркестровую яму под ударные. У пианиста оно вообще торчало из кармана, отбитое в неравном бою с будущим фрезеровщиком. Бабуля суетилась вокруг них, подозрительно сверкая очками и не проронив ни слова, от чего скрипач забеспокоился. Его собственную бабушку к этому моменту пришлось бы уже три раза возвращать из обморока нашатырем. Внезапно бабуля произнесла низким мужским голосом, обращаясь к внуку-пианисту:
«Ну, милый мой, это п…ц».
Пианист мгновенно залился густой краской и, виновато косясь на скрипача, зачем-то перешел на громкий шепот и спросил бабулю:
«Бабуля, ты, наверное, хотела сказать „кошмар“?»
«Увы, милый мой, – ответила бабуля спокойно, – кошмар был вчера, когда ты принес из школы тройку по русскому. А сегодня это именно п…ц».
В этой советской школе всегда было плохо с физикой. Даже не столько с физикой, сколько с физиками. Учителя по какой-то причине часто менялись. Вряд ли из-за советской идеологии: законы Ньютона Маркс вроде бы не отменял.
Ученикам 7-го «А» особенно запомнился один физик по имени Кирилл. У него и отчество было, естественно. Но им никто из ребят не пользовался, несмотря на то что учитель многократно его повторял. Кирилл Батькович был очень молод. А это в школе карается. Весь класс в полном составе издевался над молодым физиком. Такой буллинг, только направленный на взрослого, а не на ребенка. Хотя Кирилл и сам был еще, в сущности, ребенком, тихим, застенчивым.
Вероятно, ученики издевались над учителем, потому что переживали сильный стресс от частой смены преподавателей. Правда, не исключено, что они просто были придурками.
Обычно половина урока у Кирилла уходила на то, чтобы начать урок. Сначала он пытался убедить аудиторию, что нельзя называть его только по имени, а нужно добавлять и отчество. Затем тихоня старался перекричать класс, но это было трудно сделать шепотом. Наконец, кто-то из хулиганов забирал у доски тряпку, и ее передавали по партам из рук в руки. Кирилл неуклюже бегал за ней, долговязый, пьерорукий.
Однажды учитель сел на свой стул и просидел так последние двадцать минут урока до звонка, глядя перед собой.
Как-то раз перед уроком физики Кирилл встретил у дверей класса ученика. Белобрысый парень, вроде бы из отличников – они все у него путались, все были одинаковые, как в собачьей своре, накинувшейся в подворотне.
Белобрысый назвал учителя по имени отчеству и протянул листок бумаги. Кирилл взял его и машинально прочел, стоя в дверях. Это был короткий рассказ о добром учителе, которого травил класс. В конце белобрысый автор писал о том, что никто из детей не догадывался, какое большое и нежное сердце билось в груди этого учителя и как оно страдало от их уколов. Назывался рассказ «Ежиная нора».
Кирилл потрепал белобрысого по голове. Потом зачем-то порывисто приобнял. Получилось, как и все у Кирилла, – неуклюже. Они зашли в класс вместе.
Вскоре с перемены вернулись все остальные. Учитель долго не мог начать урок. Один из хулиганов традиционно утащил тряпку и передал ее дальше по партам. Кириллу обязательно нужно было вернуть эту дурацкую тряпку: на доске громоздились древние письмена предыдущего урока. Он путешествовал вслед за клочком ткани по кабинету, пытаясь его перехватить, но постоянно опаздывал. И тут тряпка оказалась у белобрысого.
Несколько секунд Кирилл стоял напротив белобрысого. Класс затих и напряженно следил за ними. Кирилл протянул руку.
Белобрысый посмотрел на учителя. Потом на учеников. И швырнул тряпку дальше своим соседям сзади.
Вокруг снова поднялся гвалт. Тряпка пошла на второй круг.
Никто никогда не слышал от Кирилла дурных слов. И в тот раз их никто не услышал. Никто, кроме белобрысого. Тихо, так, чтобы мог расслышать только автор рассказа «Ежиная нора», Кирилл вполголоса сказал:
«Дерьмо».
И пошел к своему стулу. Его плечи стали острыми настолько, что грозили порвать пиджак…
Я специально рассказываю эту историю от третьего лица. Уже много лет. Чтобы не потерять ни одной детали. Чтобы припомнить все в точности.
На самом деле белобрысый – это я. И история эта – про меня.
И уже много лет я рассказываю ее себе, чтобы не забывать про то, как однажды я был дерьмом.
Дьявол – это не эпическое чудовище из фильмов ужасов. И уж точно это не романтический Воланд.
Дьявол – это человечек в клетчатых панталонах, как у Достоевского.
Незаметная моль, которая садится на нашу ладонь под видом бабочки.
Никакого грома и разверзшихся небес: моль тихонько взмахивает серыми крыльями, и тотчас становится неуютно, будто по душе проползла змея.
И вот к твоему начищенному ботинку уже прилипло дерьмо.
Ничего страшного, мелочь, но ты знаешь, что оно там, на подошве.
И ни в один приличный дом не войти.

До сих пор вспоминаю период полового созревания с ужасом. Какая-то полярная Вальпургиева ночь.
Радует, что пострадали все. Среди людей нет ни одной бабочки, которой удалось избежать этого липкого кокона.
Самый характерный случай произошел с моим школьным приятелем боксером Юлькой. Однажды в седьмом классе школы мы с Юлькой стояли на перемене. Так просто стояли, бесцельно, как обычно на перемене в школе, ругались матом, беседовали. К нам подошла Сидорова.
И как только Сидорова подошла к нам, Юлька моментально из нормального человека превратился в ненормального.
Он принялся утробно гоготать. Гортанно охать. Издавал прочие неопознанные звуки разными частями тела. Три раза покраснел, два раза побледнел. За секунду сгрыз два ногтя. Начал пятиться, приседать и подпрыгивать на месте одновременно.
«Ты чего, дебил», – нежно поинтересовалась Сидорова.
Она явно шла к нам спросить про что-то другое, но пришлось про это.
«Ы-ы-ы», – ответил Юлька.
«Да ну вас», – устало сказала Сидорова и пошла дальше.
«Это чего было?» – спросил я приятеля.
«Понимаешь, – начал свой былинный рассказ Юлька, – Сидорова мне вчера приснилась. Голая».
«Ого, – сказал я, – и как Сидорова голая?»
Это был, конечно, самый важный вопрос. Настолько же важный, насколько и логичный.
«Да голая была не Сидорова. А Ким Бейсингер. То есть голова – от Сидоровой, а голое тело – от Ким Бейсингер. Мы вчера с пацанами в видеосалон ходили на „Девять с половиной недель“. Вот у меня и наложилось одно на другое».
«И чего? Приснилась и приснилась…» – удивился я.
«Ага! Конечно! Сидорова же в этом сне ползла ко мне по полу, как Ким Бейсингер в фильме. Я когда сейчас увидел, как она к нам идет, сразу все опять представил».
Я мечтательно закатил глаза. Голая Ким Бейсингер с головой от Сидоровой, ползущая к нам, очевидно, должна была вызвать эротические ассоциации. Но мне стало страшно.
Потом, во взрослой жизни, я часто утешал знакомых девушек этой историей, резюмируя:
«Если кто-то из ваших знакомых мужчин при виде вас вдруг начинает вести себя странно, не переживайте. Просто накануне вы ему приснились».
В советской школе было много странного.
Например, фестиваль союзных республик. В нашей школе такой проводили.
В рамках этих мистерий каждый класс представлял одну из пятнадцати республик. Национальный костюм, блюда, история.
Мне особенно запомнился один такой фестиваль.
Наш класс изображал, кажется, Эстонию. Про еду, обычаи и прочее деталей в моей памяти не сохранилось. А вот национальные наряды до сих пор стоят перед глазами. Наши девочки пришли в мини-юбках. Не знаю, что их торкнуло. Может, они так трактовали вольный дух Прибалтики, близость к Западу. А это был уже восьмой класс, на секундочку. И девочки у нас уродились на славу, лошадка к лошадке, как на подбор. Это мы, мелкопородистые самцы, в те годы были еще пони.
Мне в то время нравилась одноклассница. Так, ничего серьезного, в режиме легкой простуды, навылет, кость не задета. Ну, пару раз проводил до дома. Ну, дал списать на литературе. Даже на прелюдию не тянет.
Голые ноги моей симпатии на том празднике были самыми голыми. Она и без этой злосчастной Эстонии считалась самой ногастой девочкой в школе. Ее за это так и прозвали – «Миниюбкина».
Фестиваль пятнадцати союзных республик в тот день удался на славу: Эстония подралась с Киргизией.
Моя Миниюбкина и девочка из другого класса, представлявшего Киргизию, тоже, кстати, ничего себе, сцепились из-за батона хлеба. Буквально. Всем участникам в конце мероприятия начали раздавать оставшиеся национальные блюда с собой по домам (хлеб – это же национальное киргизское блюдо, общеизвестный факт), и красотки не поделили этот батон.
Они немилосердно трепали друг друга за волосы, катаясь по полу. В мини-юбках. Бодро так, не по-эстонски. Физрук с трудовиком честно пытались их растащить.
Мальчишки все как один столпились вокруг: стоим, не дышим.
Ко мне тихо, со спины, подошла наша классная руководительница. Она, добрая душа, решила воспользоваться моментом для спасения хорошего мальчика от плохой девочки и с этой целью прошептала мне на ухо:
«Вот видишь, Батлук, срам-то какой, а ты с ней дружишь».
Я стоял, охал, поддакивал и осуждающе качал головой, приговаривая:
«Да, Надежда Васильевна, ужас, ужас».
А сам уже влюблен в нее до смерти и хочу лишь одного – чтобы эта драка никогда не закончилась.
В школе я был очень влюбчив. Мог влюбиться в фонарный столб.
Одно время я сходил с ума по девочке старше себя. Никаких деталей ее светлого образа на подкорке не сохранилось. Помню только ее школьную юбку, короче обычной, и сверкающие коленки.
Это была страсть с марксистско-ленинским уклоном. Она занимала какой-то ответственный пост в пионерской организации нашей школы. Мы вместе с ней состояли в совете дружины. Я провожал ее домой после заседаний. Теперь, с высоты возраста, я понимаю, что тогда во мне булькал странный коктейль из чувств. Такой романтический ерш, водка с пивом. В этой пионерской диве я любил не просто девочку, но и Ленина, партию, красное знамя, последний съезд, БАМ и текущую пятилетку. Она казалась мне почти такой же прекрасной, как Крупская. Я мечтал пригласить ее в Мавзолей и там признаться ей в любви. Может, и хорошо, что не срослось, а то бы Ильич точно поднялся на это посмотреть.
Нашу, ну ладно, мою, мою любовь ждал драматичный финал. На очередном заседании совета дружины обсуждалось отчисление из школы хулигана. Все проголосовали за, а я один против. Я, вообще, нормально относился к хулиганам. Давал им списывать. Ну, и они неплохо ко мне относились, били гораздо реже других отличников. Что-то нашло на меня в тот момент, когда я увидел лес рук вокруг. Я испугался заблудиться в нем навсегда.
После того заседания моя любовь демонстративно прошла мимо меня под ручку с другим мальчиком, который проголосовал «за».
Если бы я знал, что принципиальность так дорого стоит, я, конечно, поднял бы руку. Хрен с ним, с диссидентством, на что только не пойдешь ради сверкающих коленок.
Сейчас вокруг снова спорят о захоронении Ленина.
А мне кажется, главное – похоронить Ленина в самом себе, а все остальное уже не так важно.
Я похоронил в себе Ленина в восьмом классе средней советской школы.
В школе я сделал головокружительную партийную карьеру.
Я начинал цветоводом. Это не тот, кто водит цветы на прогулку. У нас была не такая школа. Я следил за цветами в классе. Поливал их, окучивал, рыхлил. Защищал. Да, приходилось защищать. Одноклассник постоянно поедал мои цветы. Он сидел у окна, на котором стояли горшки, и жрал герань. Видимо, в его детском организме не хватало каких-то микроэлементов. Кстати, тот одноклассник потом пошел работать в прокуратуру. Не знаю, как это связано. Надеюсь, что никак.
Затем я поступательно восходил на партийный олимп звеньевым, старостой, председателем совета отряда и, наконец, дослужился до члена совета дружины. В те времена русский язык был менее многозначным, и «член совета дружины» звучало гордо.
Казалось бы, после члена дальше было некуда, только Брежнев. Но я сумел подняться еще выше.
Как отличник, председатель и член, я был выдвинут в знаменосцы всея школы.
Мне поручили носить наше знамя. На знамени изображался Ленин и прочие бородатые харизматки того времени. Фактически я нес на руках самого Ильича – это было невероятно почетно.
Я носил знамя школы на торжественных линейках и прочих аналогичных сборищах советской поры, на школьном дворе снаружи и в актовом зале внутри.
«Вынос знамени» представлял собой строго регламентированную театрализованную постановку.
Мне, как знаменосцу, полагался конвой: передо мной вышагивал направляющий, а за мной – замыкающий. Сейчас я могу уже ошибаться в терминологии. Одним словом, один школьник шел впереди и один сзади, чтобы я не убежал, наверное. Втроем, кортежем, мы вносили знамя на место сборища.
Я прослужил знаменосцем несколько месяцев. Все шло идеально. Пока школьные функционеры не решили заменить мне кортеж.
Дело в том, что поначалу меня сопровождали исключительно мальчики. Их выбирали из самых достойных учеников. Но как-то раз на очередной линейке какой-то бонза из министерства образования, взглянув на нашу процессию, сказал: «А как же Терешкова?» В те годы с птичьего партийного умели переводить молниеносно. Реплика начальника означала, что в конвой необходимо добавить девочек.
Так в результате этой сексуальной революции, которая прошла, как и полагается революции, под руководством партии, в группу знаменосцев добавили девочек. От души так добавили, чтобы не мелочиться перед глыбой высочайшего указания, сразу двух. То есть одну девочку впереди меня, а другую позади.
Причем это сделали скоропостижно, прямо накануне очередного торжества. Торжество проходило в актовом зале школы. Нам даже не дали времени порепетировать в новом составе. А раньше давали, да. Были репетиции. Фееричные репетиции выноса флага, тот еще Антонен Арто.
Работали с колес, что называется.
Большой сложности процесс не представлял. Нужно было войти в двери актового зала, продефилировать по нему метров десять и остановиться по центру. И потом стоять, стараясь не заснуть от величия всего происходящего. Единственная трудность во всей процедуре – проход в двери зала. От знаменосца требовалось немного опустить знамя вниз, чтобы не зацепить высоким древком дверной косяк сверху. Всего и делов-то, как говорил профессор Хансен в «Осеннем марафоне».
То мероприятие было, как всегда, страшно торжественное, жутко ответственное и, возможно, даже в чем-то перевыборное. Школьники послушно сунули мытые шеи в петли красных галстуков и застыли в почетном строю. На торжестве присутствовал начальственный бонза, тот самый, который потребовал от нас Терешкову.
Мы, группа знаменосцев, вишенка на идеологическом торте, стояли перед закрытыми дверями у входа в актовый зал, ожидая команды.
Я делал это десятки раз. Я был профи.
И тем не менее мое сердце отчаянно колотилось. От волнения. От волнения школьной юбки на девочке впереди меня.
Это было то самое наше нововведение – девочки в кортеже. Одна впереди, другая позади. Обе – старшеклассницы, мне на погибель.
И у той, что впереди, на сквозняке волновалась ткань на юбке. Как желтеющая нива в стихотворении Лермонтова. А юбка была так коротка. А девочка была так хороша.
Так хороша, что у меня внутри сразу набухли почки. Не те физические, которые набухают от пива. А те невидимые, набухающие от эликсиров покрепче.
Древко знамени хрустело в моих руках. Или это хрустели фаланги пальцев. Я вцепился в знамя, чтобы меня не унесло вихрем. Вихрем полового созревания, которое началось у меня именно в тот момент, как я сейчас предполагаю.
Одним словом, если опустить лирику, я не мог оторвать взгляда от той старшеклассницы передо мной, в частности, от ее юбки. Я даже почувствовал, как начал сильно косить правым глазом.
И в этот момент нам дали долгожданный сигнал, и двери распахнулись.
Морковка передо мной сделала шаг вперед, а вслед за ней и я, ее красноглазый кролик.
Конечно, я забыл опустить знамя, проходя через дверной проем…
Мы торжественно вошли в актовый зал под барабанную дробь. Древко зацепилось сверху за дверной косяк, и знамя рухнуло на девочку сзади.
От неожиданности она упала. Я этого не увидел – лишь услышал за спиной грохот.
Зашибив девочку сзади, знамя легло мне на плечо параллельно полу.
По инерции я прошел еще несколько метров, пока находящийся в стрессе мозг обрабатывал информацию о звуке грохота.
Наконец, догадавшись обо всем, я экстренно остановился и зачем-то по привычке исполнил два шага на месте, как делают все кошерные знаменосцы при остановке, хотя в той ситуации это было определенно лишним и даже немного вызывающим. Остановившись, я сообразил шикнуть красавице спереди, и она тоже немедленно застыла на месте как вкопанная.
В таком положении, со знаменем, лежащим на моем плече параллельно полу, я инстинктивно развернулся на сто восемьдесят градусов, чтобы выяснить судьбу упавшей девочки…
Дальнейшее напоминало фильмы с Джетом Ли про Шаолинь. В одном из них он демонстрирует технику работы с шестом. Шест – это мощное боевое оружие, если умело с ним обращаться. Об этом не понаслышке знают мастера восточных единоборств и стриптизерши.
Когда я инстинктивно развернулся на сто восемьдесят градусов со знаменем на плече параллельно полу, я случайным образом исполнил Джета Ли из фильмов про Шаолинь. Металлической звездой на кончике знамени-шеста со звездой я прицельно попал красавице в юбке с разворота прямо в голову. Она могла бы избежать своей участи, бедняжка, если бы не послушалась моего шиканья за своей спиной и продолжила движение. Своим шипением я словно пригласил ее на казнь…
А во лбу звезда горит – это только для сказочной царевны хорошо. Ясное дело, что красавица в юбке тоже рухнула как подкошенная.
И вот он, ваш выход, товарищ Гоцман.
Потому как – картина маслом, и лучше уже не скажешь.
Я стоял над бездыханными телами юных амазонок с карающим знаменем наперевес. Ну, может, и не совсем бездыханными. По правде говоря, какое-то шевеление на полу подо мной было. Президиум сидел весь красный, в правильной пролетарской палитре, а партийный бонза – и вовсе багровый: наш перформанс даже отдаленно не напоминал Терешкову.
Крепкие комсомольцы сгребли нас троих в охапку и вынесли из зала. Директор лично подхватил выпавшее из моих рук знамя и понес его дальше в светлое будущее, в конце которого грозно маячил багровый бонза. К директору попытался пристроиться трудовик, чтобы изобразить хоть какое-то подобие почетного эскорта, но тот его отогнал. Трудовик был, как всегда, в своем засаленном халате – не лучшая альтернатива старшеклассницам.
На следующий день меня разжаловали. Лишили всех должностей. Хорошо хоть, что не подвергли гражданской казни и не стали ломать знамя над моей головой. Видимо, резонно решили, что от этого знамени уже и так пострадало достаточное количество черепов. Мне не оставили даже должности цветовода. К тому моменту ее упразднили, так как прожорливый одноклассник окончательно сжевал все цветы.
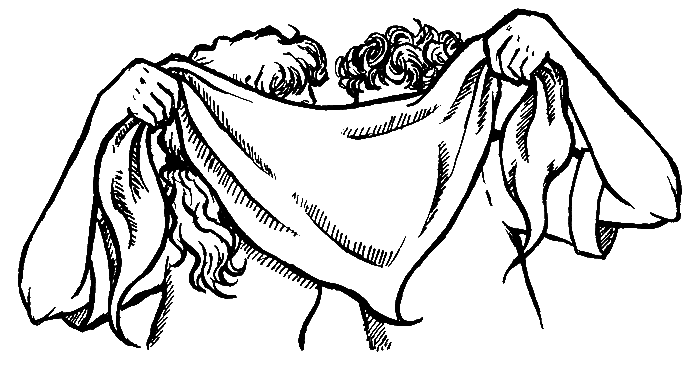
Вот тогда-то я и похоронил в себе Ленина: зачем мне истукан, карающий за чистую юношескую любовь.
А с девочкой в юбке мы потом дружили.
И даже целовались под лестницей, прикрывшись пионерским галстуком. Моим, потому что ее на тот момент уже приняли в комсомол. А за комсомольским значком наши размашистые брежневские поцелуи было не утаить.
Кого-то воспитала волчица, кого-то двор, кого-то книги, а кого-то, как это ни покажется странным, родители.
Меня воспитала пионерская организация. Вместе с галстуком я повесил себе на шею ответственность за все человечество. Ведь пионер должен всегда спешить на помощь. То есть с таким же успехом я мог бы вступить в организацию Чипа и Дейла, но тогда этого мультсериала еще не было. Вместо Рокки был только усатый Маркс.
Однажды в конце 80-х у типичной советской булочной меня остановила типичная советская бабушка и попросила меня донести ей сумки до дома. А что я, я только обрадовался: можно будет намалевать еще одну бабушку на фюзеляж моего самолетика с хорошими поступками.
Сумка у бабушки была нетяжелая. Да и не сумка вовсе – авоська, из которой торчала всего одна сдобная булочка в форме сердечка. Но в тот момент меня это не смутило.
Едва мы отошли несколько метров от булочной, бабушка вдруг спохватилась, что она забыла зайти в аптеку. И мы направились в аптеку. Еще бы, меня не очень радовала перспектива волочить по улицам родного города мертвую бабушку до ближайшего отделения милиции.
После аптеки бабушка попросилась на почту. А пионер же никогда не пасует перед трудностями. Я тоже не спасовал. И мы поплелись.
При этом нельзя сказать, что бабушка как-то особенно опиралась на меня. Мне и до этого случалось помогать бабушкам – не какой-то лох! – и в тех случаях старушки существенно нагружали мой бицепс (тогда он у меня еще был, а потом ушел к Стасу Пьехе). А эта бабулька шла со мной под ручку, как с кавалером на променаде. Учитывая, что я нес в авоське ее сердечко, со стороны мы могли выглядеть даже романтично. С опорно-двигательным аппаратом у нее тоже не наблюдалось видимых проблем. Напротив, местами мне даже приходилось семенить за ней. Видимо, в аптеке моя спутница чем-то закинулась, в то время как я с утра ничего не ел.
Здесь уместно заметить, что в булочную меня отправила моя матушка. За хлебушком к завтраку. Я так и ушел на минуточку в тапочках, благо было лето.
Наконец, бабушка остановилась посреди улицы. Я решил, что, может быть, вот сейчас она меня и отпустит. Но нет. Бабушка остановилась, чтобы набрать воздух в легкие. Потому что следующие полчаса она жаловалась мне, какая тяжелая, грустная, безрадостная у нее жизнь. А мы знаем, что пионер – это еще и свободные уши. Безрадостная, грустная, тяжелая жизнь, и помочь ей может только одно.
«Что? – взмолился я, вытирая слезы пионерским галстуком, – имя сэстра, имя???»
«Парикмахерская», – выдохнула бабуся.
И мы пошли в парикмахерскую. Там ей почему-то не очень обрадовались и попытались закрыться на обед в двенадцать часов дня. Но моя прорвалась. Пока ей занимались, я послушно сидел на стульчике и ждал.
Может сложиться впечатление, что я был лишен общества бабушек и поэтому ухватился за эту, как за соломинку. У меня была своя бабушка, которую я обожал. Существует, я замечал неоднократно, нечто вроде инерции абсурда. Когда изначально что-то пошло не так, но ты почему-то не можешь из этого выпрыгнуть и продолжаешь умножать неловкость. Возможно, потому что в случае выхода из абсурдной ситуации посередине, ты автоматически признаешь факт того, что в ней участвовал. А так у тебя еще остается надежда на здоровый поворот событий.
Булочная, аптека, почта, парикмахерская. Широко жили эти советские бабушки. Когда мы покинули парикмахерскую, откуда нас едва не прогоняли пинками, я не сомневался, что старушка поведет меня в консерваторию. Но она повела меня в сберкассу. Да, да, уже тогда это был фетиш всех бабушек мира.
Сколько времени мы с моей спутницей барражировали по району, я не представлял. Часов у меня не было, у нее тоже. Мобильных телефонов тогда еще не изобрели. Хотя фееричный был бы сюжетец, если бы бабуля вдруг достала из авоськи первую гигантскую «Моторолу» и сказала мне: «Сейчас позвоню Горбачеву, он тебя примет в комсомол лично». Так или иначе, по ощущениям, мы куролесили со старушкой по району уже несколько часов. Солнце заметно переместилось по небосводу (а пионер – он же еще и походник!).
По дороге в сберкассу меня наконец начали терзать смутные сомнения. Очень тупой пионер. В детстве моей любимой пластинкой был «Карлик Нос». Я заслушал ее до дыр, несколько лет со страху спал со светом. Я не мог не заметить, что мои похождения с бабулей инфернально напоминали историю Гауфа. Через пять минут я уже не сомневался, что бабушка ведет меня в свое тайное логово, где превратит в урода. А я и так был не Ален Делон: носил очки, по поводу чего сильно комплексовал. Горб и нос до подбородка в дополнение к очкам не прибавили бы мне вистов у девочек, даже если бы Горбачев лично принял меня в комсомол, как пообещала ведьма.
Но я продолжал плестись за бабушкой. Фактически – на эшафот. До сих пор не понимаю, что это было: комплекс жертвы, гипноз, колдовство, стокгольмский синдром. По пути в сберкассу на другой стороне улицы мне встретились друзья. Они шли куда-то шумной ватагой. Но моя рука налилась свинцом, а в горле словно булькала вода: я не смог ни махнуть им, ни крикнуть.
В сберкассе мы сели в очередь. Там меня и должна была скосить преждевременная кончина. Я уже видел на своем покосившемся памятнике эту эпитафию: «Он так и не довел бабушку до дома…» Но тут мне впервые с утра повезло: очередь после нас заняла добрая волшебница. Женщина в белой шляпке. И с волшебной палочкой, которой она коснулась меня и расколдовала. Ладно, без палочки. Но шляпка была, я настаиваю! Эта женщина оказалась соседкой бабушки.
«Я ее соседка, – сказала женщина в шляпке, – идите, я ее отведу».
Она сказала это сразу, увидев нас, ничего не спросив, кто я, откуда и зачем здесь. Видимо, волшебница знала что-то такое, чего тогда не знал я. И не знаю, кстати, до сих пор. Могу лишь догадываться.
Когда я вернулся домой, во дворе на лавочке рядком сидели мои мама, папа, бабушка, младший брат и наш кот Тихон. Все были в домашних тапочках. Кроме нашего кота Тихона.
Я ушел утром за хлебом в таких же тапочках. И меня не было пять часов. Это немного грустная часть истории, у меня до сих пор бегут по спине мурашки, когда я вспоминаю нашу встречу во дворе.
Папа уже побывал в милиции. Мама обзвонила больницы и морги. Бабушка съела весь годовой запас валидола. Младший брат до крови расковырял одну ноздрю и уже принимался за вторую. И только коту Тихону было по барабану. Он грелся на солнышке, умильно закатывая глаза.
После того, как мы поднялись в квартиру и я все рассказал, воцарилось гробовое молчание. Только Тихон подошел и тихонько лизнул меня. Это был недобрый знак – коты способны предвидеть будущее.
И тут отец кашлянул. Я понял, что первым будет говорить он. Конечно, мне бы хотелось, чтобы первым заговорил Тихон. Но мне кажется, даже это чудо мне в тот момент не помогло бы.
«Ну что, – начал отец, и я втянул голову в плечи до самой задницы, – перевел бабушку через дорогу…»
Повисла пауза, означающая, что папа набирает воздуха в легкие, чтобы изрыгнуть что-то ужасное, пауза, заставившая всех домашних также втянуть голову в плечи, включая кота, у которого их нет:
«…ПИОНЕР!!!»
Так, скажу я вам, меня в жизни еще никто не оскорблял!
До девятого класса я учился в обычной советской средней школе.
«Средняя» школа – довольно точное наименование для этой организации. Наша так вообще была ниже среднего. Притом что учителя там подобрались замечательные, но даже они не смогли выкорчевать те вековые пни, которые сидели перед ними за партами. Для работы с учащимися нашего микрорайона требовался не педагогический дар, а дар экзорцизма.
Этот микрорайон населяли такие граждане, словно он находился за 101-м километром. А школа выглядела так, словно это была школа при Бутырке. Кстати, и это уже не шутки, много наших выпускников действительно благополучно пересели со школьных парт на нары.
Вот в такой плавильный котел попал я – очкастый ребенок из интеллигентной семьи.
Я полностью соответствовал тому клише, которое в то время маркировалось страшным словом «ботаник». Это был социальный приговор. «Онанист» – и то звучало благороднее.
Звезды надо мной сошлись таким образом, что меня уже в начальных классах должны были забить линейками до смерти и закопать в горшке с геранью. От верной гибели меня спасло лишь то обстоятельство, что я искренне восхищался хулиганами и двоечниками, всеми этими учениками в законе, и тянулся к ним всем своим израненным беллетристикой существом. Я положил к постаменту их памятника, воздвигнутому мной на центральной площади своей души, единственное, что у меня было ценного в жизни на тот момент, – свои знания.
Я давал им списывать. Причем проактивно. Я даже настаивал и убеждал их списать у меня. Бывало, сидит такой хулиган вальяжно за десять минут до конца контрольной, а я ему подсовываю тетрадочку – на, на, спиши. А он отвечает гордо так, по-барски: да лана, пусть банан вкатят, мне-то че. Я завороженно смотрел на этого небожителя, тихо повторял, тренируясь, политкорректными до оскомины губами «мне-то че» и уговаривал хулигана не губить свою молодость. Обычно хулиган снисходил и в последний момент спасал свою жизнь с помощью моей тетрадки.
Кроме того, я все-таки занимался каким-никаким спортом, что отчасти делало меня в глазах шпаны похожим на человека. Правда, это был не бокс, самбо или хоккей, которыми занимались они, а конькобежный спорт. Наши школьные бандюганчики снисходительно говорили про меня: да, Батлук там тоже чем-то занимается, жопой кверху по кругу ездит.
Так что меня не били, поскольку из разбитой или сотрясенной головы не очень удобно выуживать трофейные знания.
Девочки у нас в школе не многим уступали мальчикам. Это был типаж атаманши из мультфильма про бременских музыкантов: говорят, мы бяки-буки, вот это вот все. Наши девочки не вышивали, не пекли, не рисовали – они дрались. Эти драки – до сих пор самые эротичные воспоминания в моей жизни.
Каков шанс, что ботаник с томиком Есенина у изголовья НЕ влюбится до смерти в оторву с револьвером под подушкой?
Это горе-радость случилось со мной в восьмом классе (по шкале десятилетки). Она была высокая, стройная и с непростительно красивыми ногами. Про ноги одноклассница знала и усугубляла мини-юбками. Та самая Миниюбкина, в которую я втрескался (влюбляются флегматики) на празднике союзных республик.
Мы встречались несколько месяцев. «Встречались» в буквальном старорусском смысле этого слова – сходились вместе в одной точке в пространстве. Мы встречались в самых романтичных местах нашего микрорайона: у трансформаторной будки, у булочной и на пустыре, где впоследствии широко раскинулся всем своим космическим хламом Черкизовский рынок. Мы ни разу не появлялись в ее дворе: Миниюбкина не хотела выносить наши чувства на суд толпы. Так она однажды сказала.
Я безостановочно читал возлюбленной стихи. «Не из школьной программы», – шептал я ей на ушко так, как будто предлагал хлебнуть портвейна из горла.
Вечерами, под луну и звезды, Миниюбкина страстно выдыхала в меня «кайф, давай еще разок» – и мы шли на еще один круг по пустырю, и я повторно фонтанировал Есениным, Пушкиным, Блоком.
Моя возлюбленная часто подолгу смотрела вдаль после Есенина, прикладывала руку к глазам после Пушкина, тяжело вздыхала после Блока. Она была глубокая, тонко чувствующая, ранимая натура, далекая от быта и пошлости жизни. По моему мнению.
Наши отношения были невиннее утренника в детском саду. В то время, как товарищ Брежнев и товарищ Хонеккер целовались друг с другом с языком по телевизору, мы с Миниюбкиной на прощание пожимали друг другу руки.
После наших свиданий (технически же их можно так называть?) я возвращался домой с больной шеей. Шея болела от того, что в процессе нарезания кругов по району я сворачивал ее до хруста, чтобы тайком полюбоваться красивыми ногами своей спутницы. Каждый раз Миниюбкина планомерно приходила на наши встречи в отчаянных мини-юбках и на каблуках. Это был наш местный дресс-код для пустыря. Однажды я битый час выковыривал туфельку свой Золушки из расщелины в бетонных плитах.
Я не мог отвести взгляда от ее ножек и ненавидел себя за это. Мне казалось, что подобным неслыханным развратом я предаю наше высокое чувство. Мне чудилось, будто Пушкин, которого я декламировал, подсвечивая ее ноги огромными фарами глаз в полумраке, осуждающе смотрит на меня из глубины веков (как же я был наивен; уж кто-кто, а этот кудрявый распутник точно бы не осудил). Ноги Миниюбкиной прописались в моем подсознании. Ноги одноклассницы приходили в мои сны без самой одноклассницы – высокие, стройные, спортивные, манящие. Они синхронно наклонялись ко мне и шептали каждая что-то свое. Ноги. Со мной разговаривали женские ноги.
Если я так комплексовал по поводу своего тихого и милого вуайеризма, что уж говорить о более радикальных вещах, о поцелуях например.
Я не мог оскорбить свою возлюбленную, глубокую, тонко чувствующую, ранимую поэтическую натуру таким непотребством, как поцелуй. Я был уверен, что это разрушит высокий контекст наших отношений, ту ажурную паутинку чувств, которую мы сплели вдвоем посреди пролетарского разврата.
Через три месяца после того, как мы начали встречаться, Миниюбкина забеременела.
Я рос очень мнительным юнцом, но даже я со всей своей мнительностью понимал, что от стихов забеременеть невозможно. Даже от очень хороших. У меня, правда, оставались кое-какие сомнения насчет рукопожатий…
Когда о ее беременности стало известно, в школе начался Карибский кризис. Беременность в восьмом классе даже сейчас, в эпоху «Дома-2», когда все ящики Пандоры давно стоят открытыми, не очень рядовое событие. А тогда, в СССР, на ушах стояла вся педагогическая и ученическая общественность.
Про то, что наш роман был романом в письмах, знали только мы с Миниюбкиной. Остальные же наблюдали со стороны и видели то, что видели: двое ходят по вечерам на пустырь.
Классная руководительница однажды попросила меня задержаться после уроков. В тот день у нее было особенно красное лицо.
Она долго пыталась начать, кашляя и сморкаясь, сморкаясь и кашляя. Наконец, учительница сказала, что, когда она просила меня подтянуть Миниюбкину по русскому языку (а она просила подтянуть ее по русскому языку), то имела в виду не это.
Я поклялся на учебнике по истории КПСС, что это не я. Для убедительности я добавил, мол, как вы могли подумать такое, я же член совета дружины. В то время слово «член», как и слово «встречаться», еще не обросли столькими смыслами, поэтому никакого подтекста в моих словах не было. Педагог поверила мне на слово.
Вслед за мной она приняла еще несколько человек из нашего класса. Это были девочки – подружки моей зазнобы. После этого официальная школа от меня отстала. Подружки рассказали классной то, что было всем давно известно в их закрытой тусовке, как бы мы сейчас сказали. И что меня в глазах официальной школы абсолютно и безоговорочно реабилитировало.
Оказалось, что моя возлюбленная встречалась (уже во всех современных смыслах этого слова) с мальчиком старше ее. Я бы сказал «параллельно со мной», если бы в этой фразе был хоть какой-то смысл.
После наших с ней вечерних прогулок вокруг трансформаторной будки, перед булочной и на пустыре уже ночью Миниюбкина возвращалась в свой двор, где ее ждал мальчик старше ее. Именно поэтому мы никогда и не появлялись в том растреклятом дворе. Это сейчас я понимаю, что тогда она таким образом спасала меня, моя красавица. «Мальчик старше ее» был каратистом, даже обладателем заветного черного пояса (хотя про черный пояс в те годы говорили применительно к любому каратисту, это было частью городского фольклора). Если бы каратист с черным поясом увидел меня со своей девушкой, то, как пить дать, распоясался бы, и ходить мне всю оставшуюся жизнь с носом вовнутрь.
Понятно, что официальная школа о деталях этого дела не распространялась. При этом Миниюбкина также держала свои шашни с каратистом втайне: кроме пары подружек, о них двоих никто не знал. Поэтому для всей остальной неофициальной школы я по-прежнему оставался единственным подозреваемым – тем человеком, с которым будущая мать ходила по вечерам на пустырь.
Это имело для меня двоякие последствия.
Во-первых, мои акции, восемь лет лежавшие пластом на дворовой фондовой бирже, взлетели до небес. Для местной шпаны я уже был не тем Батлуком, который ездит по кругу жопой кверху, а «тем самым» Батлуком. Быть «тем самым» – это первый стакан портвейна тебе, первая сигарета из пачки «Marlboro» тебе, первая кассета с нехорошим фильмом, попавшая во двор, тебе, да еще и со сладкими, как мед, словами «хотя чего ты там не видел». После ряженки, пачки гематогена на ночь и диафильмов от «Союзмультфильма» для меня все это стало полетом в космос.
Во-вторых, все девочки школы и двора, а в моем случае это равнялось всем девочкам мира, до того случая смотревшие на меня как на Малыша, начали смотреть на меня как на Карлсона, мужчину в самом расвете сил. Они вдруг поняли, что у меня тоже есть пропеллер.
Миниюбкина родила, с тем каратистом они потом поженились.
Я какое-то время еще купался в лучах незаслуженной славы, но очень скоро наступили старшие классы, и нас всех унесло гормональной волной. Моя история утонула в море похожих.
Я вынес для себя тогда два урока, помудрев не по годам.
Я кое-что понял о мужчинах. И кое-что понял о женщинах.
О мужчинах, на своем примере, я понял следующее: они часто верят в то, что влюблены в тонкую поэтическую натуру, хотя на самом деле они влюблены в красивые ноги в мини.
О женщинах, на ее примере, я понял вот это: в женском меню есть мужчины для тела и мужчины для души. Прекрасно, когда это совпадает в одном человеке.
Но довольно часто, к сожалению, это не совпадает в одном человеке.
И тогда за стихами они идут с очкариком на пустырь, а за ночью они идут с каратистом в ночь.
Подростки восьмидесятых годов прошлого века помимо школы, техникумов и ПТУ получали образование еще в одном учреждении. В этом последнем, наверное, даже в большей степени, чем в трех первых. Видеосалон. Странное, недолговечное порождение перестройки.
Для советских людей конца СССР видеомагнитофоны оставались экзотикой. У большинства их не было. Эту нишу заполнили видеосалоны – импровизированные кинотеатры, в которых на видеокассетах показывали западные фильмы. Видеосалоны множились, как грибы. Они появлялись в подвалах, дворцах культуры, спортзалах, подсобках, порой в самых неожиданных местах, везде, где можно было найти розетку для подключения телевизора и видика. На дверях этих заведений вывешивались написанные от руки афиши. Наибольший вклад в дело образования советской молодежи вносили поздние сеансы – те, что маркировались 16+. На них показывали эротику.
Сколько моих сверстников выронило свою невинность в этих салонах! Не потеряло окончательно – именно выронило. После сеансов они поднимали ее с пола, отряхивали и уносили с собой домой, но что-то было уже не так.
У каждого подростка восьмидесятых есть своя история про видео. И, скорее всего, не одна.
Мне было лет четырнадцать. Как-то вечером мы с группкой сверстников отправились подглядывать в видеосалон. Это была еще одна провальная история из моего детства: не полноценно смотреть из зала (нас бы не пустили туда по возрасту), а именно тайком поглядывать снаружи. Тайком подглядывать за показом фильма для взрослых: в таких экстремальных условиях формировалась моя сексуальность. Этот конкретный видеосалон располагался в довольно экзотической локации – на втором этаже здания местного ОВД. Пока внизу работала советская милиция, наверху показывали «Полицейскую академию» – была в этом известная ирония. Чтобы подсмотреть внутрь видеосалона, ребятня забиралась по водосточной трубе на крохотную площадку перед окном. На ней мог поместиться только один человек.
Доступ к эротике был организован у нас в духе демократизма. На афише публиковалась продолжительность фильма. Мы делили это общее время на количество подсматривающих. Каждый получал свой лимит на просмотр. У нас в компании был мальчик с твердой пятеркой по математике – он и заведовал подсчетами. Затем в «камень-ножницы-бумага» разыгрывалась очередь: кто смотрит первым, кто вторым и так далее. Розыгрыш очереди знаменовал триумф демократических идеалов. В эротических фильмах, в отличие от порнографических, к нашему большому сожалению, люди иногда просто разговаривали, а не только красиво лежали голенькие. В этих фильмах, до сих пор не пойму зачем, предполагался сюжет, так что часть времени на экране не происходило ничего интересного. Случайная очередь на просмотр уравнивала наши шансы увидеть «клубничку».
В мою память навечно врезалось название того фильма: «Эммануэль едет в Канны». Нас было человек десять, фильм длился девяносто минут, каждому назначили по девять минут. Мне выпало смотреть где-то посередине – неплохой жребий, с высокой вероятностью «прекрасного». Десять суровых маленьких мужчин молча сменяли друг друга в ночном мраке на боевом посту у зарешеченного окна. Это было наше окно в Европу.
Ну, что я могу сказать… Фильм «Эммануэль едет в Канны» с лихвой оправдал свое название: весь фильм Эммануэль ехала в Канны. Совершенно одетая. И только в конце поездки стало понятно, зачем она туда ехала, но девять человек из десяти этого не увидели. А увидел это как-то случайно приблудившийся к нам в тот вечер паренек из нашего двора, вечно застенчивый и незаметный Леша по прозвищу Невидимка. С таким везением он мог бы легко стать миллиардером, сорвавшим джек пот в нескольких лотереях, если бы в СССР проводили лотереи, а не только «Спортлото». В какой-то момент нам пришлось всем кагалом отдирать Лешу Невидимку от решетки окна, через которое тот увидел доехавшую Эммануэль. Он оказался впечатлительным ребенком и, успешно отодранный, еще долго сидел на лавочке со скрученными побелевшими пальчиками. Что касается меня, то за свои драгоценные девять минут я увидел отель «Карлтон», Старый порт, Дворец фестивалей, ювелирный магазин, а также набережную Круазет с крохотной Эммануэль где-то вдалеке. Я даже не мог гарантировать, что это была именно Эммануэль, а не собака, например. Настолько вдалеке.
Во взрослой жизни я несколько раз приезжал в Канны туристом. И каждый раз меня тошнило от Карлтона, Старого порта, Дворца фестивалей, ювелирных магазинов и, особенно, от набережной Круазет.
Удивительно не эротичный город.
«Видео, ви-де-о, это не сказка, это не сон», пела легендарная группа «Мираж». Мы, дети восьмидесятых, поколение видеомагнитофонов, до сих пор можем верить в то, что нас воспитал Толстой и Достоевский. На самом деле нас всех воспитал Жан-Клод Ван Дамм и Майкл Дудикофф.
Я навсегда запомнил заветное жужжание волшебного ящичка в тот момент, когда он проглатывал очередную кассету.
На видеокассетах в Советский Союз контрабандой попадала жизнь. Нас, подростков, она будоражила вдвойне от того, что была не реальной (мы пробовали носить бревно на плече, как Шварценеггер в «Командо» – нереально; в СССР это было под силу повторить только одному человеку – Ленину на субботнике).
К нам в восьмой класс как-то пришла учиться непростая девочка, из оперы «я тут к вам на одну четверть спустилась с Олимпа». Непростая девочка перевелась к нам, в обычную школу, из Хогвартса, в силу каких-то неведомых обстоятельств.
Папа девочки был дипломатом. Ее мама ходила в норковой шубе. Вот такая семья.
Мама непростой девочки хотела, чтобы дочка побыстрее влилась в новый коллектив. Она постаралась в кратчайшие сроки незаметно втиснуть свою белую ворону в стайку серых голубей. Для этого мама в шубе решила устроить вечеринку у них дома, то есть фактически презентацию дочки. Мудрая женщина (что значит жена дипломата) пригласила не весь класс, а лишь лидеров мнений, как бы мы сейчас сказали. Я и мой дружок Юлиан попали в число избранных. Не то чтобы у Юлиана водилось какое-то мнение. Но зато у него был разряд по боксу, что часто перевешивало сотню самых убедительных мнений. На самом деле жена дипломата элементарно просчиталась, купившись на фантик: она предположила, что за душой мальчика с таким аристократическим именем должно быть как минимум имение в Переделкино и пара-другая сотня крепостных. Меня же позвали, как мелкого партийного бонзу и отличника. Приличная рамка для приличной девочки.
Кроме меня с Юлькой на закрытую вечеринку пришли еще несколько девочек и мальчиков. Среди них выделялись двое: сын трудовика, лоботряс, и второй первый отличник класса (после меня), противный страшненький ботаник. Все силы природы ушли на то, чтобы сделать его очень умным, и на внешность творческого задора не хватило: ботаник выглядел как молодой Кощей. Хотя, не исключено, что это просто аберрация моего восприятия: возможно, я подсознательно превращаю конкурента в карикатуру.
Гостей в большой квартире встречала непростая девочка, ее мама и ящик «кока-колы». Последний затмил и девочку, и ее маму, и даже большую квартиру. Хотя квартира и была большой настолько, что гости не смогли сосчитать общее количество комнат. Отца семейства дома не было: он пропадал в очередной загранкомандировке, бедолага.
Хозяйка дома, мама непростой девочки, приветствуя гостей в длинном гулком коридоре, приговаривала, что ее зовут Снежана Владленовна. Этим признанием она убивала входящих наповал. Имя Снежана Владленовна сразу ко многому обязывало гостей с простыми пролетарскими ФИО. Кроме Юлиана. Который на самом деле в душе был просто Юлькой, поэтому и его тоже.
Первый час светского раута прошел тухло, как и положено протокольному мероприятию по инициативе родителей. Мы ковыряли салаты и без конца дули «кока-колу», пока не начали подпрыгивать на стульях от газиков. Сын трудовика уже не знал, куда заныкать очередную бутылку – кончились карманы. Снежана Владленовна каждые пять минут заходила в комнату, обводила взглядом наши постные лица и восклицала: «Какие молодцы, как же здорово вы веселитесь».
В очередной раз женщина появилась в дверях комнаты уже в шубе. Она снова возгласила про «какие молодцы и т. д.» и добавила, что ей срочно нужно отбежать по делам. У нас блеснул луч надежды на достойное продолжение вечеринки.
«Но я вам не дам скучать!» – объявила Снежана Владленовна, и надежды рухнули.
Хозяйка дома пригласила всех в другую гостиную и предложила рассаживаться, кому куда удобно. Мы расселись, все, кроме сына трудовика. Тот не мог сесть, так как украденные бутылки «кока-колы» колом стояли в карманах и не давали ему согнуться.
Снежана Владленовна задорно взмахнула полами шубы и включила видеомагнитофон. Мы оживленно зашептались: о, вот это да, у них есть видик, целый видик! Лучики надежды вновь запрыгали по нашим лицам.
«Схарп!» – громко перевел название заморского аппарата ботаник, вундеркинд, знаток английского.
Тем временем Снежана Владленовна в задумчивости перебирала видеокассеты. Видеокассет было много. Они стояли на специальной полочке в шкафу под замком. В то время все видеокассеты были пиратскими, без красивых обложек. Названия фильмов писали от руки на бумажных корешках.
«Как в видеосалоне», – с благоговением произнес Юлька.
«Сколько же у моего мужа ерунды, – картинно и явно с расчетом на воспитательный эффект причитала Снежана Владленовна, – одни стрелялки, как у мальчишки. А тут что… О! Какой-то интересный фильм… в скобках подписано – „исторический“. Я сама не смотрела, но раз исторический, должно быть познавательно».
Все опять скисли. Вряд ли про фильм с Ван Даммом можно было сказать такое – «познавательно».
Но вариантов не оставалось. Снежана Владленовна поставила видеокассету в магнитофон, попрощалась, оставив дочку «за старшую», и ушла из дома по делам. Но перед этим мудрая женщина, жена дипломата, дипломатично заперла шкаф с остальными кассетами и забрала ключ с собой.
В течение нескольких минут после ухода Снежаны Владленовны на экране ничего не происходило. Нам демонстрировался черный фон с какими-то спорадическими проблесками жизни. Наконец замелькали первые кадры. Мы надели самые скучные лица в своем гардеробе и приготовились страдать.
По лесу бежала девушка в белой тунике. Ее догнал мужчина. Они обнялись и занялись сексом. На экране появилось название фильма.
«Калигула».
Название исчезло. Но люди продолжили заниматься сексом. Много людей. Все больше и больше голых людей на экране натуралистично и без купюр занимались сексом. Веселым и разным.
Мы окаменели.
Юлька, добрая душа, привстал и сделал движение к видеомагнитофону, чтобы выключить его.
«Сидеть!» – прошипела непростая девочка, вице-хозяйка дома.
Два тридцать. Именно столько времени, два часа тридцать минут продолжительности фильма «Калигула», заняло половое экспресс-созревание советских восьмиклассников.
Да, да, это была та самая знаменитая «Калигула» Тинто Брасса. Где Тинто Брасс развернулся во всей своей красе, во всех стилях – и тинто брассом, и тинто кролем, и невесть еще как.
Второй первый отличник как вцепился после первых кадров в мою руку, так и не отпускал ее до самого конца. Возможно, он боялся, что его унесет волной гормонов. Или же он просто хотел удостовериться, что не один это видит. В тот момент мы с ним вдвоем были самыми крутыми ботаниками всего Первомайского района.
Когда фильм закончился, мы молча просмотрели все титры, до самой последней буквы.
Наступал вечер. В полумраке гостиной сидели седые и счастливые советские дети. В глубине комнаты сын трудовика шумно глотал большими глотками «кока-колу» из ворованной бутылки.
Магнитофон доиграл кассету до конца и автоматически выплюнул ее. Юлька, первым из собравшихся, очнулся из эротического обморока. Он подошел к аппарату и нерешительно, двумя пальчиками, вытащил содержимое.
На бумажке на торце видеокассеты действительно было от руки написано, дословно: «Калигула (исторический)». Папашка дипломат знал свое дело, шельмец: лучшего способа замаскировать порнуху и не придумаешь.
Снежана Владленовна вернулась через три часа после начала фильма. Она опоздала на какие-то несчастные полчаса.
«А чего это вы в темноте сидите?» – спросила она у седых детей.
Снежана Владленовна включила свет. Никто не шелохнулся. Вот так же выглядит кот на кухне, застигнутый врасплох над куском надкушенной колбасы.
«Ну, и как вам кино?» – спросила Снежана Владленовна.
«Познавательно!» – не сговариваясь, одновременно выкрикнули мы хором правильное слово.
Второй первый отличник, видимо, истерично осознав глубину своего падения, как это нередко случается с отличниками, особенно со вторыми, неожиданно поднял руку, как на уроке. Он был весь красный, с помидором вместо головы. Я брезгливо выдернул из-под него свою ладонь.
«Он нас всех запалит», – прошептала непростая девочка Юльке.
«Да, пожалуйста», – учительским тоном сказала Снежана Владленовна.
Кощей-ботаник открыл было рот, но Юлька успел показать ему кулак. Ботаник сидел лицом к дверям, в которых стояла Снежана Владленовна, а Юлька – спиной к ним, так что женщина ничего не заметила. Пудовый кулак Юльки по размеру как раз совпадал с головой ботаника: одного неловкого движения хватило бы, чтобы помидор потек.
Но рот у малолетнего Кощея был уже открыт, и помидороголовый юнец не мог не продолжить.
«Калигула… Калигула… – бормотал он, как заклинание, уставившись на Юльку, – Калигула… неуважительно относится к женщинам».
«Надо же, – ответила Снежана Владленовна, – как интересно. А в чем это выражается?»
«Он… он… он закрывал одной женщине рот рукой!» – выпалил ботаник.
Действительно, есть в фильме Тинто Брасса такая сцена, где Калигула закрывает женщине рот рукой. Но только, как бы это сказать, он делает это не изолированно, а в процессе. То есть закрывание рта рукой – это самое невинное из того, что герой Малкольма Макдауэлла вытворяет с той женщиной в упомянутой сцене.
«Надо же, надо же. А как та женщина выглядела? Во что она была одета?» – поинтересовалась Снежана Владленовна.
«Да ни во что…» – ляпнул ботаник и втянул голову в плечи.
Непростая девочка незаметно пнула Юльку ногой.
«Да ни во что особенное, – нашелся Юлька, – в белые такие одежды».
«И у нее еще весы были в руке», – неожиданно добавил сын трудовика, который оказался вполне сообразительным малым. Впрочем, это было понятно уже по его афере с бутылками.
«И повязка на глазах», – добавил я последний необходимый штрих.
«А! Ну, теперь все понятно, – воскликнула Снежана Владленовна так, будто ей и правда было что-то понятно. – Та женщина – Фемида, древнеримская богиня правосудия. Калигула закрывал ей рот рукой, как бы заставляя правосудие замолчать. Это такой художественный образ».
Все облегченно вздохнули, а Кощей-ботаник окончательно сник.
«Какой прекрасный фильм! – резюмировала Снежана Владленовна. – Дети, вам надо обязательно написать по нему сочинение! Я поговорю с вашим учителем истории. Это будет бомба!»
На этих словах сын трудовика, под шумок решивший снова приложиться к трофейной бутылке, подавился и страшно закашлялся.
Эпилог.
Снежана Владленовна, конечно, ни с каким учителем истории о сочинении по фильму «Калигула» говорить не стала. Это было очередное дипломатическое заявление в воздух от светской львицы.
А вот помидороголовый ботаник впоследствии поступил-таки на исторический факультет.
Очевидно, что Тинто Брассу со свойственным ему размахом удалось привить любознательному юноше любовь к этой науке.
В советское общество, закатанное крышкой сверху, как трехлитровая банка с огурцами, все равно проникал секс. Через эту самую крышку или каким-то иным неведомым науке способом, но он проникал. И не только посредством новомодных видеосалонов.
Однажды на перемене в шестом, кажется, классе я заметил у подоконника подозрительное скопление одноклассников. Подойдя ближе, я услышал два заветных слова: «японская комната». И моментально покраснел. Уже целую неделю школу будоражил самиздат с таким названием. Он ходил по рукам, потеющим от одного прикосновения к прекрасному. Манускрипт был про «это». И вот неведомое лежало в нескольких сантиметрах от меня, шелестя страшными тайнами.
Я принялся отчаянно ввинчиваться между гренадерских спин своих товарищей, отделяющих меня от секса на подоконнике. Но они не расступались. Еще бы, чтение было увлекательным, не то что школьная программа.
До звонка на урок оставались сущие минутки. Я начал хныкать. Ради секса как только не опустишься.
Внезапно спины передо мной разомкнулись, образовав большой просвет. Я подлетел к подоконнику. На нем были в беспорядке разбросаны машинописные листы, весьма потрепанные, а в некоторых местах даже слегка пожеванные, что не удивительно, если принять во внимание их содержание.
«Графиня Ирина Румянцева родилась в Москве в семье Баскова…» – успел прочесть я.
В этом не было ничего эротического. Как не было ничего эротического в чей-то тяжелой руке, опустившейся на мое плечо. Я обернулся. За моей спиной стоял карающий трудовик.
С кипой потрепанных и местами пожеванных листов меня доставили к классной руководительнице. Звонок уже прозвенел, но трудовик, оставшийся у дверей снаружи, никого не пускал. Я сидел на стуле рядом с учительским столом, пока классная скользила взглядом по тексту. Наконец, она зарделась, и ее очки запотели. Видимо, дальше в этом рассказе все было значительно веселее графини Ирины Румянцевой, родившейся в Москве в семье Баскова.
Далее последовали три минуты, триумфально победившие в номинации «самые абсурдные три минуты в моей жизни».
«Ну, как же так, ты же пионер…» – заунывно начала классная.
«И отличник…»
«И мама у тебя беременная…» – продолжала причитать учительница.
Тут я внутренне рухнул, потому что это было правдой, и я решил, что с ребеночком теперь будет что-то не так.
«И папа у тебя радиоинженер…»
Я не понял, к чему она это сказала, но мне сразу стало страшно и за папу.
«Иди помой руки, а вечером прочитай целиком „Песню о буревестнике“», – огласила мне епитемью классная.
После той перемены я мыл руки целую неделю.
А «Песню о буревестнике» на всякий случай прочел три раза, возненавидев ее на всю жизнь.
Но это не помогло.
И, хотя ребенок родился хорошеньким и даже братиком, после того случая в школе меня невзлюбили.
Для ребят я навсегда остался тем самым отличником, на котором кончился секс.
Фильм «Маленькая Вера» вышел на советские экраны в 1988 году. Я учился в средней школе.
Учителя активно рекламировали нам это кино, так что не пойти на него было невозможно. Они говорили, что это страшная порнография. Школьники потянулись стайками. Они бы в Мавзолей так ходили, подумали учителя и приняли меры. Установили почти круглосуточное дежурство у кинотеатра.
Однажды я со своими малолетними товарищами благополучно напоролся на эту засаду. Мы уже подошли к билетным кассам, как вдруг обнаружили там нашу классную руководительницу и физрука. Последний, видимо, был придан для усиления, если детское либидо вдруг выйдет из берегов при виде афиши. Блокпост мы заметили слишком поздно.
«Батлук! – с замиранием сердца услышал я голос классной руководительницы, – и ты туда же!»
А я был отличником, гордостью школы, кандидатом в члены разных влиятельных в те годы аббревиатур.
От страха и неловкости я выбрал самую провальную версию из всех возможных. Я объяснил им, что по названию фильма подумал, будто это детское кино: Вера-то «маленькая». Лучше бы я просто промолчал, как честный самурай. Я понял это по тому, как ощетинились брежневские брови физрука.
Я вернулся домой и весь вечер прорыдал под «Спокойной ночи, малыши», оплакивая свою загубленную партийную карьеру.
А мои более стрессоустойчивые подельники в тот день предприняли еще одну попытку и проскочили-таки на последний сеанс. У преподавателей тоже была личная жизнь. Может, и не такая фееричная, как у маленькой Веры.
Вот такие решения и определяют наши судьбы. Все те, кто в итоге попал на «Маленькую Веру» в тот день, потом целовались во дворе на лавочках. В смысле, не друг с другом, а с девочками.
А я до сорока лет так и смотрел «Спокойной ночи малыши», пока однажды чудом не женился, случайно посмотрев «Пятьдесят оттенков серого»…
В середине восьмидесятых в СССР гремел сериал «Спрут».
До того, как увидеть этот сериал, я хотел быть Штирлицем.
После «Спрута» никаких сомнений у меня не осталось: я хочу быть только комиссаром Каттани.
Комиссар Каттани покорил меня тремя вещами: ему полагались иностранные тачки, неземная красота и голые женщины.
Голых женщин в то время я видел лишь однажды: в альбоме с репродукциями «Дрезденская галерея».
Аналогом комиссара в СССР был участковый милиции. Так я рассудил.
Я уселся на лавочку напротив входа в опорный пункт охраны порядка, который располагался в моем доме, и стал ждать участкового. Я рассчитывал, что он возьмет меня к себе в подмастерья, в ученики чародея. А там и до голых женщин недалеко.
Долго ждать не пришлось. Участковый вскоре появился, во всем блеске джентльменского набора комиссара Каттани: машина, красота, женщина.
Он подъехал на пукающем «Москвиче-412», жирный и лысый, с очень круглой женщиной с буклями волос, видимо, супругой.
Лицезреть его спутницу обнаженной, в одних буклях, я был не готов, даже под страхом всю оставшуюся жизнь видеть голых женщин только в альбоме «Дрезденская галерея».
И тогда я все понял: дело в климате. Такие, как Каттани, могут уродиться только в Италии, в средиземноморских широтах.
А у нас максимум – Анискин. Тот, который из «Анискин и Фантомас».
Долгие годы меня терзает один вопрос.
Что стало с Гулей из «Спокойной ночи, малыши»? Была одно время в легендарной детской передаче такая красотка модельной внешности.
Я подозреваю нехорошую историю в духе шоу-бизнеса.
Наверняка Хрюша представился Гуле продюсером, воспользовался, протащил на пару передач, а потом он с ней наигрался, и ее с телевидения выгнали. И лежит она сейчас растрепанная в нафталине где-нибудь на задворках «Мосфильма». А эта розовая свинья до сих пор на экране в славе и богатстве.
Это я Хрюшу имею в виду. Уточняю на всякий случай.
Потому что сейчас такое про многих персонажей можно сказать.
Факт моей дружбы с двумя самыми непохожими друг на друга детьми Советского Союза, Юлькой Боксером и Лешей Невидимкой, делал мою жизнь интереснее.
Нельзя сказать, что они дружили, но через мое посредничество как-то общались.
Они были несовместимы биологически фатально: Юлька – большой, основательный, земной, сильный, в то время как Леша – хрупкий, туманный, неустойчивый, летучий.
Однажды, в восьмом классе, я какое-то время наслаждался самым увлекательным реалити-шоу в своей жизни.
В течение нескольких дней почти на каждой перемене повторялось одно и то же.
К весело галдящей группе одноклассников, среди которых весело галдели, в частности, я и Юлька Боксер, мрачно подходил Леша Невидимка, трогал Юльку за рукав и говорил ему при всех буквально следующее:
«Идиот».
Потом разворачивался и удалялся.
Леша Невидимка учился в параллельном классе, и у нас его почти никто не знал. О том, что Леша и Юлька приятельствуют, ребята тоже не подозревали.
Хотя, если бы кто-то и подозревал это, он бы все равно не понял, почему после такой самоубийственной эскапады Леша Невидимка разворачивался и удалялся целым и невредимым: Юлька карал и за меньшее.
На третий день адского перформанса, когда Леша Невидимка в очередной раз схватил невозмутимого боксера за рукав и бросил ему в лицо «Идиот», один из ребят не выдержал и сказал Юльке:
«Да вломи ты ему уже!»
Но Юлька в очередной раз воздержался и только в задумчивости почесал затылок.
Мои одноклассники в недоумении хлопали ресницами, создав легкую локальную турбулентность, а я внутренне ликовал.
Лишь мне одному была известна разгадка этого ребуса.
Месяц назад Леша Невидимка одолжил Юльке Боксеру книжку с романом Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и теперь таким незамысловатым образом требовал ее себе обратно.
В 1989 году я покинул Советский Союз.
Не в рамках тренда «утечки мозгов» (было бы, чему утекать), а в составе делегации учащихся от Дворца пионеров Первомайского района г. Москвы.
Только нас, из Дворца, и не хватало на праздновании двухсотлетия Французской революции в Париже.
Поехать в четырнадцать лет за границу, да сразу в Париж, да на грандиозные торжества, да в июле, да на халяву – об этом мечтал каждый советский подросток. Тем более что в стране в тот момент было неспокойно: тогда на советских телеэкранах по нашему здравому смыслу победоносно с косой как раз впервые прошел сериал «Рабыня Изаура».
А я еще, помнится, морщился и сомневался: мы с соседом по даче договорились примерно в то же время разбирать его старый сарай. А тут какой-то Париж.
Остальные ребята из нашей делегации страшно нервничали. Одни неплохо знали французский, другие уже бывали за границей раньше, третьи были дальними родственниками руководительницы всея делегации, и тем не менее группу потрясывало в мандраже и даже отчасти в треморе.
И лишь я сохранял олимпийское спокойствие. Не владевший ни одним иностранным языком, не путешествовавший дальше дачи под Икшей (50 километров от города, не шутки), ни разу ничей не родственник. Дуракам на Руси испокон веков везло.
В те годы я был, не чета себе сегодняшнему, каким-то бесстрашным танком жизни. Ни страха смерти, ни угрызений совести, ни рефлексии. Безбашенно совал два пальца в розетку мира. Я нисколько не сомневался, что Париж в четырнадцать лет мне полагается. Ничего сверхъестественного.
Ребята из делегации, и в особенности ее руководительница, со мной, конечно, намучились.
Один раз меня даже могли убить.
Это случилось непосредственно в день празднования юбилея революции, 14 июля.
Как пишут в романах: вечерело. Тогда впервые подсветили Эйфелеву башню. Она торчала посреди июля, как рождественская елка.
Весь город был на улицах. Повсюду громыхала музыка и фейерверки.
Сопровождающие с французской стороны привели нашу группу на площадь перед собором Парижской Богоматери. Там был организован грандиозный концерт.
Русские дети и руководительница с гипертоническим кризом от ассортимента местных йогуртов жались друг к другу трепещущими скелетиками в попытке самоаннигиляции.
Я же стоял на шаг в стороне, отпочкованный и независимый, и ворчливо комментировал происходящее. Оно меня решительно не устраивало. Призрак неразобранного соседского сарая стоял перед глазами.
«Фу, какое дерьмо играет», – говорил я ребятам.
Как выяснилось черед пару минут, «фу, какое дерьмо играет» относилось к творчеству группы «Depeche Mode». В тот день на парижских площадях кого только не было в формате этих бесплатных концертов. Я, прыщавый отличник, естественно, слушал «Волосатое стекло», пытаясь добрать до прыщавого брутала, и лишь оно могло меня поразить. Уверен, если бы «Волосатое стекло» действительно выступило 14 июля 1989 года на площади перед собором Парижской Богоматери, это поразило бы не только меня.
В надмирной среднерусской тоске я отвернулся от сцены, где витийствовали досадные лабухи, и в этот момент у меня над ухом застрекотала кинопленка.
Наверное, в судьбе каждого из нас бывают такие минуты, знаете, когда мы уверены, что нас снимают в кино. Что происходящее вокруг не может быть просто жизнью – это наверняка чей-то фильм, в который мы каким-то чудом попали. Возможно, это выпускная работа на режиссерском факультете у ангелов. Но сомнений нет: мы – в главной роли.
Там, где через несколько метров от меня заканчивалась площадь, стояло припаркованное авто. А на нем, прямо на капоте, сидела французская девушка. Авто было красного цвета. На девушке было красное платье. И авто, и девушка – красивые до зубной боли. Авто, очевидно «Феррари», а девушка, несомненно, актриса. Так мне казалось. Хотя авто вполне могло оказаться тухлым «Ситроеном», а девушка обычной студенткой, теперь я этого уже никогда не узнаю.
Если бы на незнакомке была паранджа, и из прорези сверкали одни глаза, и в этом случае от меня остался бы пепел. А тут – короткое платье. И какие-то фантастические, кинематографические, отфотошопленные ноги (хотя тогда фотошоп еще не придумали, отбой). Я ни разу в своей жизни не видел столько женских ног в одном месте.
А я в те годы был не только нагл, но и близорук. Очки я носить не любил и надевал через раз (прыщавый отличник плюс очки – это минус будущее). В тот вечер на мне их тоже не было. Наглость, помноженная на близорукость, – это лютая взрывная смесь.
Я подошел поближе, чтобы разглядеть красавицу получше. «Поближе» – в моем близоруком понимании. На деле оказалось, что я встал в нескольких сантиметрах от девушки. Если бы я высунул язык (ну, мало ли), я мог бы коснуться ее носа. В итоге меня, видимо, спасло только то, что я все-таки этого не сделал.
Рядом с красоткой немедленно нарисовался какой-то амбал. Я до сих пор помню одну существенную деталь: он был одет в кожаную куртку прямо поверх голого торса. Сейчас меня это напугало бы до чертиков. А тогда я не придал этому никакого значения.
Амбал начал говорить со мной. Заметив эксцесс контакта с иностранцем, руководительница делегации подослала ко мне мальчика по фамилии Сиротский. У него был весьма высокопоставленный папа, вопреки фамилии. Собственно, через папу он и оказался в наших нестройных рядах. Непростой Сиротский уже в те годы виртуозно владел французским. Сиротский любил импортные фильмы ужасов (у его папы было, на чем это смотреть). Он с радостью взялся исполнить поручение руководительницы, так как небезосновательно предвидел техасскую резню бензопилой. Я и не заметил, как он воздвигся слева от меня, ангел смерти со знанием языка.
Тем временем амбал в кожанке говорил мне что-то убаюкивающее и мелодичное. Французский – это такой шансон, просто песня, тумбаланеже.
«Он только что послал тебя в жопу», – перевел Сиротский.
Я стоял с улыбкой до ушей, не в силах отвести взгляд от актрисы на «Феррари», готовый умереть за любовь в любую секунду.
«А сейчас он собирается тебя бить», – услужливо подсказал Сиротский.
В этот момент девушка повернулась к спутнику в кожанке и бросила ему короткую фразу на французском.
Кости моего опорно-двигательного аппарата начали складываться, как домино. Это был мегашансон, симфония, двойной тумбаланеже со льдом.
Сиротский, поначалу решив, что красавица зачитывает мне смертный приговор, мгновенно перевел.
«Не трогай его, – сказала девушка амбалу, – не видишь, что ли, он и так карлик».
В свои четырнадцать я был низкорослым подростком с очень серьезным лицом, которое меня катастрофически старило.
Красотка взяла амбала под ручку, и они затерялись в праздничной толпе.
«Прямо Горбун из Нотр-Дама, твою мать», – разочарованно резюмировал начитанный Сиротский.
«Черный лебедь» Талеба, эти единичные события с грандиозными последствиями применимы и к личной человеческой истории.
Для меня таким черным лебедем стала та поездка во Францию в 1989 году, на празднование двухсотлетия Французской революции.
Мне кажется, я до сих пор подпрыгиваю от афтершоков того землетрясения, которое случилось тогда со мной в Париже.
«После возвращения оттуда вы стали другим» – в точности про меня.
Одним из главным моих потрясений стала еда. Это был еще СССР, хоть и на излете. Я уезжал от докторской колбасы, той, которую не рискнул бы съесть ни один уважающий себя советский доктор.
Два раза я становился жертвой французской кухни.
Во-первых, йогурты. У нас тогда их не существовало в природе, если не считать йогуртом прабабушку йогуртов – ряженку. Мы жили на базе французской спортшколы, и на завтраках в столовой сервировался отдельный стол с одними йогуртами. Их там был ровно миллион. С разными вкусами, всех цветов радуги. В баночках невиданных по красоте форм.
В первый же день я слопал баночек двадцать. Или пятьдесят. Или даже сто, я не помню. Одним словом, мое знакомство с йогуртами измерялось цистернами. Весь оставшийся день я провел в сортире. (Это ведь тоже французское слово?) Остальные уехали без меня на экскурсию – так я не увидел Лувр.
Во-вторых, багеты с ветчиной. Просто отдельно взятый багет уже был песней, а багет с ветчиной – так вообще целой симфонией. Ради багета каждый из нас, без сомнения, предал бы родину. С багетами мы впервые познакомились на экскурсии в Версале. Мы ждали нашей очереди идти во дворец, расположившись на лужайке на пикник. Бедные затюканные советские подростки беспокойно оглядывались вокруг в поисках полиции – газоны же все-таки. Нам потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к тому, что во Франции нечто отгораживается не от людей, а для людей.
Так вот, на этом пикнике нам всем раздали по длинному ароматному багету с ветчиной. Мне длинный ароматный багет с ветчиной раздали ровно четыре раза. Когда пришла пора идти во дворец, я физически не смог встать с лужайки. Пока группа ходила по залам, я лежал и переваривал – так я не увидел Версаль.
Потом, через много лет, у меня каждый раз начинало крутить живот, когда группа «Белый орел» пела про хруст французской булки.
В конце концов, наша русская руководительница группы, педагог со стажем, решительно взялась за меня. С того дня, после Версаля, она ставила меня в конец любой продовольственной очереди. А также часто кричала громовым голосом поверх столов с невиданными яствами:
«Батлука, Батлука отгоните!»
Так я увидел Париж.
В жизни каждому человеку даруются мгновения восхитительного беспримесного абсурда.
В детстве я мечтал стать космонавтом и полететь к Марсу. Но судьба придумала вариант покруче и в 1989 году отправила меня в Париж. Вся эта поездка, от начала до конца, стала для меня вкраплением Босха в картину Саврасова «Грачи прилетели». Подобной концентрации чуда и абсурда в моей биографии больше не встречалось.
Нашу группу во главе с женщиной-методистом (это специалист из Дома пионеров, в чьи функции входило методично выносить нам мозг) и переводчицей пригласили в квартиру простых французских работяг в многоэтажке, похожей на наши советские. В рамках какого-то дружеского обмена и всякой подобной мифологии. Французские работяги, как им и полагается, угощали всех шампанским. Методист тихонько обошла всю группу и властным шепотом потребовала «пригубить и отставить». Не помню, как остальные, но я вылакал все, что смог, подходя к подносу не по одному разу и отбирая бокалы у более пионеристых пионеров. Я тогда был тот еще кудрявый русоволосый мятежник. Все свои страхи я отрастил значительно позже.
Со мной несколько раз заговаривал кто-то из французов. Мы вели непринужденный диалог. Они задавали вопросы, а я на хорошем французском отвечал «о шан зелизе» (пунктуация первоисточника сохранена). Мой французский был хорошим, но коротким: я знал только эти два слова из песни Джо Дассена про Елисейские Поля, которую мы мужественно разучивали целый месяц перед поездкой всей группой.
Так что поначалу вроде бы никто и не заметил, что я был мертвецки пьян. В свои четырнадцать лет. В Париже. Гусарское начало жизненного пути. Но затем мы шумной ватагой высыпали на улицу. Советская детвора оживленно щебетала с гостеприимными французами. Мне показалось, что кто-то из наших запел «о шан зелизе». Не зря же учили, правильно. Я уже не участвовал во всеобщей вакханалии дружбы народов и незаметно присел в сторонке с блокнотом и ручкой. Тут надо заметить, что лично меня в эту делегацию включили как репортера (во Дворце пионеров я занимался в кружке юного журналиста). Включили с условием, что я буду ежедневно писать очерки о нашей поездке для последующей публикации в рупоре школьного движения «Пионерия Вологодчины» или как там этот таблоид в то время назывался.
Как потомственный крепостной крестьянин, я здраво рассудил, что пора отрабатывать господское шампанское, пока не вытолкали взашей. И принялся строчить. Буквы задорно прыгали по бумаге и вроде даже соскакивали за края блокнота. Не факт, что они в итоге складывались в какие-то слова, но было негрустно. Недоразвитый мозг подростка, пораженный алкоголем, это как минимум забавно.
Вдруг в какой-то момент вокруг меня стали собираться люди. Другие пионеры, французы, методист с переводчицей. Они все хором оживленно призывали меня прекратить писать и пытались поднять. Я протестовал, восклицая, что мне вовсе не трудно и это мое задание от партии и правительства (так мне описывали перед поездкой во Дворце пионеров мою миссию, я просто повторил). Окружающие настаивали. Я искренне не понимал, почему мне мешают. Пока не огляделся.
Оказалось, я сидел прямо посреди клумбы во дворе многоэтажки. Между ног у меня росли какие-то восхитительные французские цветы. Если бы у меня в тот момент в руках оказалась лейка, я бы смотрелся в клумбе абсолютно органично, как настоящий журналист, с лейкой и блокнотом. Но лейки не было, и я смотрелся плохо. От неловкости я запел «Марсельезу», вторую французскую песню, которую мы зубрили перед поездкой.
Мы возвращались в гостиницу на нашем туристическом автобусе. Я полулежал на последнем ряду, там, где несколько сидений рядом. Справа и слева от меня расположились методист и переводчица. Они зачем-то держали мое безжизненное тело за руки с двух сторон. Видимо, боялись, что я вырвусь и разожгу межнациональный конфликт, а возможно, и ядерную войну в придачу. Милые женщины, какого же высокого мнения они были о моем чахлом организме. Сквозь призрачный детский алкогольный сон я улавливал обрывки их разговора.
Они обсуждали свои ответные действия на тот случай, если французская сторона предъявит ноту протеста за осквернение клумбы (это их терминология, так они говорили). Методист и переводчица сошлись во мнении, что в таком случае они в ответ обвинят французскую сторону в провокации, мол, те намеренно напоили советского журналиста. И добавили неизвестное мне в то время, но очень страшное на слух слово «демарш».
Они обсуждали все это всерьез.
Тогда я и предположить не мог, что однажды эти времена воинствующего абсурда в одночасье вернутся в своем нетронутом первозданном сиянии.
Жизнь – удивительная такая избушка на курьих ножках. Однажды самое важное для тебя она поворачивает к лесу задом. И то, что слепило глаза, навсегда уходит в тень.
У меня так было с очками. Для банальных очков, конечно, слишком пафосная преамбула получилась…
Ну, да ладно.
Очки я начал носить во втором классе. Я страшно комплексовал. Мне казалось, что я хожу в аквариуме на голове и на меня снаружи пялятся все вокруг.
Папа меня утешал. Говорил, знаешь, сынок, что отличает человека от обезьяны? Очки! То есть утешал, как мог. А мог он только так, то есть вот этой единственной фразой. Каждый раз, когда со мной случался очередной офтальмологический кризис, он выдавал в эфир эту реплику. В какой-то момент мне искренне захотелось стать обезьяной.
Мои фобии на почве близорукости множились под грибным дождиком взросления. Я заламывал руки и причитал, что, если уже в этом возрасте мне понадобились очки, значит, я преждевременно старею и скоро умру. Папа задвигал про обезьяну, а также про то, что людей без очков тоже умирает достаточно. В тот момент умер Андропов. Он носил очки, и я несколько дней боялся выходить на улицу. Кроме того, я сокрушался, что в очках меня никто не станет бить. Тут вступала мама и восклицала, как это прекрасно. Ничего эти женщины не понимают в мужских делах…
И только я вроде бы смирился со статусом очкарика, как однажды на уроке во время выступления у доски у меня выпало очко. В смысле – линза. Прямо на пол. Кто-то в классе сразу закричал, что у Батлука отклеился глаз.
В конце восьмидесятых подростком я поехал в Париж с делегацией от Дома пионеров. Там я влюбился в русскую девочку из нашей группы. Я был уверен, что в очках у меня нет шансов, и всю поездку проходил слепой. Очки весь Париж так и пролежали под подушкой. Красот Франции я не разглядел. С таким же успехом я мог бы прогуляться ночью у себя в Измайлово. Я настолько сильно растянул правое веко, наводя резкость, что в какой-то момент оно потеряло эластичность и перестало возвращаться в исходное положение. Придав себе тем самым квазимодо-лук, я полностью обнулил свои шансы на ее любовь с первого взгляда. И со второго. И с третьего. Но девочка ответила взаимностью. В том нежном возрасте девочки вообще очень лояльны к убогим. Мы ходили по Парижу за ручку, и она помогала мне обходить столбы. Однажды она помогла мне обойти Эйфелеву башню.
В самолете по пути домой я собрался с духом, нацепил очки, посмотрел на свою возлюбленную и ужаснулся. Она была красавицей. Если бы очки оказались на мне с самого начала, я бы просто не решился к ней подойти. Так пенснолики впервые сослужили мне добрую службу.
Насколько это волновало меня тогда, настолько безразлично стало впоследствии. Ахиллесова пята заросла. Даже более того: чем дальше, тем больше я убеждался в том, что очки – это та самая изюминка, которая поднимает мою булочку в цене. Я все чаще находил подтверждение тому, что очки – это мой дар, а не проклятие. Как тогда в Париже.
Лучше всего это уже во взрослой жизни сформулировал мой друг детства Сема. Он всегда видел меня только в очках. Как-то раз я при нем их случайно снял. Сема внимательно посмотрел на меня и сказал слово на букву «б». Три раза. И ни разу это не было слово «Батлук».
«Никогда больше не делай этого», – сказал мне Сема вполне серьезно.
«Чего не делай?» – переспросил я.
«Не снимай при мне очки. У меня дети».
И он при этом повертел что-то в руке. Что-то похожее на оберег.
Папа все-таки был прав про обезьяну. По крайней мере, в моем случае.
В советское время очки были атрибутом кастовости: если очкарик, значит, интеллигент. С большой долей вероятности. Можно смело спрашивать, как пройти в библиотеку.
Это сейчас очки ничего не значат. Их носят все кому не лень. В компьютерные игры полжизни играл – в очках. Телик лупил до посинения, пиксели глазоньки выжгли – в очках. Ночью под одеялом в «ВКонтакте» на телефоне одноклассниц разглядывал – в очках.
Мой сосед по парте боксер Юлька всю жизнь завидовал моим очкам. Но, к несчастью, не мог похвастать плохим зрением. В какой-то момент он плюнул и попросил маму купить ему очки без диоптрий. Но непременно круглые, пенсноликами, как у Чехова. Таким образом Юлька «добирал солидности», как выразился Жеглов о Ручечнике.
Эти Юлькины очки без диоптрий в свое время создавали массу неудобств другим жителям нашего района. Юлька дефилировал в них по округе котом в мешке, а иногда и троянским конем.
Однажды мы с Юлькой возвращались из школы домой и к нам пристали какие-то залетные хулиганы.
По негласному дворовому кодексу тех лет, если ты в очках, значит, готов умереть. А тут еще нас двое таких, смертников.
Юлька даже очков снимать не стал. Потому что с его боксерской техникой он мог вполне справедливо не рассчитывать на ответные удары.
Представляю, как те хулиганы удивлялись, пока лежали без сознания.
Моя любовь к спорту была безответной.
Родители отдали меня в секцию рядом с домом. Так делали все советские родители. К счастью, рядом с домом не было секции стоклеточных шашек. Только конькобежная. Это когда в обтягивающих трико и на длинных коньках. Они назывались «ножи». Когда мама сказала мне, первоклашке, что меня научат кататься на ножах, я обрадовался. Решил, что меня отдают в цирковое училище. Оно тоже располагалось неподалеку.
А дальше я могу сказать, перефразируя классика: всем хорошим во мне я обязан спорту. Комплексы, зажимы, экзистенциальные страхи и общая неустойчивость психики – все оттуда.
Я занимался в той конькобежной секции восемь лет, все сознательное детство. И это была история бесконечных факапов, как бы мы сейчас сказали. Одно время играл в «Динамо» такой футболист, Юрий Ковтун. Так вот я был еще хуже, только на коньках. Я до посинения участвовал во всех соревнованиях. Лед краснел от стыда, когда я выходил на старт. Я не выиграл ни одного забега. Да что там, я до финиша-то никогда не доезжал. Падал. Лед скользкий, а я на коньках, нарочно не придумаешь, правда же. Хотя нет, наговариваю на себя. Один раз, помнится, доехал я все-таки до финиша. Упал метрах в пяти от него и на попе пересек ленточку. Под овации тренера.
Мечтой всех конькобежцев в то время были не медали, как это может показаться, а комбезы. Так на нашем жаргоне называлась профессиональная спортивная форма для катания на беговых коньках – комбинезоны. Мне, как отстающему, комбеза не полагалось. Между тем, он был мне жизненно необходим. Комбез плотно прилегал к телу, подчеркивая выгодные выступы и утягивая невыгодные. В нем я мог без длинного сказочного квеста сразу превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя, пусть и ненадолго, на время тренировки. И, самое главное, он давал мне шанс приблизиться к богине нашего ледяного олимпа, девочке в ослепительно белоснежном комбезе. Ей как будто было мало ослепительной белоснежности, и она вдобавок гордо несла на своих атласных бедрах две огненно-красные полоски по обеим сторонам.
В отсутствие комбеза я катался в советских алкоголических тренировочных с пузырями на коленках, в легендарных трениках. И в растянутом папином свитере, в котором он, по семейной легенде, ухаживал за мамой. Мне эта романтика никак не помогала, так как периодически коленки в пузырях цеплялись за полы свитера, и я падал, как мешок с картошкой. Другие тренеры плакали, глядя на меня. Хотя, возможно, их глаза слезились на морозе. Но мне казалось, что плакали. Ведь если представить себе эту картинку: вереница конькобежцев в сияющих на солнце облегающих комбинезонах мчится в закат, и в конце ребенок-алкоголик с пузырями на коленках, – каждый человек доброй воли заплачет.
Нельзя сказать, что я был совсем безнадежен. Однажды (то есть один раз за восемь лет) тренер меня похвалил. Это случилось уже ближе к окончанию моей фееричной карьеры. На тренировке мы ехали «змейкой» один за другим. Нас было человек десять. Мы готовились к очередным соревнованиям, отрабатывали забег на время. Тренировки конькобежцев, вообще-то, красивое зрелище, сродни древнегреческим мистериям. Вереница сексуальных спортсменов движется синхронно, в такт, на высокой скорости, как единое целое. Восхитительно! Но не в тот раз, потому что в тот раз тренер в воспитательных целях поставил в начало меня. Вторым. Это в моих-то трениках.
А первой в «змейке» блистала та самая девочка в белоснежном комбинезоне с двумя огненно-красными полосками на своих атласных бедрах. Я как уставился в ее затянутую в латекс старшеклассную попу на старте, так и не смог оторваться от нее до самого финиша. Так мы с ней вдвоем и проехали тренировочную дистанцию: она – в закат, и я – носом в ее зад. Вдвоем, потому что девица разогналась не на шутку, желая сбросить с хвоста нелепого придурка в трениках. А все остальные отстали. И время мы с ней показали какое-то недетское. Тренер тогда все щупал мне пульс, заглядывал в глаза. Боялся, наверное, что я врежу дуба. У меня и правда в тот момент перед глазами летали какие-то мухи посреди января. И еще стояли две огненно-красные полоски, естественно. Ну, они до сих пор еще у меня перед глазами стоят. Первый эротический опыт, никуда не денешься.
Я выжил, а тренер так впечатлился, что выдал мне подержанный комбинезон и отправил выступать на самые главные в году соревнования. Там я на первом же повороте упал и даже сумел порвать своими мощными спортивными ягодицами свой первый комбез.
И все-таки это история со счастливым концом. Нет, я не стал Скобревым. И нет, я не женился на той королеве латекса.
В конце своего последнего сезона в конькобежке я присутствовал на общем собрании. Тренер построил нас в коридоре спортшколы, на фоне кубков. И толкнул речь, отпуская с миром на летние каникулы. Также тренер провел церемонию награждения, торжественно вручив юным спортсменам значки со спортивными разрядами. Всем раздал. До единого. А нас там много собралось. Кроме меня.
У тренера в руках оставался последний значок. Он в задумчивости крутил и вертел его, не глядя на меня. И вдруг тренер сделал неловкое движение, значок выскользнул у него из пальцев, упал на пол, покатился по нему и прикатился прямо мне под ноги. Как в кино. Не в очень хорошем.
Я машинально поднял значок. На секунду замешкался, разглядывая его у себя на ладошке. Это был значок третьего юношеского разряда, самого маленького. Вся моя бесприютная клоунская карьера в спорте промелькнула у меня перед глазами. Тогда, в первом классе, я все-таки понял маму правильно. Это был цирк, попытка удержаться на ножах.
Я быстро опомнился и протянул значок тренеру обратно. Тот сделал движение рукой к значку, чтобы его забрать, но вдруг осекся и заметно обмяк, словно у него внутри лопнул какой-то туго натянутый канат. Тренер долго смотрел на мои алкоголические, выгоревшие за восемь лет на солнце треники, на гигантские градины слез, стоявшие в моих глазах. Потом вздохнул тяжело-тяжело, махнул рукой и сказал:
«А, ладно. Оставь себе».
Так я вошел в элиту мирового спорта.
Несправедливость по отношению к другим часто переносится труднее, чем несправедливость по отношению к тебе самому.
В нашей спортивной конькобежной секции ребята разного возраста пользовались одной большой раздевалкой спортшколы. И там, в этой уродливой миниатюре Советской армии, царила дедовщина. Двадцатилетние парни возвращались после срочной службы и кошмарили старшеклассников. Нас, среднюю школоту, не трогали.
Особенно страдал один парнишка. Они прозвали его Грушей за круглое лицо. Груша любил эту злосчастную конькобежку, много занимался. «Деды» часто унижали его в нашем присутствии. Гаденько, по-мелкому. Заставляли нюхать свои носки, выкидывали все его вещи в женскую раздевалку, вынуждали стоять в трусах, пока они сами не переоденутся. Скажу, наверное, страшную вещь: лучше бы били. Смотреть на это было невыносимо.
Больше других усердствовали два добрых молодца. Если их жертва и напоминал лицом грушу, то сами они – репу, простую, распаренную. В нее им так хотелось вломить каждый раз, когда они издевались. Эти двое недавно пришли из каких-то героических железнодорожных войск. Оба мужественно воевали с рельсами и шпалами где-то в Московской области. Две репы входили в число лучших воспитанников спортшколы. У каждого был первый взрослый разряд. Им доставалась самая лучшая амуниция. Репы щеголяли в ослепительно-белых новеньких комбинезонах с красными полосками на ляжках. Они напряженно соревновались друг с другом, кто первый получит звание кандидата в мастера спорта, заветный КМС. Вся спортшкола, да что там, все спортивные функционеры района следили за их противостоянием. Репы получали кубки и медали, а в перерывах между триумфами затыкали нос Груше своими носками. Так бывает.
Ни функционеры, ни репы, ни тренеры ни разу не вспомнили, что у нелепого Груши тоже был первый взрослый, на секундочку. Пару раз дома перед сном я тихонько плакал от несправедливости в подушку. За него. За Грушу. От самого Груши за эти годы я не услышал ни звука…
Однажды на общегородских соревнованиях обе репы в ослепительно-белых комбинезонах живописно упали на своей коронной дистанции. Даже красные полоски на ляжках не спасли.
У одной репы от падения комбинезон торжественно треснул на жопе и разошелся по швам чуть ли не до гланд.
А Груша в своем потрепанном трико завоевал золотую медаль.
И первым в нашей спортшколе получил заветное звание кандидата в мастера спорта.
Когда в детстве и раннем отрочестве я занимался в районной конькобежной секции, мы все как один мечтали о тренировочном выезде на искусственный каток стадиона «Динамо».
Не потому, что там прекрасный лед, а у нас в районе, на окраине, с вековыми разломами и чуть ли не рыбацкими лунками. И не потому, что там каток только для конькобежцев, и ты мчался свободно и беспрепятственно в закат, а у нас приходилось лавировать между хоккеистами, фигуристами, детьми, моложавыми дедульками враскоряку и чуть ли не рыбаками.
Нет, вовсе не поэтому. А потому, что на катке стадиона «Динамо» за стеной мужской раздевалки сразу начиналась женская, и в этой тонкой фанерной стене было проделано незаметное, но весьма технологичное отверстие…
Мы ехали на «Динамо», как в Амстердам. Хотя это было советское время, и про Амстердам мы знали только по слухам. На «Динамо» мы, юниоры, показывали свои лучшие результаты. Тренеры удивлялись. Даже самые отъявленные черепахи разгонялись до отрыва панциря.
На самом деле все было просто. Мы ехали быстрее, чтобы поскорее попасть в раздевалку, к заветному отверстию. Правда, время окончания тренировки от нашей скорости никак не зависело. Наш мозг, атакованный юным тестостероном, функционировал неадекватно…
Милые дамы в своем представлении о нас, мужчинах, наверняка полагают, что подглядывать за ними – дело хоть и мерзопакостное, но простое, и для этого много ума не надо. А вот и нет. Опровергаю. Для этого надо много ума. Например, в нашем случае приходилось проявлять смекалку, так как для коллективного вуайеризма существовало одно внешнее препятствие. Дело в том, что в общей мужской раздевалке переодевались также и тренеры. При них мы, конечно, не могли позволить себе такой явной разнузданной порнографии. После тренировки тренер обычно приходил переодеваться чуть позже нас, минут на пять. Именно это время и было в нашем распоряжении. Эротический портал открывался ненадолго, поэтому далеко не все желающие могли прикоснуться к прекрасному через отверстие в стене. Тут нам и пригодился наш мозг, пожалуй, впервые в жизни. Мы научились договариваться и придумали систему. На дворе – перестройка, люди записывались в очередь к прилавкам. Мы же записывались в очередь к нашему заветному технологическому отверстию. Твоя очередь могла наступить и через месяц, и через два: за пять минут видеосвязи с космической станцией в открытый космос успевало выйти всего несколько человек. А нас в группе было под тридцать.
На улицах в лицо прохожим уже дышала весна, воробьи купались в лужах, подошла моя очередь. В тот день, уходя на тренировку, я как-то по-особому, тепло и сердечно попрощался с домашними. Еще бы, вечером, после припадания к технологическому отверстию, я должен был вернуться уже мужчиной. Я смутно помню тренировку, возможно даже, я просто в задумчивости ходил по глубокому снегу в беговых коньках. Хотя нет, это слишком сильный образ, в этом случае меня бы вернули на лед. Но ощущения от того дня были именно такие. Все вокруг стало обещанием, прелюдией. Деревья шептали «сегодня», мартовские коты, приподнимаясь со своих кошек, подмигивали мне, мурлыча «добро пожаловать в клуб», даже милиционер у метро, как мне показалось, заговорщицки, по-отечески посмотрел на меня.
По этому описанию может сложиться обманчивое впечатление, что тогда, к своим тринадцати годам, я еще не видел голой женщины. Конечно же, это не так. Конечно же, я к этому возрасту уже видел голую женщину. В альбоме «Шедевры живописи Дрезденской галереи». Я шел подготовленным, меня было не смутить этим самым тем самым.
Мне выпал жребий смотреть первым. Так сошлись звезды.
«Батлук, давай, давай!» – кричали мне ребята со всех сторон.
Я моргнул, зажмурился, прильнул к отверстию в стене и открыл глаз. И мгновенно увидел ее. Вот так сразу. Заветную. Долгожданную. Передаваемую из уст в уста ребятами из конькобежки в былинах и эпосах. Попу. Настоящую, розовую. Попа занимала почти всю перспективу технологического отверстия. Больше я ничего не мог увидеть. Но разве нужно было больше. И вдруг, нет, и ВДРУГ, попа начала поворачиваться ко мне лицом, медленно и неизбежно. И, вот оно, вожделенное мгновение, избушка встала передо мной передом…
«Шухер!», сильный толчок в спину, и вот я уже сижу спиной к дырявой стене. Совершенно неожиданно тренер вернулся в раздевалку раньше обычного. Кто-то из ребят пихнул меня в качестве предупреждения. Но было уже поздно, так как тренер успел заметить меня у нашего Ока Саурона.
Как ни странно, он ничего не сказал и, собирая сумку, только хитро поглядывал в мою сторону. Мальчишки осмелели и начали кучковаться вокруг меня, вполголоса засыпая вопросами. Я сидел с остановившимся взглядом. В отличие от волос, которые, напротив, стояли дыбом. Возможно даже, именно в ту самую минуту я и начал седеть.
«Ну как, все увидел? Круто было? Вот повезло!» – галдели парни наперебой мне в уши.
«Да, Батлук, давай», – неожиданно нарушил молчание тренер.
Ребята недоуменно посмотрели на него.
«Расскажи товарищам, что ты там увидел, как это было круто и как тебе повезло», – настаивал тренер.
Ребята недоуменно посмотрели на меня.
«Сегодня как раз соседнюю раздевалку временно мужикам отдали, старшей группе…» – добил меня тренер на глазах у всех.
Если бы не было доподлинно известно (хотя это не доподлинно известно), что Шекспир жил в Англии в семнадцатом веке, я бы не сомневался, откуда он взял свои любовные драмы – из московских дворов. Ведь нет ничего выше дворовой любви. И нет ничего беспощадней дворовых страстей.
Пока родители гадали, как лучше воспитывать нас – по Споку или по попе, – нас благополучно воспитывали наши дворы.
Во дворах на моих глазах раскрылась веером триумфов и падений не одна романтическая история. И не две. Если бы любвеобильность измерялась счетчиком Гейгера, у нас во дворе он бы не пищал, а визжал. Причем круглосуточно.
Ну вот, например. Двоечник и отличница – классический сюжет. В нашем дворе он воплотился с точностью до наоборот.
Они были вместе с четырнадцати лет. В пятнадцать лет она, двоечница, со скандалом ушла из школы, метнув в учительницу химии колбу с реактивом. Тем самым как бы выразив общее мнение класса о «химичке». И хотя колба пролетела мимо и реактивом была H2O, девочку исключили. Он, отличник, прибежал защищать ее на педсовет и ушел из школы вслед за ней, метнув в директора книжку. И хотя книжка пролетела мимо и это была худенькая методичка, мальчика исключили.
Школа гудела, после уроков мы тренировались на школьном дворе прицельно метать колбы и методички.
А эти двое ходили, держась за руки, посреди зимы в венках из ромашек. Воображаемых нами. Такие они были нечеловечески влюбленные.
Они выросли, у них появились дети.
Двое у нее, один у него.
В браках с другими.
В нашем дворе в дни моей юности жил Тор. Красавец, скандинавский бог. На несколько лет старше меня. Я уже не припомню его настоящего имени. Но Тор ему очень подходит. Вино и девушки были его буднями. Моими буднями были букварь и ряженка, поэтому немудрено, что я избрал этого небожителя ролевой моделью. Я подбирал за ним все крупицы мудрости, которые он ронял.
Однажды дворовый Тор сказал мне:
«Никогда не бегай за девушками и за трамваями. Всегда придет следующий».
А от меня постоянно убегали и те и другие, и девушки, и трамваи, так что его совет был весьма кстати.
Несколько дней после того знакового совета я ходил спокойным и просветленным. Я сам стал этаким полубогом и смотрел на девушек свысока.
Но однажды вечером все в одночасье рухнуло. При входе в подъезд я столкнулся с возлюбленной Тора. Она как раз выбегала на улицу. За ней семенил Тор. Он хватал девушку за руки и почти скулил: «Ну, Свет, ну, Свет». Богиня вырывалась и быстрыми шагами удалялась в сторону своего дома. Тор плелся за ней, продолжая бормотать: «Ну, Свет, ну, Свет». Мне даже на мгновение показалось, что я вижу, как его молот беспомощно волочится за ним по асфальту.
На следующий день я ехал по своему району в трамвае. Я стоял в задумчивости в конце салона у заднего панорамного стекла и смотрел в пол. Вчерашняя сцена не выходила у меня из головы. Может, я что-то не так понял, и мой кумир вовсе и не бежал за той девушкой, утешал я себя.
Трамвай закрыл двери и отъезжал от очередной остановки. Я поднял глаза.
За трамваем бежал Тор, отчаянно размахивая руками.
Во времена дворовой юности мы считали свадьбы делом экзотическим. Свадьба – это то, что может случиться с кем-то другим, но только не с нами. Как смерть.
Поэтому все мы, от первого до четвертого подъезда, опешили, когда эта розовая чума в начале девяностых пришла в наш двор.
Жених был домотканый, из местных, а невеста приблудная – из соседней многоэтажки. То есть парню не пришлось далеко ходить: вышел покурить, затянулся – вот тебе и невеста. Без былинного размаха и всех этих Забав Путятишен и раззудись плечо, зато наверняка.
Они подали заявление в ЗАГС. Свадьбу назначили на осень.
Стояло тучное потливое московское лето, с одышкой и ливнями. Некоторые из нас только что закончили первый курс своих институтов, другие перебивались спонтанными заработками. Мы почти в полном составе болтались во дворе. Сорванную морковку тянуло на родную грядку. Это было наше первое лето после изгнания из рая детства. Мы не знали, куда пристроить свои осиротевшие корни.
То лето запомнилось нам всем одинаково – брачными играми будущих молодоженов. Эти двое решили устроить медовый месяц до свадьбы. Причем не себе, а нам – обитателям летнего московского двора.
Парочка источала мед. Жених и невеста везде ходили вместе, прилипая друг к другу разными частями тела – то руками, то губами, то лбами. Даже их уши порой переплетались.
Они стояли рядышком, бок о бок, и, перебивая друг друга, словно воробьи у лужи, рассказывали о том, как безумно они влюблены. Как удивительно они похожи. Как резко изменился двор, город, мир, вселенная после их встречи.
Потом он зачем-то вслух читал какие-то стихи. А она зачем-то громко пела какие-то песни.
Наконец, жених с невестой все так же прилюдно падали друг другу в объятия (не обнимались, а именно что падали в объятия, то есть, если бы один вдруг сделал шаг в сторону, другой рухнул бы пластом лицом вниз), и из их глаз сочилась густая патока.
«Я ща блевану», – сказал однажды мой друг Сема, когда молодожены в очередной раз изобразили перед нами этот Цирк дю Соплей.
Эти двое были как Кен и Барби, в которых добавили слишком много пластмассы и не доложили правды жизни.
Можно предположить, что Сему, да и не только его одного, тошнило от показного лицемерия сладкой парочки. Но это не так. Никакого показного лицемерия там не было, как раз наоборот. Нас всех тошнило от их искренности, вот ведь как бывает. Жених с невестой так громко шуршали фантиком своей любви, что никому уже не хотелось конфеты.
Похожие чувства испытывают пользователи современных соцсетей, когда их перекармливают успешностью и благополучием. Когда на них выдавливают содержимое своих эклеров. Когда чья-то жизнь поворачивается к ним своим фотошопом.
А для нас в те годы все это происходило вживую. Ведь тогда соцсетей еще не было и в помине: люди выходили во двор, а не в «Фейсбук». Молодожены круглосуточно торчали перед нами во плоти, так что их нельзя было просто отправить в бан.
Как-то раз наша дружная компашка весело наклюкалась. Молодежь валялась по двору россыпью, где кого догнал алкоголь. Какая-то собачка задорно закапывала в песочнице Сему. Я расположился на лавочке, облокотившись о старушку, сидевшую там с подружками. Все дворяне были в дрова, и лишь я один благопристойно сохранял вертикальное положение. Хотя нет, вертикальное положение также сохраняли жених с невестой, поскольку они снова упали в объятия друг друга и поэтому устояли. Молодожены обнимались непослушными руками – плетьми. Жених спорадически выкрикивал в воздух громкие лозунги о вечной и бессмертной любви к своей невесте. Задорная собачка перестала закапывать моего приятеля и начала подвывать в такт заунывным признаниям жениха.
«Расплескают, дурачки, ох, расплескают», – вдруг сказала старушка, к которой я прислонился. Старушка смотрела на жениха с невестой и грустно качала головой.
«Да не расплескаем, бабуся, – ответил я ей тогда, – нечего расплескивать, мы все уже выпили…»
Их медовый месяц закончился ничем. Во всяком случае, он не закончился свадьбой.
Заявление они забрали.
Со стороны все выглядело так, словно жених с невестой сдулись, как шарики после праздника, причем сдулись синхронно. Мимо пробегал злой мальчишка и лопнул их одной иголкой.
Права была та мудрая старушка: они все-таки расплескали.
Потому что счастье, как и деньги, любит тишину.
Среди дворовых мифов есть одна особенно незамутненная здравым смыслом категория – мифы о сексе.
Я до сих пор помню ходившее по дворам в начале девяностых поверье о том, что курение сигарет Magna приводит к импотенции. Я, правда, не понимаю, чего мы, шестнадцатилетние, тогда все так переполошились. Даже если бы нас, болтавшихся по району, разом накрыла импотенция, большой спорт этого не заметил бы. Потому что в те годы мы еще тайно смотрели «Спокойной ночи, малыши» и играли в солдатиков.
В старших классах школы Сема принес во двор другой могущественный миф. В оригинале звучал он так: громкий смех – признак «недотраха». Мол, все девочки до единой об этом знают и в момент раскусят вас по веселому гоготу.
И вот, по мере того как этот миф распространялся по округе, в окрестных дворах становилось все тише и тише. Местная общественность старалась продемонстрировать тотальный дотрах. После анекдотов воцарялась гробовая тишина. Если кто и позволял себе смешок, то со стороны это больше напоминало рыдания. Слепой Хорхе из «Имени розы» был бы нами доволен.
Среди нас затесался старший товарищ. Он учился на первом курсе института. Более того, старший товарищ был уже женат. Нам он казался почти Джеймсом Бондом. Как у агента 007 была лицензия на убийство, так у товарища была лицензия на секс.
Однажды этот молодожен-первокурсник дул с нами портвейн на лавочке. И кто-то рассказал анекдот. Смешной. Очень.
И вдруг на наших глазах старший товарищ принялся ржать, как конь, показывая зубы и брызжа слюной, всхлипывая и хлопая себя по ляжкам. Отсмеявшись, молодожен обвел нашу похоронную процессию непонимающим взглядом и спросил:
«А вы чего не смеетесь?»
Мы посмотрели друг на друга и все как один синхронно начали краснеть.
Агенты тотального недотраха еще никогда не были так близки к провалу.
Лучшая тактика ухаживания за девушками – наглость. Меня этому научили дворовые романы.
Не мои романы, сам я в те годы практиковал довольно редкую технику покорения дам под названием «пугливый сурикат»: «Ой, девочка!» – восклицал я про себя, пока девочка беспрепятственно проходила мимо моей остолбенелой тушки.
Чемпионом по наглому ухаживанию за девушками был главный бонвиван нашего двора Тор. Вот это был размах!
В то далекое советское время конца восьмидесятых он прельщал девиц одним и тем же приемом: говорил, что воевал во Вьетнаме. Две трети целевой аудитории верили. Не четверть, не половина – две трети! Их нисколько не смущало, что ветерану на тот момент было пятнадцать. Правда, выглядел он на все шестнадцать, но все равно. Этой слепой вере в кумира способствовал ряд обстоятельств:
1. История в нашей средней общеобразовательной школе преподавалась с перерывами: учителя в то время менялись едва ли не чаще, чем сама история;
2. Тор был невероятно красив: не исключено, что часть пострадавших просто слушали музыку его голоса;
3. На плече у ветерана красовался шрам. Мы, его старые приятели, знали, что это результат падения с трехколесного велосипеда, причем не во Вьетнаме, а в детстве. Мы, но не девочки. Тор в теплое время года неизменно дрейфовал в алкоголических майках без плеч, обнажая бравый порез (прямо как настоящий Тор – я имею в виду безрукавку). Девочкам он объяснял, что это от напалма. Две трети по-прежнему верили, без вариантов.
4. Наконец, и это было самой сильной стороной его легенды, Тор много рассказывал о своей службе во Вьетнаме. Причем с такими деталями, что порой даже мы сами начинали плыть и сомневаться – а вдруг? Все вокруг с открытыми ртами заслушивались историями о рейдах по деревням, об эвакуации раненых на вертолетах под огнем противника, о вылазках в подземные норы вьетконговцев, о злом сержанте, который пытался его убить, и о том, как они курили что-то через дуло двустволки.
Прекрасный был рассказчик, харизматичный. Про четвертый пункт это уже потом выяснилось, что Тор просто пересказывал фильм Оливера Стоуна «Взвод».
У нас в то время, в конце восьмидесятых, видеомагнитофонов ни у кого не было. А папа Тора работал во Внешторге, и у него видеомагнитофон был. На горе несчастным девушкам.
Одних волнует, где библиотека Ивана Грозного. Других – кто убил Кеннеди.
Для меня тайной века всегда был вопрос, что делал Артюр Рембо с 1873 по 1891 год.
С момента написания последней строчки в восемнадцать лет и до своей смерти в тридцать семь.
С трагической фигурой этого знаменитого французского поэта у меня связана одна комичная история. Как всегда со мной. Меня вообще нельзя приглашать в приличные места. Я и на «Реквиеме» в консерватории начну ржать, припомнив этакое.
Однажды в годы моей придворной юности к нам во двор на грандиозную уличную попойку залетела редкая бабочка.
Красивая умная интеллигентная девушка из хорошей семьи. С манерами, но не манерная. Почти в белом платье, хотя и в джинсах. Дочь помещика, заблудившаяся в своем гигантском поместье и очутившаяся на конюшне. Где даже кони вели себя прилично, а ржали исключительно конюхи.
«Наяда», – как говорил Велюров про свою возлюбленную. Что-то подобное.
Наяда училась в университете, на филфаке.
Она так и сказала:
«Я учусь в университете, на филфаке».
Услышав это, наш банкующий тамада понимающе кивнул, убрал с лавочки водку и поставил на нее порт-вейн «Анапа». Вино, как никак. В его понимании.
Скорее всего, в тот день наяду привела в наш двор подружка. Неизвестно, что та ей посулила. Уж точно не наши пьяные рожи и рожицы. (Это не одно и то же. Некоторые напиваются эпически, до подрыва устоев, до пьяных рож, другие – фельетонно и водевильно, до пьяных умилительных рожиц.) Возможно, подружка заманила наяду обещанием показать архитектурный ансамбль вотчины царя Алексея Михайловича на Серебряно-Виноградном пруду. Эта вотчина действительно располагалась неподалеку от нашего двора, в пяти километрах.
К финалу попойки на закате дня, в качестве развязки нехитрой фабулы подобных мероприятий, на лавочке остались сидеть трое: наяда, рядом с ней мой друг Сема, а следом уже я. Остальные участники дневной вечеринки были живописно разбросаны по двору, как бревна на лобном месте «Дома-2» (хочу идти в ногу с трендами, пусть и хромая).
Внутренний мир наяды к тому моменту выглядел уже изрядно помятым. Хотя внешне девушка держалась молодцом. Она сидела оглушенная, как русалочка, выброшенная на берег в районе Геленджика. Видимо, родители слишком передержали ее. Башня из слоновой кости заметно накренилась.
Сема не оставлял попыток. Вот уж истинный поручик Ржевский, типаж в типаж. Он рассказывал наяде рецепт приготовления коктейля «ерш», из водки и пива, шампанское по вкусу.
«Как же я устала с вами, Семен», – вдруг в отчаянии выдохнула наяда. Бьюсь об заклад: Сема не понял, что она обращается к нему. Мне кажется, до того момента он еще ни разу не слышал своего полного имени.
«Эх, мальчики, мальчики, – как-то по-старушечьи запричитала она, – да вы хоть знаете, кто такой, например, Аполлинер? Или Малларме? Или Рембо?»
Наяда произнесла фамилию Рембо с ударением на последний слог, как и положено, РембО.
В те годы я уже знал, кто такой Рембо. А также Малларме. И даже Аполлинер.
Но я был настолько бухой, что не мог сказать даже «мама». Язык предательски застрял между верхними и нижними зубами. Максимум, на что я был способен в ту минуту, это свистнуть. Что, очевидно, не решало задачу реабилитации нашей гоп-кампании в глазах наяды, а даже наоборот.
К сожалению, я был лишен способности не только говорить, но и двигаться. Поэтому я не имел возможности остановить Сему хотя бы жестом. А остановить Сему было необходимо. Потому что он решил парировать.
«Ну, почему „не знаем“, – возразил Сема, думая, что он уже Семен, – помнишь, как в третьей части он из лука по вертолету стрельнул?»
Сема не произносил вслух никаких фамилий. Но это все равно нас не спасло.
Ведь совершенно очевидно, что внутри Семы фамилия Рембо прозвучала не как у наяды, с ударением на последний слог, а иначе, с ударением на первый – РЭмбо. Собственно, это был единственный возможный в природе способ, каким фамилия Рембо могла вообще прозвучать внутри Семы.
Даже в Гольяново, в соседнем районе, не говоря уже о вотчине царя Алексея Михайловича в пяти километрах, был слышен звонкий шлепок: это наяда в бессилии ударила себя ладонью по лбу.
Видимо, она живо представила себе трагическую накачанную фигуру знаменитого французского поэта Джона Рэмбо.
Рутина наших дней шелестит одинаковыми страницами в одной тональности. Но бывают такие куски, словно за письменный стол на минутку присел Льюис Кэрролл, случайно проходя мимо.
Однажды и я столкнулся с подобным: пять минут чистой фантасмагории, без капли реальности.
Я ехал на автобусе по Щелковскому шоссе в сторону Сиреневого бульвара. Это важная деталь. Точной геопозицией я хочу подчеркнуть, что все происходило в реальной, а не какой-нибудь булгаковской Москве. На дворе стояло лето 1991 года, мне шестнадцать лет.
На остановке на Черкизовском мосту в автобус через переднюю дверь зашла девушка. Я стоял в самом торце, сзади, лицом в салон (или «к» салону? а то звучит, как лицом в салат… ну ладно, оставим).
Девушка была красавицей. Вот прямо красавицей, без комментариев и без купюр. Даже с учетом того, что на моей гармошке в ту пору вовсю играли гормоны, все равно красавица.
В белом платье, высокая, стройная, черноволосая.
Автобус тронулся. Я начал краснеть. Непонятно почему. Красавица стояла далеко, но, несмотря на это, я все же краснел. Пунцовел и багровел. Возможно, это была химическая реакция, аллергия на красоту.
И тут старина Льюис один раз лениво обмакнул в чернильнице перо. И красавица тоже тронулась, под стать автобусу, и уверенно направилась в мою сторону, грациозно покачиваясь на рессорах. Она дошла до конца салона и встала рядом со мной, практически вплотную.
«Лицом к лицу лица не увидать» – это Есенин глупость сморозил, конечно, лишь бы три раза в одном предложении слово «лицо» употребить. Еще как увидать. Проверено на себе. Я чувствовал дыхание девушки на своих глазах.
Пикантность ситуации заключалась в том, что автобус был пустой. Не полупустой, а вообще пустой. Время обеденное, будний день. Нас в автобусе было трое: я, красавица и водитель, но последний по объективным причинам в мизансцене не участвовал. Точнее, нас было четверо: плюс еще мое астральное тело, которое от страха вылетело из меня и порхало неподалеку.
Так мы с красавицей проехали целую остановку, почти обнявшись. Молча. Любая кочка на дороге, любое неосторожное движение рулем в исполнении водителя – и мы бы неизбежно поцеловались. Ее губы порхали рядом с моим лицом. Я держался молодцом. Меня немного выдавали запотевшие в смерть очки и вставшие дыбом волосы.
За эту остановку я прокрутил в голове все восемьсот двадцать три разумных объяснения происходящего. И что она пьяная (нет, дыхание в глаза, смотри выше). И что я пьяный (нет, не в тот раз, честно). И что водитель пьяный (не исключено, но как это помогает?). И что она слепая (нет, уверенно направилась в мою сторону, смотри выше). И что я слепой (нет, не в тот раз, на мне были очки, пусть и запотевшие). И что водитель слепой (даже если и так, это точно не помогает).
И ровно в тот момент, когда я, наконец, решился предложить незнакомке выйти за меня замуж, она нашла решение получше: вышла не за меня, а из автобуса. На остановке у кладбища.
Хорошая версия, но тоже нет. Коса была у нее на голове, а не в руках.
Я прибежал в наш двор, спотыкаясь. Веселая компашка знакомых оболтусов привычно околачивала там груши.
Я пересказал им все слово в слово, в деталях.
Ребята подробно расспросили меня про внешность той красавицы. Я описал им девушку максимально натуралистично, вплоть до точного числа (видимых) родинок. Кажется, у меня получилось довольно правдоподобно, так как у всех моих приятелей тоже запотели очки. При том, что очков на них не было.
Но никто так и не узнал незнакомку.
И тут один паренек вдруг просветлел лицом и сказал:
«О! Знаю я ее. Она к моему отцу приходила!»
Я похолодел. Паренек этот был из неблагополучной семьи. А папашка его так и вовсе форменный алкоголик, местная алкознаменитость.
Что моя красавица могла делать в гостях у такого человека? Меня начали терзать нехорошие сомнения.
«Точно она?» – с пристрастием спросил я паренька.
«Ну, точно, – ответил тот, – отец мне ее потом на словах описывал. Все прямо как ты рассказываешь: в белом платье, высокая, стройная, черноволосая».
«А как зовут-то ее, отец сказал?» – поинтересовался кто-то из ребят.
Я больше ничего не хотел про нее знать. Я был раздавлен, как камбала, и затих на дне Мирового океана в меланхолическом иле.
«Сказал», – тянул кота почти за хвост паренек.
«Ну, и как же ее зовут?» – не отставали ребята.
«Известно как. Белая горячка!»
Рукопожатие для мужчины – фетиш.
Даже выходя из уборной с мокрыми руками, исходящий мужчина исхитряется поздороваться с входящим за руку: подворачивает кисть к себе и сует визави эту обрубленную культю, за которую тот ритуально хватается. Мужчины тянутся друг к другу во время застолья, опрокидывая рюмки, салфетницы и пару человек на пути. А уж если момент расставания застал группу мужиков в замкнутом пространстве (коридор, лифт) и им нужно срочно за несколько секунд попрощаться в режиме «все со всеми», тут случается полный Пастернак, «сплетенье рук, сплетенье ног» и так далее. Потому что не попрощаться за руку или попрощаться не за руку для мужчины – это мгновенная утрата мужественности.
Порой эта рукопожатная мужественность приобретает экстремальные формы. Мой школьный друг Юлька вкладывал в рукопожатие все свои лошадиные силы. А их было немало, хватило бы на разгон старого КамАЗа до ста за три секунды. После Юльки кисти немилосердно трещали, а пальцы моментально превращались в беспомощные разваренные сосиски. У Юльки была не рука, а лопата. Пожестикулировав пять минут, он мог случайно очистить от снега целый двор.
Короче, с мужчинами все понятно. Но я не думал, что рукопожатие может иметь какое-то значение и для женщины.
В конце восьмидесятых моя дворовая компания разрослась до маленького Версаля. В наш двор стекался пролетарский бомонд со всего микрорайона. Молодежи собиралось так много, что не все в тусовке были лично знакомы между собой.
Что же их привлекало? Шарады, кроссворды, чтение вслух журнала «Юный натуралист», танец «Барыня», гимнастика, а также обсуждение передовиц.
Плюс много портвейна. ОЧЕНЬ много портвейна, под который, как известно, весело заниматься чем угодно, даже вышеперечисленным.
В нашем рабоче-крестьянском Версале были настоящие король и королева, две штуки – Роберт и Катя. Роберт – высокий красавец, утонченный аристократ, с папой в МИДе, спустившийся к нам с олимпа «сталинки» на бульваре, вечно джинсовый, ожваченный и осигареченный, ковбой Мальборо во плоти. Катя – ослепительница, умопомрачительница и наповалубивайка. Выстрел, моргнула – перезарядила, выстрел: два трупа.
Как и любые двое, предназначенные небесами друг другу, они были незнакомы. Роберт и Катя приходили во двор не так часто и ни разу не встретились.
У нас, старых придворных, появилась идея фикс их познакомить. В инициативную группу по имитации божественного провидения вошли как мальчики, так и девочки. Мы переступили через свою мелочную зависть в благородном порыве восстановить высшую справедливость.
Нелегкое это дело – плести макраме судьбы, прямо-таки тяжкий труд. Непослушные нитки Роберта и Кати все время выскальзывали из наших пальцев, и мы никак не могли пересечь этих мотыльков в одной крохотной точке пространства. Наш мир не создан для встреч – достаточно посчитать количество перекрестков.
Но однажды нам удалось. Подталкиваемые, почти буквально, навстречу друг другу неуклюжими амурами, Роберт и Катя столкнулись лицом к лицу прямо на середине двора, у песочницы. Воздух зазвенел. Даже солнце на секундочку задержалось, чтобы взглянуть на этих двоих из-за крыш.
Мы все, и причастные и деепричастные, вплоть до самых случайных суффиксов, столпились вокруг.
Катя протянула Роберту руку. Он пожал ее.
В красавице Кате, по Чехову, было прекрасно все, поэтому, как девушка вежливая, она решила точно так же протянуть руку для приветствия и остальным юношам, громоздившимся за спиной Роберта. А те и не чаяли такой удачи – познакомиться с самой Катей. Во дворе ее видели все, но никто из ребят не решался подойти. (А вы бы решились, если бы прямо перед вами на берег вышла Афродита? Вот вы лежите с «Балтикой» на бабушкином полотенце в семейниках, и тут она, такая же пенная. Да? Действительно, решились бы? «ЗдорОво, Афродита, как сегодня водичка, пивка дернешь?» – так, что ли?) Индекс цитирования этой девочки в юношеских снах зашкаливал. Через секунду к телу Кати при жизни выстроилась не слабая такая очередь: парни демонстративно вытирали ладони о штаны и друг о друга, предполагая, что этот внезапный приступ чистоплотности впечатлит девушку. А один соискатель даже обтер руку о дерево, соскоблив со ствола вековую кору.
Роберт с Катей проворковали весь вечер. А через месяц мы узнали, что Катя встречается с Юлькой.
Тем самым моим школьным другом Юлькой, у которого рука – как клешня краба-мутанта. Катя познакомилась с ним одновременно с Робертом, в тот же вечер. Юлька стоял в конце очереди для рукопожатий, бордовый от смущения. Пожав ему руку, Катя еще долго отчищала свою принцессную ладонь от вековой коры.
Когда их роман раскрыли, я стал видеться с Катей чаще: Юлька приходил с ней ко мне в гости.
И однажды, когда мы с ней случайно остались в комнате наедине, я наконец решился узнать у нее про главное, мучившее меня все последнее время.
«А почему Юлька? Почему не Роберт?» – спросил я Катю прямо.
«Ты когда-нибудь здоровался с Юлькой? – спросила она меня вместо ответа, – ну, вот так, по-мужски, за руку?»
«Конечно, сто раз», – ответил я.
«А с Робертом?»
«Да».
«Тогда ты знаешь ответ», – подытожила Катя.
И я сразу все понял.
Мой Юлька, неуклюжий костоправ, здоровался так, что пальцы на ногах сворачивались в трубочку, не говоря уже о пальцах на руках.
А вот Роберт…
Роберт протягивал тебе не ладонь, а ладошку. Вяло, не настойчиво, полуобморочно. Как будто протягивал ее не тебе, а маникюрше.
Пожимая его руку, я каждый раз не мог отделаться от ощущения, что держу в пальцах тоненький ломтик докторской колбасы.
Когда душа влюблена, она поет.
Правда, они разные, саундтреки нашей любви.
Эта музыка может быть тихой и громкой, лиричной и агрессивной, смеющейся и рыдающей.
Еще эта музыка может быть странной.
Любовь – это не всегда бабочки в животе. Иногда это мутанты в головном мозге.
Однажды в далекой, гулкой молодости, я был влюблен под песню Ника Кейва «Henry Lee». Я захлебывался чувствами, напевая ее себе под нос беззвездными ночами. Меня ничуть не смущало, что это трек из альбома «Murder Balllads» и что там, например, есть такие романтические строки, как «и она наносила ему удары перочинным ножиком, снова и снова».
В другой раз я страдал под «Lady in red» Криса Де Бурга. Дело было весной. Я включал на магнитофоне кассету с этой песней на максимальной громкости, выходил на балкон, оставляя дверь нараспашку, чтобы слышать музыку, и курил с трагическим лицом (тогда я еще умел курить, в том числе с трагическим лицом). Композиция заканчивалась примерно в одно время с сигаретой. Я возвращался в комнату, перематывал на начало, доставал очередную папироску, и все продолжалось по новой. В один из вечеров, когда я шел на рекорд, уже скурив почти полпачки, я услышал голос своего соседа сверху:
«Как же ты задолбал! Кончай тянуть кота за яйца! И без того тошно!»
Да, Крис де Бург, гений медляка.
Однако самый странный выбор саундтрека любви принадлежал моему другу Семе.
В начале девяностых, не умея петь и играть на гитаре, он пел и играл на гитаре для своей возлюбленной песню группы «Электросудорожная терапия» «Запомни, Катюша, я гений». Это произведение само по себе уже довольно специфично. А отсутсвие у Семы голоса и незнание им аккордов и вовсе делало эту песню в его руках психотропным оружием.
И, хотя возлюбленную Семы звали не Катюша, да и сам он был далеко не гений, между этими двумя проскочила искра или, в данном случае, электросудороги, и они потом жили вместе долго и местами счастливо.
На каждого трубадура найдется своя трубадура. Главное, чтобы в их душах играл одинаковый саундтрек.
На хоккейных коробках во дворах я провел полдетства. А другую половину – в библиотеке на 3-й Парковой улице. Нет, слишком глянцево, нарочито парадно, никто не поверит. Тогда так: полдетства – на хоккейных коробках во дворах, сорок процентов – в самих дворах и пять процентов – в библиотеке на 3-ей Парковой улице. Еще остаются какие-то бесхозные пять процентов…Ладно, пусть это будет школа, я же должен был и в школу тоже ходить.
На хоккейных коробках во дворах зимой мы играли в хоккей, летом – в футбол, вечерами – в бутылочку под бутылочку. Но это уже с привлечением девочек, конечно. В те годы для таких игр еще привлекали девочек, по старинке. Это сейчас уже научились обходиться без них – прогресс, двадцать первый век.
Хоккейная коробка выполняла функцию древнеримского Колизея. Она видела разные драмы – и днем, и, в особенности, вечером. А уж сколько интересных людей повидали Колизеи хоккейных коробок…
От своих младших товарищей из Сокольников в конце девяностых я услышал одну занимательную историю. Эти ребята приезжали к нам на дворовые площадки в Измайлово играть стенка на стенку.
У парней из Сокольников была своя команда. По дворовым меркам очень сильная. Большинство из них закончили футбольные спортшколы, кто-то продолжил играть за институты. Короче, крутили эти двадцатилетние парни все свои Сокольники на одном месте. Но однажды случилось с ними странное.
Собрались они как-то в очередной раз у себя в Сокольниках погонять на коробке во дворе. Еще с советских времен это называлось «дыр-дыр» (ничего эротического: просто мало места, разбежаться негде, важен пас – это и есть дыр-дыр). Против них, легенд местных подворотен, вышла играть какая-то сборная клоунов – падают, сталкиваются друг с другом, смех один. Естественно, игра пошла в одну калитку: эксцентрики сильно проигрывали.
Мимо коробки проходил какой-то мужик. Постоял немного у бортика, понаблюдал. Потом попросился выйти за лузеров. Никто не возражал. Мужик был старше собравшихся раза в два. Животик. С виду нескладный, кулема. В общем, по мнению победителей, он органично вписывался в команду колченогих.
Едва этот дядька вступил в игру, на поле стало происходить что-то необъяснимое. Сирые и убогие за несколько минут сравняли счет, а потом и повели. Мужик почти не бегал. Он стоял на месте и изредка ходил. При этом дядя раздавал такие пасы, что забить с них мог бы даже безногий. Пару раз он сам закидывал мяч за шиворот вратарю с противоположного конца коробки.
Звезды носились по полю красные от напряжения, гнева и ужаса. С такой утроенной краснотой. Мужик с животиком даже не вспотел. В результате команда гаврошей во главе с пенсионером сенсационно разгромила небожителей с крупным счетом. На это сбежался посмотреть весь окрестный бомонд.
Мужик поблагодарил всех за игру и ушел. Спортшкольники в изнеможении валялись по площадке то тут, то там. Некоторые из них озадаченно бродили вдоль бортика, глядя себе под ноги в поисках упавшей самооценки.
Один старичок, наблюдавший за матчем, окликнул капитана спортшкольников.
«Что, накрутил вас Федя?» – ехидно спросил он.
«Какой Федя?» – поинтересовался тот.
«Какой Федя, – передразнил капитана дедулька, – в футбол играешь, а не знаешь ни хера».
И дедулька объяснил ему, какой Федя.
«Федя». Тихий, скромный и добрый, настолько обожающий игру, что готовый ради нее гонять мяч даже с дворовыми ребятами, чему есть много свидетельств помимо моей истории, при этом и правда немного неуклюжий – неуклюжий гений советского футбола Федор Черенков.
Рядом с моим домом располагалась автобаза. Детворой мы часто гоняли с работягами в футбол.
Их никогда не хватало на две полноценные команды, и они разбавляли себя нами, малолетками.
Работа у мужиков с автобазы была скучная, рутинная: они целыми днями ремонтировали здоровенные ЗИЛы. Печальные ЗИЛы приползали к ним на автобазу умирать. Это было автомобильное кладбище слонов.
Поэтому мужики не упускали свободной минутки побегать на спортивной площадке по соседству, погалдеть, поорать, поматериться от души, при нас, при детях.
Нас, детей, это не смущало. Мужики матерились друг на друга нежно, словно поглаживая. Столько любви, сколько было в той матерщине, не на каждой свадьбе встретишь.
После каждой игры мужики пускали нас на автобазу попить водички. А там у них было, откуда ее попить. Не из лужи, не из-под крана и даже не из чайника – из настоящего автомата с газировкой. Он стоял на территории за воротами на маленьком островке коммунизма. Дело в том, что газировку автомат наливал просто так, без денег. И, хотя она была без сиропа, мы все равно упивались до полусмерти.
В другие дни на автобазу к автомату детвору не пусками, только после футбола. Это было водяное перемирие, как в «Маугли».
Заводилой у мужиков был крупный дядька по кличке Гарринча. Я тогда не понимал смысла этого прозвища. Мужик уродился огромным, волосатым, пучеглазым и крупноносым: я думал, что гарринча – это такая разновидность горилл.
Несмотря на свои габариты и не самый юный возраст, Гарринча носился по площадке майором Вихрем. Он играл вдохновенно. Владел феноменальной обводкой, много забивал с обеих ног, гениально пасовал. Команда, в которую он попадал, выигрывала десять игр из десяти. Я каждый раз любовался Гарринчей, независимо от того, играл ли я за него или против. Играя против, я любовался им даже больше.
А затем, после футбола, на автобазе у вожделенного автомата с Гарринчей каждый раз происходила странная метаморфоза. Он, гигантский на поле, вдруг на глазах сдувался, куксился, расползался, и я с удивлением обнаруживал, что Гарринча очень толстый, нескладный и страшно кривоногий. Дядька старел на глазах, на десять лет за минуту. Я замечал седину, и виноградные градины пота, и круги под глазами, и тяжелую волну, которой приливала и отливала его грудь. Он валялся возле автомата с газировкой, как старая одежда, небрежно брошенная кем-то в углу.
Однажды я услышал, как другой мужик сказал Гарринче:
«Ты со своим сердцем так однажды добегаешься».
А здоровенный слон, сам похожий на разобранный ЗИЛ, ответил приятелю:
«Уж лучше добегаться, чем долежаться».
Да, я тогда не понимал смысла его прозвища – Гарринча.
Теперь понимаю.
Понимаю, что оно подходило ему идеально.
Все мы путешествуем во времени. Это дело рутинное.
Общедоступная машина времени – память.
Отличаются только виды топлива. У одних она ездит на старых фотографиях, у других – на забытых голосах, у третьих – на локациях из прошлого.
Моя память передвигается на музыке. Мне достаточно отрывка мелодии, и вот я уже мчусь по пустеющему автобану в заходящий рассвет, и окрестный пейзаж стремительно теряет цветные краски, облетая до черно-белого.
Доходит до смешного: я веду себя как собака Павлова, привязанная к граммофону. Едва по графиту зашуршит игла, мои воспоминания текут слюной на пол.
Мой 98-й бензин – это группа «Зодиак», пионеры советской электронной музыки. Чистое топливо для путешествий во времени. Без примесей. Ни одного сбоя в двигателе.
У «Зодиака» в моей жизни проложен регулярный маршрут – из любого настоящего в 1990 год.
Я очень четко, шизофренически точно, как Нео в «Матрице», вижу себя со стороны, застывшего в коридоре родительской квартиры.
Мне пятнадцать, на часах два ночи. Я только что услышал звонок в дверь. Родители на даче.
По драматургии, у меня как раз должен был наступить испуг. Но испуг не наступил.
Потому что гораздо раньше испуга, часа на три раньше, у меня наступило алкогольное опьянение.
Если сдать на машине времени по этой сцене немного назад, а точнее, еще вперед в прошлое, то мы увидим следующее: стол, заваленный разным, в основном бьющимся; одно юное мужское тело, лежащее на диване; два юных мужских тела, сидящих за партией в шахматы, но, по сути, тоже вертикально лежащих; наконец, меня самого, обмякшего в кресле рядом с огромной трехполосной колонкой.
Это – бесславный финал того, что предполагалось веселым мальчишником. Мы тогда все свои вечеринки называли мальчишниками, и в этом было определенное лукавство, потому что про девочек мы тогда еще не слышали. Точнее, мы-то про них слышали, вот только они про нас слышать не хотели.
В начале вечеринки юных мужских тел было больше, но в те годы, во время веселых мальчишников, люди умели исчезать бесследно, просачиваясь сквозь стены и уходя через канализацию по-английски.
Я обмяк в кресле возле огромной трехполосной колонки, которую мой папа, радиоинженер, переделал из авиационного двигателя, не просто так. Это была медитация по-советски. В тот момент из динамиков, на максимуме известных науке децибел, доносился «Зодиак». Причем не на стандартных 33 оборотах (это была пластинка), а на ускоренных 78. Так мы, неуемные во всем, в те годы слушали электронную музыку для пущего эффекта. «Зодиак» на 78 оборотах – как хор гномиков, надышавшихся гелием. Психоделия в кубе.
Громкость была такая, что цветы в окнах дома напротив выпрыгивали из горшков.
Знаю: отвратительно, и с высоты прожитых лет себя образца 1990 года решительно осуждаю.
Звонок в дверь в два часа ночи заставил меня вернуться с межгалактической орбиты (кто слушал «Зодиак», поймет) и проследовать в коридор, где меня обычно и догоняет машина времени из будущего.
Теперь предлагаю снять меня с паузы и посмотреть, что же будет дальше.
В ту минуту я не сомневался, что это коварные родители все-таки решили вернуться с дачи пораньше (пораньше в два часа ночи) с внезапной проверкой.
На всякий случай я поинтересовался через дверь, кто там.
«Сержант Иванов! Младший сержант Петров!» – представились родители.
Я открыл.
Предо мной стояли два милиционера. Как ни странно.
«Очень громко музыку слушаете», – сказал один, предположительно, сержант Иванов.
«Взрослые дома есть?» – спросил второй, предположительно, младший сержант Петров.
«Да», – ответил я, имея в виду двух своих ровесников за шахматной доской, которые были старше меня – один на месяц, другой на три.
«Можно, мы посмотрим?» – спросил сержант Иванов.
«Можно», – ответил я голосом Чебурашки. Я страшно боялся милиции. Причем без повода: я не находился в розыске и, вообще, слыл примерным пионером. Это один из моих самых древних и немотивированных страхов.
Милиционеры прошли внутрь.
«А что это за писк был, как будто мышей душили?» – спросил младший сержант Петров.
«Это группа такая, „Зодиак“», – ответил я.
«Надо же, – прокомментировал сержант Иванов, – никогда не понимал этой современной музыки».
Увидев моих гостей за шахматами, милиционеры опешили.
Некоторое время они оба молча разглядывали комнату. Взгляд сержанта Иванова абсолютно недвусмысленно остановился на батарее пустых бутылок на столе.
«Ыуаыои», – объяснил я.
«Понятно», – понял сержант Иванов.
Вдруг в гулкой постзодиакальной тишине один из моих гостей за шахматной доской негнущейся непослушной рукой переставил фигуру.
«Я, конечно, не Каспаров, – заметил младший сержант Петров, – но, по-моему, конь ходит буквой Г, а не буквой Ж».
Сходивший буквой Ж поднял на младшего сержанта Петрова булькающие невидящие глаза.
«Ладно, уходим», – подытожил сержант Иванов, обращаясь к младшему сержанту Петрову.
И, покидая комнату, произнес, обращаясь к играющим:
«Вы только это, на шахматы больше не налегайте».
Музыку мы, конечно, в тот вечер, точнее ту ночь, уже не включали.
После ухода милиции я сидел в кресле перед гигантской колонкой, оглушительно молчавшей всеми тремя динамиками, и слышал, как на шахматной доске за моей спиной буквой Ж ходит странный конь.
Тогда я подумал, какие хорошие милиционеры, не наказали нас, не отшлепали, ни разу не расстреляли и даже не забрали в отделение.
А наутро выяснилось, что нас не забрали, потому что в милицейском газике не осталось места.
Газик был битком набит такими же, как мы, юными меломанами из соседних домов.
Мой адрес стал для милиционеров четвертым по счету в ту ударную летнюю московскую ночь.
Еще в моем детстве, с того самого момента, как во мне проявилась метафизическая неуклюжесть, матушка задумала меня женить. Она руководствовалась логикой Велюрова из «Покровских ворот»: «Люди эмоционального склада нуждаются в некотором руководстве». То, как маман пыталась избавиться от непрофильного актива, умиляло. Проще было просто выставить меня за дверь, пенделем под зад во взрослую жизнь.
С тех пор она подкладывала мне в коляску разных девиц, подсовывала мне их в песочницу, подталкивала меня к ним на детских утренниках, так что я спотыкался и картинно падал в ноги нимфеткам челом долу, наконец, плела козни династических браков в моем отрочестве.
Последнее получалось особенно топорно.
Однажды мы с матушкой гостили у ее старых друзей. Мне на тот момент уже исполнилось пятнадцать, поэтому просто подсунуть мне суженую в коляску, как раньше, не представлялось возможным. Матушке приходилось действовать витиевато. То есть с бегемотьей грацией Маргариты Павловны из тех же «Покровских ворот».
В гостях у маминых друзей также оказалась их племянница, на год старше меня. Случайно оказалась или была намеренно подброшена – неизвестно.
Хозяйка дома обмолвилась за общим столом, что племянница учится в гимназии.
«А Олежка учится в лицее», – сказала матушка, удачно попав в контекст. Удачно – по ее мнению, конечно.
Вот этот вот «Олежка» был особенно прекрасен: мне сразу захотелось поправить себе соску во рту.
«Гимназистка и лицеист!» – добавила матушка, если кто-то за столом вдруг еще чего не понял.
Я так разнервничался, что положил себе в тарелку две ложки салата оливье. Что само по себе не страшно, вот только к тому моменту у меня в тарелке уже лежало три ложки салата оливье.
Хозяйка дома зачем-то продолжила выдавать стратегическую информацию и сообщила, что у племянницы скоро день рождения. Моя мама кашлянула так, что с дерева за окном вспорхнули голуби.
«Ах да, – спохватилась хозяйка дома, подпрыгнув вместе с голубями, и обратилась к племяннице, – пригласи Олежку!»
«Приглашаю», – прошипела гимназистка. Кажется, она раскрошила коренной зуб.
На следующих выходных, в субботу, я уже сидел за похожим праздничным столом, только у гимназистки дома, на ее дне рождения. Накануне я пытался договориться с матушкой, чтобы она пошла вместо меня, так как это был ее проект, но получил отказ.
В гостях у гимназистки были одни мальчики. То есть вообще ни одной девочки. Даже домашний кот – и тот оказался мужчиной. Если бы ФАС тогда существовала, она бы оштрафовала гимназистку за недобросовестную конкуренцию.
Дискриминация приглашенных по половому признаку была не единственной странностью того раута. Все остальные мальчики были подобраны один к одному и отличались лишь количеством прыщей и толщиной роговой оправы у очков. Я оказался на каком-то слете победителей всесоюзных олимпиад. На шабаше отличников. Я и сам хорошо учился, но на фоне тех Паганелей даже я выглядел рецидивистом с тремя ходками. У каждого из них в кармане лежала корочка почетного вундеркинда. Я ретировался на угол стола, на самый угол, соответственно примете и назло матушке, и попытался слиться со скатертью.
Гимназистка купалась в интеллектуальной патоке. Над ее головой рассыпались конфетти цитат. Один прыщ декламировал, другой рисовал на салфетке формулы, третий пел арию Ленского – и все одновременно. В какой-то момент мне захотелось встать и громко пукнуть.
Вместо этого я ковырял какие-то грибы. Это единственное, что оказалось на моем конце стола. Попросить остальное я постеснялся.
Я думал незаметно уйти через окно, благо это была «сталинка» на набережной, и при благоприятном исходе я мог бы выжить, упав с десятого этажа в Москва-реку. Но не успел.
Потому что гимназистка неожиданно вскочила со своего места и воскликнула: «Играем! Играем!»
Я на секунду предположил, что они все-таки нормальные люди, и мы сыграем в карты на раздевание, но увы.
Игра оказалась такая же интеллектуально-прыщавая, как и все остальные перформансы.
Гимназистка попросила всех собравшихся передать ей аудиокассеты из своих плееров. Дело в том, что в то время каждый перспективный молодой человек должен был владеть таким портативным плеером. Неперспективные ходили по старинке с орущими бандурами на плече, а передовая молодежь – элитарно-камерно, с наушниками. Несмотря на то что я происходил из пролетарского района орущих бандур, «вокман» водился и у меня.
Прыщи запрыгали и захлопали в ладоши от такой метафизической забавы. Юноши вытащили из своих плееров кассеты, которые они слушали по пути на день рождения, и передали хозяйке. То же сделал и я.
Гимназистка объявила правила: она будет ставить эти кассеты, а собравшиеся должны угадать, кому из гостей они принадлежат.
Опомнился я быстро, но недостаточно быстро для того, чтобы предотвратить катастрофу. Я вспомнил, что именно находилось у меня в плеере. Это категорически не должно было становиться достоянием гласности. Однако придумать элегантный способ вернуть кассету обратно я не смог. Я плюхнулся на место к своим мухоморам и приготовился умирать.
«Так мы лучше узнаем другу друга!» – воскликнула гимназистка. Да-да, именно этого я и боялся.
Гимназистка приволокла большой магнитофон и поставила в него первую кассету. Кассеты она выбирала наугад.
Из динамиков заиграла какая-то филармония.
«О! Это „Страсти по Матфею“!» – воскликнула гимназистка.
«Чья же это кассета…» – произнесла она с такой игривой интонацией, как будто говорила «а трусы сейчас снимет…»
«Вадик! Вадик!» – загалдели прыщи.
Один из них приподнялся, зачем-то («зачем-то» в моем понимании) поклонился и снова сел. Его монументальные прыщи сияли от восторга.
Гимназистка поставила следующую кассету.
«Ага! „Кармина Бурана“! Чья кассета?»
«Марк! Марк!» – закудахтали интеллектуалы. А кто-то добавил:
«Фу, какая пошлость».
Если это (латынь с оркестром) пошлость, подумал я, то что же тогда они скажут про… и меня немедленно прошиб холодный пот.
Между тем в комнате воцарилась гробовая тишина. Мертвая. Было слышно, как зевал кот. Это гимназистка запустила очередную кассету. Мою.
В моем плеере был не Бах. И даже не пошлый Орф.
Гимназистка воспроизводила кассеты ровно с того места, на котором их выключили владельцы, никуда не перематывая.
«Твои бедра в сияньи луны так прекрасны и мне так нужны, кровь тяжелым напором ударит прямо в сердце мне-е-е! Груди плавно качнутся в ночи…»
Тут раздался резкий клац. Гимназистка судорожно выключила свой магнитофон, вдавив клавишу по самое не балуйся.
«Это что, Есенин?» – робко пропищал кто-то из прыщей, явно не знакомый с творчеством группы «Сектор Газа».
Это мне еще повезло, припадочно соображал я, там же дальше песенка про импотента…
Но по глазам собравшихся я понял, что нет, мне НЕ повезло.
«Чье это?» – воскликнула гимназистка, сверкнув глазами. Прозвучало как «голову его мне, на блюде!»
Я еще надеялся, что пронесет.
Но Вадик, он же Иоганн Себастьян Прыщ, тот, что со «Страстями по Матфею», невежливо указал на меня пальцем и сказал:
«Я видел, это его кассета».
Гимназистка вытащила мою кассету и брезгливо, двумя пальчиками, передала ее мне обратно.
Остракизм в исполнении интеллектуалов – страшная вещь. Остаток вечера я просидел в самом темном углу квартиры, в обнимку с зевающим котом.
Наконец, наступило долгожданное избавление, как у Мандельштама – карету такого-то, разъезд, конец.
Церемониально подкованная гимназистка, как хозяйка дома, лично провожала гостей в прихожей.
Я хотел уйти первым и сам направился к вешалке.
Гимназистка отстранила меня и выдала пальто Вадику.
Я попытался снова протиснуться, но хозяйка загородила мне проход и сняла с вешалки полупальто Марка.
Что же это делается, запаниковал я, неужели она мне теперь в наказание вообще мою ветровку не отдаст, насмерть, что ли, замерзать.
Грациозно протягивая верхнюю одежду ее владельцу, гимназистка говорила каждому добрые слова и выпроваживала за дверь.
Наконец, вешалка почти опустела, и в прихожей остался я один.
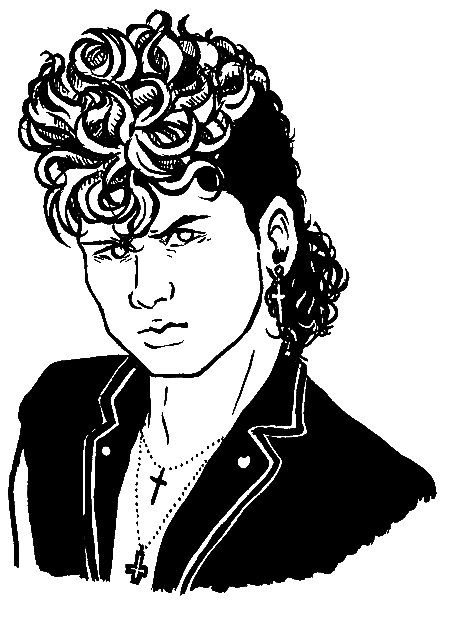
Гимназистка сняла с крючка мою чахлую курточку и, как мне показалось, подчеркнуто грубо сунула ее мне в руки.
Я виновато посмотрел на девушку и вдруг заметил, как ее лицо изменилось. Как будто она сняла маску.
«Значит так, – сказала гимназистка, – в понедельник вечером идем с тобой в кино. Покупай билеты».
Я вышел на лестничную клетку и в прострации обернулся.
Гимназистка уже намеревалась закрыть за мной дверь, но на секунду замешкалась, оглядела меня с ног до головы, усмехнулась и добавила:
«Меломан!»
В проблеме «отцов и детей» есть один аспект – разные словари.
Филологически собственный ребенок может оказаться иностранцем. Родители должны знать язык его поколения, уметь переводить и читать с листа. Иначе они рискуют не понять и быть не понятыми. В этой связи вспоминается одна история.
Среди нас, подростков конца восьмидесятых, одно время было популярно слово «трахать» в значении интимной близости. Как-то раз я пришел в гости к своему другу Семе. А у него как раз разгорался какой-то очередной Карибский кризис с матерью. Они о чем-то ругались. И мама Семы решила привлечь меня в арбитры на свою сторону. Это, кстати, прекрасный педагогический прием, предполагающий в человеке потребность предать и опорочить друга при первой возможности.
И вот мама Семы говорит мне буквально следующее:
«Представляешь, что это придурок делает. Кота нашего трахает!»
А у них дома действительно жил роскошный рыжий кот. И Сема действительно частенько его трахал – в значении «бил, ударял». Именно в этом смысле слово «трахать» и употребила бедная женщина. Но много ли дебилу-подростку надо. Я стоял белый, как мел, пытаясь сдержать вырывающийся из меня гогот.
Сема, напротив, был красный, как знамя.
«Мама, ну что ты такое говоришь», – бормотал он беспомощно, одним глазом косясь в мою сторону в попытке оценить размер ущерба.
«Я знаю, что говорю! Представляешь, Олег, – снова обратилась ко мне мама друга, – и не просто трахает, а с разбегу, с наскоку!»
На этих словах у меня во рту от напряжения треснул зуб. Сема старался больше не смотреть в мою сторону и все причитал: «Ну, хватит, мама, ну, хватит…».
«Нет, а что хватит, – не унималась зоозащитница, – а вот если тебя Олег вот так же трахнет, а? Понравится тебе?»
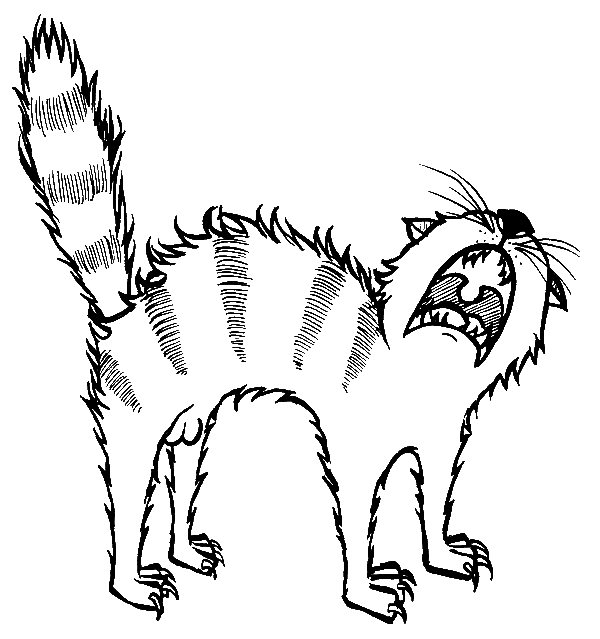
На этой фразе я прошипел, что мне пора, и выскочил за дверь. Потом я минут двадцать рыдал от смеха внизу в подъезде.
Полагаю, нет необходимости писать, что следующий день в школе стал самым интересным в жизни Семы. Только ленивый не подошел к нему и не мяукнул, закатив глаза.
А для чего еще в жизни нужны настоящие друзья.
В одиннадцатом классе мы писали какое-то важное отчетное сочинение по русскому языку. В рамках подготовки ко вступительным экзаменам в вузы.
Я написал очень сложный заумный текст с многочисленными деепричастными оборотами. В то время я любил деепричастные обороты. Они позволяли впихнуть в несчастное предложение максимум информации сверх человеческой нормы. Тогда я, как все пустые юные барабаны, спешил многое сказать миру. Я остался очень доволен собой.
По результатам проверки в моем сочинении на миллион страниц оказалась всего одна грамматическая ошибка. И мне поставили двойку.
Я прибежал к нашей замечательной учительнице по русскому языку с классическим воплем матерого двоечника «за что два-то». Замечательная учительница сказала:
«Олег, вы написали „на площядь выбежав, свободен стал колоннады полукруг“. Вы поймите, дорогой мой человек, не может у Мандельштама полукруг колоннады выбегать на площядь, ну, никак не может. На площадь – может, а на площядь – нет».
Да, да, я написал «площядь» через Я. Нарушил правило, известное каждому первоклашке: «ча ща пиши с буквой а».
Я был раздавлен.
Во-первых, я понял, что в МГУ мне не поступить. Максимум – ПТУ.
Во-вторых, мне стали сниться кошмары.
Во сне мне являлась площядь с уродливым горбом «я», заламывала руки и причитала, что ее такую не берут на работу, а ей нужно кормить маленьких голодных площадят.
В МГУ я все-таки поступил.
И кошмары мне больше не снились.
Но полностью избавиться от последствий той межгалактической ошибки, осквернившей память Кирилла и Мефодия, а также Брокгауза и Ефрона, вместе взятых, мне так и не удалось.
Я по-прежнему продолжаю козлить. Ошибаюсь в частицах, в окончаниях, в корнях. Леплю лишние буквы и пропускаю нужные. Некрасивые, непричесанные слова продолжают проскакивать в моих текстах.
Я мог бы, конечно, сказать, что я просто описываюсь (не в смысле энуреза, а в смысле опечатки).
Но это не так.
Просто это площядь.
Она не простила.
И она мстит, подсовывая мне своих страшных подруг.
В метро на моей ветке толпа влетела в вагон и припечатала ко мне женщину.
Женщина припечаталась ко мне лицом. В смысле передом. Я уже не знаю, как приличнее сказать: фронтально припечаталась, анфас.
Я ее сразу узнал.
Это была моя одноклассница.
Она же меня не узнала. Это понятно. Как можно узнать в этом ярком красавце того унылого уродца. Или наоборот… Я что-то запутался.
Естественно, нет нужды особо останавливаться на том, что в школе я был в эту одноклассницу влюблен. Причем, конечно, безумно. Легче сказать, в кого я в те годы влюблен не был. Директор, физрук и трудовик. Эти трое точно вне подозрения.
В седьмом или восьмом классе мы не могли поделить эту красотку с моим лучшим другом Семой. Точнее – могли поделить. Я ее другу уступил. И хотя это был широкий и в чем-то даже благородный жест, практического смысла он не имел. С тем же успехом я мог бы уступить Семе Монику Беллуччи.
Одноклассница смотрела на нас обоих, как на сорняки. Все девочки в восьмом классе смотрят так на своих сверстников.
Тем не менее роковая девица выделила Семе пять минут. Как бы для объяснений. В голливудских фильмах есть немало подобных сюжетов про амбициозных юнцов, которым воротилы выделяют пять минут, и те за пять минут успевают убедить их в невозможном и уговорить на невероятное. Сема за пять минут успел лишь сделать подъем переворотом и упасть с турника (дело было на школьном дворе). Одноклассница перешагнула через него в прямом смысле и ушла в свое будущее в фигуральном.
Как же я тогда страдал по ней…
И вот, много лет спустя, она прижата ко мне в вагоне метро самой судьбой. При определенном ракурсе наше соседство можно было признать адюльтером. Вот только уже не надо.
Не то чтобы совсем не надо. В моем возрасте еще совсем капельку все-таки надо. И не то чтобы одноклассница была нехороша. Отнюдь, удивительно хороша, как будто я вместе со своими заодно прожил еще и ее годы, и все, что должно было отразиться на ней, отразилось на мне.
Уже не надо – в метафизическом смысле. В том вагоне мы с ней были друг для друга чужаками в большей степени, чем незнакомцы вокруг нас. Потому что между нами лежала пропасть нашего детства.
Иногда мне кажется, что судьба – это такой почтальон Печкин. Вам посылка, только я вам ее не отдам, потому что у вас докУментов нет.
А когда докУменты есть, уже слишком поздно. И почтальон Печкин может катиться на своем велосипеде на все четыре стороны…
Однажды теплым весенним деньком мы с другом детства Семой проходили мимо бывшего кинотеатра «София» в Измайлово. Его как раз незадолго перед тем снесли. Остановились, созерцаем руины.
На контрасте с теплым весенним деньком мне взгрустнулось, и я признался Семе:
«Вот здесь я первый раз поцеловал девочку…»
А Сема вместо того, чтобы поддержать ностальгически накренившегося товарища, возьми да ляпни:
«Слушай, Батлук, мы недавно проходили мимо твоего разрушенного детского сада, и тогда ты мне втирал, что ты там первый раз поцеловал девочку. Ты определись уже».
Черствый сухарь, как все мужики.
Что я могу поделать, если мой первый поцелуй так и преследуют разрушения.
Я всегда подозрительно относился к формату встречи выпускников. Все эти мушкетеры двадцать лет спустя, хромой Д’Артаньян, спившийся Атос, Арамис с тремя ипотеками… Соберутся скукоженные сухофрукты и давай вспоминать, как они висели на деревьях в саду молодости.
Один мой приятель рассказывал, как он ходил на встречу одноклассников. Встреча проходила в банкетном зале ресторана. В ресторане оказалось несколько банкетных залов, все заполнены. Он их обошел и своих не нашел. Подумал, что встреча в последний момент отменилась, и ушел. А встреча не отменилась. Его одноклассники сидели в одном из залов, куда он заглядывал. Просто приятель никого не узнал. И его никто. Хотя с некоторыми в юности он целовался в щеки.
Но однажды я все-таки изменил своим принципам и пошел. На встречу одноклассников.
Шел я туда в смешанных чувствах. Со многими я не виделся очень давно, лет двадцать, как истинный мушкетер.
В итоге сухофруктом из всех собравшихся одноклассников оказался только один человек. Я.
Все остальные – девушки, любимая учительница и даже мои ровесники мальчики – выглядели ровно так же, как я их оставил в своей памяти за школьной скамьей. То есть молодыми и прекрасными. Как будто их заморозили в криокамере, как Сталлоне в фильме «Разрушитель», и выпустили за пять минут до нашей встречи в районе станции метро «Семеновская».
Я их всех немедленно искренне возненавидел за то, что на их фоне я сразу стал выглядеть как герой знаменитого стихотворения «клен ты мой опавший, клен заиндевелый». О чем я им сразу и прошелестел.
По пути на это собрание я с горьким привкусом прокручивал в голове сценарий посиделок, при котором через полчаса после их начала люди один за другим станут спешить домой, под разными предлогами, вроде «ой, кажется, у меня молоко убежало, до встречи через двадцать лет».
В результате мы засиделись до четырех утра. Было совершенно очевидно, что мы не хотели отпускать друг друга. Понимая, что, возможно, отпускаем друг друга еще на двадцать лет. А при плохом раскладе – и на гораздо больший срок. На катастрофически больший.
Я сидел среди ребят и не мог разобраться в этом эффекте. За первые полчаса, в течение которых, как я предполагал, мы должны были разбежаться с постными лицами, моя душа поднялась на лифте с нулевого этажа смутных воспоминаний об этих людях на вершину небоскреба любви к ним.
И я не пью. Да и если бы даже пил, за полчаса накидаться до небоскреба любви – не тривиальная задачка.
И я понял, что она, эта любовь, всегда была там все прошедшие годы.
До того вечера я свято верил в то, что живу в коперниканской системе мира: моя планета гордо и самодостаточно вращается вокруг Солнца по своей орбите.
На встрече открылось другое. На самом деле я жил по древней мифологии. И моя гордая и самодостаточная планета покоилась на слонах. На невидимых слонах. На невидимых слонах тех людей, которые однажды пришли в мою жизнь и наполнили ее и остались в ней навсегда, о чем я в своей гордости и самодостаточности совсем забыл. Эти люди – звезды, красные гиганты, чья значительность в моем космосе не уменьшается от удаления от них.
Все они, эти слоны, тихие труженики моего счастья, не дают моей планете сорваться с резьбы орбиты и улететь в межзвездную черноту, незримо поддерживая меня громадиной своего существования.
Я точно помню момент своего взросления. Это случилось именно одномоментно, секунда – и скомканный кокон ребенка лежит под ногами.
Мне было шесть. Я проходил мимо трансформаторной будки неподалеку от дома, и тут что-то щелкнуло. Словно кто-то включил надо мной свет. Или, наоборот, выключил. Словно чья-то теплая рука опустила меня на землю, и я пошел ковылять сам. А земля под ногами твердая и холодная.
С того момента и дальше я помню все. До него – тишина глубокого космоса.
Я потом часто мысленно подходил к той двери, захлопнувшейся навсегда у трансформаторной будки. Прислушивался.
Меня не покидало щемящее чувство, будто я оставил в замке ключ. С обратной стороны.