Книга: Смятение

Смятение
Моим братьям,
Робину и Колину Говардам
Генеалогическое древо семьи Казалет
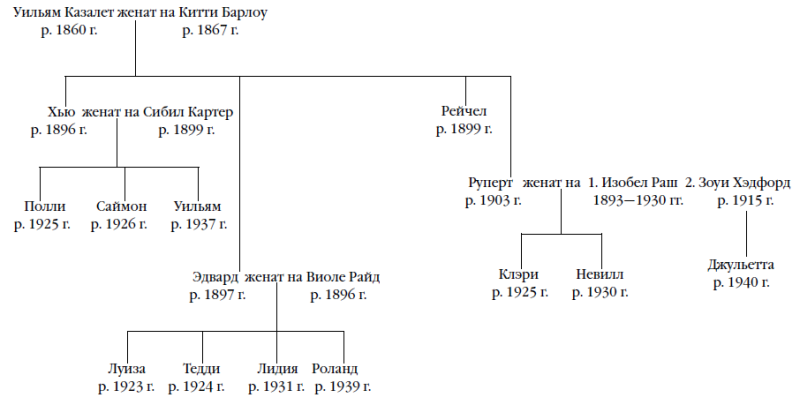
Семья Казалет, ее родственники и домочадцы
Уильям Казалет (Бриг)
Китти (Дюши), его жена
Рейчел, их незамужняя дочь
Хью Казалет, старший сын
Сибил, его жена
Полли, Саймон, Уильям (Уиллс) – их дети
Эдвард Казалет, второй сын
Вилли, его жена
Луиза, Тедди, Лидия, Роланд – их дети
Руперт Казалет, третий сын
Зоуи (его вторая жена; первая, Изобел, скончалась родами Невилла)
Кларисса (Клэри), Невилл – дети Руперта и Изобел
Джульетта
Джессика Касл (сестра Вилли)
Раймонд, ее муж
Анджела, Кристофер, Нора, Джуди – их дети
Миссис Криппс (кухарка)
Эллен (няня)
Айлин (старшая горничная)
Дотти и Берта (горничные)
Эдди и Лиззи (помощницы на кухне)
Тонбридж (шофер)
Макалпайн (садовник)
Рен (конюх)
Предисловие к роману рассчитано на читателей, незнакомых с первой книгой «Хроники семьи Казалет» «Беззаботные годы» и со второй «Застывшее время».
Уильям и Китти Казалет, которых домочадцы называют Бриг и Дюши, пережидают войну в Суссексе, в поместье Хоум-Плейс. Бриг уже практически слеп и едва ли в силах выбираться в Лондон, чтобы контролировать дела в семейной лесозаготовительной компании. У супругов три сына – Хью, Эдвард и Руперт, а также незамужняя дочь Рейчел.
У старшего сына, Хью, женатого на Сибил, трое детей – Полли, Саймон и Уильям (Уиллс). Полли находится на домашнем обучении, Саймон ходит в школу, а Уиллсу четыре года. Уже несколько месяцев Сибил очень больна.
У Эдварда, который женат на Вилли, четверо детей. Луиза влюблена (в Майкла Хадли, успешного художника-портретиста, он старше и служит на флоте), и чувства для нее важнее, чем карьера актрисы. Тедди уходит служить в Королевские ВВС. Лидия учится на дому, а Роланд (Роли) еще младенец.
Руперт, третий сын, пропал без вести во Франции в 1940 году, еще во времена Дюнкерка. Он был женат на Изобел, от которой у него двое детей, – Клэри, обучающаяся дома вместе со своей кузиной Полли (они с Полли, однако, рвутся в Лондон, чтобы начать там взрослую жизнь), и Невилл, школьник. Изобел умерла при родах Невилла, и впоследствии Руперт женился на Зоуи, которая намного моложе его. Вскоре после того как муж пропал, Зоуи родила дочку, Джульетту, которую отец никогда не видел.
Рейчел живет для других, отчего ее близкой подруге Марго Сидни (Сид), обучающей в Лондоне игре на скрипке, зачастую приходится нелегко.
У жены Эдварда, Вилли, есть сестра, Джессика Касл, которая замужем за Раймондом. У них четверо детей. Анджела, старшая, живет в Лондоне и постоянно ввязывается в сомнительные любовные отношения. Кристофер слаб здоровьем и ныне живет в доме-фургоне с собакой. Он занят на ферме. Нора работает медсестрой, а Джуди все время проводит в школе. Каслы унаследовали кое-какие деньги и дом в графстве Суррей.
Мисс Миллимент очень старая семейная гувернантка: она воспитывала еще Вилли и Джессику, а теперь учит Клэри, Полли и Лидию.
Диана Макинтош – самое серьезное из увлечений Эдварда – становится вдовой. Она ждет ребенка. У Эдварда и у Хью есть дома в Лондоне, но в настоящее время для жилья пригоден только дом Хью на Лэдброк-Гроув.
«Застывшее время» завершается известием о том, что Руперт жив. А в это время японцы нападают на Перл-Харбор. Действие «Смятения» начинается в марте 1942 года, сразу после смерти Сибил.
Март 1942 года
Комната простояла взаперти всю неделю. Ситцевые жалюзи на окне, выходящем на юг, на палисадник, были опущены. Окрашенный в цвет пергамента свет пронизывал холодный застоявшийся воздух. Она подошла к окну, потянула за шнур: жалюзи с хлопаньем поползли вверх. В комнате посветлело – до морозной серости, что бледнее клубящегося тучами неба. Она задержалась у окна. Пучки нарциссов с дерзкой радостью вытягивались под араукарией в ожидании, когда мартовская погода вымочит их и сломает. Пройдя к двери, она заперла ее. Вмешательство – какое угодно – было бы невыносимо. Надо принести из чулана чемодан, потом освободить гардероб и ящики комода из розового дерева у туалетного столика. Подняв чемодан (самый большой, какой отыскать смогла), положила его на кровать. Ей всегда внушали: никогда не раскладывай чемоданы по кроватям, – но с этой простыни уже стащили и выглядела она до того уныло и пусто, что наставления, похоже, не имели значения.
Когда она открыла гардероб и увидела длинный ряд плотно забивших его нарядов, то вдруг устрашилась касаться их. Ведь это словно руку приложить к неумолимому уходу, исчезновению. Целая неделя прошла. Но она никак не могла воспринять это самое «навсегда». Невозможно было поверить, что уход безвозвратен. Одежда никогда не будет ношена, она больше не нужна прежней хозяйке, теперь она способна только расстраивать остальных. Полли делает это ради отца, пусть, когда он вернется от дяди Эдварда, эти банальные безысходные вещицы не послужат ему напоминанием. Она наобум сдвинула несколько вешалок: вдруг пахнуло легким ароматом сандалового дерева, а вместе с ним и еще одним, едва уловимым, который всегда вызывал у нее ассоциации с запахом волос матери. Вот зеленое с черными и белыми вставками платье, которое мама надевала, когда они позапрошлым летом ездили в Лондон, серовато-желтое твидовое пальто и юбка, что всегда смотрелись на ней либо мешковатыми, либо тесными, вот очень старое зеленое шелковое платье, которое мама носила, когда выдавались вечера наедине с папой, жакет из тисненого бархата с пуговицами из лучистого колчедана, зеленовато-оливковое льняное платье, в котором она ходила, вынашивая Уиллса… Боже милостивый, ему скоро уже исполнится пять лет. Похоже, мама сохраняла все: одежду уже не по росту, вечерние платья, которые не носились с началом войны, зимнее пальто с беличьим воротником, которое она раньше и не видела… Все это она вытащила и положила на кровать. В одной стороне изношенное зеленое шелковое кимоно укрывало золотистое вечернее платье (смутно помнилось, что оно было одним из самых никчемных папиных подарков на Рождество много лет назад: платье, в котором мама с трудом вытерпела один вечер и с тех пор больше ни разу не надевала. По-настоящему красивой одежды, грустно подумала она, совсем нет: вечерние наряды зачахли от такого долгого существования без носки, повседневная одежда износилась, что аж просвечивает, или лоснится, или форму потеряла, или как-то еще стала такой, какой ей быть не полагалось. Все это попросту одежда под большую распродажу, ни на что больше она и не сгодится, как заметила тетя Рейч, но прибавила: «Полли, милочка, ты можешь оставить себе все, что нужно». Только ей ничего не нужно, а даже если бы и было нужно, она ни за что не стала бы носить – из-за папы.
Уложив одежду, она сообразила, что в гардеробе все еще оставались шляпы на верхней полке и обувь внизу под платьями. Придется отыскать еще один чемодан. Всего один и оставался: тот, что с мамиными инициалами, «С.В.К.». «Сибил Вероника», – произнес священник на отпевании. Странно все же носить имя, которым тебя не называли никогда, только при крещении и на похоронах. Кошмарная картина: мама лежит в гробу, и ее засыпают землей – так часто являлась за неделю. Оказалось, ей невмочь не думать о теле как о существе, которому нужны воздух и свет. Она тогда стояла онемелая и застывшая во время молитв и сбрасывания земли, тогда папа бросил алую розу на гроб, а она понимала, что, когда все будет сделано, они оставят ее там – в холоде и одиночестве – навсегда. Только ничего такого она не говорила никому: к ней относились как к ребенку, все это время до самого конца пичкали живеньким, бодреньким враньем в диапазоне от возможного выздоровления до отсутствия боли и, наконец, милосердного избавления (при этом никто даже не замечал несоответствия: в чем же милосердие, если не было никакой боли?). Она не была ребенком, ей почти семнадцать лет. Так что, когда потрясение осталось позади, хоть Полли и хотелось верить вранью, ее захлестнули обида и гнев на то, что ее сочли недостойной правды. Всю неделю она выскальзывала из чужих объятий, уворачивалась от поцелуев, не обращала внимания на проявление заботы и нежности. Одна отрада: дядя Эдвард забрал отца на две недели, позволив ей вволю презирать всех остальных.
Она объявила о намерении разобраться в шкафу матери и при этом решительно отказалась от любой помощи. «Уж с этим-то я, во всяком случае, справлюсь», – сказала она тогда, и тетя Рейч, начинавшая казаться чуточку лучше всех остальных, разумеется, согласилась.
На туалетном столике в беспорядке лежали крытые серебром щетки мамы, расческа из черепахового панциря, хрустальная шкатулочка с заколками для волос, которыми Сибил перестала пользоваться после того, как ее остригли, и небольшая держалка для колец с нанизанными на нее двумя-тремя кольцами, одно из которых папа подарил на помолвку: неграненый изумруд в окружении небольших бриллиантов в платиновой оправе. Полли взглянула на свое кольцо – тоже с изумрудом, – которое папа подарил прошлой осенью. «Он ведь вправду любит меня, – подумала она, – просто не сознает, насколько я уже выросла». Отца ей презирать не хотелось. Все эти вещи на туалетном столике нельзя было пустить в распродажу. Она решила уложить их в коробку и чуть-чуть подержать у себя. Несколько баночек с кремом, пудрой и румянами лучше выбросить. Она отправила их в корзину для мусора.
В комоде хранилось нижнее белье: два вида ночных сорочек, те, что дарил папа и которые она никогда не надевала, и те, что покупала сама и которые носила. Отцовы были из чистого шелка и шифона с кружевами и лентами, две из зеленого и одна из темно-кофейного атласа. Купленные самой мамой были из хлопка или фланелета, все в мелких цветочках – такие больше для сказок Беатрикс Поттер[1] сгодились бы. Полли продолжила: бюстгальтеры, пояса, лифы, гарнитуры, нижние юбки из гладкого трикотажа, все какого-то грязно-персикового цвета, шелковые чулки и шерстяные, несколько хлопчатобумажных рубах в клеточку, дюжины носовых платков в подобие ларчика, который Полли много лет назад смастерила на итальянский лад из лоскутков, нарезанных от куска чесучи. В самой глубине ящика с нижним бельем лежал небольшой мешочек, похожий на косметичку для щеток и расчесок, где находился тюбик с надписью «Мазь Вольпар» и маленькая коробочка с какой-то забавной резиновой кругляшкой. Полли сунула и то и другое обратно в мешочек и отправила в корзину. Еще в том же ящике лежала очень плоская квадратная коробка из картона, внутри которой лежал завернутый в обесцветившуюся оберточную бумагу полукруглый венок из серебряных листьев и беловатых цветов, рассыпавшихся, когда Полли их касалась. На крышке коробки стояла дата, выведенная рукою мамы: «12 мая 1920 года». Должно быть, то был мамин свадебный венец, подумала Полли, пытаясь припомнить забавное фото на туалетном столике бабушки, где мама была в поразительном платье, делавшем ее похожей на трубу без талии. Полли отложила коробочку в сторону: невозможно было выбросить то, что так долго хранилось как сокровище.
В нижнем ящике лежали детские вещи. Рубашечка для крещения, в которую последним наряжали Уиллса: изысканный белый наряд с цветами клевера, вышитыми тетей Вилли, – кольцо из слоновой кости для режущихся зубиков, клубок крохотных кружевных шапочек, погремушка из серебра и кораллов, по виду будто из самой Индии прибыла, несколько бледно-розовых вязаных вещиц, неношеных, предназначавшихся, предположила она, для того малютки, который умер, и большая, очень тонкая желтеющая кашемировая шаль. Полли была в замешательстве, но в конце концов решила отложить вещи подальше до тех пор, пока не найдет в себе силы спросить кого-нибудь из тетушек, что с ними делать.
Еще один день миновал. Скоро настанет время пить чай, потом она займется Уиллсом, поиграет с ним, искупает и уложит спать. С ним то же, что и с Невиллом выйдет, подумала она, – только хуже, потому как Уиллсу четыре года и он запомнит маму надолго, а Невилл совсем свою маму не знал никогда. Уиллсу пока это объяснить невозможно. Конечно же, они пробовали… она пробовала. «Ушла», – повторял он размеренно. «Мертвая на небе?» – высказывал предположение, а сам продолжал искать ее под кушетками и кроватями, в посудных шкафах и где угодно, куда мог добраться, он и в эту пустую комнату поход совершил. «Самолет», – сказал он ей вчера, повторив сказанное про небо. Эллен тогда сказала, что мама перебралась на небеса, а он перепутал это с названием какого-то города и хотел идти встречать автобус. Он не плакал по ней, зато стал очень молчалив. Сидел на полу, возился беззвучно со своими машинками, играл с едой, но не ел и старался ударить тех, кто пробовал взять его на руки. С нею он мирился, только Эллен была единственным человеком, кто, похоже, ему вообще был нужен. «В конце концов, – подумала она, – он, полагаю, забудет ее». Вряд ли будет помнить, как она выглядела, будет знать, что потерял мать, но не будет помнить, какой она была. Это казалось печальным совсем-совсем по-другому, и она решила не думать об этом. Потом задумалась, а если не думать о чем-нибудь, то не будет ли это в одном ряду наихудшего, что и не говорить об этом, потому как она никак не желает походить на свое жуткое семейство, члены которого, как ей представлялось, во все тяжкие пускаются, лишь бы идти по жизни так, будто ничего не случилось. Они не говорили об этом прежде, не говорят и теперь. Они, насколько она понимает, не верят в Бога, ведь никто из них не ходит в церковь, зато все (за исключением Уиллса и Эллен, оставшейся присмотреть за ним) явились на похороны: стояли в церкви, молитвы говорили и пели псалмы, а потом маршировали до места, где была выкопана глубокая яма, и смотрели, как двое очень стареньких мужчин опустили гроб на самое дно. «Я есмь воскресение и жизнь, – сказал Господь, и тот, кто верит в Меня, не умрет»[2]. Только она не верила, и они, насколько ей известно, тоже. Тогда что ж за дела? Она смотрела через могилу на Клэри, та стояла, потупив взгляд и прихватив ртом сжатые в кулак пальцы одной руки. Клэри тоже говорить об этом было невмочь, но она уж точно не вела себя так, будто ничего не случилось. В тот жуткий последний вечер, после того как пришел д-р Карр и сделал маме укол, а ее позвали посмотреть на нее («Она без сознания, – говорили, – теперь она ничего не чувствует», – возглашали об этом, как о каком-то достижении), она стояла, прислушиваясь к частому, хрипящему дыханию, и ждала, ждала, когда у мамы глаза откроются, чтобы можно было что-то сказать или, по крайней мере, могло бы наступить какое-то обоюдное, молчаливое прощание…
«Поцелуй ее, Полл, – произнес отец, – а потом, милая, ступай, если тебе надо». Он сидел на другой стороне кровати, держа маму за руку, что лежала ладонью вверх на его затянутой в черный шелк культе. Полли встала, поцеловала сухой прохладный лоб и вышла из комнаты.
За дверью ждала Клэри, она взяла за руку Полли и повела, плача, из комнаты. Но саму Полли неистовство переполняло до того, что она совсем не могла плакать. «Ты хотя бы успела попрощаться с ней!» – причитала Клэри, стараясь хоть в чем-то найти утешение. Только в том-то и было дело (или еще одно из дел), что она так и не сумела произнести слова прощания: ждала, пока мама узнает или хотя бы увидит ее… Она высвободилась от Клэри, говоря, что хочет прогуляться, что ей хочется побыть одной, и Клэри, конечно же, сразу согласилась, мол, ей это нужно. Полли натянула резиновые сапоги, надела плащ и вышла в серые моросящие сумерки, поднялась по ступенькам на берегу к маленьким воротам, ведущим в рощу за домом. Дошла до большого поваленного дерева, которое Уиллс с Роли приспособили для какой-то таинственной игры, и села на то место на стволе, что было ближе всего к вывороченным корням. Думала, что здесь расплачется, даст волю обычному горю, только всего-то и получились у нее громкие давящие всхлипы неистовства и беспомощности. Следовало бы сцену устроить, только как было ей пойти на такое перед лицом страданий отца? Надо было бы настоять на том, чтобы увидеть ее в то утро после того, как д-р Карр ушел, пообещав вернуться днем, – только откуда ей было знать, что он станет делать, когда вернется? Сами-то, должно быть, знали, но, как обычно, ей не говорили. Когда Саймона вызвали из школы раньше времени, ей следовало бы понять, что мама может умереть в любой момент. Он приехал в то утро и увидел мать, а она сказала, что хочет еще и Уиллса увидеть, а взрослые говорили, что ей и этого хватит, разве что попозже вечером. Только Саймон, бедняга, так и не понял, что сам тоже видел мать в последний раз. Не разобрался: он попросту думал, что она жутко больна, и весь обед рассказывал про маму одного своего приятеля, которая едва не умерла от аппендицита и чудом поправилась, а после обеда Тедди взял мальчика в долгий поход на велосипедах, из которого они не вернулись до сих пор. Если бы я поговорила с ней… если бы сказала что-нибудь, думала Полли, может, она меня и услышала бы. Только для этого нужно было бы остаться с ней наедине. Ей хотелось тогда обещать, что она позаботится об отце и Уиллсе, а больше всего хотелось сказать: «С тобой все в порядке? По силам ли тебе умереть, что бы это ни значило?» Наверное, сами-то они и маму обманывали. Наверное, она попросту не проснулась бы да так и не узнала бы о времени собственной смерти. От такой жуткой вероятности она расплакалась. Проплакала Полли, видимо, очень долго и, когда вернулась домой, маму уже унесли.
С того времени она не плакала вовсе. Без слез вынесла тот жуткий первый вечер, когда собравшиеся за ужином, который никому в горло не лез, молча наблюдали за попытками отца подбодрить Саймона расспросами о его спортивных успехах в школе, пока дядя Эдвард не взялся рассказывать всякие истории про свои школьные годы; вечер, когда все, казалось, выискивали в памяти что-то безопасное, какие-то плоские и тусклые шуточки, предназначенные не для того, чтобы над ними посмеяться, а скорее для того, чтобы минуту за минутой продержаться с признаками нормальности; а она, хотя и различала смутно под этим легковесные опоры любви и заботы, все ж отказывалась принимать и то, и другое. На следующий день после похорон дядя Эдвард увез отца с Саймоном в Лондон, Саймона усадили в поезд, забравший его обратно в школу. «Я что, должен обратно ехать?» – спросил он тогда, но всего лишь один раз, поскольку взрослые разъяснили: да, должен, скоро настанут каникулы и он не может пропустить итоговые экзамены за год. Арчи, приехавший на похороны, предложил после ужина поиграть в пельманов пасьянс[3] на полу в малой столовой: «Полли, и ты тоже», – и, конечно же, к ним присоединилась Клэри. Огонь уже погас, и холод пробирал – жуть. Саймон делал вид, что ему все нипочем, уверял, что в школе точно так же, повсюду, кроме лазарета, куда тебя отправят, только если ты весь чирьями покроешься или почти загнешься. Но Клэри принесла им шерстяные кофты, а Арчи пришлось надеть старую шинель Брига и связанный мисс Миллимент шарф, который сочли неподходящим для отправки в армию, и еще варежки, в которых музицировала Дюши.
– В кабинете, где я работаю, жарко так, что свариться можно, – рассказывал Арчи, – я от этого старым киселем растекаюсь. А сейчас мне нужна только какая-нибудь клюка. Я, как все вы, сидеть, скрестив ноги, не могу. – Так что он уселся в кресло, вытянув несгибавшуюся поврежденную ногу, а Клэри переворачивала карты, на какие он указывал.
Это стало чем-то вроде передышки: Арчи играл с таким яростным стремлением победить, что заразились все, и, когда Саймон взял да и выиграл, он аж запылал от удовольствия.
– Черт! – буркнул Арчи. – Черт побери! Еще круг, и я бы всех причесал!
– Вы не очень-то хорошо умеете проигрывать, – нежно заметила Клэри: она и сама была в поражениях не сильна.
– Зато я замечательный победитель. И вправду хорош в этом, а поскольку обычно я выигрываю, вряд ли кто видит меня с дурной стороны.
– Все время выигрывать не получится, – изрек Саймон. Забавно, отметила про себя Полли, Арчи во время игр ведет себя так, что заставляет их втолковывать ему взрослые истины.
Но позже, выйдя из ванной, она наткнулась на слонявшегося под дверью в коридоре Саймона.
– Мог бы и зайти. Я только зубы чистила.
– Не в том дело. Я думал, может, ты… ты могла бы заглянуть на минутку ко мне в комнату?
Полли прошла за ним по коридору в комнату, которую братец обычно делил с Тедди.
– Тут такое дело, – вновь заговорил он, – ты ведь никому не расскажешь и смеяться не станешь или еще чего, обещаешь?
Конечно же, она ничего такого не сделает.
Саймон снял пиджак и принялся развязывать галстук.
– Я залепил их кой-чем, а то их воротник больно трет. – Он расстегнул серую фланелевую рубашку, и она увидела, что шея его залеплена кусочками грязного липкого пластыря. – Тебе их отлепить придется, чтоб увидеть, – сказал.
– Будет больно.
– Лучше всего делать это быстро, – посоветовал Саймон и наклонил голову.
Вначале она действовала осторожно, но вскоре поняла, что осторожность не к добру, и, дойдя до седьмой нашлепки, уже держала двумя пальцами кожу на его шее, а другой рукой быстро срывала пластырь. Появилась россыпь гноившихся пятнышек: то ли крупных прыщей, то ли мелких нарывов, разобрать она не могла.
– Тут такое дело, их, видно, нужно выдавливать. Мама мне это делала, а потом смазывала их чем-то чудесным, и иногда они сходили.
– Тебе нужен подходящий пластырь, с повязкой снизу.
– Знаю. Она дала мне с собой в школу коробочку, но я их все использовал. И конечно, я не могу их выдавливать, не до всех достаю. Папу я не смог попросить. Подумал, может, ты согласишься.
– Конечно же, соглашусь. А ты знаешь, чем мама язвочки смазывала?
– Чем-то просто чудесным, – неуверенно произнес он. – «Викс», как думаешь?
– Это грудь растирать. Слушай. Я схожу принесу ваты, нужные пластыри и еще чего-нибудь, подумаю. Я мигом.
В аптечке ванной лежал рулон пластыря с подложкой из желтой корпии, а вот из того, чем смазать нарывы можно, попался один только иночий бальзам[4], да и то на самом донышке осталось. Придется обойтись этим.
– А у меня еще ячмень вскочил, – сообщил Саймон, когда она вернулась. Он сидел на кровати в пижаме.
– А его мама чем смазывала?
– Обычно она потрет их своим обручальным кольцом, и иногда они проходили.
– Я сначала прыщиками займусь.
Занятие и само по себе противное, но еще хуже становилось оттого, что Полли понимала, придется сделать брату больно: некоторые прыщи сочились, а у других просто торчали твердые блестящие желтые головки, которые в конце концов исходили гноем. Саймон всего раз вздрогнул, но, когда она извинилась, попросту заметил:
– Да нет. Только выдави все, что сможешь.
– А Матрона тебе этого не сделала бы?
– Господи, нет! Она в любом случае меня терпеть не может, и она почти всегда бесится. По правде-то, ей один мистер Аллисон и нравится, физрук этот, потому как он весь сплошь в мышцах, а еще мальчик, кого зовут Уиллард и у кого отец лорд.
– Бедный Саймон! Там все так ужасно?
– Мне там ненавистно и непереносимо.
– Всего две недели, и ты будешь дома.
Повисло недолгое молчание.
– Ведь как раньше уже не будет, а? – произнес Саймон, и Полли видела, как его глаза наполнились слезами. – И не из-за школы этой гадкой или гнусной войны, – бормотал он, отирая глаза кулаками, – это из-за моего проклятого ячменя. Они часто вскакивают. От них у меня глаза слезятся.
Полли обвила рукой его жесткие, костлявые плечи. Жуткое одиночество брата, казалось, рвало ей сердце на части.
– Конечно, когда привыкаешь каждую неделю получать от одного и того же человека письма, а потом письма прекращаются, сначала чувствуешь себя не очень, – сказал он с какой-то бодростью, словно это не его беда вовсе. Потом вдруг выпалил: – Но она мне этого так и не сказала! На Рождество казалось, что ей намного лучше, а потом все это полугодие она писала мне и не сказала ни слова!
– И мне не говорила. Не думаю, чтоб она кому-то об этом говорила.
– Я не кто-то! – начал он и умолк. – Конечно, и ты тоже нет, Полл. – Он взял ее руку и, слегка тряхнув, пожал ее. – Ты с моими гнусными прыщиками просто как волшебница обошлась.
– Залезай в постель, замерзнешь.
Саймон порылся в кармане лежавших на полу брюк, достал платок и высморкался в него.
– Полл! Подожди, хочу спросить тебя. Все время думаю об этом… и не могу… – Он примолк, потом медленно выговорил: – Что с ней сейчас происходит? То есть она что, взяла и перестала быть? Или еще куда отправилась? Может, тебе это глупым кажется, только все это вообще… смерть, понимаешь, и все такое… я придумать не могу, что оно такое.
– Ой, Саймон, я тоже не могу! И я тоже столько пыталась понять это.
– Как думаешь, – мальчик кивнул в сторону двери, – они-то знают? То есть в любом случае нам они ничего не говорят, так, может, это просто еще одно, о чем они считают недостойно упоминать?
– Сама раздумывала об этом, – призналась Полли.
– В школе, конечно, толкуют про небеса, потому что притворяются страшно верующими: ну, знаешь, каждый день: молитвы о живых, молитвы за любого из выпускников, кого на войне убили, а по воскресеньям директор ведет беседы о патриотизме, о том, что надо быть христианскими солдатами, чистыми сердцем и достойными школы. И я знаю, когда вернусь, он опять заговорит про небеса. Только все, что они говорят об этом, мне представляется до того идиотским, что мне трудно поверить, будто кому-то захочется отправиться туда добровольно.
– Ты имеешь в виду играть на арфе и носить белые одежды?
– И все время пребывать в счастье, – жестко произнес он. – Я же вижу, что люди просто вырастают из счастья, люди против него, потому как без конца заставляют других делать такое, что непременно обрекает их на несчастье. Вроде того, чтоб отсылать тебя на большую часть жизни в школу, как раз тогда, когда тебе, может, дома хорошо. А потом желают, чтоб ты притворился, будто тебе это нравится. Вот что, по правде, меня и сокрушает. Все время приходится делать то, что кому-то другому нужно, а потом еще и делать вид, будто это нравится.
– Мог бы самим им сказать, полагаю.
– В школе никому говорить нельзя! – воскликнул в ужасе мальчик. – Скажешь что-нибудь подобное, тебя, считай, убьют!
– Наверняка не все учителя такие!
– А я и не говорю про учителей. Я про парней говорю. Все стараются быть одинаковыми, понимаешь. В любом случае, просто я подумал, спрошу-ка я тебя… ну знаешь, про смерть и так далее.
Полли быстро обняла Саймона, после чего оставила его.
Сейчас, подумала она, еще до того как поиграть с Уиллсом, она напишет Саймону, уже решив молчаливо взять на себя отправление ему еженедельных писем в школу. Опустив шторы в комнате родителей, взяла коробку с безделушками и понесла в спальню, которую по-прежнему делила с Клэри. Пока она шла переходами до галереи над прихожей, то улавливала различные отдаленные звуки: Дюши играла Шуберта, граммофон в дневной детской наигрывал уже глубоко процарапанную пластинку «Пикник плюшевых мишек», произведение, которое ни Уиллс, ни Роли никогда не уставали слушать, радио Брига, который всегда включал приемник, когда не желал ни с кем говорить, и прерывистый стрекот старой швейной машинки, на которой, предположила Полли, тетя Рейч сшивала простыни с краев посредине – бесконечное занятие. Была пятница, день, когда обычно отец с вернувшимся на работу в фирму дядей Эдвардом приезжали на выходные, только на этот раз дядя Эдвард увез отца в Уэстморленд. Не считая этого, все по-прежнему жили обычной жизнью, словно ничего и не случилось, обиженно думала Полли, разыскивая писчую бумагу для письма Саймону, которое собиралась написать в постели, где было чуточку теплее, чем в доме (в общей комнате огонь разжигался лишь после чая – еще один способ Дюши сэкономить).
Она решила, что лучше всего будет сообщить Саймону как можно больше новостей о каждом члене семьи.
«Вот вести о людях, начиная с самого старшего, – написала она, что значило, начнется письмо с миссис Райдал. – Старушка Задира, бедняга, опять за завтраком распространялась про кайзера: она целиком не на той войне. Кроме него (я имею в виду кайзера), она много рассказывает о людях, о ком никто даже не знает, а потому ее беседу никто и поддержать не может. И у нее даже такая дорогая еда, как вареные яйца, расползается по всем кофтам, так что тете Рейч всегда приходится их отстирывать. Мы привыкли, что такое бывает с мисс Миллимент, и у нее это выглядит забавно, а вид того же у Задиры вызывает жалость. Дюши дает ей мелкие поручения, из которых она обычно выполняет половину. [Она собралась было написать: «Она все время скучает по тете Фло», – но передумала.] Бриг теперь ездит в Лондон в контору три дня в неделю. Он попробовал вообще не ездить, но до того заскучал, а тете Рейч трудно было придумать, что с ним делать, теперь она сажает его на поезд, а потом отвозит в контору, а раз в неделю оставляет в городе и отправляется за покупками и всяким таким. На днях он собирается сделать новую посадку деревьев, которые намерен перенести на большое поле, возле места, где вы с Кристофером устраивали свой лагерь, а так слушает радиоприемник или просит, чтоб мисс Миллимент или тетя Рейч почитали ему. Дюши не очень-то обращает на него внимание (хотя ему, по-моему, без разницы), просто идет и музицирует себе, в садике копается и распоряжается питанием, хотя наших запасов так мало осталось, что, кажется, миссис Криппс каждый продукт в лицо знает. Только старики, я заметила, привычек своих не меняют, даже если тебе или мне они кажутся очень нудными. Тетя Рейч, как я уже сказала, делает все, а к тому же еще и жутко мила с Уиллсом. Тетя Вилли с головой ушла в работу Красного Креста и еще ухаживает за больными в доме инвалидов, я имею в виду по-настоящему ухаживает, а не как Зоуи, которая просто приходит и сидит себе у несчастных больных. Зоуи опять прилично похудела и все свободное время тратит на подгонку одежды и на пошив новой для Джульет. Мы с Клэри обе по-настоящему в тупике. Не можем сообразить, как своей жизнью распорядиться. Клэри говорит, что, если Луизе позволили покинуть дом в семнадцать лет, то и нам должны, но я ей напомнила, что нас тогда всего лишь пошлют в ту дурацкую кулинарную школу, куда Луиза попала, только Клэри считает, что даже это расширило бы кругозор, над которым висит опасность (она говорит) сделаться невыразимо узким. Только еще нам обеим кажется, что Луиза стала более ограниченной с тех пор, как живет на свободе. Ни о чем не думает, кроме спектаклей да игры на сцене, и все рвется получить роль в радиопьесах на Би-би-си. Она ведет себя так, словно нет никакой войны, во всяком случае – для нее нет. Между нами, в семье ее весьма не одобряют, считают, что ей следовало бы пойти в женскую вспомогательную службу флота. Уже ввели карточки на горючее, не сказать, чтоб это как-то сильно затронуло нас, ведь весь уголь, который мы используем, идет на кухонную печь. Саймон, ты когда вернешься, я отведу тебя к доктору Карру, поскольку уверена, что он с твоими прыщами лучше справится. Должна идти, поскольку обещали Эллен выкупать Уиллса, а то ей очень тяжело нагибаться над ванной из-за больной спины.
Привет тебе от любящей сестры – Полли».
Готово, подумала она. Не очень-то интересное письмо, но лучше, чем никакого. Пришло в голову, что по-настоящему-то она не так много знает про Саймона, ведь тот всегда в школе, а на каникулах время проводит с Кристофером и Тедди. Теперь, когда Кристофер работает на ферме в Кенте, а Тедди на этой неделе пошел служить в ВВС, в ближайшие каникулы Саймону побыть будет не с кем. Его одиночество легло ей на душу такой тяжестью в вечер после похорон, а потом вновь дало о себе знать: жутким казалось, что о брате ей лишь то было известно, что делало его жизнь несносной. В обычное время она поговорила бы об этом с папой, только сейчас на такое решиться было трудно, а то и вообще невозможно: ее отец уходил все дальше и дальше ото всех, и к тому времени, когда мама умерла, он стал похож на потерпевшего кораблекрушение и оказавшегося на необитаемом острове. Положим, подумала она, всегда рядом Клэри, та полна идей, пусть многие из них и не шли на пользу, зато уже одно их количество не давало закиснуть.
Клэри в детской поила Джульетту чаем: занятие длительное и довольно неблагодарное, крошки хлеба и капли патоки густо устилали подставку ее высокого стула, нагрудника и маленькие толстенькие беспокойные ручки, а когда Клэри пыталась сунуть ей кусочек в рот, девочка отворачивалась. «Ешь сейчас же», – твердила Клэри за разом раз. Ей хотелось вместе с Уиллсом и Роли поиграть с игрушечными машинками в их любимую игру в аварии. «Тогда попей молока», – сказала Клэри, протягивая ей кружку, но Джульетта попросту схватила ее, опрокинула вверх дном на подставку и зашлепала ладошками по разлившейся жиже.
– Это очень неприлично, Джули. Дай мне салфетку или тряпку какую, скорей! Нет, я точно думаю, что дети – это катастрофа. Эта не годится, мне нужна мокрая тряпка или что-то в том же духе. Посмотришь за ней, ладно?
Полли села возле Джульетты, но смотрела она на Уиллса. Заметила, как он оторвал взгляд от машинок, когда она открыла дверь, и как изменилось его лицо – с выражения внезапной надежды на отсутствие всякого выражения, что было хуже явного огорчения. «Он, наверное, всякий раз так делает, когда кто-то открывает дверь, – подумала она, – и сколько же еще это тянуться будет?» Когда Клэри вернулась, Полли подошла к Уиллсу и села рядом с ним на пол. Игра мальчику уже наскучила, он сидел, сунув два пальца в рот, и правой рукой теребил мочку левого уха. На нее он не смотрел.
Прежде она думала, что смерть матери больнее всего сказалась на Саймоне, поскольку семейство вроде не различало его особенную утрату, теперь же она задумалась, а не было ли хуже всех Уиллсу, неспособному выразить горечь: он даже не понимал, что произошло с мамой. «Только ведь и я понимаю не больше чем Саймон, а вот взрослые, те просто притворяются, что понимают».
– По-моему, все религии были придуманы, чтобы примирить людей со смертью, – заметила Клэри, когда они в тот день укладывались спать. Такой (для Полли поразительный) вывод был сделан после долгого обсуждения ими горестной доли Саймона и того, как устроить ему каникулы получше.
– Ты вправду так считаешь? – Полли поразилась своему ощущению легкого шока.
– Да. Да, именно так. Краснокожие индейцы с их благоприятными охотничьими угодьями… рай, или небеса, или возможность еще одной жизни в чьем-то другом обличье… не знаю всего, что они понапридумали, только, спорить могу, прежде всего именно с этого начались все религии. Оттого, что все в конце концов умирают, легче не сделалось ни единому человеку. Люди просто обязаны были сотворить какое-нибудь будущее.
– Так, по-твоему, люди просто задуваются – как свечки?
– Честно, Полл, я не знаю. Только уже то, что люди не говорят об этом, доказывает, до чего они напуганы. И в ходу у них жуткие фразочки, вроде «уйти из жизни». Куда, дьявол побери? Они не знают. Знали б, так сказали бы.
– Так ты, значит, не думаешь… – Полли даже растерялась от чудовищности такого предположения, – ты ж не думаешь, что они на самом деле все же знают, но это чересчур жутко, чтоб о том говорить?
– Нет, не думаю. Заметь, в таком деле я нашему семейству ни на волос не доверяю. Только люди про то немало написали. Вспомни Шекспира и его неведомые пределы[5] и что это смысл, оправдывающий бедствие столь долгой жизни. Он знал куда больше любого другого, и если бы он знал, то сказал бы.
– Правда?
– Конечно, он мог бы вложить это в мысли Гамлету, а не людям вроде Просперо… он дал бы ему узнать, если б сам знал.
– Хотя… Шекспир верил в ад, – заметила Полли. – А это уж чересчур – признавать одно без другого.
Однако Клэри произнесла возвышенно:
– Он попросту угождал модным взглядам. По-моему, ад – это всего лишь политический способ заставить людей делать то, что нужно тебе.
– Клэри, множество вполне серьезных людей верили в это.
– Люди могу быть серьезными и ошибаться.
– Наверное. – У Полли появилось ощущение, что несколько минут назад разговор пошел не туда.
– В любом случае, – сказала Клэри, протаскивая довольно беззубую расческу по волосам, – Шекспир, видимо, все же верил в царствие небесное. Как быть с этим? «Спокойной ночи, милый принц, и с пеньем ангелы тебя возносят к твоему покою»[6]… эта несносная Джули все волосы мне патокой избрызгала… если только не считать это просто вежливым оборотом прощания с лучшим другом.
– Не знаю. Но я согласна с тобой. Не думаю, что кто-то и вправду знает. И это порядком меня беспокоит. С недавних пор. – Голос ее дрогнул, и она сглотнула.
– Полл, я заметила за тобой что-то довольно важное и хочу сказать об этом.
– Что? – Полли насторожилась и неожиданно почувствовала, что бесконечно устала.
– Я о тете Сиб. Твоей маме. Всю неделю ты горевала о ней, жалея ее – и своего отца, и Уиллса, а теперь и Саймона. Я знаю, это оттого, что ты добрая и куда меньше себялюбива, чем я, но ведь ты же просто совсем не горевала, жалея саму себя. Я знаю, что жалеешь, но воли не даешь, потому как чувства других людей для тебя важнее собственных. Это не так. Это все.
На какой-то миг Полли поймала в зеркале туалетного столика пристально изучавшие ее серые глаза, потом Клэри вновь принялась расчесывать волосы. Она рот уж было открыла сказать, мол, Клэри не понимает, чем это стало для Уиллса или Саймона… что Клэри не права… но не успела: все это поглотила теплая волна горя, Полли уткнулась лицом в ладони и разрыдалась, оплакивая собственную утрату.
Клэри стояла недвижимо, ничего не говоря, а потом достала полотенце для лица, села напротив на кровать и просто ждала, когда Полли более или менее успокоится.
– Получше примерно трех носовых платков будет, – сказала она. – Разве не забавно, что у мужчин платки большие, а они едва ли вообще плачут, наши же годятся только на то, чтоб ими галантно носик утереть, а мы плачем куда больше их? Сделать нам бульончик из мясного порошка?
– Погоди минутку. Я весь день в ее вещах разбиралась.
– Знаю. Мне тетя Рейч сказала. Я помочь не предлагала, потому как не думала, что тебе кто-то нужен.
– Это так, только ты, Клэри, не кто-то, совсем нет. – Увидела, как Клэри вдруг слегка заалела. Потом, помня, что такого рода признания Клэри нужно делать дважды, сказала: – Если бы мне кто и был бы нужен, так это ты.
Когда Клэри вернулась с исходящими парком кружками, они стали говорить о делах вполне практичных, вроде того, как бы им с Саймоном всем вместе пожить на каникулах у Арчи, когда у того всего две комнаты и одна кровать.
– Не сказать, чтоб он приглашал нас, – рассуждала Клэри, – однако хотелось бы заранее предусмотреть любые глупые возражения из-за помещения. Мы могли бы спать у него на диване… если он у него есть… а Саймон мог бы спать в ванне. Или мы могли бы попросить Арчи взять к себе одного Саймона, а нас – как-нибудь в другой раз. Или ты могла бы поехать с Саймоном.
– Ты наверняка хочешь поехать?
– Могла бы, наверное, как-нибудь в другой раз, – ответила Клэри. Слишком беспечно, подумала Полли. – Лучше никому не говорить об этом, не то Лидия с Невиллом тоже захотят поехать.
– Исключено. Впрочем, я лучше с тобой поеду.
– Я спрошу Арчи, как ему удобней, – отозвалась Клэри.
Атмосфера снова переменилась.
После этого ей случалось плакать довольно часто – почти всегда, когда она того не ожидала, отчего было трудно, поскольку ей не хотелось, чтобы все семейство ее видело, однако в целом, как она считала, никто не замечал. Они с Клэри обе жутко простудились (что было на руку) и лежали в постели, читая друг другу вслух «Сказку о двух городах», словно бы устраивали Французскую революцию с мисс Миллимент. Тетя Рейч договорилась об отправке маминой одежды в Красный Крест, и Тонбридж отвез ее туда на машине. Когда прошла неделя с отъезда отца вместе с дядей Эдвардом, она начала беспокоиться о нем, о том, вернется ли он хоть сколько-то не такой печальный (только он не сможет, ведь не сможет, всего-то за несколько дней?), а больше всего о том, как быть с ним.
– Так нельзя, – сказала Клэри. – Он все равно будет горевать, конечно, только в конце концов переживет. Мужчины могут.
– Ты хочешь сказать, что, по-твоему, он женится еще на ком-то? – Эта мысль ее потрясла.
– Не знаю, только легко смог бы. Я готова думать, что вторичный брак присущ семьям. Взгляни на моего отца…
– Не нахожу, что наши отцы хоть в чем-то похожи.
– Конечно, не похожи полностью. Но кое в чем другом – вполне и вполне. Вспомни их голоса. И то, как они целыми днями только и знают, что обувь меняют из-за своих тоненьких слабеньких ножек. Однако твой, наверное, вовек снова не женится. Полл, я вовсе не бросаю на него тень. Просто учитываю человеческую природу. Мы все не можем походить на Сиднея Картона[7].
– Надеюсь, нет! Если б походили, нас бы никого не осталось.
– О, ты имеешь в виду, мы все пожертвовали бы жизнью ради кого-то другого. Так еще кто-то остался бы, глупышка.
– Нет, если бы мы все… – И они втянулись в игру, основанную на риторическом вопросе, который Эллен постоянно задавала Невиллу, когда тот баловался во время еды.
«Если бы все-все в мире разом заболели, очень было бы интересно. Я так думаю, мы все утонули бы», – произнес тогда, поразмыслив, Невилл, и тем, на что Клэри и намекнула, метко обратил в бессмыслицу все рассуждение. Однако, едва принявшись играть, обе девушки (порознь) почти сразу же поняли – игра уже утратила свою привлекательность, их остроумие потускнело и они больше не покатывались от него со смеху.
– Мы уже выросли из этой игры, – грустно подытожила Клэри. – Нам теперь только и остается, что наперед поостеречься говорить такое еще кому-то, скажем, Уиллсу, Джули или Роли.
– Должно же быть и что-то другое, – вздохнула Полли, ломая голову над тем, что бы это такое могло быть.
– Есть, конечно. Конец войне, и возвращение отца, и возможность самим себя обеспечивать, потому как мы уж слишком тертыми жизнью для них будем, чтоб нас опекать во всем, а белый хлеб, бананы и книги на вид совсем не тертые, когда их покупаешь. И у тебя будет свой дом, Полл, ты только подумай!
– Я думаю – иногда, – ответила она. Иногда ей не давала покоя мысль: а не выросла ли она и из дома, без того, чтобы, насколько она понимала, врасти во что-то другое?
Весна 1942 года
– Тетя Рейч, ты в Лондон?
– Да. Как, скажи на милость, ты догадалась?
– Ты надела свою лондонскую одежду, – пояснила Лидия, а потом, тщательно ее оглядев, добавила: – Честное слово, по-моему, ты красивее, когда не носишь ее. Ой, надеюсь, мои слова тебя не обидели.
– Нисколько. Наверное, ты права. Я уж и не помню, когда у меня новые наряды были.
– Я-то про то, что, на мой взгляд, они тебе как раз не лучше всего подходят. Ты, наверное, из тех, кому надо бы форму носить, чтоб все время одной и той же оставаться. Тогда можно было заметить, светится ли радость в твоих глазах. – Лидия стояла в коридоре перед раскрытой дверью комнаты Рейчел и смотрела, как та укладывает вещи в маленький (только на ночь-другую) чемодан. – Наряды тебя старят, – подбила она итог. – В отличие от мамы. Ее, по-моему, наряды молодят – лучшие ее наряды, конечно.
– Не пинай плинтус, дорогая. Краска облетит.
– И без того уже много облетело. Дом становится обшарпаней некуда. Жаль, не я в Лондон еду.
– Дорогая, и что же ты там делала бы?
– Пошла бы и погостила у Арчи, как другие везунчики. Он повел бы меня в кино, а потом пригласил бы на восхитительный ужин, и я смогла бы надеть подаренные на Рождество драгоценности, и мы ели бы бифштекс и шоколадный торт с crème de menthe[8].
– Такие, значит, твои мечты? – Рейчел пыталась сообразить, брать ей с собой домашние тапочки или нет.
– Были бы, если б я позволила себе мечтать. Арчи сказал, что им на корабле мясо каждый день дают. Плоховато быть гражданскими, а уж быть гражданским ребенком… В ресторанах обязательно все по-другому. Ужасное невезенье жить там, где нет ни одного. Ты не пользуешься косметикой? А я буду. Буду красить губы очень темной красной помадой, как у кинозвезд, и ходить в белой меховой шубе, только не летом. И буду читать игривые книжки.
– Какие-какие?
– Ты поняла меня. Так по-французски говорится о не очень приличном. Я их буду глотать дюжинами в свободное время.
– Кстати, о свободном времени, разве ты не должна заниматься с мисс Миллимент?
– Каникулы же, тетя Рейч. Ты, наверное, этого и не заметила. Ой, да. И я попрошу Арчи повести меня в «Камеру ужасов» в Музее мадам Тюссо. Ты их видела, да?
– Видела, наверное, только много лет назад.
– Ну и что это за ужасы? Потому что мне лучше узнать до того, как я пойду. Невилл притворяется, будто он видел. Говорит, по полу кровь течет, но меня кровь не очень-то сильно интересует. Еще он говорит, что там стоны раздаются, как от пыток, но я не сильно верю, он же постоянно что-то выдумывает. Так слышно стоны?
– Я уж сто лет как там не была, уточка моя, не помню… разве что сцену казни бедняжки королевы Марии Шотландской. Но, думаю, на каникулах мамочка как-нибудь свозит тебя в Лондон.
– Сомневаюсь. Она меня возит только в больницу Танбридж-Уелс к зубному. А знаете, какой нелепый мистер Алабоун? Когда входишь к нему в комнату, он всегда стоит у кресла и делает два шага вперед, чтобы пожать тебе руку. Так вот, на ковре два протертых места, там, где он эти шаги делает, смотрятся и вправду убого, а если бы он походку сменил, такого бы не было. Можно подумать, что человек, у кого хватает ума делать дырки в чужих зубах, должен бы это понимать, правильно? Я обратила его внимание на это, потому как в войну шансы, что ему удастся купить новый ковер, довольно шаткие. Он же просто пробормотал: «Вполне, вполне», – и я поняла, что он и внимания никакого не обратил.
– Люди редко следуют совету, – рассеянно заметила Рейчел. Ум ее занимали подсчеты, сколько раз умоляла она Сид не жить на бутербродах, найти жильца, который, по крайней мере, возьмет на себя долю расходов по дому и, возможно, будет понемножку готовить. «Мне нравится самой вести хозяйство. Потом, когда ты приедешь, любовь моя, мы сможем вести его вдвоем», – только и сказала на это Сид. Сегодня вечером будет еще один такой (все более и более редкий) раз. Наверное, подумала Рейчел, мне следовало бы научиться готовить. В конце концов, Вилли же научилась, впрочем, Вилли так легко даются любые новые дела.
– Зачем ты берешь так много носовых платков? Собираешься ужасно грустить в Лондоне?
– Нет. Только Дюши всегда велела мне брать шесть на выходные и дюжину, если мне случалось уезжать на неделю. Это просто вошло в привычку. Понимаешь, каждый день нужно доставать свежий платок, даже если вчерашним ты и не пользовалась.
– Выходит, если уезжаешь на месяц, то надо брать сорок восемь носовых платков. А если едешь на три…
– Нет-нет, тогда их надо стирать. А сейчас сходи попробуй отыскать Айлин и позови ее ко мне.
– Оки-доки.
Оставшись одна, Рейчел сверилась со списком. На одной его стороне значились места, которые надо было посетить до поезда. На другой – то, что она должна попробовать достать в Лондоне, завершив все дела в конторе, где в маленькой черной комнатушке она сводила счета и выслушивала повторявшиеся жалобы сотрудников, не стеснявшихся использовать ее как свою жилетку. По крайней мере, ей не придется сопровождать Брига, у него простуда перешла в бронхит, и доктор Карр запретил покидать ему дом до выздоровления. Мисс Миллимент найдет, чем его занять. Он редактирует антологию о деревьях, так она взвалила на себя такую долю работы, что, считала Рейчел, по праву заслуживает признания соавтором. Однако за тетей Долли нужен присмотр со стороны Дюши и Айлин, а это значило – со стороны Айлин, поскольку тетя Долли стойко хранила совершенно надуманную независимость перед сестрой и отвергала любую помощь. Это Айлин придется часами проводить на ногах, отыскивая предметы одежды, которые тетя Долли пожелает надеть. Рейчел чувствовала долг предупредить Айлин, что многие поиски окажутся бесполезными, поскольку тетя Долли зачастую выбирает одежду, которая уже много лет как перестала ей принадлежать. «Лучше всего говорить, что эта одежда в стирке, – наставляла она Айлин. – Память у бедняжки мисс Барлоу не та, что была когда-то. Просто подбирайте то, что сочтете наиболее подходящим».
– Слушаюсь, мэм.
– Еще ее лекарства. Она страшно пунктуальна в их приеме, а это значит, когда она забывается, то может принять вторую дозу. Будет лучше, если вы станете давать их ей за завтраком, а потом убирать, можете уносить в мою комнату. И еще на ночь она принимает одну желтую таблетку.
– А как быть с ее мытьем, мэм? Она не пожелает, чтоб я ей ванну готовила?
– Думаю, она предпочтет мыться у себя в комнате. – Рейчел чувствовала, что вряд ли стоит раскрывать глубокое отвращение тети Долли к ванным: та уверяла, что они опасны, ее отец запрещал ей принимать ванну чаще раза в неделю. – Она ляжет спать после девятичасовых новостей, так что вам нужно не опоздать. Благодарю вас, Айлин. Я знаю, что могу на вас положиться.
Так, еще одно дело было сделано. Сколько же возни всего из-за двух ночей, подумала она, зато потом, когда я окажусь в поезде, то смогу предаваться мечтам о двух чудесных вечерах. Невезенье преследовало их с Сид уже не одну неделю. Сначала, разумеется, из-за бедняжки Сибил, потом Бриг заболел, а Дюши жутко простудилась, а значит, и не могла находиться с ним рядом. А потом Саймон вернулся на каникулы, и Полли все время теребила ее… в общем, было невозможно оставить дом больше чем на те часы, какие она проводила в конторе. Однако, так или иначе, но Сид, похоже, не понимала, что у нее в семье есть обязанности – как и в доме, на то пошло, – которые превыше удовольствий. Последний их спор по этому поводу (в чайной возле конторы Рейчел, куда Сид забегала за скудным сэндвичем) оказался довольно болезненным, после него она плакала, хотя, разумеется, так и не призналась в том Сид. Единственным местом, где можно было поплакаться, была крайне мерзкая женская уборная в конторе, на шестом этаже здания, где туалетной бумагой служили квадратики, нарезанные из газеты Evening Standart и прикрепленные к стене куском проволоки, а труба у бачка унитаза протекала. Сид либо считала, что ей хотелось возвращаться в Хоум-Плейс ухаживать за Уиллсом, тетей Долли и Бригом (что в какой-то мере было правдой, поскольку она с желанием занималась тем, что воспринимала как обязанность), либо, что еще хуже, обвиняла Рейчел в том, что та о ней не заботится, а порой, как тогда в чайной, и считала, и обвиняла разом. Она понимала: Сид одинока, скучает по преподаванию в школе для мальчиков, хотя недавно и взяла одного-двух учеников для частных занятий, и это подкрепило ее шаткие финансы, что ее работа на станции скорой помощи ей по большей части хуже горькой редьки, так ведь, в конце концов, нельзя же во время войны ожидать от жизни чего-то, кроме горечи и маеты. И то были лишь цветочки. Стоило ей подумать о тоске Клэри по своему отцу (от кого, разумеется, не было ни слуху ни духу с тех пор, как маленький французик Пипитт О’Нил привез с собой те обрывки бумаг), о том, насколько потрясла бедного Хью смерть Сибил, о Вилли, которая теперь видит, как ее сын становится боевым летчиком, и все реже и реже видится с Эдвардом, стоит ей подумать о бедняжках Уиллсе, Полли и Саймоне, которые – каждый на свой лад – пытаются примириться с утратой матери… стоит ей подумать обо всем этом, о чем угодного из перечисленного, то пропадает всякое желание сравнивать это со скукой, одиночеством и даже с довольно частой истинной усталостью, как с чем-то достойным жалоб. Она не всегда думает о других, мелькнула мысль, возвращая ее к Сид: то было серьезное обвинение. Она отправилась на поиски Дюши и нашла ее в общей комнате за разглядыванием фарфора на застланном газетой карточном столике.
– Я уезжаю, Дюши дорогая. Привезти тебе что-нибудь из Лондона?
– Не надо, разве что новую кухарку.
– Разве Эди уходит?
– Миссис Криппс сообщила, что Эди собралась поступать на службу в женские вспомогательные части ВВС. Она так наорала на нее, что Эди оцепенела, и еще одной тарелкой «коупленд» стало меньше в доме.
– Ты говорила с Эди?
– Пока нет. Только в любом случае я не чувствую себя вправе просить ее остаться. Даже восхищаюсь ею за желание послужить стране. К нам она пришла прямо со школы. Из деревни никогда не уезжала. По-моему, это довольно смело для нее. Но, само собой, миссис Криппс из себя выходит. Придется замену найти. Не знаешь, «Миссис Лайнз» все еще работает? Это довольно приличное агентство… на Кенсингтон, верно? Возможно, у них кто-то есть. В конце концов, кухарки, как правило, моложе призывного возраста. Иди, дорогая, опоздаешь на поезд. Но выясни, пожалуйста, действует ли еще «Миссис Лайнз». Если у тебя будет минутка.
– Спрошу обязательно. И не забудь напомнить Тонбриджу заехать за настройщиком.
– Не забуду.
По крайней мере, не попросила меня заехать за чем-нибудь в армейско-флотский военторг, подумала Рейчел. Дюши снисходила до постоянных закупок в очень немногих магазинах и была убеждена, что все остальные слова доброго не стоят. Ткани для домашнего обихода она покупала в Robinson and Cleaver, одежду себе самой (приобретавшуюся от редкого случая к столь же редкому случаю) – в Debenham and Freebody, промтовары – в Liberty, а практически все остальное в армейско-флотском военторге на Виктория-стрит, поблизости от которого ничего другого не было. Поскольку сама Дюши в Лондоне не была с начала войны, она возложила на невесток и Рейчел обязанность удовлетворять ее скромные, но тем не менее точно обозначенные потребности.
– У вас есть противогаз, мисс?
– Благодарю, Тонбридж. Он уложен.
Когда она устроилась на заднем сиденье и Тонбридж укрыл ей колени старым меховым покрывалом на войлоке, то подумала, до чего ж невероятна эта война: в сопоставлении противогаза и мехового покрывала, как в зеркале, виделось, во что обратилась ныне по большей части жизнь. «Или чем стала для таких бесполезных отсиживающихся по домам людей, вроде меня, – пришла вдогон мысль. – Я ничего не делаю, чтобы помочь покончить с войной. Я не делаю ничего полезного, кроме банальных вещей, которые кто-то другой, наверное, сделал бы лучше». Уныние, напавшее на нее, когда она наконец-то осознала, что дни ее любимого Детского приюта сочтены, вновь овладело ею. Приют вернулся в свой лондонский дом вскоре после мюнхенского сговора, но затем нехватка средств и нехватка девушек, желавших обучаться на медсестер, постепенно подмяла под себя все предприятие. Матрона уволилась, чтобы ухаживать за стареющим отцом, подходящую замену ей найти не удавалось, и ко времени, когда начались бомбежки Лондона, всему конец пришел в мгновение ока, поскольку помещение (в то время милосердно пустое) подверглось прямому попаданию. Но то был последний, а если честно, то единственный раз, когда она ощущала себя занятой какой-то работой. Нынче ей сорок три – слишком много, чтобы призываться в армию или искать возможность (или желание) записаться в добровольцы для чего-либо большего, нежели уход за родителями и другими родными, которые в ней нуждались. А потом в конце концов неизбежно наступит день, когда родители умрут, и тогда она обретет свободу жить с Сид, делать ее счастливой, поставить ее во главу угла, делить с нею все. Когда, как сейчас, она сама по себе, печальной представляется невозможность поговорить об их будущем с Сид, кроме тех случаев, когда они бывали вместе. Из-за того, что будущее это определялось смертью родителей, даже упоминать его, не то что обсуждать, было как-то неловко.
В поезде она решила, что купит Сид граммофон, то, чего та сама никак не могла себе позволить. Мысль эта неожиданно доставила ей большую радость: так приятно было бы вместе выбирать пластинки, и Сид скрасила бы свое одиночество. Она подберет хороший механизм, с большим рупором и иглами из шипов, которые, говорят, меньше портят пластинки, чем стальные иголки. В обед она сходит на Оксфорд-стрит и выберет, а может, вполне успеет отвезти граммофон прямо к Сид на такси. Великолепная мысль – почти компромисс.
* * *
– Честное слово, дорогой, как только у меня появится ребенок, мне сразу понадобится найти какое-то другое жилье. Помимо того, что домик не только мал для мальчиков, он даже, если честно, не вполне годится для Джейми с малюткой. А бедная Айла не сможет никого пригласить погостить.
Она умолчала, что сестрица мужа сводит ее с ума, она знала: люди, не ладящие друг с другом, попросту раздражают его.
Они обедали в небольшом кипрском ресторанчике возле Пикадилли-серкус, который он называл удобным и тихим. Удобства она не заметила, но вот тишина… Не считая пары безутешных на вид американских офицеров, в ресторанчике никого не было. На обед они взяли довольно жесткие отбивные, обложенные рисом и консервированными бобами. Местечко было совсем не того сорта, куда он обычно водил ее, и, заходя, она все гадала, не конфузно ли ему водить на обед ту, чья беременность так бросается в глаза. Она уже предупредила, что вино ей нельзя, и теперь, под конец обеда, официант принес графин и налил ей воды в бокал. Вода была прохладной и отдавала хлоркой. На твердом стуле ей сиделось до крайности неудобно. На стене напротив нее висел плакат (разрисованный каким-то грязновато-желтым цветом) с невероятно голубым небом, горой с развалинами на вершине и свирепо улыбающимся священником греко-православной церкви на переднем плане. Официант подал крохотные чашечки с турецким кофе, опрокинув при этом три бумажные гвоздики, стоявшие на столике в вазе. Поправив цветы, он поставил перед ней блюдечко с тремя кусочками турецкого лукума, доброжелательно улыбнулся, глядя на ее живот, и произнес: «За счет заведения, для мадам».
– Не сердись, дорогая, – услышала она. – Обед так себе. Но мне хотелось пойти куда-нибудь в тихое местечко, где могли бы поговорить. Этот кофе совершенно скотский. Мне не следовало его пить.
Так ведь не очень-то и поговорили, подумала она.
– А если в Шотландию? – теперь спросил он.
– Жить я там не смогла бы! Я им не нужна.
– Мне помнится, ты говорила, что нужна.
– Это было только сразу после того, как Ангус умер. В них говорила обязанность предложить. Они бы в ужас пришли, если б я согласилась. – Она почувствовала, как ее охватывает паника. Он же не может… и наверняка этого не сделает… попытаться бросить ее сейчас в беде.
– Я полагал, это могло бы быть выходом… на какое-то время… для старших мальчиков.
Разом отвергая и хороня все, что могло бы быть сказано еще, она сказала:
– Положим, что могло быть. Только в этом случае я бы их не видела.
Повисла пауза.
– Дорогая, я чувствую себя таким совсем-совсем никчемным. Чертовски жуткая ситуация. Я должен бы заботиться о тебе, а я не могу.
У нее разом отлегло от сердца.
– Знаю, что не можешь. Я это понимаю.
У него лицо прояснилось.
– Знаю, что понимаешь. Ты изумительный человек. – И он в сотый раз принялся говорить ей, как нет у него никакой возможности оставить Вилли, но тут, по счастью, подошел официант со счетом, и он отвлекся, чтобы расплатиться, а она отправилась на поиски дамской комнаты. Подправляя лицо (выглядела она и в самом деле не лучшим образом, утром переусердствовала с косметикой), чувствовала, как душу туманом обволакивает жалость к себе самой. Им некуда пойти, нет места, где они могли бы тихо провести время до отхода ее поезда. Полученное утром на Брук-стрит разрешение (ее оправдание перед Айлой за побег в Лондон) казалось натянутым и искусственным и совсем не обещало впереди никакого успеха, спину ломило от неудобного стула, от ее лучших туфель распухли ноги. Мысль о том, что, когда придет время появиться ребенку, в роддом ее повезет местный таксист, а она даже не сможет сообщить Эдварду, что отправилась, а потом будет приходить Айла и раз за разом талдычить, как похоже дитя на Ангуса и вообще на все семейство Макинтош, наполняла ее чем-то вроде раздражающего отчаяния.
А потом эта жуткая неясность, что делать дальше, где жить, как подыскать дом: у нее почти восемь месяцев, а придется всем этим заниматься. Все это, похоже, чересчур. Она в осаде осмотрительности, одиночества и лжи… Так не годится. Она не должна сдаваться. Решила быть уверенной и жизнерадостной, так, лишь с оттенком беспомощности в делах практических. В последний раз укоризненно ткнула в носик пуховкой с пудрой и вернулась к нему.
– Я подумала, – бодро сообщила она, – что мне лучше всего подыскать квартиру в Лондоне. Или, возможно, даже небольшой домик. Не совсем понимаю, как к этому подступиться, но уверена, что это было бы выходом. Где, по-твоему, мне следует поискать?
Они не без живости обсуждали это, пока он вез ее на Виго-стрит, где остановился возле ювелирного Harvey and Gore, и повел ее покупать подарок.
– Аметисты, – молвил он. – Уверен, мистер Грин, вы сможете подыскать нам прелестные аметисты. – И мистер Грин, по мнению которого, единственным недостатком мистера Казалета было отсутствие титула, потер руки и выставил массу видавших виды кожаных футляров, внутри которых на потертом бархате лежали различные броши, кулоны, ожерелья и браслеты с аметистами, оправленными в золото, иногда с жемчужинами или бриллиантами, а одно, которое особенно понравилось Эдварду, с крохотными камешками бирюзы. – Примерь его, – попросил он.
Ожерелье ей не хотелось: где, скажите на милость, ей его носить? – но она расстегнула пальто и верх блузки, обнажила шею, которая так удачно и так унизительно оказалась для ожерелья слишком велика. М-р Грин пообещал, что цепь можно будет надставить сзади, сделать ее длиннее, но Эдвард сказал: нет, поищите что-нибудь еще. А вот что она хотела, так это кольцо, но как чувствовала: просить его об этом не надо. Вдруг припомнилось, как он вез ее с Лэнсдаун-роуд и швырнул ей на колени шкатулку с драгоценностями Вилли, они высыпались, и ее укололи ревность и горечь. На минуту даже пришла в голову вовсе сумасшедшая мысль: а нет ли целой связки женщин, у которых от него дети… и не привык ли совершенно елейный мистер Грин к его визитам с разными спутницами?..
– Дорогая, взгляни! Как тебе это?
То было колье из подобранных по размеру овальных камней, вправленных в золото, тяжелое, простое и прекрасное. Она села, колье застегнулось на ней, и оно восхищало, а он спросил, понравилось ли ей, и она согласно кивнула: понравилось.
– Если мадам не до конца уверена… – Многолетний опыт подсказывал мистеру Грину, что дамы, случается, покупают вещи, которые им не нравятся или не нужны, или покупают одно, хотя с куда большей радостью приобрели бы что-то другое.
– Единственно только, не знаю, когда я буду его носить.
Ответ прозвучал простой:
– Чепуха, дорогая, разумеется, ты будешь его носить. – И когда мистер Грин отошел упаковать покупку, Эдвард склонился к ней и прошептал: – Ты можешь носить его в постели со мной, – а его усы щекотнули ей ухо.
– Что ж, оно наверняка будет роскошно выглядеть рядом с уставной ночнушкой, – выдавила она из себя.
– Дорогая, ты не носишь уставных ночнушек!
– Нет, но скоро придется. Правительство уже распорядилось, чтоб никаких вышивок на нижнем белье.
– Вот мерзавцы. Видимо, нам лучше прикупить его, пока оно из магазинов не исчезнет.
– На белье нужны купоны, дорогой, а их на всех не хватает.
Эдвард подписал чек, а мистер Грин возвратился с тщательно упакованным белым пакетом.
– Надеюсь, мадам, вам доставит большое удовольствие носить это, – сказал он.
Когда они вышли из магазина, она поблагодарила:
– Дорогой, большущее тебе спасибо. Изумительный подарок.
Они ехали по Бонд-стрит к Пикадилли мимо разбомбленной церкви, вокруг заколоченной досками статуи Эроса и по Хеймаркет. На всех щитах значилась главная новость: «Мальта получает Георгиевский крест!»[9] Нижние окна зданий вокруг Трафальгарской площади были обложены мешками с песком. Около вокзала Чаринг-Кросс медленно вышагивал какой-то старик с плакатом на спине: «Конец света близок». Скворцы то и дело тучами закрывали небо. Договорились, что она приедет на следующей неделе, он поведет ее пообедать и поможет подыскать квартиру.
– Дорогая, сожалею, что не смогу сам принять тебя. Увы, Хью привык по пятницам ездить со мной… ты же понимаешь.
– Ничего страшного, дорогой. Разумеется, я понимаю.
Она понимала, но это не мешало ей заботиться о себе самой.
– Ты самая понимающая девушка в мире, – сказал он, помогая ей подняться в вагон поезда и вручая купленную для нее газету. – Боюсь, Country Life уже не было.
– Неважно. Почитаю все про то, как Мальта получила Георгиевского крест.
Он склонился, поцеловал ее, а потом, выпрямившись, принялся шарить в кармане.
– Едва не забыл. – И положил ей на колени три монеты по полкроны.
– Дорогой! Это еще зачем?
– Тебе на такси, я отвезти тебя домой не смогу.
– Это слишком много. И пяти шиллингов хватит.
– Третья – это медаль Эдварда за храбрость, – улыбнулся он. – За то, что вынесла этот и вправду ужасный обед… и вообще все. Должен лететь, уже к Хью опаздываю.
У нее на глаза навернулись слезы. «Лети», – произнесла она.
После того как он ушел и поезд неспешно загрохотал над рекой, она сидела, глядя в окно (к тому времени в купе были и другие пассажиры), пытаясь разобраться в путанице своих чувств к нему. Обиды, раздражение, даже то, что придется этого ребенка родить без его открытой поддержки, что ей приходится столько денежных беспокойств одолевать, вся эта загвоздка с поисками, где жить, самой устроиться там с четырьмя нуждающимися в заботе детьми – она не знала, каким чудом окажется способной платить за ученье трех мальчиков в школе, не говоря уж об этом, еще одном. Родители Ангуса предложили немного на самого старшего, только у них тоже денег нет, да и мысли у них те же, что и у Ангуса: единственная подходящая школа – это Итон. Разочарование: вот к чему она пришла после четырех лет связи… больше четырех лет вообще-то… и ничуть не преуспела в том, чтобы он ушел от жены и женился на ней… «Пусть даже я и не всегда хотела этого», – мелькнула мысль.
Когда она впервые встретила его, то у нее в голове и в душе все словно просто перевернулось: тогда он казался самым привлекательным из всех знакомых ей мужчин, Ангус же, как поняла она тогда (до чего забавно, что раньше ей это в голову не приходило), был абсолютно никчемен в постели, совсем. Непробиваемый романтик, он увлекся ею потому, что она напоминала ему одну актрису, которую он видел в пьесе Барри и обожал, зато к сексу прибегал нечасто (с извинениями, как можно поспешнее и в темноте), как человек, проявляющий прискорбную, но неоспоримую слабость, с какой она, как ему хотелось, имела бы так же мало общего, как ему грезилось. Эдвард тоже, по-видимому, считал, что секс по большей части дело мужское, но, когда первая прелесть восторга поулеглась, ей все ж пришлось признать, что он, похоже, не воспринимает ее чувств с тем вниманием к мелочам, что приносит удовлетворение, себя же он тешил до того открыто и до того щедро, что в отношениях с ним ей оставалось вести себя со своего рода материнской снисходительностью. Он раздевал ее, любовался ею, никогда не упускал случая сказать после, насколько ему было хорошо, как чудесна она была во всем, и ей стало довольно легко лгать в ответ и думать не об Англии, а о нем. И он устраивал так, что они очень хорошо проводили время и по-другому. Помимо ресторанов, танцзалов, подарков (ощущение такое, что быть с ним словно значило всякий раз отмечать день рождения, который он, по его словам, устраивал) ее привлекала в нем страсть – по тому очевидному факту, что он привлекал внимание едва ли не каждой женщины, которую встречал, но оставался с нею, что наделяло ее ощущением силы и избранности. Разумеется, случались времена, когда она раздумывала, насколько он верен, но тут оказывались замешаны ее неспешно возраставшие долгосрочные притязания на него. Широко смотреть на любую возможность – пусть даже лучшей политикой казалось неподтвержденное прегрешение. После того как Ангус умер, причин желать Эдварда в мужья стало столько и сделались они так тревожно сложны, что, стоило какой-либо из них заявить о себе, как она тут же вновь загоняла их в самые темные уголки под защиту зонтика, каким успела посчитать свою неумирающую любовь к нему. Разумеется, он был ее великой любовью: у нее от него ребенок, если не два, четыре года она терпеливо предоставляла ему себя, стоило ему захотеть, вся ее жизнь вращалась вокруг его присутствия, его отсутствия, его потребностей и его ограничений. Она никогда не заглядывалась ни на кого другого, ей сорок два, а значит, подсказывало чутье, вряд ли сейчас стоит начинать. Она глубоко и безвозвратно предана ему. Когда, как теперь, какая-то дьявольская крупица сомнения пытается возвысить голос, заявляя, что что-то как-то не совсем так в их отношениях, она отвергает сомнение целиком. Если что не так, она не намерена доискиваться. Она любила его – вот и все, что ей требовалось знать.
* * *
– Ты сказал ей?
– Не смог, старина, на самом деле не смог. Уже почти был готов, но не смог. – Потом, различив на лице брата выражение полного осуждающего недоверия, Эдвард прибавил: – Она же в любую минуту родить может, бога ради…
– Этого ты мне никогда не говорил!
– Ну так сейчас говорю. Я просто не в силах огорчить ее. Тем не менее, – выговорил он спустя несколько мгновений, – формальности ей известны. Я никогда ей не лгал.
Повисло молчание. Ему удалось до Ли Грин добраться, прячась от этого разговора за лихорадочными обсуждениями конторских дел, в которых у них не было согласия, только он знал: Хью его спросит. Так же, как знал, что теперь в любую минуту он задаст следующий вопрос.
– Ребенок твой?
– Да.
– Боже! Ну и дела! – Тут он заметил, что его брат одной рукой достает из кармана сигарету, удерживая руль другой рукой, и самого его при этом даже дрожь пробивает, и, сделав усилие, прибавил: – Бедный малый! Это ж кошмар, должно быть! – Сделав еще усилие (поскольку представить себе не мог, что у кого-то без этого мог бы быть ребенок), выдавил: – Ты, должно быть, очень крепко в нее влюбился.
И Эдвард признательно отозвался:
– Еще бы! Влюбился, и давно.
После этого, пока они ехали обратно к дому, в котором больше не было Сибил, Хью больше к этой теме не возвращался.
* * *
– Мисс Миллимент, милая моя! Когда же это случилось?
– О-о… незадолго до Рождества, по-моему. На венке еще оставалось прилично ягод, а те подснежники за воротами конюшни еще не взошли, так что, думаю, должно быть, тогда и было. Я воспользовалась чемоданом как подпоркой, и какое-то время он, казалось, служил сносно, пока, как сами можете видеть, не сломался от нагрузки.
Сломался, точно. Вилли, как только вошла в комнату мисс Миллимент в домике конюшни, сразу поняла, что не только кровать (поломка, которая была причиной ее посещения) нуждается во внимании, а в общем-то меблировка и практически все, чем владела мисс Миллимент. Открытая дверца платяного шкафа пьяно висела на одной петле, выставляя напоказ одежду, ту самую, в какой она приехала два года назад и которая не только ощутимо нуждалась в чистке, но и, как предвидела Вилли, уже не подлежала починке. Тогда комнату торопливо обставили по указаниям Дюши, однако викторианское отношение той к спальням, занятым либо внуками, либо прислугой, зиждилось на том, что в них не должно содержаться ничего, кроме самого необходимого, необходимое же состояло из мебели, которую при любых иных обстоятельствах выбросили бы. Вилли вспомнила, как спрашивала мисс Миллимент, есть ли у той прикроватная лампа и стол для письма, и, когда та ответила, что у нее нет ни того ни другого, то просто распорядилась, чтобы эти вещи отправили в домик. Но прийти и взглянуть самой так и не удосужилась. Ей стало стыдно.
– Мне жаль, Виола, дорогая, что я доставляю столько хлопот.
– Вы тут ни при чем. Это моя промашка. – Опустившись у кровати на колени, она попробовала вытащить зазубренную сломанную ножку кровати из чемодана, крышку которого та разворотила, матрац при этом неловко накренился почти до земли. – Это же до ужаса неудобно, представить себе не могу, как вы тут глаза-то сомкнуть могли. – Извлечь сломанную ножку не удалось, и, чувствуя вину за создавшееся положение в целом, она заявила: – Вы на самом деле могли бы раньше сказать мне!
– Полагаю, должна была. Во всяком случае, это не ваша вина, Виола. Не могу позволить вам чувствовать такое.
И у Вилли появилось мимолетное ощущение, словно она вновь в школьном классе, где, случалось, она говорила одно, а чувствовала другое, – и это всегда было заметно.
Остаток того дня она провела за переоборудованием комнаты мисс Миллимент. Прежде всего это значило убедить Дюши. Хранилось много мебели из домика Груши, которую она легко могла бы взять, ничего не говоря свекрови, однако постепенно выяснилось еще одно постыдное обстоятельство: прислуга не убирала комнату мисс Миллимент, а всего-то обременяла себя тем, что раз в неделю укладывала стопку чистых простыней на нижнюю ступеньку узкого крылечка домика. На все остальное ее имущество, нуждавшееся в стирке, внимания не обращалось, и Вилли обнаружила, что сырая ванная комнатушка полна замоченных панталон, нижних рубашек и чулок, которые мисс Миллимент стирала в ванне, при том что возраст, грузность, близорукость и неумение сводили на нет ее способности заниматься домашними делами. Комната ее утопала в грязи и пропахла старой одеждой.
– Я вычищу комнату, Дюши, дорогая, но, право, полагаю, что одна из служанок должна застилать ей постель, вытирать пыль и прочее.
Дюши рассердилась и звонком вызвала Айлин, заметив:
– Прислуга всегда ведет себе гадко по отношению к гувернанткам.
– На мой взгляд, Дотти или Берта еще не в том возрасте, чтобы успеть набраться опыта общения хотя бы с одной гувернанткой.
– Согласна, но это традиция. Они наслышатся о них от миссис Криппс или Айлин. Но не тревожься, дорогая. Прислугу можно заставить убирать эту комнату.
– Вообще-то я предпочла бы это сама делать. – Она не сказала, что для нее невыносимо выставлять напоказ слугам жалкое убожество мисс Миллимент, но Дюши поняла.
– Видимо, так будет лучше, – кивнула она. – Ах, Айлин, пожалуйста, пошлите ко мне Дотти и Берту.
На кухне в тот день обеденное время шло напряженно. Дотти с Бертой так и сыпали дерзкими и мученическими оправданиями: никто им не говорил про уборку в домике, откуда им было знать? Ей тоже никто не говорил про готовку для гувернантки, напирала в ответ миссис Криппс, так ведь и так ясно, что едой нужно снабжать всякого, кто в доме живет. Айлин несколько раз повторила, что к ней это отношения не имеет и что она уверена: заниматься надо собственным своим делом, – только она не может не сочувствовать этой несчастной старой леди. Берта залилась слезами и заявила, мол, что ни случись, всегда ее обвиняют. Тонбридж напомнил женщинам, что идет война, вследствие чего он, хотя двигать мебель и не его дело, естественно, приложил к тому руку, когда попросили. Эди совсем ничего не говорила. В то время стоило ей хотя бы рот открыть, так миссис Криппс голову бы ей оторвала или ядовитое замечание отпустила про людей, которые бросают других в беде, лишь бы немножко пофорсить и вырядиться в военную форму. Через четыре недели она уйдет, твердила она себе, а тогда только они ее и видели. Помимо тарелки самой Мадам, она разбила миску для пудинга, две чашки и кувшин, из которого Мадам цветы поливала, – всякий раз после того, как миссис Криппс окликала ее, у нее все само из рук вываливалось. Во время чаепития сказано было очень мало.
К обеду Вилли освободила комнату ото всего, имущество мисс Миллимент сложила на чехол, расстеленный на полу небольшой прилегающей спаленки, запаслась куском мыла, жесткой щеткой и ведром. Тогда-то она и обнаружила, что электрический водонагреватель в ванной не работает и что бедняжка мисс Миллимент обходится без горячей воды бог знает с каких пор. Она вернулась в дом, вызвала по телефону электрика, позаимствовала из детской электрический чайник Эллен и принялась за весьма неприятное дело – мести и скрести пол. Состояние гардероба мисс Миллимент ужаснуло ее, и она решила свозить ее в Гастингс или Танбридж-Уэлс пополнить его. У нее, должно быть, набралось несколько купонов на одежду, и, если в магазинах уже нет подходящих нарядов, они смогут купить ткани и пошить из нее. Сибил помогла бы в этом, подумала Вилли, в который уже раз осознавая, как сильно она тоскует без нее. Она так и не смогла установить сколько-нибудь близких отношений с Зоуи, она, разумеется, тянулась и к Дюши, и к Рейчел, зато с Сибил она могла посплетничать, посудачить о детях и собственной их юности, о первых порах замужества, а иногда и припомнить то, что простиралось во времена, когда они не носили фамилию Казалет. Брат Сибил погиб на войне, ее мать умерла в Индии, когда дочке было три года, и почти всем ее воспитанием до десяти лет занимались преданная айя, няня-индианка, да слуги в доме ее отца, а потом отец привез ее с Губертом обратно в Англию и оставил их там на попечение своей замужней сестры, которая отправила обоих детей в интернаты, где те сильно скучали по дому. Каникулы были только тем лучше, что они общались друг с другом, так и не поладив со своими кузенами и кузинами: «У нас был свой тайный язык, урду, которого они, конечно, не понимали, вот и не терпели нас, а тетя моя нас винила в том, что мы с ними не ладим». Она помнила довольно ровный, очень английский голос Сибил, каким она говорила это, как она добавила, что на урду они говорили куда больше, чем на английском, к которому относились как к языку чужих нудных взрослых. Зато, когда она спросила, может ли Сибил и сейчас говорить на урду, та ответила, что нет, никогда не говорила на нем с тех пор, как брат погиб. Погиб он перед самым заключением мира: горе мучило ее, когда она повстречала Хью.
Особенно они сблизились в последние недели, с того самого утра, когда Вилли, войдя к Сибил в комнату узнать, не захочет ли она позавтракать в постели, застала ее рыдающей.
– Закрой дверь! – прикрикнула Сибил. – Не хочу, чтоб кто-то слышал. – Вилли, закрыв дверь, присела на кровать и держала Сибил, пока та, успокоившись, не заговорила: – Я думала, что мне лучше становится, только – нет. – Последовало молчание, а потом, впившись взглядом в Вилли так, что та не могла отвести глаз, она выговорила: – Мне ведь не лучше, да? – И прежде чем Вилли собралась с духом, чтобы ответить, Сибил неожиданно произнесла: – Нет, не говори. Не хочу знать. Я обещала Хью, что… просто оттого, что пару ночей плохо спала… ради всего святого, Вилли, не говори ему, что я так расклеилась. Ничего не говори – и никому.
И Вилли, знавшая, что Хью знал, но что и от него было истребовано такое же обещание, могла лишь закрыть глаза на эти блуждания в семейном лабиринте. Она обратилась к д-ру Карру, старалась уговорить того свести супругов вместе, поговорить, каждому взглянуть на происходящее в действительности. «Ведь каждый из них, – убеждала она, – считает, что делает лучше другому. Я и подумать не могу, чтобы вмешиваться в это. Каждый считает, что это последнее, что можно сделать для другого, понимаете». Она замолкла. Доктор заметил, что, по его мнению, она хорошо справляется с обязанностями сестры милосердия.
Она старалась изо всех сил. Тот день в неделю, когда она работала для Красного Креста в больницах до войны, научил ее многому полезному. Обтирание одеялом, переворачивание больного, судна – все это постепенно пригодилось, и Сибил отдавала предпочтение ей перед любым другим любительским одолжением…
Она ощущала себя полезной, как, если честно и, разумеется, в меньшей мере, ей мнилось, и сейчас себя ощущала. Интересно, думала она, мисс Миллимент еще кому-нибудь говорила про свою кровать и отсутствие горячей воды. Ведь наверняка должен же будет появиться кто-нибудь еще: Эдвард женится на женщине, которой достанется заботиться о его детях, заниматься прислугой, следить за питанием и выбираться с ним в гости. Вот только в гости нынче ходить не к кому, а когда она видится с Эдвардом, что случается даже не каждые выходные, им едва ли удается побыть одним. Не то чтобы она особо нуждалась в этом: одно из замеченного ею в этот последний год было как раз то, что Эдварда, по-видимому, меньше манили постельные утехи – к ее облегчению. Время от времени это происходило, разумеется, но она понимала, что на подходе время, когда это вряд ли вообще будет случаться. В последнее время перед тем, как отойти ко сну, они никак не могут найти, о чем поговорить: так, бесцельные разговоры о детях, несколько раз она пробовала уговорить его всерьез побеседовать с Луизой о том, насколько безответственно и дальше стараться получить работу в театре (ни малейшего недостатка в людях этой профессия, если это вообще профессия, не испытывает никогда), когда следовало бы подумать о занятии, куда более значимом в военное время. Муж находил отговорки, пытался сменить тему, а однажды, когда она из-за этого рассердилась, попросту заявил, что Луизу все равно призовут, когда ей двадцать стукнет, до чего всего год остался, так почему бы ей и не почудачить, пока можно? Такое отношение к дочери показалось ей совершенно легкомысленным.
Луиза… Она и в самом деле от рук отбивается. Упорствует, чтобы жить в Лондоне, где, хотя и уверяет постоянно, что вот-вот получит какую-нибудь работу в театре, ничего с этим не получается: сыграла одну-две рольки в радиопьесах, а все остальное – одни ее всегдашние разговоры про прослушивания, про знакомства с людьми, которые рассматривают ее на какую-то роль. Расхаживает по Лондону, распустив волосы по спине, в брюках и чаще всего с заметным избытком косметики на лице. У Вилли сложилось, как ей казалось, исключительно здравое мнение о том, чтобы Луиза с Джессикой жили в доме у дедушки с бабушкой в Сент-Джонс-Вуд, но, к ее огорчению, ни Луизу, ни (что удивительнее) Джессику это вовсе не радовало. Джессика придумывала всяческие отговорки, главная из которых состояла в том, что она не желает ответственности, а Луиза заявила, что ей это несносно: она собиралась на пару со своей подругой Стеллой снимать комнату и вольно жить, как ей нравится. Она даже не успела возразить на это, как Эдвард заплатил тридцать шиллингов за съем квартиры и Луиза поселилась в ней. Одним святым угодникам известно, до чего девчонки дойдут, не спя по ночам и питаясь кое-как. А тут еще и этот Майкл Хадли. Его мать, леди Цинния, позвонила однажды и втолковывала ей, что нельзя позволить, чтобы ее сын разбил Луизе сердце, что, добавила леди, постоянно случается с девочками. «Но я-то что тут могу поделать, скажите на милость?» – спрашивала Вилли себя. К Майклу она относилась двойственно: с одной стороны, Луиза была слишком юна, чтобы ее всерьез домогаться, с другой – он был чертовски лучше тех ужасных актеров, с которыми она путалась в Девоне. Только он уж слишком стар для нее, а она в любом случае не вполне доросла до кого угодно – пока. Скорее уж голову вскружит, чем сердце разобьет, с горечью подумала Вилли: дела сердечные были ее тайной (и довольно ужасной) болью, как и многое другое, им в мыслях своих она уделяла очень много времени. Тот случай в Лондоне, что до того ее потряс, что даже сейчас (недели спустя!) она не в силах думать о нем спокойно, а когда пробовала, то, казалось, становилась жертвой какого-то раздвоенного видения того, что ей представлялось прекрасным, и того, что случилось на самом деле.
Разумеется, связано это было с Лоренцо. Он прислал одну из своих редких открыток (вложенную в конверт), приглашая ее на концерт в какой-то церкви в Лондоне, где ему предстояло дирижировать небольшой хоровой пьесой собственного сочинения, которая будет исполняться впервые. Предвкушение обворожило ее. Тогда он – довольно неожиданно – попросил ее позвонить ему домой и сообщить, сможет ли она прийти: обычно о таком и речи быть не могло, поскольку ревность (неуместную, разумеется) бедной Мерседес неизменно воспламеняли самые невинные телефонные звонки ее мужу. Но, оказалось, Мерседес была в больнице, «а значит, я смогу пригласить вас поужинать после концерта», – сказал он. Это означало остаться на ночь в Лондоне. Первой мыслью Вилли было остановиться у Джессики, которая, как ей казалось, с ног сбивалась в родительском доме в Сент-Джонс-Вуд, но когда она позвонила и ответа не последовало, то передумала. Если она остановится там, то Джессика, возможно, тоже захочет пойти на концерт, и все будет испорчено. Хью приютит ее. Она поедет утром, пройдется по магазинам, возможно, позавтракает с Гермионой, а потом поедет к Хью принять ванну и переодеться к концерту. Она договорилась с Рейчел и Зоуи, чтобы те поделили меж собой заботу о всем необходимом для Сибил, достала ключ от дома Хью и несколько дней прожила в возвышенном предвкушении удовольствия. Вечер с Лоренцо, концерт, ужин наедине с ним (до сих пор им удалось лишь один раз чаю выпить вместе, когда он так обворожительно сопровождал ее в поезде полпути до Суссекса), время, наконец, когда они смогут поговорить о всех романтических и прискорбных сторонах своей привязанности, о своих былых и пожизненных обязательствах, о взаимной чистоте. Два вечера она провела, примеряя наряды, выбирая, какой, как она говорила самой себе, будет наиболее подходящим, пришла к выводу, что не годится ничего, и нацелилась на восхитительное посещение магазина Гермионы. В конце концов, у нее ни одной обновки не появилось еще с тех пор, как она Роли носила. Она позвонила Гермионе, которая заявила, что время идеальное, она только что получила для магазина летнюю коллекцию, пообещала накормить обедом. В те дни ожидания четверга она осознала, насколько глубоко окопалась в быте и долге, насколько осаждают ее незначительные, пусть и необходимые мелочи, и как она устала от всего этого. Все три дня она просыпалась утром полной сил и решимости, радуясь каждому дню, что приближал ее встречу с Лоренцо. Разумеется, она сказала Эдварду, что едет в Лондон, и полностью о том, чем будет там занята, он отнесся к этому мило, пожелал ей великолепно провести время и дал двадцать пять фунтов на покупку платья, «которое понравится, но которое покажется тебе не по карману». Ведь и все отнеслись к этому мило. «Должна заметить, что ты прямо вся сияешь», – сказала Лидия, когда Вилли подравнивала кончики длинных волос. – Мне всегда казалось, что взрослые все время проводят весело, но ведь ты не веселишься, да? Тебе ни единой веселиночки не достается. По-моему, такой добрый характер – это недостаток. Мам! Ты знаешь, от той жуткой очень-очень старой губной помады, какой ты пользуешься, когда в театр идешь, такой темно-красной в золотом тюбике, всего четвертушка дюйма[10] осталась?
– Откуда тебе так много известно про мою помаду?
– Просто я случайно ее видела. Однажды. Когда случайно оказалась у твоего туалетного столика. Вот. Я подумала, не дашь ли мне ее как бы взаймы? Ты ею совсем больше не пользуешься, а Луиза сказала, что все равно этот цвет к твоей коже не подходит.
– Тебе-то она зачем понадобилась? – Даже замечание Луизы не могло испортить ей нынешнего настроения.
– Поупражняться. То есть когда-нибудь, совсем скоро в общем-то, я буду пользоваться всяким разным, и когда стану, то уж точно не захочу опозориться. Вот я просто и подумала, что смогу поупражняться, понимаешь, вечерами, когда никто не заметит.
«И что такого?» – подумала она. У детей тоже веселья немного: никаких праздников с фокусниками и печеньями или удовольствий от Лондона.
– Только ты должна делать это вечером, перед тем как помыться, – сказала мать.
– Совершенно преданно обещаю. – Придется мыться чаще, чем хотелось бы, подумала дочь, но оно того стоит.
В конце концов настало наконец-то утро четверга. «Ты заслуживаешь удовольствия, – сказала тогда Сибил, когда она заглянула к ней попрощаться. – Печально, что ты с Хью не пообедаешь, зато позавтракаешь с ним. И сможешь мне правдиво сказать, ухаживает ли за ним как следует миссис Каррутерс».
– И не тревожься ни о чем, – дала совет Рейчел. – Просто наслаждайся.
– И буду! – воскликнула она. Ей было радостно – совсем сама на себя привычную не похожа.
День был великолепный: светило солнце, небо ясное с игривыми белыми облачками, форзиция сияла на задних двориках. Она села в поезд, на котором добирались в Лондон работавшие в нем, в нем было полно народу, все читали утренние газеты. «Принцесса Елизавета записывается на военную службу», – прочла она через чье-то плечо. А в мыслях свое: надо духи купить. Оставшееся в ее старом флакончике L’Origan сделалось темно-коричневым и пахло так, словно в нем всего лишь когда-то были духи. На ней было очень старое набивное платье, купленное у Гермионы еще до войны: почему-то ей всегда казалось, что, отправляясь покупать одежду, она непременно должна надеть что-то, прежде купленное в том же магазине. У нее не было пары приличных чулок, но она взяла с собой старые бежевые шелковые на тот случай, если не сможет приобрести новые. Бежевый цвет под что угодно подходит, думала она с легким сомнением. В годы ее молодости светлые чулки всегда были в тон, и менять что-то, как выяснилось, было трудно. Ее мать постоянно твердила, как чрезвычайно распространены были те изумительные оттенки, бывшие в моде до войны: бледнейший бежевый для молодых и светло-серый для пожилых. Гермиона носила чулки телесного цвета, но она была из тех, кто, какие чулки ни надень, хоть черные, все равно выглядела бы и чарующе и благородно. Она вспомнила (не в первый раз) о том случае, когда Дягилев сказал, похлопывая ее тростью по колену: «Pas mal, ma petite, pas mal»[11]. Это, учитывая, что он считал колени самым уродливым в женской анатомии, и в самом деле походило на похвалу. Только, конечно же, именно о коленях люди все говорили и говорили, а ее определенно не были хороши. Но Лоренцо, кто, казалось, никогда не сводил горящих глаз с ее лица, их не замечал. Их отношения, радостно думала она (тогда), были в буквальном смысле более высокого полета.
Они совершенно милейшим образом провели время с Гермионой, единственное, что сдерживало, это количество купонов на одежду в ее распоряжении, хотя Гермиона и заметила походя, что они смогут использовать возможности купонов несколько шире, что это предусмотрено. «Разумеется, такое мы позволяем только своим любимым покупателям, не так ли, мисс Макдоналд?» – И мисс Макдоналд, которая вряд ли когда испытывала нужду в купонах на одежду, поскольку, похоже, всегда (уже много лет) носила один и тот же сшитый наряд из пиджака в мелкую полоску и юбки, угодливо улыбалась и говорила: «Конечно же, мы так и поступаем, леди Небуорт». Она перемеряла десятки всякого, видимо, около десятка, зато некоторые вещи примеряла по два раза, вот и казалось, что десятки. Гермиона, наверное, догадывалась, насколько изголодалась ее подруга-покупательница по новой одежде, а потому подзадоривала ее примерять вещи, даже зная, что на самом деле они не подойдут. «Я должна быть разумной!» – твердила она себе, поглаживая заманчивейшую синюю блузку из шифона, заканчивавшуюся у шеи свободным бантом.
– Что ж, дорогая, был бы у вас форменный морской костюм, а он вам, сказать правду, необходим, поскольку вы в нем были бы обворожительны, вы могли бы приобрести и эту блузку, которую не снимали бы все лето, а потом где-то у нас (найдите, пожалуйста, мисс Макдоналд!) есть рубашка из акульей кожи, на мужской манер, с запонками, которую вы могли бы носить с этим костюмом осенью. А уж после этого – любой старый кашемир…
Она купила костюм. И платье из крепа какого-то грибного цвета, отделанное скучной оранжевой бархатной лентой, с накладными плечиками и рукавом пелеринкой. Купила она и блузку, и рубашку, и, наконец, летний пиджак или короткое пальто из мягкой ткани серебристого цвета, не отливавшей ни голубым, ни серым. И Гермиона подарила ей пару чулок, похожих на тонкую паутину, из нейлона, пояснила она, ей из Америки прислали. «Американцы поразительно щедры: буквально завалили меня ими», – сказала она. И была в высшей степени любезна, показав, как эти чулки надевать, что стало хорошим подспорьем: они были до того тонки, что Вилли всякий раз казалось, что у нее петля спустится, едва она к ним притронется. «Надо вывернуть низ чулка наизнанку, вот так, и, что бы вы ни делали, садитесь, когда надеваете чулки. Они просто чудо и служат дольше наших. Я никогда не понимала патриотизма голых ног – особенно при нынешних ужасных правилах на длину юбок».
Утро стоило ей сорок четыре фунта (цены на одежду у Гермионы всегда указывались в гинеях), но при этом душою владела некая приподнятость, а вовсе не отчаянность мотовства. «Мисс Макдоналд упакует все для вас, пока мы будем обедать».
Обедали в ресторанчике, который Гермиона называла своим резервом. Ее там, по-видимому, очень хорошо знали, их сразу же бросились обслуживать. «Не тратьте время на меню, – сказала Гермиона. – Без него нас накормят куда вкуснее».
Начали они с чего-то похожего на паштет: «Готовят его, наверное, из полевых мышей или ежей, но на вкус изумительно», – за которым последовала форель на гриле и салат. Гермиона велела завернуть кости форели для магазинной кошки, бездомной животины, которую, как сама уверяла, нашла жалобно плачущей в Гайд-парке. «Вся насквозь в червях и блохах, но такая миленькая. От нее бедняга мисс Макдоналд ужасную сенную лихорадку подцепила, но тут уж ничего не поделаешь». Было известно, что к животным Гермиона относится добрее, нежели к своим служащим, хотя вызывает преданность к себе и у тех, и у других.
– Эдвард поведет вас вечером в какое-нибудь милое местечко? – спросила она, когда перешли к кофе.
– Он в отъезде, в Ливерпуле, кажется, следит за погрузкой дерева. Я приехала на концерт одного приятеля, – добавила она насколько могла беззаботно, но почувствовала, что краснеет.
Гермиона изучающе глянула на нее своими холодными серыми глазами. «Какая прелесть», – выговорила она.
После обеда отправилась купить кое-чего на Бонд-стрит, сказав, что заберет купленную одежду, когда поедет в такси обратно. Купила косметику, лебяжью пуховку для пудры в носовом платке из шифона, палочку твердого одеколона для Сибил (протирать ей лоб). Духов нигде не было, кроме лавандовой воды, единственных духов, которые ее мать позволяла девочкам. «Так я и чувствую себя как девчонка», – подумала она. Странное и восхитительное ощущение: приехать в Лондон, не имея на руках обременительного перечня покупок для всего семейства – детские ботиночки для Уиллса и для Роли, летний жилет для тети Долли, заумную галантерею для Дюши (жуткие средства вроде тех, что для сохранения одежды), тональные кремы для Клэри и Полли, беготня за бритвенными лезвиями для мужчин, которых нынче им всегда не хватает… о, все, на что у нее ушел бы целый день, к концу которого она совсем из сил выбилась бы. Ей не надо наведываться с осмотром в пыльный дом на Лэнсдаун-роуд, не надо терпеть муки за обедом с Луизой, когда разговор состоял бы из ее вопросов и нежелания Луизы отвечать на них. Ей не надо навещать Джессику в Сент-Джонс-Вуд, что неминуемо привело бы к порицанию сестры: Джессика, похоже, управляется с рядом небольших волонтерских работ, которые вольна делать, когда захочет, и не делать, когда не хочет, – кончилось бы это обидой и завистью, чего никому не хочется. Вместо этого она накупила подарков: соломенную шляпу цвета кофе с молоком для Лидии с венком из подсолнухов, переплетенных с лютиками и маками, жакмаровые шарфы для Рейчел и Зоуи, лавандовую воду для Дюши, коробку шоколадок для тети Долли и модельки машинок для Уиллса и Роли.
В такси, забрав одежду у Гермионы и рассекая по Бэйзуотер-роуд, она думала, до чего же приятней сейчас выглядят Кенсингтонские сады, когда в них убрали все оградки с дорожек, и вдруг вспомнила, что ничего не купила для девочек: утром надо будет сделать.
Таксист помог ей занести коробки и пакеты в дом. «Как я понимаю, у кого-то Рождество, – улыбнулся он. – И мы не знаем, что на все это скажет муженек, ведь так? На то они и женщины, ведь так? Мужчины делают – женщины берут. Мне не понять. Благодарю вас, мадам».
Дом Хью был опрятен, довольно чист, вот только воздух в нем был спертым, как в месте, где появляются нечасто. Свободная комната была на верхнем этаже, там же, на полпролета ниже, располагалась и ванная. Пока она мылась и облачалась в морской костюм с блузкой из шифона, решила, что ей нужно, даже необходимо выпить. Близилось время начала концерта, а значит, встречи и последующего общения с Лоренцо, и она чувствовала, как начинает нервничать. Хью не стал бы возражать, если бы она выпила, он даже сожалел, что не сможет вернуться вовремя и выпить с нею перед ее походом на концерт.
Ставни в гостиной были закрыты, а в буфете с напитками стояло несколько бутылок, из которых какое-то время явно никто не наливал, они были по большей части почти пусты, но она отыскала одну с остатками джина и еще липкую бутылку «Ангостуры»[12], приготовила себе розовый джин и с бокалом в руке поднялась обратно по лестнице плеснуть в него воды в ванной.
Вооружившись коктейлем и сигаретой, она принялась за создание макияжа. Перестаралась, стерла все кольдкремом и начала сначала. Вторая попытка оказалась немногим лучше: она поняла, что по-настоящему не рассматривала свое лицо довольно давно (а для нее рассматривать значило критически оценивать). Теперь же ей было видно, что губы стали гораздо тоньше; как она полагала, это произошло, должно быть, после того, как ей пришлось удались практически все зубы. Линии, идущие от крыльев носа ко рту, стали не только более выраженными, но и опустились ниже, что не доставило ей удовольствия. Она улыбнулась, но улыбка казалась искусственной, какою она и была: она не могла найти ничего, чему стоило бы улыбнуться. Глаза и скулы оставались прежними и, разумеется, никуда не подевался слегка раздражающий вдовий мысок, спускавшийся кособоким треугольником на лоб. Волосы стали белее, что было лучше, чем тот цвет устричных раковин, какой лежал на них немало лет, утешало и то, что волосы оставались густыми и естественно вьющимися. Ее лицо из тех, которые, оживляясь, становятся лучше. Она ни сейчас, ни прежде не была классической красавицей, такой как Джессика. Эти скорбные грезы прервал внезапный страх не найти такси в Лэдброк-Гроув и опоздать на концерт.
Но такси нашла и не опоздала.
Публики на концерт явилось много, церковь была почти заполнена, и хор (около шестидесяти человек, уже на месте) расположился полукругом в три ряда вокруг места, отведенного оркестру. Все хористы были в белых сорочках и – соответственно полу – в длинных черных юбках или брюках. Все выглядели усталыми, однако, поскольку почти все хористы были из любителей и уже успели отработать целый день, прежде чем прийти петь, свет, исходивший от высоких бронзовых канделябров, во всяком случае, не льстил никому. Она глянула на тонкий листок с программой, отпечатанной с помощью трафарета фиолетовой краской. «Перселл, Барток, Клаттеруорт», – прочла она, «Страсти святого Антония». Оркестранты (их было немного, камерный оркестр самого малого состава) занимали свои места, а потом появился он в черном фраке и белом галстуке. Легкой россыпью прошлись аплодисменты, и, когда, отвечая на них, он повернулся, ей показалось, что он видит ее, но особой уверенности не было.
– Честное слово, я увидел вас сразу, – убеждал он, – моего доброго ангела, – и он опять сжал ее руку, да так, что стало больно от колец. К тому времени они уже сидели в такси – наконец-то наедине.
– Куда вы меня везете? – спрашивала она, полная восторга при мысли об ужине при свечах в каком-нибудь приличном ресторане.
– А-а! Увидите, увидите, – ответил он, и она снисходительно улыбалась: он, похоже, был возбужден, как мальчишка… или как она сама.
Когда машина остановилась и он расплачивался, она увидела, что оказались они на Керзон-стрит, совсем рядом с магазином Гермионы, у входа на Пастуший рынок. Вот было бы странно, подумалось ей, если бы он повел ее в тот же самый ресторан, где она обедала.
– Дайте мне вашу драгоценную руку. – И он вывел ее через широкую арку на узкую улочку (кругом была сплошная темнота), подвел к какому-то подъезду с незапертой дверью (Лоренцо ключом не пользовался), и они одолели два лестничных пролета узкой и крутой лестницы.
– Куда это вы меня ведете? – спросила она, стараясь, чтобы в голосе ее звучали простое любопытство и забава, однако сама слышала, что в нем не было ни того, ни другого.
– Вот и выпал нам, мой ангел, случай немного побыть наедине, – ответил он, возясь ключом в двери на площадке, куда они забрались. Он щелкнул выключателем, и свет залил маленькую захламленную комнатушку, окна которой были наглухо закрыты ставнями, а на полу теснились стол, два стула и просторный диван-кровать без покрывала. Стол украшали две бутылки из-под кьянти с воткнутыми в них свечками, тарелки и бокалы, рядом со счетчиком горел газовый огонь, а повыше над ним находилась каминная полка, заваленная пыльными открытками. В одном углу она заметила очень маленькую раковину с электрическим водонагревателем, подставка для сушки которой была завалена немытой посудой. Он возился со спичками: зажигал огонь и свечи на столе, – от его суетливых шагов с лохматого ковра вздымались легкие клубочки пыли.
Она в нерешительности встала в двери, где он отпустил ее руку. Чувствовала себя в полном замешательстве, словно бы еще немного, и она окажется и вовсе не в себе, к чему примешивалось и простое разочарование. Ей-то местом для их рандеву тет-а-тет виделся уютный, прелестный, романтический ресторан, а не эта убогая спальня-гостиная с застоявшимся и слегка тошнотворным воздухом, но, с другой стороны, вид у него такой счастливый и восторженный и он так трогательно исполняет почетный долг хозяина: откидывает бумажную салфетку с блюда на столе, на котором небольшой пирог соседствовал с двумя помидорами, потом бросается к подставке для сушки у раковины, где в ведерке стояла бутылка вина, и, когда он раскручивает проволоку на горлышке бутылки, она понимает – шампанское. Вот он приближается к столу, вынимает платок, которым утирал лоб в конце концерта, и оборачивает им бутылку: «Подставляйте бокал, дражайшая, или оно от нас убежит», – и высвобождает пробку, которая выходит с легким хлопком. «Ха-ха!» – вскрикивает он, словно бы пораженный своим достижением. Наполнил оба бокала по самые края и опустился на колено, вручая один из них ей. «Наконец-то!» – произнес он, не сводя с нее взгляда, в котором светилось пылкое обожание, такое волнующее и такое привычное.
– Присаживайтесь, дорогая леди, – взяв за руку, он повел ее к дивану, – здесь удобнее, чем на этих кухонных стульях.
Сам сел рядом. Выговорил хрипловато: «Выпьем за нас». Они выпили. Шампанское было теплым. Он посадил ее в головах дивана, и она заметила, что простыни и наволочки на подушках были заметно серыми. В голове ее мелькнула мысль, что, по-видимому, он не смог позволить себе вывезти ее на ужин и это было наилучшее, что он в состоянии предложить, и она сказала, как великолепно шампанским отпраздновать его первое исполнение нынешним вечером. «Наше первое исполнение», – сказал он и подлил в бокал. Она не совсем вникла в смысл сказанного (явилась одурманивающая мысль: уж не собирается ли он ей посвятить «Страсти»?), а потому улыбнулась в ответ и согласилась на его предложение снять костюмный китель: в комнате и в самом деле стало весьма тепло. Жил ли он здесь, пока жена лежала в больнице, и, кстати, как ее здоровье?
Нет-нет, здесь он не жил, просто одолжил на вечер комнатку у одного очень доброго приятеля, который сейчас в отъезде. Милосердие как-то повлияло на пазухи жены, прибавил он, ничего серьезного, но они заставили ее помучиться.
– Только сегодня вечером мы можем оставить позади все заботы. Мы свободны, как воздух. О, любимая моя, если б ты только знала, как жаждал я этой ночи! Позволь мне ласкать тебя! – И, выхватив у нее бокал, поставил его на пол, затем обхватил ее голову в ладони и принялся осыпать лицо поцелуями. Начал на романтический лад со лба, перешел на глаза, но, когда он добрался до ее губ, ее стал пробирать нервный страх, как бы его не занесло чересчур далеко.
– Мы должны быть… – удалось выговорить ей, но он запечатал ей рот поразительно крепкими губами и в то же время опрокидывая ее так, что она оказалась полулежащей на кровати. «Поужинать мы сможем после», – изрек он.
Тогда-то, наконец и определенно, она и осознала, чего он добивался – и для чего притащил ее в эту жуткую каморку. Потому как вдруг не только сама комната, но и все вообще показалось жутким. Последовала самая неприличная борьба, пока она отбилась от него, села прямо и напомнила обо всех обязанностях, какие оба несли перед другими людьми, и что они оба давали слово сносить их, ничем не нарушая. Удивительно, но поначалу он отнесся к этому так, словно дело было в ее стыдливости – жеманности даже (ей такое предположение ничуть не польстило). Но когда она заявила, что всегда считала, их любовь должна быть платонической, он в ответ признался: попросту возможности не было для чего-то получше. Дело было вовсе не в намерении отбить ее у мужа: он лучше других понимал неосуществимость такого, – но так, немножко в стожку поваляться, сделать то, о чем никто никогда не узнает, в этом уж точно никакого вреда нет? «Я люблю тебя до безумия», – прибавил он.
«Я люблю Эдварда», – был ее ответ. Эта пара полуистин не убедила ни ее, ни его. Он стал обижаться, а она… она почувствовала, как все рушится, опускается от чистой, романтической привязанности до простой похоти. Это было омерзительно: смотреть теперь на него, маленького потного дующегося человечка, – и как это только могла она наделить его стольким благородством и очарованием? Ее охватило нечто вроде смятенного отчаяния, когда она поняла, что большей частью их отношений упивалась в его отсутствие. Он не был – и никогда не мог быть – предметом ее мечтаний. Было одно-единственное желание: уйти, выбраться из этого места.
Сделать это было не так-то легко. Он перемежал предложения поесть и еще выпить с окольными обвинениями: ничто в ее поведении не наводило его на мысль, будто он ей не по нраву, – и, что еще хуже, перепевами все той же беспечной похотливой мелодии. Это и ранило, и привело ее в ярость: мысль когда-либо оказаться объектом чьей-то мимолетной прихоти была до того обидно противна ее натуре, что ей вдруг стало легко подняться, заявить о своем уходе и не позволить ему проводить ее до такси. Понадобилось время, чтобы отыскать выход с Пастушьего рынка, который, даром что погружен во тьму, был напичкан подвальными клубами, шлюхами, расставленными на равном расстоянии, как фонарные столбы, отголосками отдаленных песнопений с такими захлебывающимися крещендо, какие обращают пение в пьяный ор. Было очень холодно, улочки сплошь обросли углами – минуя один из них, она едва не столкнулась с парой американских военных, остановившихся прикурить сигареты, в свете зажигалок она и разглядела, кто они такие.
– Простите меня, леди, – произнес один из них. – Не хотите ли выпить?
– Нет, благодарю, – ответила она, а потом что-то заставило ее продолжить: – Я ищу такси.
И тут же американец предложил приятелю:
– Брэд! Давай поймаем леди такси.
И поймали. Проводили ее до Грин-парк, подождали, пока показалось свободное такси, остановили машину и усадили ее.
– Огромное вам спасибо, – произнесла она, ей плакать хотелось от такой нежданной доброты.
– Счастливо прокатиться. – Они стояли и – она видела – смотрели ей вслед.
Сидя в машине, она молилась, чтобы Хью уже лег спать или, поскольку было рано, еще не пришел домой. Увы, разумеется, он был дома, горя от нетерпения предложить ей выпить и расспросить про то, как у нее вечер прошел, потолковать, что дальше делать с учебой Полли. И только в полночь смогла она, сославшись на усталость, добраться до постели, где надеялась после выпитого виски милостиво забыться сном. Забыться-то забылась, да ненадолго: проснулась, проспав, как выяснилось, всего два часа. Виски после шампанского на пустой желудок дало о себе знать: мучила бешеная жажда, голова раскалывалась, а когда она зажгла свет, шатаясь спустилась по лестнице в ванную, то ее одолели волны тошноты, стало больно от безудержной рвоты. Тошноту сменило унижение, и она сидела, дрожа, в постели, потягивая воду, и гадливо вспоминала каждую мелочь того омерзительного вечера. Разумеется, она винила себя, наивность и доверчивость, но больше винила его: за то, что флиртовал с ней, называя это любовью, за то, что вел себя как жалкий мелкий притворщик, как она выразилась. «В стожку поваляться… немного позабавиться по-тихому… невинная забава» – как будто любовные утехи с нею не имели бы никаких последствий ни для нее, ни для него! Вилли думала, что Лоренцо так хорошо понимает и ценит ее, но на деле он питал к ней ничуть не больше уважения, чем, ясное дело, к любой женщине, какую считал доступной. Она плакала – с трудом поначалу, постольку испытывала гнев и унижение. Не счесть месяцев, которые она прожила в мире грез, населенном этой ее тайной жизнью, которой она могла наслаждаться, поскольку ее совершенство не подлежало сомнению. Таившаяся в душе убежденность, от которой она всегда страдала, что жизнь ее некий вид трагедии, поскольку отсутствует необходимейший элемент, возвращалась к ней сейчас со всей своей жутко знакомой силой. Испытывать взаимную любовь и вынужденно отказаться от нее – это одно, обнаружить, что ужасающее несходство их чувств друг к другу вовсе исключает то, что ей виделось любовью, – это другое. Теперь было ясно, что им двигала одна лишь похоть, чувство, которое она почитала слабостью многих мужчин, но которое для нее никогда вовсе ничего не значило.
В голове постоянно крутилась мысль, как мог он ожидать, что она снимет одежду и уляжется в постель с ее убогими, невесть кем пользованными простынями, наполняя ее чем-то вроде яростного стыда. Почему не поняла она, переступив порог той жуткой каморки, на что он вознамерился? Правда, разумеется, он соглашался с нею в том, что их чувства друг к другу никогда «ни к чему не приведут», однако на задворках разума таился постыдный факт, что об этом было сказано лишь единожды, в тот день, когда они вместе пили чай на вокзале Чаринг-Кросс и он сопровождал ее в поезде на части пути домой, все же остальные упоминания этого имели место в ее воображаемых беседах с ним. Вот это-то и было вынести труднее всего, ведь от этого она чувствовала себя такой дурой…
По крайней мере, думала она, пока поезд, грохоча, медленно выбирался из Чаринг-Кросс и перебирался через реку, никому незачем об этом знать: вряд ли рассказом об этом случае он станет с кем-то делиться.
– Я вам спать допоздна не давал, – сказал Хью за завтраком (чай, тост, который у него скорее подгорел, чем поджарился, и ярко-желтый маргарин, который миссис Криппс дома использовался только для выпечки). – Боюсь, джем кончился.
На вокзале он, сунув коробку для платьев под мышку, понес ее чемодан в здоровой руке. «Передайте Сибил, что я приеду завтра вечером, – сказал он, когда поезд уже начал движение. Потом улыбнулся очень милой, довольно грустной улыбкой и добавил: – И благослови вас Господь за все, что вы делаете, ухаживая за ней».
Признательность вызвала слезы у нее на глазах. «По крайней мере, какая-то польза от меня есть», – подумала она, поддаваясь контрасту между чувствами, что владели ею вчера, когда она ехала по этому самому мосту, и теми, что переполняли ее сейчас.
Лидия приехала с Тонбриджем на станцию встречать ее.
– Я хотела самой первой увидеть тебя, – сказала она. – Боже, мамочка! Какой у тебя вид усталый! Ты приятно провела время?
– Да, спасибо тебе.
– Ну, если меня спросить, так удовольствие, похоже, с тобой не в согласии. До отъезда ты выглядела куда лучше.
– Не говори глупостей, милая. Просто я плохо спала ночью.
– Все равно я ужасно рада, что ты вернулась.
Слова дочери тронули. Вот и еще один человек, кому она нужна.
– Еще минута, и ты станешь говорить, что без меня в доме все не такое, – сказала она.
Лидия, однако, мгновенно ответила:
– В доме такое. Я не такая.
Лето 1942 года
– А вы не считаете, Арчи, что политики в особенности говорят очень большие глупости? Я имею в виду, никому же и на миг в голову не придет обучать людей играть в блошки, уж точно не миллионы взрослых американцев. У меня вообще сомнения насчет публичных выступлений. Как-то похожи они на выкрики чего-то скучного крайне глухим людям, разве не так?
Вечер был сугубо взрослым, и ей не хотелось, чтобы он думал, будто она не ведает толка в беседах, – особенно когда Полли вовсе не помогает: просто улыбается, выбирает, что ей съесть, и поедает. А выглядит ужасно красиво в бледно-желтом платье с кружевным воротником и маленьким черным галстуком из тафты с бахромой.
– Но, кроме того, Гарри Гопкинс[13] очень несерьезное имя для политика, разве не так? Звучит, будто он персонаж из водевиля «Последние радости Риджуэя».
– В самом деле, похоже. Но ведь было забавно, разве нет?
– О да! Забавно. Это на самом деле было похоже на викторианский мюзик-холл?
– Как сказать, даже я не настолько еще стар, чтобы бывать в нем, но – да, по-моему, это, видимо, верное подражание. Вам кто больше всего понравился, Полл?
Та задумалась, и клубничина соскользнула с ее ложки. «Но ведь не на колени же, как было бы со мной, – подумала Клэри, – а прямо опять ей на тарелку».
– Я до того падка на удовольствия, что не могу быть медсестрой, – сказала Полли. – По-моему, Нуна Дэйви была чудесна, и песня была по-настоящему забавна.
– У нас как-то была жуткая кузина, желавшая быть сестрой милосердия, – сообщила ему Клэри. Она закапала клубничным мороженым (подавалось вместе с клубникой) платье спереди, как раз, конечно же, над салфеткой, а перед тем, за закусками, кусочек бисмаркской селедки соскочил у нее с вилки и шлепнулся на другой кусочек гладкого синего вельвета, который ей посоветовала носить Полли («Одноцветное тебе больше всего к лицу», – сказала она), и вот теперь он самым несчастным образом стал неодноцветным. Оказалось, что ей очень трудно думать, говорить и есть одновременно, и, если дома все это можно было выстраивать в уютный черед, то на выходном ужине в шикарном ресторане ей мнилось, что от каждого ждут умения делать все эти три дела разом. «Однако мне просто недостает практики», – подумала она.
– По-моему, Леонард Сачс тоже замечательно играл. Все время знал, что сказать зрителям в ответ, такой забавный. Я бы каждый вечер ходила.
– Но, поскольку она была сестрой милосердия, то, как положено, влюбилась в жутко израненного больного, и, конечно же, если она выйдет за него, то про милосердную работу придется забыть. – Она бросила на Полли свирепый взгляд за то, что та тему разговора сменила. Полли извинительно улыбнулась, пригладила волосы. Они обе сделали себе завивку-перманент (в первый раз), когда Арчи пригласил их в Лондон. У Полли получилось ужасно удачно, думала Клэри: сделала стрижку в густой пучок под пажа с мелкими завитками вокруг лба, – зато ее волосы пошли жуткими завитушками, как у дешевой куклы, и она их ненавидела. Забавно: никогда прежде она ни на что такое внимания не обращала. Она подняла взгляд от тарелки и заметила, что Арчи изучающе разглядывает ее.
– Полагаю, вы заметили, что я тему сменила, – сказала она. – Непохоже, чтоб вас ужасно увлекала американская политика.
– Давайте не будем говорить о войне, – предложила Полли. – Все время о ней говорят, говорят, а лучше от этого не становится. Одна из причин, почему нам хотелось повидаться с вами без детей, в том, что нам нужно с вами серьезно поговорить.
С этим она согласилась: «А с ними это было бы невозможно».
– Конечно же, Саймон не совсем ребенок, но он уехал в школу. Во всяком случае, у него другие интересы. Зато Невилл и Лидия… – Полли предоставила его воображению судить о безнадежной незрелости малышей.
– Мы бы попросту в очередной раз устроили детскую выездку, на какие берем их с собой, – закончила Клэри. – Для нас это совершенно не забава, могу вас уверить.
– Хорошо, – сказал Арчи. – Позвольте, я закажу кофе, и потом нас не будут перебивать. Кто-нибудь хочет «Гранд Марнье»?[14]
– Да, пожалуйста! – воскликнули обе, а после Клэри добавила:
– Вот видите, наглядный пример. Если бы это предложили при них, они бы жуткий гвалт подняли, говоря, что так нечестно, почему им того же нельзя, когда, конечно же, они куда как слишком юны.
– Куда как слишком, – согласно кивнула Полли.
Когда кофе и ликеры были на столе, Арчи предложил им обеим по сигарете, от чего они обе отказались: Полли потому, что пообещала отцу не курить до двадцати одного года, а Клэри потому, что она разок уже попробовала и больше ей незачем было пробовать никогда. Полли сказала:
– Ты объясняй, Клэри, у тебя это куда лучше моего получится.
Вот она и поведала ему, что они становятся слишком перезрелыми, чтобы просто и дальше делать уроки с мисс Миллимент, что, хотя с этим в общем согласны все, зато нет абсолютно никакого согласия по поводу альтернативы.
– Дюши считает, что мы вполне можем оставаться дома, помогать с детьми и брать уроки французского у той жуткой личности, кто живет совсем близко, у кого изо рта дурно пахнет и кто смеется абсолютно надо всем, а тетя Вилли и тетя Рейчел считают, что мы должны пойти куда-нибудь, как Луиза, учиться готовить и вести дом, тогда как ни одной из нас ничто такое не интересно, а отец Полли считает, что мы должны обучиться стенографии и машинописи, чтобы смогли приносить пользу, когда нас призовут в армию, а мисс Миллимент считает, что мы должны до ужаса упорно потрудиться и попытаться поступить в университет – во всяком случае, это то, чего ей самой хотелось бы сделать, не то что, как другие, просто заставляющие нас делать то, что им приходится делать, а тетя Долли считает, что нам следует выйти замуж за какого-нибудь хорошего человека… – Клэри принялась хихикать. – Я вас спрашиваю! Конечно же, ее мнения спросили из одной только вежливости… – Клэри исчерпала запас людей и мнений, – и вот что все они считают, – закончила она.
– А вы обе что хотите делать?
Она взглянула на Полли, которая тут же выпалила: «Ты первая, Клэри».
Не в первый раз за вечер она пожалела, что не была с Арчи одна, потому как не была уверена, что они с Полли хотят одного и того же. Тем не менее она постаралась вовсю:
– Я того хочу, чтоб набраться громадного множества опыта жизни. Дома я просто стремительно упускаю его, понимаете. То есть что-то новое я почти всегда узнаю из книг, это интересно, но не то же самое, потому как, если бы такое произошло со мной, не знаю, согласилась ли бы я с тем, как оно было. Полли говорит, что не знает, зачем она тут, и я прихожу к тому, чтобы согласиться с ней. Про себя то есть. Мы не похожи на Луизу, понимаете. Она всегда хотела стать актрисой.
– Ты могла бы стать писателем, – напомнила ей Полли. – Когда-то ты говорила, что хочешь именно этого. Я пишу, конечно, но и Луиза тоже это делает. Она все время пишет пьесы, только для нее это не главное.
– Ну, теперь я не настолько уверена. У меня такое тягостное чувство, что люди уже все написали. Вот и чую, что я во всем этом дико запуталась. Только не знать не означает, что я строевым шагом поскачу заниматься тем, что, по-ихнему, было бы мне полезно. Они-то, советуя, тот смысл вкладывают, что это было бы надежно, буднично и на самом деле не навлекло бы зла. Меня надежность не очень-то интересует.
– Есть одно, о чем мы думали, – заговорила Полли. – Хорошо бы нам с Клэри иметь домик в Лондоне, где мы могли бы жить сами по себе.
– И на что бы вы жили? – поинтересовался Арчи.
– Ой, легко! Теперь у нас у обеих есть содержание. По сорок два фунта в год у каждой. Если не покупать одежду и всякое, то мы могли бы легко платить за еду, электричество и всякое такое. А если бы этого не хватало, – прибавила Клэри, видя выражение лица Арчи, – мы могли бы в магазине работать.
– Или, помнишь, ты говорила, – напомнила Полли, – что кондукторы в автобусах получают по два фунта и десять шиллингов в неделю, и, пока война будет идти, как сейчас, на эту работу, наверное, станут брать женщин.
– И еще Полли говорит, что хочет на вечеринки ходить, потому как нечасто-то нам удается с тех пор, как мы были детьми.
– Ну, ты тоже на них ходить хотела.
– Только затем, чтобы узнавать людей с большим разнообразием в образе жизни.
Впоследствии она подумала, что Арчи был очень хорошим слушателем. Он никогда не перебивал, ни от чего пренебрежительно не отмахивался. Он дал им высказать все свои «за» насчет каждой высказанной идеи, заметив: «Вы мне поведали только о «за», возможно, потому, что никаких «против» вы не уловили».
Итак, через все это они прошли. Согласились, что дома оставаться не хотят, но учить французский было бы благом, где бы они ни находились. Согласились, что, возможно, было бы полезно научиться готовить, только это не просто готовка, а еще и научиться выбирать прислугу и гладить жутко сложную одежду, какой у них никогда не будет. «Во всяком случае, Полли и впрямь понадобится прислуга в доме, когда он у нее появится, а я, может, легко стану социалисткой, потому как те больше следят за тем, чтобы быть справедливыми к людям, и мы всегда можем есть из мисок или делать сэндвичи, которые обе обожаем». Ни одна из них не видела особенного «за» в школе домоводства. Когда пришел черед стенографии и машинописи, позиции их оказались слабее. Арчи обратил внимание, что, когда их призовут, наличие какого-либо подобного умения почти наверняка обеспечит им лучшую возможность для интересной работы. «Хотя, – сказала она тогда, – не думаю, что женщинам позволяют заниматься чем-то по-настоящему интересным. Им позволено быть убитыми на войне, но никак не самим убивать в ответ. Вот вам еще одна несправедливость».
– Вы превосходно знаете, Клэри, что питали бы полнейшее отвращение к убийству кого бы то ни было.
– Не в том суть. Суть в том, что, будь у женщин равная ответственность во всем, что касается войн, так их у нас и не было бы. Такова моя точка зрения.
– Она наполовину хочет быть пацифисткой, как Кристофер, и в чем-то я с этим согласна, – сказала Полли. – Только она еще хочет уметь летать на аэропланах и командовать подводной лодкой, что, вы должны признать, Арчи, не очень логично.
– Все равно, я, по-моему, понимаю, что она имеет в виду, – ответил Арчи.
Клэри зарделась: самый понимающий человек, какого она когда-либо встречала. И сказала:
– Желания могут быть непредвиденными. – Она попыталась неприметно облизнуть губы, но увидела, что оба собеседника следили за ней. – Разве не чудно, как «Гранд Марнье» оказывается снаружи бокала? Удивительно, что внутри еще хоть что-то осталось».
Арчи сказал, что, оставляя в стороне их пожелания, какой должна быть жизнь, им придется осознать, что она такое, и, по-видимому, учитывая статус-кво, они могли бы счесть курс на секретарство полезным. Идея университета была отклонена.
– Мы даже на школьный аттестат не сдали, – сказала Клэри, – и у меня такое ощущение, что многие годы мы учились всему не тому, чтобы одолеть это.
– Да просто эта несчастная мисс Миллимент хотела от нас того, чего ей самой хотелось, – сказала Полли. – Она куда башковитей нас. Учила нас всякому, – добавила она, – большая часть чего не годилась для сдачи экзаменов.
– А куда мы сейчас идем? – спросила Клэри, когда они, выйдя из ресторана, пошагали по темной узкой улице.
– Домой, я полагал. У вас есть какие-то другие идеи?
– Я немножко… всего чуточку… надеялась, может, мы сходим в ночной клуб.
– Боюсь, сегодня не сходим. Видите ли, я не состою в таком. Но если вам уж очень хочется, то я вступлю в какой-нибудь и попозже свожу вас.
– Я вовсе не рвусь туда. Только вот Луиза все говорит и говорит про это, была там всего один раз после «Последних радостей». В любом случае, полагаю, нельзя приводить в клуб двух женщин.
– Почему? Я бы счел, что так было бы вдвое забавнее.
– Это было бы неловко для той, с кем вы не танцевали бы, – заметила Полли. – Ее могли бы похитить.
– И это была бы я, – тут же сказала Клэри. – Я танцор никудышный. Если честно, смысла в этом не вижу.
«Мы не пошли в ночной клуб, – написала она в своем дневнике. – И к лучшему, если честно, ведь о них идет слава как о местах крайне скучных – там лишь тем очень хорошо, кому нужно крепко напиться и влюбиться».
Некоторое время она смотрела на написанное, соображая, чем каждое из этого явилось бы на деле. Ей казалось, что чем-то из этого или тем и другим сразу можно бы заниматься где угодно, для этого незачем ходить в ночной клуб, значит, должно быть в этих НК еще что-то, о чем не говорилось. Ой, ладно. Видно, все это, и клуб тоже, составляет настоящий общий тайный сговор, постичь который, похоже, не в силах ни она, ни Полли, а может, и не постигнут до тех пор, пока не обретут этот самый таинственный опыт, о каком никогда не говорят, разве что друг с другом. Не может ли это быть попросту связано (как они однажды подумали) с возрастом: им обеим по семнадцать лет, и если это не взрослость, то, скажите на милость, что?
Квартира Арчи [писала она] очень мила. Мы провели в ней ночь. Он радушно уступил нам с Полли свою кровать, а сам спал в общей комнате на кушетке, которая была ему не по росту (бедный Арчи!), и за завтраком он сказал, что у него шея, как вешалка для пальто. Я поняла, что нам с Полли следовало бы проводить вечера с ним раздельно, тогда одна из нас могла бы устроиться на кушетке, а он мог бы оставаться в своей постели. Но, пусть квартира и весьма мала, все ж это квартира с мебелью, и ему как-то удалось сделать ее милой, такой же, как и он сам. Он показал нам шкаф в коридорчике прихожей, забитый предметами мебели, которые он не переносит. Там такая ужасная стойка для лампы с кораблями при всех парусах, все корабли цвета потемневшего пергамента и кофейных зерен, еще полная коробка китайских кроликов, все бледно-голубые и один другого больше, но в остальном одинаковые, еще ковер весь в том, что Арчи зовет зигзагами пост-Пикассо, крашенными в цвета фруктовых соков, – такого рода вещи. Но Арчи покрыл красными суконными скатертями наихудшие из столов и купил поразительную картину художника по имени Мэтью Смит[15]: поразительны красные и темно-синие краски изображения довольно упитанного спящего человека во сне, – которую повесил над камином, а еще он собственноручно покрасил стены в белый цвет, отчего все смотрится гораздо светлее. В ванной комнате ванна оранжево-желтая с черным, очевидно, когда-то это было модно. По его словам, единственное, что остается, это смеяться над этим, только у него мыло с запахом розовой герани и вода куда горячее, чем у нас дома. На завтрак у нас были тосты с консервированным мясом и чай. Потом Арчи должен был идти на свою работу в Адмиралтейство. Так что мы с Полли вымыли посуду после завтрака, привели все в порядок, а потом пошли по магазинам, по улицам пройтись, пока не пришло время обеда с дядей Хью в его клубе. Опять клубы. Дядин клуб зовется «Въезд-Выезд», потому как перед его главным входом имеются двое ворот для въезда и выезда машин. Хотя прямо сейчас налетов на Лондон нет, город кажется очень пыльным и тягостным. Мы решили отправиться на Пикадилли-серкус и взглянуть, нет ли в «Галери Лафайет» чего-нибудь хорошенького, что нам по карману, Полли купила там свое лимонное платье за пять шиллингов, так что место подходящее. По пути туда мы вроде бы говорили об Арчи, но все как-то очень поверхностно. Например, я сказала, что не пойму, как он что-то в магазинах покупает, если флотским офицерам не разрешается носить пакеты, а Полли сказала, что они, должно быть, переодеваются в гражданскую одежду или поручают своим подружкам делать для них покупки. Я сказала, что, по-моему, у Арчи подружки нет, а Полли сказала, откуда мне знать, это не он мне сказал? Вообще-то он эту тему не затрагивал, но, конечно же, если бы она у него была, то были бы какие-то признаки. Полли мигом спросила, какого рода признаки, а я никаких не смогла придумать, кроме баночек с кремами в ванной. Во всяком случае, сказала я, люди всегда говорят о тех, в кого влюблены, – только взгляни на Луизу, которая без умолку трещит о своем занудном Майкле Хадли, и, насколько нам известно, Арчи, видно, слишком стар для любовных связей. «И вовсе он не слишком стар! – вскинулась Полли. – На самом деле он вообще-то слишком молод для своего возраста».
Только, похоже, все утро Арчи не выходил у нас обеих из ума, потому как мы то и дело заговаривали о нем, или скорее, по-моему, чаще всего это Полли делала: ее все время такое интересовало, вроде как, мол, он каждый вечер ужин готовит, если у него готовить некому, да что он по выходным делает, когда к нам домой не приезжает, все гадала, чем он занимается, когда в Адмиралтейство уходит. Обо всем об этом могла бы и у него самого спросить, заметила я. Она не ответила.
С покупками ничего не получилось. В «Галери Лафайет» не было ничего, чего бы нам хотелось, в магазине под названием «Хапперт» в конце Риджентс-стрит увидели очень красивую розовую шелковую блузку, Полли она очень понравилась, но стоила шесть фунтов, «астрономическая сумма за то, что одевает всего лишь половину тебя», как грустно выразилась она. Я предложила ей одолжить половину денег, но она сказала, уж лучше нет, лучше сберечь деньги на время, когда мы будем жить в Лондоне. Мы решили пройтись пешком до клуба дяди Хью, что был напротив Грин-парк. Интересная вышла прогулка мимо разбомбленной церкви, очень важно выглядевшего книжного, а потом магазина «Фортум энд Мэйсон». Из-под обломков церкви и из земли пробивались крестовник и вербейник. До обеда было еще далеко, вот Полли и предложила: почему бы нам не посидеть в парке напротив, где мы могли бы обсудить, как подступиться за обедом к ее отцу с тем, чтоб мы жили в Лондоне. Но я сказала, что хочу зайти в «Ритц», потому как это самый шикарный отель и я никогда внутри не была. «Я просто в туалет схожу, – сказала я, – а если им не понравится, что я только затем и пожаловала, то могла бы и джину с лаймом выпить».
Полл просто в ужас от такого пришла и рассердилась. «Глупо, – сказала она. – Люди не заходят так просто в отели…»
– Как же, заходят! Затем отели и нужны!
– Если только не собираются остановиться в них. Прошу тебя, не ходи. Умоляю не делать этого.
Так что я не пошла. Вместо этого мы сели в парке, чуточку поразговаривали, а потом заговорили про то, как заиметь себе свой дом. Я сказала, что, мне представлялось, было бы здорово, если бы Полли заявила о желании учиться в художественной школе, ведь само слово «школа», похоже, благотворно действует на нервных взрослых. Полли сказала, что самым трудным препятствием станет желание дяди Хью, чтоб мы жили в его доме с ним и дядей Эдвардом.
Ой, ладно. Обед наш был изысканным: салат из крабов и вино под названием «Либфраумилк», немецкое, так что, конечно же, написать правильно я его не могу. Дядя Хью называл его рейнвейном, что бы то ни значило. Был он очень мил и обращался к нам совершенно по-взрослому, пока не дошло до разговора о том, чтобы у нас был дом, когда он стал увиливать да обещать, мол, посмотрим-посмотрим, что, судя по обширному для нас обеих опыту его поведения, обычно означает «нет». Он сказал-таки, как было бы для него чудесно, если бы мы жили в его доме, и я видела, как слабела Полли, а оттого слабела и я, потому как, в конце концов, он ее отец, а если бы папа сделал мне такое же предложение, я бы, конечно же, жила с ним.
Конечно же, не стала бы. Только тут не то же самое, потому как была бы еще и Зоуи. Наверное, она оставалась бы за городом с Джулей, и тогда могло бы быть так: только папа и я. И тогда Арчи мог бы приезжать и жить с нами…
Только для меня жизнь (вместе с Полли) в доме дяди Хью ни на что такое не была бы похожа и уж наверняка стеснила бы нашу свободу, о чем я и сообщила Полли на обратном пути в поезде. А она в ответ, мол, нам остается только ждать (совершенно средневековая отговорка: ягненок, блеющий бараном, – сказала я ей, и ей пришлось согласиться). Но она сказала, что мы могли бы других подбить, хотя я не слишком-то надеюсь, что это привело бы к желаемому результату: тетя Вилли последнее время довольно раздражительна, а тетя Рейч, похоже, никогда не считала, что чем-то надо заниматься просто ради забавы, Зоуи же ни на кого не имеет влияния, за исключением Джули и того бедняги военного летчика, который влюблен в нее, – если вам угодно знать мое мнение. А еще Дюши: она не может не быть старомодной, раз уж так стара, – считает, что нам незачем ехать куда бы то ни было или чем бы то ни было заниматься.
Я не намереваюсь иметь детей, но, коль так случится, что вознамерюсь, то вот несколько правил, которые я установлю. Никаких Ср. Век. О, вроде «посмотрим», «это зависит» или «все в свое время». И никаких тем, каких нельзя касаться в разговоре, и я буду вдохновлять их на приключения.
Она прочла написанное, решая, правильно ли оставлять это в дневнике, который она писала для папы. Большую часть можно. Она удалила некоторые места про нее, Полли и Арчи и то место о жизни вместе с отцом в его доме, но и с Зоуи тоже. Вместо этого добавила кое-что о членах семейства, с тем чтобы он как можно больше знал, что происходило с ними.
Эллен [писала она] заметно стареет. Полагаю, от ревматизма люди выглядят старше, чем им по годам надлежит, да я и не знаю, сколько Эллен лет, потому как она говорит, что это вовсе не мое дело, но она очень дряхлая, все желтоватые прядки исчезли из ее волос, что сейчас лежат у нее на голове белым туманом. Еще у нее есть очки, за которыми тетя Вилли возила ее в Гастингс, но она не любит носить их, надевает только за шитьем. Она все еще много времени ходит за Уиллсом, Роли и Джулей, но Айлин помогает ей с глажкой, потому как ее, как она выражается, уже ноги не держат. Когда у нее выходной, она старается держать ноги вверх – не очень-то занимательное занятие для выходного. Должно быть, страшно становиться по-настоящему старой: невероятно подумать, что мы все время делаем это, сами того не замечая. Вот интересно, насколько я изменилась за два года, с тех пор как ты видел меня в последний раз, папа. То есть помимо того, что стала ростом выше (я самое малое на полдюйма выше Зоуи) – сама я в себе особых перемен не чувствую. На прошлой неделе, правда, я сделала перманент, потому как Полли завила свои волосы и считала, что завивка и мои сделает поинтереснее. Не получилось, совсем. Вместо того чтобы лежать себе прямо, как были, на редкость скучного темно-каштанового цвета, они пошли какими-то жуткими проволочными волнами, обращавшимися под конец в выморочные спиральки вроде штопора, и всякий раз, как я их мою, приходится накручиваться на эти ужасные бигуди, сделанные из чего-то похожего на свинец, утягиваться в коричневый чулок, отчего голове больно, как ни пристраивай ее на подушке. Вот я и пошла к той даме в парикмахерской в Бэттл остричь все это. Ей пришлось коротко стричь почти всю голову, так что теперь я смахиваю на чучело с торчащими повсюду волосами. Похоже, не гожусь я в настоящие леди. Вот, возьми, косметика. Полли, которая расчудесно хороша, теперь выглядит ужасающе пленительно, если воспользуется тенями, тушью для ресниц, губной помадой и прочим. Я же выгляжу по-идиотски. Тушь лезет прямо в глаза, они слезятся – и она течет у меня по лицу, от теней у меня веки морщатся, а помада на губах и секунды не держится. Полли учит: открывай рот и отправляй в него еду, как конверт в почтовый ящик, – только я забываю. А от пудры мой нос, похоже, блестит еще больше, так и сияет. По-моему, мне просто надо будет, как тете Рейч, обходиться без косметики. Так что, пап, несмотря на твое придурочное замечание, когда ты меня красавицей назвал (в тот день, когда мы набирали воду из ключа), боюсь, она из меня не получается.
Я не Полли. Только собиралась написать, что она, похоже, свыклась со смертью своей матери, но, похоже, фраза эта для меня лишена смысла. Не думаю, что люди способны когда бы то ни было свыкнуться с чем-то в такой мере ужасным: просто понемногу это перестает быть единственным или главным, что у них на уме, зато когда они вспоминают про это, то чувства те же самые. Конечно же, сводится это к тому, что я не знаю, что она чувствует, потому как я – не она. Только это и делает людей такими интересными, ты не думаешь, пап? Большую часть времени человек даже не подозревает, что чувствуют другие люди, а порой ему слегка-слегка представляется что-то, и, полагаю, время от времени он в самом деле узнает. Мисс Миллимент, с кем мы обсуждали это, говорит, что мораль, или принципы того или иного рода, это то, чему полагалось бы держать всех нас вместе, только ведь не держат же, ведь так? В прошлом месяце произошел чудовищный воздушный налет на германский город под названием Кельн (теперь мы бомбим немцев все время, но то был особенно большой налет, с 1000 бомбардировщиков, и люди отнеслись к нему с кровожадным удовольствием). Только убивать людей – это либо зло, либо нет. Не понимаю, как можно начать вводить исключения из такого рода правила, с тем же успехом можно заявить, что это не зло, в конце концов. Я на самом деле в этом жутко путаюсь. Правда, я говорю с Арчи о таком, когда одна с ним, только, конечно же, когда мы ездили в Лондон и останавливались у него, я о таком совсем не говорила. Полли терпеть не может разговоров о войне, расстраивается и постоянно уводит в сторону – перечисляет, скажем, всех людей, кого мы знаем, кто убивать людей не стал бы. Когда Арчи во время пасхального отпуска приехал на выходные к нам, произошел налет на портовый городок во Франции под названием Сен-Назер[16] (неподалеку от того места, где ты, пап, был, когда писал мне привет), и я чувствовала, что Арчи был чем-то опечален, и под конец он мне рассказал. Эсминец этот протаранил шлюзовые ворота, а потому, конечно же, не мог уйти от немцев, тогда его команда минировала корабль, чтоб он взорвался в определенное время, и пригласила в гости много немецких офицеров, пока их не взяли в плен (англичан, я хотела сказать, силы небесные! – когда пишешь, иногда так коварно выходит), и вот, конечно же, десятки немецких офицеров взлетели на воздух вместе с англичанами. Арчи знал одного из них. Едва ли кто уцелел. Только представь: все они разливают джин, веселятся и считают минуты, когда – они знают – произойдет взрыв. Арчи сказал, что такого рода мужество заставляет его чувствовать себя очень мелким. Он говорит, что немцы такие же храбрые – никакой разницы на самом деле. Я верю этому, потому как прочла очень хорошую ужасную книгу «На Западном фронте без перемен», где рассказывается про Первую мировую войну, какой она была для немцев. Кто бы не подумал – ведь ты бы подумал? – что после того, такое множество людей узнали, до чего ужасны, отвратительны и ужасающи войны, они не согласятся не развязывать их больше? Вот только, полагаю, меньшинство читают книги вроде этой, другие становятся старыми, и люди им не верят. Ты не считаешь, что что-то весьма не так с продолжительностью нашей жизни? Живи мы 150 лет и не слишком бы старели в первую сотню лет, тогда у людей было бы время стать разумными, прежде чем последовать примеру леди Райдал или просто слишком погрязнуть в своих дурных старых привычках.
О, папа, не могу удержаться от пожелания, чтоб ты в ответ мог говорить со мной. Иногда я чувствую это. Естественно, по мне, так лучше бы ты дома был, и на работу бы ездил, и приезжал по пятницам, и шутил бы. В последнее время шуток стало мало и они куда как редки. Это все потому, что ты всегда был самым потешным. А как…
Это уж совсем никуда не годится, подумала она. Если папа прочтет это, когда вернется, не хочу, чтоб он чувствовал, что я мучаюсь или еще что.
Тут она совсем писать перестала, потому что поняла, что плачет.
Конец лета – осень 1942 года
– Боже правый! Чуточку молода, разве нет?
– Ей девятнадцать.
– Он ведь намного старше, разве нет?
– Тридцать три. Вполне в возрасте, чтобы держать ее на ровном киле.
– Он вам нравится?
– Едва знаю его. Вечером еду в Портсмут обсуждать всякое. Извините, не смогу пообедать с вами, старина, но завтра он опять выходит в море, и сегодня единственный шанс нам встретиться.
– Ничего страшного. Разумеется, я понимаю. Удачи. Вы поспеете вернуться ко времени совещания с министерством торговли? Поскольку я был бы очень рад, если…
– Я вернусь. Два тридцать, верно? Я вернусь, и у нас еще будет время сначала перекусить.
– Прекрасно. Приезжайте ко мне в клуб. Потом мы пройдемся пешком на совещание.
* * *
– Дорогуша, как же это слишком чересчур волнительно! Разумеется, вы должны позволить мне сшить это платье. Она будет выглядеть божественно в кружевах, и, по счастью, для этого не нужны купоны. Когда назначено?
– Довольно скоро. Через четыре недели, вообще-то. У него тогда будет отпуск, так что представляется разумным. Могла бы я переночевать у вас? Придется встретиться с родней жениха. И я немного побаиваюсь этого.
– Они недовольны?
– Кажется, довольны. Я говорила, что считала, что она чуточку молода, но леди Цинния, похоже, думает, что это хорошее дело.
– Она должна быть за, дорогуша, я в этом уверена.
– Почему?
– Этого не происходило бы, если бы она была против.
– А-а.
– Она совершенно обожает Майкла. Он – ангельской породы, вы его полюбите.
– Что ж, разумеется, я с ним знакома. Он приезжал, оставался у нас раз-другой.
– Нет, я имею в виду судью, Питера Стори. Ее мужа. Когда-то, много лет назад, я знавала его. Он очаровашка. Когда вы намерены прийти?
– Как только вы позволите. Предстоит так много сделать.
– Вас ведь это радует, верно? Не могу не чувствовать себя чуточку ответственной, ведь я познакомила их.
– Полагаю, что так, но она в самом деле ужасно молода…
* * *
– О, Китти, дорогая, какое должно быть облегчение. А то стало казаться, что ее забросят на полку, как «искренне ваш», так?
– Долли, дорогая, замуж выходит не Рейчел, это Луиза.
– Луиза?
– Старшая дочь Эдварда.
– Эта бедная девочка, потерявшая мать! Несомненно, она слишком юна.
– Нет, Долли, ты говоришь о Полли. А это дочь Вилли и Эдварда – Луиза.
– Что ж, я все равно считаю, что она слишком молода. А мне понадобится шляпа. Фло когда-то так чудесно шляпы придумывала. Я всегда говорила, что она способна сотворить шляпу из ничего. «Тебе дать несколько ярдов репсовой ленты да корзинку для ненужной бумаги, и ты соорудишь что-то мне на удивление», – говорила я ей когда-то. Это был дар. Я надеюсь, обручение не затянется. Милая мама всегда говорила, что долгие обручения – это такая натуга.
– Нет, это будет кратким.
– Впрочем, сама-то я всегда считала, что долгое обручение – это так удобно. Чувствуешь, что будущее твое устроено, зато не испытываешь никаких тягот брака, а они, как мне говорили, могут быть самыми докучливыми. Надеюсь, они не будут жить в Лондоне – цеппелины в последнее время беспокоят постоянно.
* * *
– Зачем, скажи на милость?
– Люди так делают, достигая определенного возраста, вот и все.
– Держите меня!
– Ты еще этого возраста не достигла – никоим образом.
– Свадьбы как раз для девчонок.
– Так нельзя. Надо быть кем-то кому-то из них. Ты должна будешь пойти на эту свадьбу как кузина, я обязательно пойду как сестра и, вполне возможно, подружка невесты.
– А торт будет?
– Тебе он не понравится, он с марципанами.
Он застонал:
– Я с собой перочинный нож возьму.
– Люди не ходят на свадьбы с перочинными ножами, Невилл. Ты можешь свой взрослый костюм надеть. А еще будет шампанское.
– Я не выношу шампанское. А имбирное пиво будет?
– Не имею ни малейшего понятия, – ответила Лидия самым беспощадным голосом своей матери.
* * *
– И тогда он тебе предложил?
– Да.
– И ты ответила «да»?
– Да.
– Волнуешься?
– Волнуюсь? Не знаю. Вроде того…
Зазвонил телефон. Она пошла взять трубку, и Стелла крикнула ей вслед:
– Если это Кит или Фредди, то мне с ним нужно переговорить.
Стелла услышала ее рявкающее «Да?!» на неподражаемом кокни (прошлым вечером они все играли в шарады, и она бесподобно хрипела, изображая мамашу, у чьего сына голова в ночном горшке застряла), потом как она заговорила совсем обычным голосом, но слишком тихо, чтоб расслышать. Была суббота, на курсы машинописи им идти не надо было, она решила выпить еще чашечку кофе перед тем, как заняться мытьем жуткой груды посуды, оставшейся от вчерашнего вечера.
Когда Луиза вернулась, она пылала румянцем, но сдерживалась.
– Это из «Таймс», – сообщила она.
– Из этой газеты?
– Точно. Хотят знать о моем обручении с Майклом Хадли.
– Во дела! Я и не знала, что он такой знаменитый.
– Я тоже, если честно.
– У тебя подымить нет?
– Боюсь, нет. Мы вчера здорово перекурили. Я схожу куплю, если хочешь.
– Нет… я схожу.
– Недели через четыре. У Майкла тогда отпуск будет.
– Через четыре недели ты станешь миссис Майкл Хадли.
– Да. Это волнующе, только еще такое ощущение… – Она умолкла, поскольку, если честно, сама не была уверена…
– И как тебе такое?
Было что-то ободряющее в знакомом любопытстве Стеллы, которое подтолкнуло ее, как и всегда получалось, на самую осторожную честность.
– Сама не разберусь. Сногсшибательно – и тут же немного нереально. Словно во мне два человека: тот, с кем это происходит, и тот, с кем такого произойти не могло бы. Вот ведь поразительно, что он захотел жениться на мне, ты так не думаешь?
– Нет.
– Ой. А я думаю. Его семья до того обаятельна, аж страх берет. Они знакомы с сотнями знаменитостей… он мог бы на ком угодно жениться.
– Дурочка, кто угодно может жениться на ком угодно. Не думаю, чтоб так оно и получалось.
– Ты права. Он говорит, что любит меня.
– Твое-то семейство радо?
– По-моему, да. Когда я матери рассказала, она просто спросила, не считаю ли я, что еще слишком молода! Изо всех идиотских вопросов…
– А твой отец?
– Его мнение меня не трогает. Но, разумеется, он одобряет Майкла, ведь его отец был героем на прошлой войне.
– До чего незамысловато…
– Ведь правда? – Слово такое прежде ей не попадалось, но она сразу поняла, что оно значит, и, казалось, точно подходило отцу. – И все-таки я буду ужасно скучать по «Моим руинам». И по нашей с тобой жизни. – Она любовно обвела взглядом эту обветшавшую дыру, когда-то часть угольного подвала, что ныне служила кухней в подвальной квартире. – Через минуту вернусь.
Однако, когда хлопнула входная дверь, в наступающей тишине Стелла, один на один с фотографиями своей матери, быстро остыла, угнездилась на бархатном диване в жарко натопленной комнате, откуда вырвать ее могли лишь ностальгия да поэзия ее юности, и смахнула непрошеные сердитые слезы с глаз. Ее уже нет, подумалось ей, и на самом деле она уже никогда не вернется.
* * *
– Пять фунтов муки мелкого помола… хотела бы я знать, где такую достать, нынче вся мука одинаковая… три фунта свежего масла… с тем же успехом я летать стану… пять фунтов темного изюма без косточек… нет, ты слышишь это, Фрэнк? Два мускатных ореха, шелуха мускатного ореха, гвоздика… ну, по крайности, хоть это у мня есть… шестнадцать яиц, фунт сладкого миндаля и полтора фунта цукатов. Хоть убейте, не понимаю, как подступиться-то, я в полной растерянности, поверьте моему слову!
– Вы могли бы торт из готовой смеси испечь, миссис Криппс… Мейбл. – Он все время затруднялся звать ее Мейбл, когда она была в очках, толстая стальная оправа которых делала ее грозной, даже когда она была в хорошем настроении, чего в данном случае не было.
– Торт из готовой смеси? Для свадьбы мисс Луизы? Да ты, должно, умом тронулся, если думаешь, что хоть на минуту такое мне в голову взбредет. Даже на секунду, – прибавила она. – Это маргарин-то с яичным порошком, когда будут знать, что торт прибыл из этого дома? Знаменитые люди отведают этот торт, мистер Тонбридж, и я не допущу, чтоб хулы швырялись в него. На него. Или я испеку его из настоящих продуктов, или он вообще не будет печься. Таковы мои последние слова на эту тему, – прибавила она, и это было не очень правдиво, потому как весь остальной день она продолжала рассуждать вслух с лютостью, не терпевшей никаких дальнейших предложений ни от него, ни от кого другого.
В последнее время жизнь была нелегка. То верно, что они достигли «понимания» с Фрэнком, кого по-прежнему при других зовет мистером Тонбриджем, но это произошло еще до Рождества, восемь месяцев назад, а его развод с «той женщиной», Этил ее звать, похоже, с места не сдвинулся. Еще и потому, что на письма (а их всего-то наперечет), которые рассылал адвокат Фрэнка, никогда или почти никогда не поступало ответов, правда, какой-то м-р Спарроугласс раз написал в ответ, что он не получил никаких указаний от своего доверителя, а следовательно, не в состоянии предпринимать какие-либо действия. «Так ведь это тебе надо действия предпринимать, – сказала она тогда. – Это она сбежала, она и виновата». Тут он начал нести какую-то чепуху про то, как по-джентльменски он поступает с Этил, позволяя ей дать ему развод. Но, предположим, она не захочет разводиться, мысленно прикинула миссис Криппс. Предположим, ей нужен дом и мужик, с кем она сбежала, что ж, Фрэнку обратно возвращаться, если что-то пойдет не так? Ему она этого сказать не осмеливалась, но беспокойство ее не оставляло. Он такой сдержанный с нею: лишний раз не обнимет, если только они одни в темноте не окажутся, а часто ли такое бывало? Не было в нем никакой уверенности, она понимала, что крепить ее надо не одним способом, но уж очень это походило на его отношение к еде: она могла скормить ему три плотные трапезы в день, а между ними бесконечные перекусы устроить, а он ни на унцию не прибавит, таким же худющим и останется. Она ж тем временем моложе не становилась, а так хотелось, чтоб он вес свой побольше употреблял, был таким же большим умельцем, как мужчины в кино, а не просто торопливо наскакивал иногда, когда выпивал рюмку-другую в пабе или когда они в кино сидели, а раз на моле в Гастингсе вечером. Конечно, он столько всего знает про войну и историю и всякое такое, она догадывалась, что он умный, потому как иногда и половины не понимала из того, что он говорил, у него на все было свое мнение, а ей нравилось, когда у мужчины оно есть, еще он радио купил, они его по вечерам слушали, и он рассказывал ей, как сам относится к тому, о чем сообщалось. Только ничего из этого ни к чему у них не приводит, а она-то уж раз в жизни была обручена (задолго до прихода к Казалетам), и тот кинул ее в последний момент, о чем, полагала она, и думать-то больше никогда не придется, только все равно тот случай сделал ее более осмотрительной и опасливой, чем она могла бы быть. Миссис Феллоуз, повариха (тогда-то она кухаркой была), предупреждала ее насчет Нормана, да она не слушала – вот и вытворяла с ним всякое, молода да глупа была, ничего лучшего не знала, не то что сейчас, – вспомнить, так краской зальешься. Больше ни одному мужчине не дано повести себя с нею вольно вне брака, дала она себе слово, когда пережила тот жуткий страх при мысли, что забеременела. Норман, он конюхом был в том месте, где она работала, и однажды, не сказавши ни слова, ушел в море. То был удар, и он стал тем тяжелее, что она узнала, дочь привратника тоже имела виды на Нормана. Среди слуг ходили разговоры о том, что за ним вели охоту отцы многих девушек, потому-то он и сбежал в море. Ее отец погиб на войне – той, что была до этой, – так что он в охоте не участвовал, да и в любом случае она находилась за сотни миль от дома. То было ее первое место: она к работе не приступала, пока ей четырнадцать не исполнилось, потому как при пятерых других детях мать, работавшая поварихой в сельской больнице, нуждалась в ее помощи по дому. Миссис Феллоуз всегда была строга, но она не учила ее ничему, за что Мейбл не была ей благодарна и поныне, о чем она всегда говорила всем девушкам, кого обучала, только, о боже мой, нынешние девчонки совсем не такие, какие были прежде. Последняя – та, что перед Лиззи была, которую мисс Рейчел из Лондона привезла, была сущая маленькая мадам, никакого уважения к старшим, ногти на пальцах красила, трусишки свои сушить вешала там, где их могли мужчины увидеть, так она и двух недель не продержалась. Теперь Лиззи, которая приходится младшей сестрой Эди, – так та, крайности, уважение имеет, от нее едва слова услышишь, делает, что ей говорят, хоть и очень медленно, и ни во что не вникает, не то что Эди. «Нам приходится делать скидку, миссис Криппс», – заявила миссис Казалет Старшая, и это напомнило ей, что придется идти и поговорить по поводу торта с миссис Эдвард. Оставив Фрэнка приканчивать пирог со сладким кремом, она застегнула застежки на туфлях.
Миссис Эдвард, составлявшая список в малой столовой, сразу поняла, в чем дело, и заявила, что обратится с просьбами ко всем, включая семью лейтенанта Хадли, помочь кое-какими продуктами для торта. Люди, находящиеся на службе, зачастую могут помочь в подобных делах, сказала она, и, похоже, она понимала, что они должны сделать это быстро, ведь торту такого рода необходимо время, чтобы отстояться после выпечки. «Пусть некоторые и используют искусственные свадебные торты – чтоб просто на них любовались, а не ели», – сказала миссис Эдвард.
Скрывая потрясение от такого предположения и отвращение к нему, миссис Криппс заявила, что для мисс Луизы такое не годится, и, когда миссис Эдвард согласилась с ней, это придало ей решимости замолвить словечко за Фрэнка, который и сам, не жалея сил, добивался того же.
– Мистер Тонбридж надеялся, что он повезет невесту в церковь, – сказала она.
– О! Честно говоря, не знаю, миссис Криппс, свадьба будет в Лондоне, понимаете, с тем, чтобы людям легче было попасть на нее.
Это миссис Криппс знала. Сведения о свадьбе, часто противоречивые, порой надуманные, потоком лились в обители прислуги: Айлин много чего рассказала после прислуживания за столом, Эллен поделилась тем, что узнала от миссис Руперт, горничные – эфемерными предположениями, которыми с ними поделились Клэри с Полли. Она знала, что венчание состоится в Челси, а свадебный прием в отеле «Кларидж», она знала, что леди Небуорт шьет платье и еще кое-что и что миссис Лагг из Робертсбриджа шьет кое-что из нижнего белья, по замечанию Айлин, из гардинного тюля, зато с оторочкой из кружев миссис Старшей. Миссис Криппс знала, что мисс Лидия, мисс Клэри и мисс Полли будут подружками невесты и миссис Руперт шьет им платья, что приглашено четыреста человек и что были фотографии в «Таймс» и в газете, которую читает м-р Тонбридж, где была статья «Сын героя женится». Дотти предположила, что, может, пожалуют король с королевой, но она, миссис Криппс, кто когда-то давным-давно, когда была вторым поваром в одном важном месте, однажды раскатывала тесто под печенье для ленча на стрельбище, где стрелял отец Его Величества (Его покойное Величество), а стало быть, могла считаться авторитетом в таком вопросе, тут же ее осадила. Их Величества дважды подумают, прежде чем отправятся на свадьбу в разгар войны, заявила она, а Дотти не следует выдумывать глупости о том, что недоступно ее пониманию. То, что свадьба будет в Лондоне, явилось для всех для них большим ударом: Дотти плакала, Берта перестала подравнивать их шляпы, а у Айлин, как часто бывало, жутко разболелась голова. Миссис Криппс чувствовала, что положение обязывает ее сохранять невозмутимость, но все же поделилась с Фрэнком, что считает это великим стыдом: в былые времена девушки всегда сочетались браком дома, а если это не дом мисс Луизы, то она и знать не желает, где он. Так что с весьма громадным восторгом и немалым удивлением получила она теперь известие, что все, полностью все домочадцы будут присутствовать на свадьбе, что всем им предстоит утром отправиться в город, ленч будет подан в гостинице «Чаринг-Кросс», а после они на такси поедут в церковь. «Но Тонбридж с утра повезет на машине мистера и миссис Казалет и мисс Барлоу в Лондон, так что вам придется взять на себя руководство остальной прислугой. Ленч будет в двенадцать часов, так что у вас будет масса времени добраться до церкви к двум тридцати. К вашей группе я причислю Эллен и двух маленьких мальчиков».
– Слушаюсь, мадам. – Это было облегчение, поскольку Эллен знала Лондон, а она нет.
– После приема все вы вернетесь на поезде. По-моему, есть какой-то в шесть часов, но организовать это время будет.
Это значило, что все они смогут после свадьбы отпраздновать ее в своей компании.
«Все будут очень довольны, я уверена», – сказала она.
* * *
– Дорогая, на твоем месте я бы приняла во внимание мои молитвы. Это пара, которую одобрила бы даже наша бедная мамуля. И уж она-то наверняка не сочла бы, что Луиза слишком молода. Должна сказать, я сожалею, что не нахожусь в твоем положении. Анджела не подает никаких признаков к обручению с кем бы то ни было, а ей в прошлом месяце двадцать три исполнилось. И, в конце концов, ты никогда не хотела, чтоб она пошла на сцену.
– Не хотела, но он на четырнадцать лет старше ее. Ты не считаешь, что это многовато?
– Это попросту означает, что его возраст вполне позволяет ему заботиться о ней. Какие у тебя отношения с его семьей?
– Вполне хорошие, по-моему. Мы много поработали над согласованием планов. Судья хотел, чтобы свадьба прошла «на сухую». По его мнению, так было бы патриотичнее.
– Боже милостивый! И что сказал Эдвард?
– У него аж губы побелели, стал говорить, что никогда его дочь… ну и так далее. Разумеется, убеждать их пришлось мне, но леди Цинния восприняла это довольно спокойно. По-моему, она для него прямо свет в окошке!
Забежала Вилли выпить чаю, успев уже отвезти Луизу на примерку к Гермионе и выполнив еще кучу поручений в Лондоне. О приходе она заранее предупредила, так что не было, как прежде бывало, никаких фарсовых неловкостей, когда она заявлялась как снег на голову, подумала Джессика, а потом еще подумала: забавно, но Вилли даже словом не помянула Лоренцо. Она засиделась уже больше двух часов: чай сменился шерри, пока они перебирали семейные новости, говоря, как то было всегда заведено, по очереди, соблюдая требуемый ритуал уважительного отношения друг к другу. У Тедди почти закончилась первичная муштра в авиации, а потом их направят еще куда на дальнейшее обучение. «Но по-настоящему летать они начнут за границей, в Канаде или Америке. Должна сказать, что меня от этого страх берет».
– О, дорогая!
Кристофер по-прежнему выращивает овощи на продажу. Он приобрел подержанный домик на колесах, где и живет со своей собакой. «Я его совсем не вижу! Лондон он просто на дух не выносит!»
– О, дорогая!
Лидия довольно успешно занимается с мисс Миллимент, но ей надо будет поставить пластинку на зубы и, видимо, один удалить, а то у нее от них во рту тесно, девочка стала ужасающей неряхой, болтает так, что не остановишь, и всех передразнивает. «И она перенимает ужасающий язык… от Невилла, полагаю… и у них нездоровая одержимость смертью – все лето играли в кладбища и выискивали, что бы такое похоронить.
– Дорогая, это все ее возраст. Сколько ей, двенадцать примерно? Не беда, скоро вырастет.
Нора ухаживала за ранеными и влюбилась в девятнадцатилетнего летчика, который спину сломал, прежде чем из самолета с парашютом выпрыгнул. «Он до конца жизни проведет в каталке, а она решительно собирается выйти за него замуж».
– Дорогая, ты мне этого никогда не рассказывала!
– Ну, полагаю, я не верила поначалу, что это долго продлится, а вот поди ж ты – уже почти год. И поверишь ли, он-то как раз и не хочет на ней жениться!
– Силы небесные! – Вилли постаралась придать своему голосу должную долю изумления. – По крайней мере, это станет расплатой за стремление стать сестрой милосердия.
– О, по-моему, она его уже преодолела. Она куда как слишком властная для этого.
Повисла пауза, а потом Вилли, тщательно подобрав выражения поделикатнее, спросила:
– А если она все же выйдет за него… есть вероятность появления потомства?
– Мне духу не хватило спросить. Мне представляется, нет… – Она умолкла, и какое-то время обе сестры углубились в мысли, которые, естественно, ни одна из них и не помыслила бы озвучить. Вилли закурила еще одну сигарету, а Джессика налила им обеим еще шерри.
– Как Раймонд поживает?
– О, он с головой ушел в свою секретную работу в Вудстоке. Поскольку она секретная, то, разумеется, он о ней ни гугу. Только, похоже, работает он с утра и допоздна, а живут они в каком-то общежитии, так что вечера проводят в сложившейся компании. Вот в самом деле ирония жизни! Когда у нас не было денег, он и думать не думал о постоянной работе за зарплату: все время хотел управлять собственным бизнесом и всегда успевал хлебнуть с этим горя, а теперь, когда с деньгами полегче, он на постоянной работе за зарплату.
– Он же работал в школе.
– Да – после того, как с грибами не получилось. Но это в основном потому, что Кристоферу надо было учиться в той школе, а нам приходилось платить всего половину. По-моему, он из тех, кто весьма опечалится, когда война наконец-то подойдет к концу. Вернуться во Френшем и ничего не делать – бедный барашек от скуки изойдет.
– До конца войны еще, похоже, далеко, – вздохнула Вилли. – Майкл участвовал в том налете на Дьепп на прошлой неделе. Нет… Майкл говорил Эдварду, что его устроили для того, чтобы выяснить, на что оно будет похоже, но там, должно быть, был сущий ад. Мы в Суссексе весь день слышали пушки – жуть и ужас. Нам было только видно, как самолеты над нами летели. Разумеется, Луизу ждет очень неспокойное время. Майкл, кажется, всегда готов лезть в самое пекло.
– Это что же, означало начало вторжения?
– Судя по всему, нет.
Джессика вздохнула:
– Полагаю, нам в самом деле весьма повезло.
– Повезло?
– Избежать всего этого. Мы, я хочу сказать, вышли за мужчин, которые вернулись с войны. Нам не пришлось волноваться, не погибнут ли они.
– Не могу сказать, что особо ощущаю, будто мне повезло, – сдавленно выговорила Вилли, а Джессика подумала: «Ну вот, опять… точно как мама, ей бы только королевой в трагедии быть…»
– Что Эдвард? – спросила она с натужным оживлением.
– Все в порядке. Смертельно устал. – Вилли взглянула на часы. – Боже! Должна лететь. Можно я такси вызову? Надо еще к Хью заехать переодеться. Мы с Эдвардом обедаем у Стори – опять свадебные дела. Большущее тебе спасибо, дорогая. Мы славно передохнули.
«От чего?» – спросила себя Джессика, когда Вилли ушла. Явно не затратив ни малейших усилий, Вилли заполучила столь соблазнительный брак для своей дочери. Надо признать, Луиза очень привлекательная, но и Анджела, может, не так ярка, но мила: крупные, хорошо посаженные черты, восхитительная фигура – девушка-статуэтка с налетом отрешенности, который дорогая мамочка одобрила бы. Но, видимо, чересчур отрешена: с того самого злосчастнейшего случая с режиссером Би-би-си у нее, похоже, ничего не происходит. Поначалу тогда это вызвало облегчение, зато теперь уже легкая тревога начинает охватывать. Из Би-би-си она ушла и стала работать кем-то в министерстве информации, а это значит, что хоть и причастна к военной службе, но все же еще не призвана. Снимает квартиру вместе с какой-то девочкой, и Джессика почти не видит ее. Ее мечтания о дебютантке, вышедшей замуж за достойного человека, чья фотография украшала бы первую страницу «Кантри лайф» и кто в дальнейшем вращалась бы в достойном обществе, поблекли. Теперь, подумала она, ей бы легче стало, если бы Анджела хоть за кого-то замуж вышла.
* * *
– Ну и?
– Если ты спрашиваешь меня о вечере, Ци, то я нашел его и приятным, и здравым.
– Приятным почему?
– Они прекрасная пара. Хребет английского общества.
– А-а! Ты прав, разумеется. Полагаю, я всегда предпочитала более живописные, менее полезные части тела.
– Он мужчина привлекательный, ведь наверняка? И храбрец. Два креста за заслуги и представление к Кресту Виктории в последней войне.
– В самом деле? Я и не знала.
– И она приятная женщина.
– О да. Таковы большинство жен. Только подумать, скольких приятных жен мне терпеть приходилось! Слава богу, ты ушел из политики. Это резко сократило количество женщин, с кем приходилось обедать.
Он провел ласкающей рукой по ее чудесным густым серебристым волосам.
– Но, милая моя Ци, будь по-твоему, так вообще не было бы женщин, с кем приходится обедать. Была бы ты – и мир, заполненный красивыми, занимательными и удалыми мужчинами. И еще немного наседок, сидящих на яйцах где-то на заднем дворе, вдали от глаз.
Она слегка улыбнулась, но глаза ее заискрились.
– Расскажи, что было здравого в этом вечере?
– По-моему, мы уладили множество нудных свадебных приготовлений без споров и без колкостей, а мне говорят, что это редкий случай.
– Хорошо тебе было говорить, что ты возьмешь на себя часть расходов на прием.
– Мы приглашаем так много народу, что, мне казалось, так будет правильно. И он твой любимый сын. И ты одна из немногих женщин, на ком бесполезно использовать присказку про потерю сына и обретение дочери.
Она подала знак, что хотела бы встать с дивана, на котором возлежала.
– Впрочем, тебе она нравится, не так ли, милый?
– Малышка Луиза! Конечно же, она мне нравится. Я в восторге от нее. Такая забавница, такая чаровница и так очень юна!
Она уже стояла на ногах, он вложил свою руку в ее, и они неспешно двинулись по своим спальням.
– А сына своего я не потеряю, – произнесла она. – Ничему, кроме смерти, этого не добиться. Умирать же я вовсе не намерена. Слишком уж хочу увидеть моего внука.
Зима 1942 года
Оставаясь одна (а в последнее время так случалось почти все время) и когда ее совершенно одолевала вялость, она пыталась сложить из кусочков себя самой некую узнаваемую фигуру, чтоб сама могла как-то разобраться, кто она. На актерских курсах они часами обсуждали типажи людей – грани их личностей, черты их нравов, причуды их поведения или темперамента. Обсуждали действующих лиц в пьесах, конечно же, и неделями ругали «плохие» пьесы, персонажи которых были двухмерными – вырезанными из картона фигурами без глубины. Тогда, когда они поговорили об этом со Стеллой, когда трусцой прошлись по всем своим теориям, Стелла сказала: «Конечно же, потому-то Шекспир с Чеховым и единственные драматурги, наделенные талантом. Их герои больше похожи на яйцо. С какой стороны ни взгляни, они никогда не выглядят плоскими, за ними следует что-то таинственное из-за угла, который и не угол вовсе, но в то же время всегда представляешь себе цельную фигуру…»
А вот она, хотя и не просто действующее лицо в пьесе, себя яйцом совсем не ощущает, больше похожа на кусок безумной брусчатки или часть складной мозаики. Она не ощущала в себе никого узнаваемого, даже отдельные бруски для мощения или куски мозаики, казалось, едва ли под стать ей, больше они походили на череду кусочков, к каким она стала привычна и какие, следовательно, годятся, чтоб ими играть. Миссис Майкл Хадли – один из таких кусочков. Счастливая молодая жена пленительного мужчины, кто, если верить Ци, разбил несчетные сердца. Люди писали «Миссис Майкл Хадли» на конвертах, так было в подписи к фотографии, сделанной знаменитой фотостудией Харлипа и появившейся вскоре после бракосочетания в «Кантри лайф». Так называли ее служащие в гостиницах. Эта дама, ипостась ее, пережила фешенебельную свадьбу, фото с которой появились в большинстве газет. «Я выгляжу молодой картошкой в белых кружевах!» – нюнила она, зная, что это рассмешит семью Майкла. Эта дама носила золотые часы, свадебный подарок Судьи, и кольцо с бирюзой и бриллиантами, подаренное ей Ци на обручение. У нее новые чемоданы с инициалами Л.Х., выбитыми золотом по белой коже. В «Кларидже» ей дали номер, чтобы она сняла белые кружева и надела выходной костюм, сшитый для нее Гермионой, – приятный кремовый твид с размашистой тонкой алой вставкой-галочкой: прямая короткая юбка и пиджак с укороченным рукавом и светлыми алыми пуговицами. Она вышла из лифта, прошла к широкому входу отеля, заполненного членами ее семьи и людьми, которых она в жизни не видела, вышла к «даймлеру», где Кроули (шофер Судьи) поджидал, чтобы отвезти их. Позабыли про пальто, и Ци послала за ним Малколма Сарджента[17]: «Малколм, добрая душа, принесет его», – сказала она, и он принес. Миссис Майкл Хадли была той, кого благожелательно разглядывали адмиралы, некоторые из которых прислали громадные картонные коробки, полные чего-то явно когда-то ценного, а ныне превратившегося в разбитое стекло. Благодарить за такое было труднее всего, потому как в худших случаях по осколкам нельзя было догадаться, каков был предмет изначально. «Я вам так признательна за присланное нам все это замечательное стекло», – написала она одному из них. Множество людей (многие из них выдающиеся) были в восторге от знакомства с миссис Майкл Хадли и с разной мерой элегантности и галантности поздравляли Майкла с очаровательной молодой женой. Порой она ощущала себя трюком фокусника, белым кроликом, которого тот так ловко извлекал невесть откуда. Миссис Майкл Хадли, похоже, обретала жизнь только в присутствии других людей.
Потом была еще дитя-невеста. О юности ее завели бесконечную волынку старшие флотские офицеры, друзья Майкла, многие из которых были еще старше его. То же относилось и к Хаттону, где, как она выяснила, им предстояло провести половину своего медового месяца. «Неделю сами по себе, а потом мы поедем к мамочке», – известил ее тогда Майкл. Она была дитя: ее извещали обо всем с нарочитой снисходительностью, со слегка поддразнивающим предостережением соглашаться на все что угодно – ведь вы не против? Было бы ребячеством не соглашаться, и она не делала этого никогда. Роль дитя-невесты приносила ей всеобщее одобрение: хорошее дитя-невеста… Так что неделю они провели в коттедже, снятом для них крестной Майкла, которая жила в большом доме в Норфолке. Коттедж был прелестен, с тростниковой крышей и большим открытым очагом в гостиной, где они еще и ели. Леди Мой, крестная, устроила так, чтобы кто-то им готовил и убирал у них, и, когда они приехали, в тот первый вечер, по дому гуляли манящие запахи горящих поленьев и обжаривающихся цыплят. Кроули внес чемоданы, приложил ладонь к фуражке и уехал, а потом, подав им цыплят и показав сливовый пирог на каталке, ушла и повариха, сказавшая, что ее зовут Мэри. Они остались одни. Помнится, она подумала: «Вот оно, самое начало моей замужней жизни, ее вечно счастливый кусочек после», – и стала гадать, каким он будет. И Майкл был полон самого чарующего обожания, вновь и вновь говорил ей, до чего ж она прекрасна как невеста и какой прекрасной называли ее люди, говоря с ним. «И сейчас так же прекрасна», – сказал он, беря ее руку и целуя ее. Позже, когда они наполнили рейнвейном два бокала из бутылки, оставленной им леди Мой, он предложил: «Давай выпьем за нас, Луизу и Майкла». И она повторила этот тост и пригубила вино, а потом они поужинали и говорили о свадьбе, пока он не спросил, не хочет ли она прилечь.
Потом, когда она выскользнула из постели и надела одну из ночнушек, подаренных ей отцом, когда ей было четырнадцать, и до сих остававшихся самыми любимыми, она подумала, как же повезло, что этот раз не был первым, потому как, по крайней мере, она понимала, что происходит, и более или менее к этому привыкла. До этого, на самом деле, она побывала в постели с Майклом четыре раза: первый был ужасен, потому что было так больно, а она чувствовала, что она не может сказать ему об этом, ведь он казался таким восторженным. Другие разы были получше в том, что больно не было, а один раз начало даже стало таким восторгом, но потом он принялся совать ей язык в рот, после чего она словно бы отключилась и ничего не чувствовала. Он, впрочем, похоже, не заметил, что в то время, казалось, было хорошо, однако это случалось безостановочно всю первую неделю медового месяца, и она почувствовала в этом странность, хотя он то и дело уверял, как сильно любит ее, и постоянно говорил, что он чувствует и что с ним творится во время любовных утех, он, похоже, не очень обращал внимание на нее. В конце концов она стала гадать: а этот острый сладкий трепет, словно бы что-то внутри ее начинает раскрываться, – случается ли он на самом деле.
В ту первую ночь, однако, она просто ощутила облегчение оттого, что не больно и что ему это, похоже, дает наслаждение. Еще она вдруг ощутила, что устала как собака, и заснула спустя несколько мгновений, забравшись обратно в постель.
Утром она проснулась, поняв, что он вновь жаждет близости с ней, а потом была вся новизна совместного мытья в ванне, и одевания, и изумительного завтрака из яиц и меда, а потом они долго прогуливались в парке, где было озерцо с лебедями и другими водоплавающими, а потом в лесу. Стояло идеальное сентябрьское утро, спелое, ароматное и тихое. Они ходили рука об руку, видели цаплю, лисицу и большую сову, и Майкл совсем не говорил о войне. Всю неделю они приходили ужинать в дом леди Мой, где та обитала с компаньонкой в обстановке продуманного увядания. Большая часть дома держалась взаперти, а в остальной стоял невыносимый холод, из такого дома, подумалось ей, хочется на улицу выйти погреться. Леди Мой подарила Майклу пару превосходных ружей «перде», принадлежавших ее мужу, и две акварели Брабазона. «Я перешлю их тебе», – сказала она. «А вам, – обратилась она позже к Луизе, – едва ли я могла выбрать подарок той, кого не видела. Но теперь я познакомилась с вами… и, между прочим, Майки, по-моему, ты отлично для себя постарался… и я знаю, что делать». Она пошарила в большой вышитой сумке и извлекла маленькие часы из голубой эмали в обрамлении жемчуга, висевшие на покрытой эмалью цепи с брошью-заколкой на ней. «Их подарила мне моя крестная мать, когда я вышла замуж, – сказала леди, – время они показывают не очень точно, но вещь красивая».
За ужином леди Мой расспрашивала Майкла о его корабле, и он много чего поведал ей о нем. Она пыталась быть, а потом выглядеть заинтересованной, однако мало что могла сказать по поводу числа пушек, которые установят на новом торпедном катере.
И только перед самым их уходом леди Мой спросила об их планах, так как узнала, что вторую неделю отпуска Майкла они проведут в Хаттоне.
– Мамочка так жаждет увидеть нас. И мы подумали, что ей будет приятно, если мы приедем.
– Я уверена, так и будет.
Она заметила на себе взгляд леди Мой, но не смогла истолковать его выражения. «Я и вас тоже должна поцеловать», – сказала она, закончив обниматься с Майклом.
Они шли обратно по дороге к своему коттеджу в темноте.
– Ты ни разу не говорил мне, что мы едем в Хаттон.
– Разве нет? Должен был сказать. Я почти уверен, что говорил. Ты же не возражаешь, во всяком случае, верно?
– Нет. – Она вовсе не была уверена.
– Понимаешь, милая мамочка неважно себя чувствует и так ужасно обо мне беспокоится, что кажется… она очень-очень тебя любит, понимаешь. Она сказала мне, что не может вообразить лучшей матери для ее внука.
Она была ошеломлена.
– У нас же пока его нет, или есть?
– Дорогая, – он, смеясь, сжал ее руку, – об этом ты первой узнаешь. Надежда всегда есть.
– Но…
– Ты говорила, что хочешь шестерых. Надо же с чего-то начать.
Она уже рот открыла, чтобы сказать, что не хотела детей сразу же… прямо сейчас… и снова закрыла его. В голосе его слышалось поддразнивание – он говорил несерьезно.
Однако в Хаттоне та же тема опять всплыла. Они пробыли там четыре дня, и она вызвала недовольство, и, хотя Ци непосредственно с ней не говорила, недовольство было доведено до нее разными способами. У нее появились довольно сильные колики в животе, и Майкл отнесся к ней с большой заботой, препроводил в постель после обеда и дал горячую грелку.
– Ты мил ко мне, – сказала она после того, как он наклонился поцеловать ее.
– Ты моя маленькая миленькая женушка. Между прочим, Ци рассказала мне про один полезный прием. Когда ты поправишься и мы займемся любовью, то будет полезно подложить под ноги подушку, тогда сперме будет легче добраться до яйцеклетки.
Она слюну сглотнула: от мысли, что он обсуждал все это со своей матерью, вдруг поднялась тошнота.
– Майкл… я далеко не уверена, что хочу заиметь ребенка так быстро. То есть я их хочу вообще-то, только хотелось бы сначала чуть побольше пообвыкнуть в замужестве.
– Разумеется, обвыкай, – сердечно произнес он. – Только, поверь мне, это произойдет – не заметишь как. И если будет шанс и другой тоже случится, то природа возьмет свое и ты будешь чувствовать себя прекрасно. А теперь, миленькая, сосни, а к чаю я тебя разбужу.
Но ей совсем не спалось. Лежала и беспокойно думала, отчего им так сильно хочется, чтоб у нее был ребенок, при этом ощущала вину за то, что сама не чувствует того же, что и они.
Остаток недели прошел под музыку, и Майкл рисовал ее, и начал портрет маслом писать, тут и шутки, и игры с соседями, и танцы, и Судья, читающий им вслух, и все они относились к ней с поддразнивающей, нежной снисходительностью, и была она любимым, лелеемым дитятей-невестой. Разговоры за столом радовали и будили воображение: в семейных шутках сказывалась большая начитанность и использовался куда больший запас слов, чем был у нее. Она спросила Судью, которого приучилась звать Питом, не составит ли он ей список книг для чтения.
– Он был в восторге, – заметил Майкл, когда они в тот вечер одевались к ужину. – Ты до того хорошо встраиваешься в мою семью, моя милая.
– Откуда тебе известно, что я просила его?
– Мамочка мне сказала. Ее очень тронуло, что ты попросила его.
Все приходившие то ли к обеду, то ли к ужину расспрашивали Майкла про его корабль, и он всегда рассказывал им, как правило, весьма долго. Она заметила, что, как бы часто ни рассказывал он о превосходстве пушек «эрликон» над «бофорсами» и «роллсами», Ци слушала с восхищенным интересом, словно слышала от него об этом впервые. В душе она находила эти разговоры скучными, еще скучнее даже, чем когда они говорили о войне вообще: сражении за Сталинград, о котором каждый вечер в новостях сообщалось, и бомбардировках германских городов.
За все это время, на самом деле очень краткое, всего две недели, возбуждение, словно дымка в жару, почти совсем затмевало любое иное чувство: она вышла-таки замуж за своего чудесного, пленительного Майкла, кто хоть и намного старше, и знаменитый, и храбрец, а выбрал ее. Разве не возбуждает, когда тебе не надо особо думать о своей внешности или все у тебя с мозгами в порядке, не надо чувствовать, как она тогда чувствовала, что ты не очень образованна, если с утра до ночи тебе только и говорят, какая ты красивая, умная и талантливая. То была сказка, и она была счастливой принцессой, которая в девятнадцать лет уже попала в ту долгую и счастливую жизнь, какую в сказках обещают «после».
В конце недели они покинули Хаттон и отправились на поезде в Лондон. Майклу нужно было в Адмиралтейство, и они договорились встретиться на вокзале Ватерлоо.
– А чем ты займешься, милая?
Она не знала.
– Все будет со мной в порядке. Может, попробую дозвониться до Стеллы, правда, на Питманских курсах[18] не любят, когда звонят их ученикам. Если не свяжусь с ней, то пойду в Национальную галерею.
– Деньги у тебя есть?
– Ой! Нет… нет, боюсь, у меня их нет.
Он сунул руку в карман брюк и достал пачку банкнот:
– Возьми.
– Да мне столько и не понадобится!
– Никогда не угадаешь. А вдруг. Я займусь багажом.
Они поцеловались. Было радостно (тогда она еще не сознавала, насколько радостно) расставаться, зная, что так скоро они снова встретятся.
Она попробовала позвонить Стелле из телефонной будки, но не дозвонилась и направилась в Национальную галерею, где Майра Хесс и Айрин Шарер играли дуэтом на двух фортепиано. В перерыве, покупая сэндвич, она заметила Сид, беседовавшую с очень старым, опиравшимся на палку мужчиной с густой седой шевелюрой. Она собиралась было пройти мимо и остаться незамеченной, когда увидела молоденькую женщину или девушку – по сути, не старше нее, – прислонившуюся к стене в конце стойки с сэндвичами и уставившуюся на Сид взглядом такого глубокого и безумного обожания, что Луизе едва не захотелось рассмеяться. «То, что тетя Джессика звала когда-то страстью, полагаю», – подумала она. В этот момент Сид увидела ее, улыбнулась и подозвала.
Она была представлена мужчине с седой шевелюрой как Луиза Хадли, и тот сказал, да, он узнал ее. «Вы вышли замуж за сына моего старинного друга Циннии Стори несколько недель назад. Как поживает Ци? Нынче она так много времени проводит в деревне, я почти ее не вижу».
В суете рукопожатия старик обронил свою палку. Мгновенно девушка, прислонившаяся к стене, метнулась вперед, наклонилась и подобрала ее.
– Как вы добры!
Девушка вспыхнула: лоб у нее словно испариной покрылся, заметила Луиза, когда Сид заметила: «Отличный бросок, Тельма», – и представила ее как одну из своих учениц. Тут перерыв закончился, и все поспешили из подвала, где продавали сэндвичи, на продолжение концерта.
– Передайте, пожалуйста, мой душевный привет Ци, – попросил седой мужчина, и она, улыбнувшись, пообещала непременно передать. Про себя же подумала, что сделать этого не будет никакой возможности, поскольку Ци она не увидит еще бог весть сколько и не имеет ни малейшего представления, кто это был такой.
Когда концерт завершился после чудесного и ожидаемо утешительного биса прелюдии «Иисус, радость человеческих желаний»[19], она стала соображать, чем бы заняться. Смотреть в галерее было не на что: все картины были убраны в место или места, где им была обеспечена сохранность. Она вышла на Трафальгарскую площадь. Светило солнце, но оно не грело, холодную голубизну безоблачного неба украшали поблескивающие аэростаты, спокойно покачивавшиеся в воздухе – как гигантские игрушки, подумала она. До поезда оставалось еще два часа, и она терялась в догадках, чем заняться. Майкл дал ей пачку фунтов, должно быть, не меньше десяти, она почувствовала себя богатой и свободной… а потом, совершенно неизвестно отчего, вдруг сильно испугалась. «Чем мне занять себя?», «Почему я здесь?», «Зачем я?» Череда кратких, жалящих, нелепых вопросов, которые исходили, казалось, ниоткуда и количество которых лишь обращало их в карликов. Начать отвечать на любые из них (и даже задуматься над ними) значило бы навлечь на себя полную опасность: она и попытки не сделает отвечать, она должна что-то делать, о чем-то другом думать. «Пойду в книжный, куплю книг», – подумала и, движимая этой разумной и практической целью, села в автобус до Пикадилли, остановившийся возле книжного магазина «Хэтчардс».
К тому времени, когда она купила три книги и ловила такси, чтобы добраться до Ватерлоо, настроение у нее приподнялось. Она не ехала послушно домой в Суссекс под ругань матери и уговоры всей остальной семьи заняться скучными делами. Она садится в поезд вместе со своим мужем, а потом на паром до острова Уайта, где остановятся в какой-нибудь гостинице, – такого она ни разу в жизни не делала. Она снова была миссис Майкл Хадли, а не той невесть кем, что предавалась панике на ступенях Национальной галереи. Прелестно было бы повидаться со Стеллой, но она ей напишет.
Однако она скоро убедилась: жизнь в той гостинице, а потом и в других гостиницах, в Уэймуте и в Льюисе, была вовсе не той, что ей представлялась. Майкл уходил утром в восемь часов, и она оставалась одна на целый день – день за днем – совсем безо всякого занятия. У отеля «Глостер» было еще и особое неудобство, отчего только хуже становилось, – начать с того, что он казался невероятно роскошным. С непременным лобстером на обед и на ужин. Временами бывало и еще что-то, обычно не ужасно вкусное, но примерно через неделю она привыкла есть что бы ни подавали. Лобстер ей наскучил и даже ненавистен стал. Она читала книги, гуляла по городу, но он был забит военными, и свист с неразборчивыми, но, без сомнения, грубыми выкриками вслед отвадили ее от гуляния. Потом однажды она зашла к зеленщику купить яблок и вдруг ни с того ни с сего пошатнулась, словно равновесие потеряла, все вокруг почернело, и она упала на землю, утонув в запахе грубой дерюги. Кто-то, склонившись над ней, успокаивал, мол, все с ней будет хорошо, спрашивал, где она живет, а она просто сообразить не могла. Голова ее лежала на мешке с картошкой, а на чулке петля спустилась. Ей принесли воды – и стало легче. «Отель «Глостер», – сказала она. – Я легко дойду туда». Но какая-то добрая женщина отвела ее в отель, взяла ключ от ее номера и помогла подняться по лестнице. «Я бы на вашем месте немного прилегла», – сказала женщина, когда Луиза поблагодарила ее. Когда женщина ушла, она и впрямь легла на кровать прямо поверх скользкого одеяла. Было половина двенадцатого, судя по золотым часам, подаренным Судьей. Майкл раньше шести вечера не вернется. Она чувствовала себя разбитой, и неожиданно ей до боли захотелось домой. Она заплакала, а когда перестала и высморкалась в большой белый носовой платок Майкла, то опять легла. Смысла вставать, похоже, не было никакого.
После этого она по утрам лежала в постели, смотря, как Майкл бреется и одевается с, как ей представлялось, бессердечной быстротой, и молилась, чтоб случилось что-нибудь такое, что помешало бы ему уйти. Корабль, которым он командовал, был новеньким моторным торпедным катером, МТК, все еще стоявшим на стапеле на реке Медине, и он страстно восхищался всем, что происходило с судном. Каждый вечер он приходил домой, напичканный новостями о том, как у судна дела продвигаются (Луиза приучилась называть корабль по английской традиции, как каравеллу, «она», хотя про себя считала, что если корабль, то «он», а если судно, то «оно»). Потом они ужинали, потом он привлекал ее к себе, и они ложились в постель, и он исполнял супружеские обязанности – и всегда это было одно и то же, и она старалась не утратить к этому охоты. Она не жаловалась ему на то, как ей одиноко, бессмысленно… ну, если по правде, скучно: она стыдилась таких чувств. Другие флотские жены в отеле не жили, в нем других женщин вообще не было: люди приходили и уходили, похоже, одни они расположились тут надолго. Когда она рассказал ему, как потеряла сознание в лавке зеленщика, он улыбнулся и сказал:
– О, милая! Ты думаешь, что это может быть…
– Что? – Она поняла, что он имел в виду, но была настолько ошарашена таким предположением, что хотела потянуть время.
– Милая! Ребенок! То, ради чего мы так старались!
– Не знаю. Может быть, полагаю. Говорят, что люди в таком положении падают в обморок. И их тошнит по утрам. Только меня не тошнит ничуточки.
Вскоре после этого она все же познакомилась с еще одной флотской женой, леди намного ее старше, чей муж командовал эсминцем, и та попросила помочь ей в Миссии для моряков[20]. «Нам всегда не хватает усердных помощников, – сказала она, – для вас непременно найдется дело, милочка».
Так что каждое утро с девяти до двенадцати она либо помогала в столовой, либо заправляла бесконечные койки. При заправке приходилось снимать простыни со старых (как правило, до крайности серых да еще и с запрятанными пивными бутылками, носками и прочим хламом). Это совпало с появлением приступов тошноты по утрам. Когда Марджори Анструтер застала ее в позывах рвоты над раковиной, то отправила домой вылежаться, говоря, что она вполне все понимает и что Луизу, ставшую маленьким троянским конем, выставлять напоказ незачем. Тем все и кончилось. Она забеременела и понемногу свыклась с мыслью, что, видимо, так оно и должно быть: если выходишь замуж и больше тебе заняться нечем, то твое предназначение рожать детей. Хотя грядущее все еще втайне нагоняло на нее страх, у нее получалось казаться неунывающей, и очень скоро пришло письмо от Ци, в котором говорилось, с каким восторгом восприняла та это известие (сообщенное ей Майклом по телефону).
По утрам ее мучила тошнота, а порой и действительно тошнило, время она по большей части проводила в постели, но в полдень неизменно, как по часам, единственный немецкий разведывательный самолет пролетал над островом и в сторону Портсмута, и все корабли, стоявшие, как она выучилась говорить, на рейде Кауса, палили из всех имевшихся у них зенитных орудий. По самолету не попали ни разу, но грохот поднимали очень сильный, и Майкл велел ей в таких случаях всегда спускаться в вестибюль. Тогда она надевала пальто и брела вниз, храбро выдерживая вызывающие тошноту запахи варящихся лобстеров, долетавшие до фойе, в котором стекла от крыши до выстланного плиткой пола неутешно жаловались на пальбу, пока она читала очень старые номера «Иллистрэйтед Ланден ньюс». Минут через пятнадцать самолет скрывался. Тогда она шла обратно в номер и иногда собирала вещи и направлялась в ванную. Она стала страшиться одиноких обедов в обеденном зале отеля и обычно уходила в город, в кондитерскую, где продавали сдобные булочки и очень сытные корнуэльские слоеные пироги из сплошной картошки с луком. Довольно быстро ей стало нечего читать, но в городе был книжный, и она часами выбирала там книги, против чего владельцы, похоже, не возражали. Она читала романы Этель Мэннинг, Дж. Б. Стема, Уинифред Холтби и Сторма Джеймсона, а потом однажды нашла подержанную книжку Мэнсфилда Парка. Это походило на неожиданную встречу с давним другом, и, не в силах устоять, она купила ее. После этого купила все остальные, несмотря на то, что у нее дома в Суссексе имелся их полный набор. Книги Парка занимали и успокаивали ее больше, чем что-либо еще, и она прочла их все по два раза. Когда она писала Стелле, почти все письма были о том, что она читала. «Между прочим, я беременна!» – написала она в конце одного из писем. Восклицательный знак был призван придать фразе воодушевление. Она думала было написать Стелле, как относится к этому, о том, чем стала теперь для нее жизнь, но, как выяснилось, такое было для нее невподъем. Ведь это значило бы отнестись ко всему серьезно, она же чувствовала, что все слишком путано, и вообще была во всем не уверена, чтобы даже пытаться. К тому же она опасалась, что все прояснится настолько, что ей, может, невыносимо станет. Пока она играла свою роль (а она была влюблена в Майкла: только взгляните, до чего нестерпимы ей его ежеутренние уходы и как практически она часы считает до его возвращения), было бы чем-то вроде предательства говорить, что жизнь ей представляется трудной – или скучной. «Умные люди никогда не скучают», – обронила как-то Ци в Хаттоне во время их медового месяца. «Вы согласны с этим, Пит?» И Судья ответил, что скука подразумевает некоторую тупость. Она тупой быть не должна никогда.
К середине ноября корабль Майкла был готов, и Ци с Судьей приехали на ночь в Каус, поскольку леди Циннии предстояло спустить судно на воду. Номера были забронированы в отеле, и Майкл отпросился со службы пораньше, чтобы встретить паром в Райде.
Парадный обед – весьма грандиозный – устроили в Королевском яхт-клубе, поскольку Ци была знакома с адмиралом, бывшим членом клуба и пригласившим всех.
– Малышка Луиза, душечка! Выглядите вы великолепно. Пит привез вам список для чтения.
За обедом ели ненавистного лобстера, и Майкл с неиссякаемым воодушевлением рассказывал о своей посудине. «Я не дождусь увидеть ее!» – воскликнула Ци, и Луиза заметила, что Майкл прямо-таки купается в ее восторге. Обнаружилось, что адмирал, кого чета Стори звала Бобби, не собирается присутствовать на спуске, однако под конец вечера Ци уговорила его дать слово, что он прибудет.
Но на следующее утро Луиза, помимо особенно сильного приступа тошноты, почувствовала, что у нее болит горло и поднялась температура.
– Бедненькая моя! Впрочем, тебе лучше побыть в постели. Нельзя допустить, чтобы ты разболелась. Я попрошу прислать тебе что-нибудь на завтрак.
Ждать пришлось долго, наконец прибыл чай в обжигающем металлическом чайнике, два жестких подгорелых тоста и кусок ярко-желтого маргарина. Чай отдавал металлом, а на тост и смотреть-то было неприятно. Ну это ж все чересчур! Именно тогда, когда что-то на самом деле происходит, ей нельзя пойти, она обречена на еще один изматывающий день в одиночестве, только хуже обычного, потому что чувствует себя так жутко. Она встала с кровати сходить в туалет: покусывающая морозцем интермедия, в спальне не было обогрева. Она надела шерстяную кофту, какие-то носки и вновь улеглась в постель, прихватив аспирин, который послал ей сон.
Майкл вернулся вечером сказать, что будет ночевать на борту, поскольку на следующее утро кораблю предстоят ходовые испытания. Ци с Судьей уехали, зато мамочка была великолепна при спуске катера на воду, и они славно пообедали.
– Бедненькая, выглядишь ты все еще довольно скверно. Миссис Уотсон говорит, что посылала выяснить, хочешь ли ты обедать, но ты спала. Сказать им, чтоб принесли тебе чего-нибудь на ужин?
– Ты не мог бы поужинать со мной?
– Боюсь, не смогу. Меня ждут на борту. Командующий эскадрой ужинает у нас.
– Когда же ты вернешься?
– Завтра вечером, надеюсь. Но я предупреждал, дорогая, пока идут испытания, жизнь будет суетливой. Я не смогу все время ночевать на берегу. Нам невероятно повезло, понимаешь.
– В самом деле?
Он собирал бритвенные принадлежности и совал их в новехонький черный кожаный несессер.
– Дорогая, ну, разумеется. Мой первый помощник не видел свою невесту с Рождества. А наш штурман своего последнего сына еще в глаза не видел, а тому уж почти полгода. Я не говорю, что нам не нужно счастья, я хочу, чтобы ты была самой счастливой девушкой на свете, но совсем не повредит осознавать, что за благо нам дано. Большинство знакомых мне офицеров не могут поселять своих жен в гостинице. Не знаешь, где моя пижама?
– Боюсь, не знаю. – Ей было до того мерзостно при мысли о ночи и целом дне в полном одиночестве, что прозвучало это сердито.
– Должна же она где-то быть! Честное слово, милая, попробуй вспомнить.
– Ну, обычно горничная кладет ее под подушку, когда заправляет постель. Только сегодня утром она не приходила.
– А, ладно, возьму какую-нибудь из новых.
Однако, когда он их вытащил, то оказалось, что они почти без пуговиц.
– От, черт! Дорогая, могла бы и проверить, когда их из стирки вернули. В конце концов, не так-то уж жутко много у тебя забот и дел.
– Я их сейчас пришью, если хочешь.
– Было б чего пришивать, пуговиц-то нет. Тебе придется достать.
Он взял треугольную брошь Королевского яхт-клуба, подаренную ей адмиралом предыдущим вечером в честь принятия Майкла в клуб почетным членом: «Надо же, я, наверное, единственный флотский офицер, который застегивает пижаму вот такими штуками. Все, должен лететь. – Он склонился и поцеловал ее в лоб. – Держись бодрее, не давай себе чересчур расклеиваться. – В дверях, обернувшись, послал ей воздушный поцелуй. И сказал: – Очень ты уютно выглядишь.
После того как он ушел и она убедилась, что уже не вернется, она заплакала.
Когда ей стало лучше, он предложил ей поехать ненадолго к себе домой, пока он не закончит с испытаниями. «Тогда, когда я узнаю, куда нас пошлют, ты снова сможешь ко мне приехать».
Противиться она не стала. Тоска по дому, не совсем, но почти такая же, как и та, что овладевала ею в детстве, нападала на нее, она лежала по утрам в постели после его ухода и тосковала по знакомому невзрачному дому, который всегда был таким наполненным и в котором не смолкало звучание стольких многих жизней: одышливый писк коврочистки, свистящий скрежет граммофона в детской с попеременными «Танцем кузнечика» и «Пикником плюшевых медвежат», размеренное бормотание диктующего Брига, жужжание швейной машинки Дюши, запахи кофе, глаженого белья, не желающих гореть поленьев, вымокшей собаки и пчелиного воска… Она проходила каждую комнату в доме, поселяя в них подобающих обитателей. Все в них, что прежде вызывало у нее скуку или раздражение, ныне, казалось, делало их только очаровательнее, дороже и нужнее. Страсть тети Долли к мотылькам, вера Дюши в то, что горячий парафин незаменимое средство для пятой точки, решительное стремление Полли с Клэри не подавать виду, насколько их впечатляет ее намного большая взрослость, чем их собственная, жутко похожие подражания Лидии кому угодно, кого она возьмется имитировать. Мисс Миллимент, ничуть не меняющаяся внешне, но тем не менее таинственно постаревшая, голос ее стал мягче, подбородок размяк еще больше, одежда на ней беспорядочно усыпана крошками древних яств, но ее маленькие серые глаза, увеличенные под определенным углом стеклами узких очков в стальной оправе, по-прежнему неожиданно проницательны. А вот и полная противоположность – тетя Зоуи, которая пленительно выглядит во всем, что бы ни надела, чьи уже годы, проведенные в деревне, вовсе не исказили производимого ею впечатления модницы и красавицы. А милая тетя Рейч, самой высокой оценкой которой является слово «разумный»: «такая разумная шляпка», «по-настоящему разумная мать». «Собираюсь сделать тебе по-настоящему разумный свадебный подарок, – сказала она. – Три пары двуспальных полотняных простыней». Все они дома со многими другими подарками дожидаются, когда у них с Майклом появится собственный дом, хотя бог знает, когда это будет. Наверное, во всем война виновата, что жизнь кажется такой необычной. Занятия в кулинарной, а потом в театральной школе, казалось, придавали логичность отъездам из дома: они были частью ее взросления и подготовки к великой карьере на сцене. Зато замужество переменило все – во многом так, как ей и не предвиделось. Когда выходишь замуж, то уход из дома дело куда более окончательное. А что до карьеры, то нет не только никаких признаков близкого конца войны, когда ей можно было бы вернуться к ней, но появилась еще и проблема детей. Ее мать перестала танцевать, когда вышла замуж, больше не танцевала никогда. Впервые она задумалась, чего это ей стоило, противилась ли этому мама или сама предпочла оставаться только замужем. Но почему-то в свое ностальгическое видение Родового Гнезда и семейства она не могла или не хотела включать родителей: было что-то (а у нее не было желания доискиваться, что), что смутно ощущалось… неловкостью. Ей было только то известно, что в последние недели перед свадьбой ей стало невмоготу оставаться наедине с матерью почти так же, как и оставаться наедине с отцом, хотя и не совсем, если совсем не по одним и тем же причинам. Это вносило путаницу, потому как она видела, как настойчиво старается мать сделать все, чтобы свадьба прошла успешно. Она была бесконечно терпелива в отношении примерок платья и другой одежды, отдала ей свои купоны на одежду, даже спросила, не хочет ли она предложить своей подруге Стелле стать подружкой невесты. Стелла отказалась (мягко, но решительно), пришлось выбирать, и в конце концов подружками стали Лидия, Полли и Клэри. Зоуи, ее мать и Дюши сшили им платья из белого гардинного тюля, который ее мать выкрасила в чае, так, чтобы получился теплый кремовый цвет. В лондонских магазинах все еще были ленты из чистого шелка. Тетя Зоуи выбрала цвета: розовый, оранжевый и темно-красный – и сшила ленты в куски для изготовления саше. Платья были простыми: с высокой талией, низким округлым вырезом и густой тесьмой по подолу – «Словно малышки кисти Гейнсборо»[21], – заметил Судья, увидев их возле церкви. За короткое время между обручением и свадьбой предстояло сделать жутко много дел, и большая их часть легла на плечи матери. Только несмотря на все то, что матерью было устроено, несмотря на написанные и разосланные ею письма, договоры и уговоры, чувствовалось ей что-то такое в отношении матери, что было попросту непереносимо: от этого появлялись у нее холодность, угрюмость, раздражительность, она резко отвечала, когда задавались совершенно обычные вопросы, потом стыдилась этого, но никак не могла заставить себя извиниться. В конце концов она выяснила, что это: вечером накануне свадьбы мать спросила, имеет ли она представление «о всяком таком». Она мгновенно ответила, мол, да, имеет. Мать выдавила из себя улыбку и сказала: что ж, она полагает, что Луиза научилась всему этому на этих ужасных актерских курсах, – добавив, что ей не очень бы понравилось, если бы дочь вступала в брак «неподготовленной». Всякая недомолвка обращает все в нечто тошнотворное, а недомолвки, как она поняла, были лишь верхушкой айсберга. В горячке отвращения и гнева тогда ей казалось, что ее мать все те недели ни о чем другом не думала, как только безудержно гадала и представляла себе ее в постели с Майклом, проявляя отвратительнейшее любопытство к тому, что к ней не имело совершенно никакого отношения! (Как будто замуж выходят за кого-то, только чтобы с ними спать!) После этого в тот вечер мать не могла и слова сказать без какой-либо тошнотворной двусмысленности. Да ей нужно было лечь спать пораньше, нужно было хорошенько выспаться, ведь завтра должно быть таким днем. «Ты должна быть свежа для этого». Ну и пусть, подумала она тогда, наконец-то сбежав к себе в комнату в доме дяди Хью, через двадцать четыре часа она будет за много миль от нее. И такого больше никогда не случится.
Ей удалось совсем не оставаться наедине с отцом до самого дня свадьбы, когда он вломился, как раз когда она заканчивала одеваться, с початой бутылкой шампанского. «Я подумал, что мы с тобой могли бы выпить по бокалу, – сказал он. – Чтоб море по колено, разве не знаешь?» Выглядел он очень лихо в своем утреннем облачении с бледно-серым галстуком и белой розой в петлице. К тому времени она уже занервничала, и шампанское казалось неплохим подспорьем.
Он вытащил пробку из бутылки, поймал пену в один из бокалов. Потом поставил их на туалетный столик, и тут она заметила, что он разглядывает ее отражение в зеркале. Увидев, что она заметила, отец отвернулся и наполнил оба бокала.
– Пожалуйста, дорогая, – подал он ей вино. – Ты даже представить себе не можешь, сколько счастья я тебе желаю.
Последовало легкое молчание, пока она принимала бокал. Потом он произнес:
– Ты выглядишь… ужасно-ужасно красиво, – голос его звучал просто, едва ли не застенчиво.
– О, папа! – произнесла она и попыталась улыбнуться, но у нее защипало в глазах. Ничего больше выдавить из себя не получилось.
– За мою самую старшую незамужнюю дочь, – произнес он, поднимая бокал. Они оба улыбнулись друг другу: прошлое мечом стояло между ними.
Только вернувшись в Суссекс, она вспомнила все эти сцены – когда была одна, когда не исполняла никакой роли.
– Ты ощущаешь себя другой в замужестве? – в первый же день спросила Клэри.
– Нет, не особо, – ответила она, высокомерная старшая кузина.
– А почему нет?
Простота вопроса поставила ее в тупик.
– А почему должна?
– Ну… то есть начать с того, что ты уже не девственница. Полагаю, ты не станешь делиться со мной, на что это похоже, а?
– Не стану.
– Я так и думала. Я понимаю, как ограничены писатели, кому почти все время приходится опираться на непосредственный опыт. Или прочитать о чем-то совсем не то же, когда кто-то тебе расскажет.
– Ты куда как слишком любопытна, даже болезненно. – И прибавила: – Немного противно к тому же.
Но Клэри, наслушавшись бездны обвинений в любопытстве, приучилась оправдывать его.
– Это совсем не так. Просто если люди и то, как они себя ведут, интересуют тебя по-настоящему, то есть много такого, что пробуждает любопытство. Например… – Но Луиза увидела за окном на дорожке катящую на велосипеде Зоуи и побежала вниз ей навстречу. – Нет, честное слово! Сыта по горло людьми, которые меня обвиняют, а потом не слушают ничего, что я говорю, – позже жаловалась Клэри Полли, пока они ждали в дневной детской, когда Эллен вскипятит воду, чтобы наполнить ею грелки. – Дело ведь не в том, девственница она или нет, мне так же любопытно знать про заключенных, монашек, королевское семейство, деторождение, убийство и про всякое такое – про все, что либо со мной еще не случилось, либо не случится никогда.
– Единственное из последнего – это королевская семья, – указала Полли: она привыкла к этим спорам.
– Нет, а как же твоя любимая песенка? «Мне столько радости, что мне не быть монашкой».
– Не знаю, насколько радость по мне, – печально выговорила Полли. – Не так-то много на самом деле нам достается ее, чтобы выяснить.
* * *
Она не хотела уведомлять семейство о своей беременности, но в первое же утро ее так скрутило, что она не смогла встать к завтраку. Узнать, почему она не спустилась, прислали Лидию.
– Так, ничего. Должно быть, съела что-нибудь.
– Ой, бедняжка! Это, наверное, этот жуткий мясной хлеб, что был вчера на ужин. Знаешь, что Невилл считает? Он считает, что миссис Криппс подбавляет в него мышей и ежиков. Он считает, что она, наверное, ведьма, потому что у нее волосы черные и лицо практически светится в темноте. Даже лягушек, он считает, она, может, подбавляет – размятых, знаешь, он считает, что, может, такое склизкое, желе по бокам – это жабья слизь…
– О, Лидия, закрой рот.
– Извини. Я только стараюсь сообразить, что бы это могло быть. Принести тебе чаю?
– Спасибо, было бы чудесно.
Однако с чаем и тостом пришла ее мать и, похоже, сразу же все поняла, не успела Луиза и слова сказать.
– О, дорогая! Как восхитительно! Майкл знает?
– Да.
– Он должен быть рад.
– Он рад – очень.
– Ты была у врача?
– Нет.
– Что ж, доктор Карр ужасно хорош. Съешь тост, хотя бы безо всего. Тост и лепешка на воде – это то, что надо, при тошноте по утрам. Сколько уже?..
«Недель пять, – подумала она. – А кажется, будто вечность».
В конце концов она пробыла дома почти месяц, к тому времени д-р Карр подтвердил, что она беременна. Все считали, что она в восторге оттого, что предстояло. Единственным человеком, кому она почти доверилась, была Зоуи. Она помогала укладывать Джульетту спать. «Накорми ее ужином, пока я приберусь», – попросила Зоуи. Они были в детской одни: Эллен купала Уиллса с Роли.
Джульетта восседала на своем высоком стульчике. Она хотела есть сама, что было делом неряшливым и безрезультатным. «Нет, Жуля сама», – упиралась она всякий раз, когда Луиза пыталась забрать у нее полную ложку.
– Силы небесные! Да ее снова мыть придется.
– О, я просто вытру губкой самую грязь. Надо давать им учиться.
– Я ничего не знаю про маленьких.
Зоуи быстро глянула на нее, выжидая, не скажет ли она еще чего, но она замолкла. В последнее время ей часто приходилось стараться не заплакать.
– Послушай, – сказала Зоуи. Она пересекла комнату и села за стол рядом с Луизой и высоким стульчиком. – Я тоже ничего не знала. И это ужасающе, потому что все считают, что ты знаешь.
– И что ты в восторге, – сдавленно выговорила Луиза.
– Да.
– А вы не были?
– В первый раз – нет. А потом все твердили, что должна еще одного родить, а я не хотела.
– Но ведь родили.
– Не тогда, не сразу.
Джули, подожди. Дай я сначала тебя немного почищу.
Зато, когда она у меня наконец появилась – это было чудесно. Это было… понимаешь, Руперта-то нет, только в ней и была вся отрада. Я до того боялась, что с ним что-то случится, это казалось самым страшным, что могло случиться на свете, и потом это случилось… но тогда уже была Джули.
– Потрясающе!
– Нет. Сначала на горшочек.
Но Джули с этим не согласилась. Она легла на пол, выгнула спинку и устроила буйную истерику.
Луиза следила, как обходилась с этим Зоуи. Наконец Джули оказалась на горшке с маленьким кусочком шоколадки.
– Обычно выходит компромисс.
– Тетя Зоуи, я…
– Я бы предпочла, чтоб ты бросила это «тетя». Извини! Так что?
– Просто я хотела сказать, что не представляла того… какое же ужасное время вам, должно быть, выпало.
– Откуда тебе было представить? Ты была ребенком. И в любом случае тебе куда тяжелее. Я не зачала, пока пять лет замужем не пробыла, и Руперт тогда не был на войне. А у тебя все это сразу.
В чем-то этот разговор утешил, но в другом – нет. Наверное, как и Зоуи, она будет по-иному относиться к ребенку, когда он появится, с другой стороны, в первый раз на ее пути встала наводящая ужас угроза, что Майкла убьют.
Несколько вечеров спустя, когда он позвонил (что время от времени делал), то сказал, что сможет вырваться на ночку и не заехать ли ему в Суссекс. «У нас с двигателем нелады, так что я могу отлучиться на денек-другой».
У нее сердце запрыгало от восторга, все радовались за нее, и все семейство взялось за подготовку торжественной встречи. Дюши купила к ужину связку фазанов; Бриг все утро отбирал и разливал порт; Лидия устроила ссору с Полли из-за того, чтобы надеть к ужину их платья подружек невесты (Полли сочла это неподобающим, но Лидия, которая старательно надевала свое на уроки, к чаепитию по воскресеньям и тайком после мытья, настроилась решительно).
– Это как раз то, что совершенно подобает носить к ужину, – заявила она, – и это напомнит Майклу о былых временах – о его чудесной свадьбе и всяком таком.
– Тебя не будет за ужином, – сказала тогда Полли.
– Буду! Луиза! Ты же мне позволишь, да, как своей сестре?
Однако, прежде чем Луиза успела ответить, их мать сказала, мол, боится, что тут и сомнений быть не должно. Фазанов на всех не хватит: тетя Долли будет ужинать у себя наверху, а тетя Рейч объявила, что для нее фазаны еда чуточку несъедобная и она обойдется вегетарианской пищей.
– А разве я не могу сидеть за ужином и есть вареное яичко?
– Нет, не сможешь. Мисс Миллимент подадут ее яйцо на ужин в детскую. Можешь составить ей компанию.
– Очень чертовски большое тебе спасибо.
– Довольно, Лидия. Я уже просила тебя не употреблять этого слова.
– Это ж будет обычный старый ужин, – сказала Клэри, когда Вилли вышла из комнаты.
– Для меня он не был бы таким. Как правило, меня на ужины не зовут. Кажется, я сама на себя накликаю несчастье. Похоже, им в голову не приходит, что нас всех разбомбить может еще до того, как я дорасту до каких-нибудь привилегий. Мне предстоит совершенно напрасная жизнь.
Клэри с Полли обменялись тоскливыми, нарочито взрослыми взглядами, но потом утешающе и сочувствующе запричитали. Однако Луиза уловила легкое раздражение в голосе матери и поняла, что сочувствует ей. Лидия всего-навсего пыталась изменить правила: все дети делали это, как же, даже она сама такое же вытворяла вечность тому назад. Попав домой, она определенно чувствовала себя старше, хотя и не одного возраста с другими в семействе.
Майкл приехал на поезде в тот же вечер, и она отправилась встречать его с Тонбриджем, звавшим ее теперь «мадам». Он так медленно вез ее в Баттл, что она опасалась опоздать, но они не опоздали. Она всего минуту простояла у двери кассы, когда подошел поезд. Хотя стояла темень, щелочки и полоски тускло-желтого света пробивались от вагонов: кто-то двери открыл, кто-то из пассажиров шторку затемнения отодвинул в тщетной попытке увидеть, куда они прибыли. Станции настолько давно уже стояли без названий, что большинство людей привыкли к этому и попросту отсчитывали количество остановок, однако всегда находились нетерпеливые чужаки.
– Подумать только, ты – и здесь!
– О… просто подумала… если я встречаю достаточно поездов, то обязана знать кого-то, кто сойдет с одного из них.
Он обнял ее свободной рукой и прижал к себе, прежде чем поцеловать.
– До чего ж я рад тебя видеть! Как Наш Барин по- живает?
– Кто?
– Наш ребенок.
– Отлично.
– Девочка моя дорогая! Как же я скучал!
Ощущение восторга и счастья вернулось. Он носил шинель, от которой шел слабый запах дизельного топлива, соли и камфоры, поднятый воротник укрывал шею, кокарда на его фуражке слабо поблескивала в темноте, когда он поворачивал к ней голову. Они сели, держась за руки, и повели взрослый разговор, чтобы произвести впечатление на Тонбриджа.
– Новости радуют, верно? Старина Монти[22] дает как надо.
– Ты считаешь, что мы действительно выигрываем войну?
– Сама суди, – сказал он, – такое впечатление, что поток обращается вспять. Русские держатся в Сталинграде. Северная Африка определенно пока наша самая большая победа. Но нам еще шагать и шагать – путь долог.
– Что с твоим кораблем?
– Забарахлил двигатель левого борта. Каждый раз его вроде бы чинят, и каждый раз он выходит из строя. Так что теперь предстоит настоящий серьезный аврал. Было, разумеется, и другое всякое. Но команда держится молодцом. Малыш Тернер припас нам немного сыра для тебя, он у меня в чемодане. Я тоже баночку масла заначил. Так что надеюсь, встретят меня приветливо.
– Так встретили бы в любом случае, – сказала она. – Все так хотят повидаться с тобой. Лидия хотела в твою честь надеть платье подружки невесты. Ты как, не смог бы нарисовать Джульетту? Для Зоуи это была бы такая радость.
– Попробую. Нелегко, потому как в этом возрасте они не сидят спокойно. Ты моя лучшая натурщица. А которая Джульетта?
– Самая маленькая моя кузина.
– Она была восхитительна. Надо будет попробовать. Времени, правда, не очень-то много.
– Тебе когда обратно надо?
– Боюсь, завтра днем.
Не сказал он тогда ей того, и выяснилось это только за ужином (как ей показалось, почти случайно), что на следующий день он не обратно на корабль отправится, а собирается участвовать в авианалете на Германию. «Меня подхватят в Лимпне – это, кажется, ближайший к вам аэродром, но дьявольски мал для такого бомбардировщика, как «стирлинг». Впрочем, говорят, что в самый притык смогут. Это было бы супер, – ответил он Вилли, предложившей подвезти его на аэродром. – Так было бы приятно, когда семья провожает в полет.
– Зачем, скажи на милость, ты летишь на бомбардировщике? Ведь тебе же не приказали, нет?
– Нет. Просто подумал, забавно было бы. В данный момент меня весьма интересует маскировка. Сказал, что мне было бы полезно пролететь по воздуху. И со мной согласились.
Гордость не позволила ей дать семейству понять, что для нее это – новость. Но когда они остались вдвоем, раздеваясь перед сном, она спросила:
– Почему ты мне не рассказал?
– Я собирался. И рассказал.
– Никак не соображу, зачем тебе это нужно. Ты же можешь, тебя же могут…
– Нет, милая, это очень навряд ли. Где ванная, дорогая? А то я ориентировку потерял.
Она объяснила, и он ушел. Пока она была одна, остатки новостных сообщений бомбами сыпались на нее: «Три наших самолета не вернулись», «С задания не вернулись два наших бомбардировщика». Он безумец, если отправляется на такое, когда не обязан. Конечно же, это опасно. С его стороны нечестно рисковать своей жизнью – намеренно, как выяснилось, – коль скоро он женился на ней и так рвался иметь семью.
– А Ци знает? – спросила она, когда он вернулся. (Это могло бы его остановить: она была уверена, что Ци была бы против.)
– Да. Разумеется, ей это не нравится ничуть не меньше, чем тебе, милая, она тоже меня любит, знаешь ли. Но она просто обвила меня руками, крепко обняла и сказала: «Ты должен делать, что тебе нужно». Вообще-то, – сказал он, улыбаясь воспоминанию, – она сказала: «Мужчина должен делать, что мужчине делать надлежит». Она удивительная – на самом деле.
– Ты видел ее вчера вечером? Значит, она приезжала в Каус?
– Нет, она приехала в Лондон на одну ночь. Там пьеса Джека шла, и ей хотелось посмотреть.
– Джека?
– Джека Пристли[23]. Вот мы и сходили на нее. Очень славная пьеса. Мы оба думали о тебе, о том, какое удовольствие она тебе доставила бы.
Все это было уже слишком. У него отпуск на две… нет, на три ночи, а он предпочел провести первую со своей мамой, а третью – участвуя в воздушном налете на Германию. Она разрыдалась.
– Ну же, дорогая, – говорил он, – ты не должна расстраиваться. На самом деле не должна. Это война, знаешь ли. Мне придется всякое делать, что сопряжено с определенной опасностью, – на то она и война. Ты должна научиться встречать опасность, не робея.
Половину следующего утра он потратил на рисунок Джульетты, а вторую половину учил ее коду, с тем чтобы, если его возьмут в плен, он мог бы сообщать о своих планах побега в невинном на вид письме к ней. Он выписал образцы кода своим красивым четким почерком и велел ей запрятать его куда-нибудь понадежнее.
– Разве что ты его наизусть выучишь, – сказал. – Это было бы лучше всего, разумеется.
Потом был обед: фрикасе из кролика и крыжовенный кисель со сливками, – только ей кусок в горло не лез, тупо внимала обычному семейному спору, кто поедет на экскурсию на аэродром. Лидия решительно настроилась ехать, и Уиллсу хотелось на самолеты посмотреть, но, раз уж в любом случае она с ним наедине не останется, то ее это не очень-то и заботило. Майкл привез купоны на горючее (должно быть, намеревался найти попутную машину, подумала она), так выходило, будто все, что он собирался сделать в жизни, оставалось ей неизвестно, пока не происходило. В машине она и он сидели сзади, а впереди вертелись и трещали дети. Она сделалась безразличной, просто соглашалась со всем, зато внутри со страхом ощущала холод и тяжесть. Через час, думала она, он улетит, и, возможно, она его больше не увидит никогда, а он, похоже, и не ведает, не сознает, что это значит. Провести свой последний час за чтением карты, пока на переднем сиденье шла игра «я пошпионю одним глазком», – это казалось ей странным.
В конце концов они добрались до прибитой ветром, но ярко-зеленой травяной взлетной полосы, и все вышли из машины. Шел дождь, несильный, но непрестанный. Майклу отдал честь очень молодой мужчина в форме Королевских ВВС, и их провели в избушку, где сильно пахло керосиновой печкой, которая помогала избавляться от полного холода.
Здесь находился офицер, представившийся начальником авиабазы, он сообщил, что был изумлен, узнав, что здесь намерен приземлиться «стирлинг»: «Должен доложить, что я сомневаюсь, что у него это получится».
На какой-то миг ей представилось, что посадка сорвалась: самолет, сделав петлю, улетает и не берет с собой Майкла. Но уже через секунду послышался гул моторов – и вот он, самолет. Он казался громадиной. Сделал круг над ними, а потом пошел на посадку с дальнего конца посадочной полосы, остановившись окончательно в самом ее другом конце, едва не заехав своим тупым носом за ее край.
– Порядок, – сказал Майкл, – вот и поехали. Я не должен их задерживать. – Он крепко расцеловался с тещей, склонившись, чмокнул Лидию в щечку, и она, вздрогнув, залилась краской, кивнул Уиллсу, кто завороженно разглядывал «стирлинг», и наконец повернулся к ней, положил ей руки на плечи и поцеловал в губы поцелуем, который едва ли не завершился, еще не начавшись. «Выше клювик, моя дорогая, – произнес. – Я завтра позвоню. Обещаю».
Ее мать увела двух детей к машине. Уиллс ударился в отчаянный рев, когда понял, что вовнутрь самолета ему не попасть. Она же стояла и смотрела, как он поднимается в бомбардировщик, следила, как втягивают за ним узкую лесенку, следила, как плотно закрывается дверь, или люк, или как у них там, скрывая его из виду, следила, как самолет неуклюже развернулся и покатил прочь по дорожке.
– Ветер восточный, – сказал начальник авиабазы. – Они полетят в сторону моря, а потом повернут и снова пройдут над нами. Можете тогда им помахать.
И она выждала несколько минут, чтобы проделать это, гадая, видно ли ему ее, и, даже если видно, станет ли он смотреть.
Ее мать была очень добра к ней именно так, как было нужно: она ясно дала понять, что считает, что это тяжело, но развивать тему не стала.
Лидии захотелось поехать в Гастингс и выпить чаю в чайной. «Раз уж мы столько сюда проехали. Чтоб настоящее удовольствие получить».
Вилли повернулась к Луизе, сидевшей впереди рядом с ней:
– Ты этого хочешь, дорогая?
Она повела головой. Как часто случалось в последнее время, она была опасно близка к слезам.
– Тогда поедем домой.
Домой они ехали в сумерках, и в тот вечер она осталась с семьей послушать девятичасовые новости. «Французский флот был брошен своими экипажами в Тулонской гавани, – начал диктор, – но в конце концов дошло и до больших налетов, осуществленных на Киль и Кельн вчерашней ночью». Тогда она сообразила, что не узнает ничего о налете, в котором участвовал Майкл, пока он не позвонит. Так что тот самолет, о каком сообщили, как о не вернувшемся, не имеет к нему никакого отношения. Вскоре ей настолько нестерпимо стало выносить атмосферу скрытого сочувствия, что она ушла спать и, оказавшись в кровати, разразилась тем, что в семье называлось добрым плачем. У ее появился страх, что Майкл ее не любит и что его убьют.
Новый, 1943 год
– Но как бы то ни было – с Новым годом.
Повисло такое молчание, что она спросила:
– Дорогая, ты же знаешь, как я расстроена. Или, наверное, не знаешь.
– Да, думаю, что не знаю.
– Что ж, я знаю. Только просто не могу бросить бедную старушку Долли, за которой некому присмотреть.
«Некому! – подумала Сид. – Дом битком набит жильцами и слугами. Что она хочет сказать этим «некому»?» Вслух же сказала:
– Положим, я ногу сломаю, ты бы пришла ухаживать за мной?
– Дорогая! Ты же знаешь, что пришла бы. – За иронию Рейчел не пряталась. Пылкая нежность ее ответа вызвала на ее глазах слезы любви и обиды. Маленькая передышка – даже праздником не назовешь, – когда Рейчел провела бы пару ночей с ней в Лондоне, расстроилась, как и многие другие их ретивые, обнадеживающие планы, которые они строили в последнее время. Обычно расстраивал их Бриг, старый деспот, на сей раз – Долли со своим гриппом. Легко могла бы быть и Дюши. Всегда нашелся бы кто-то из стариков, за кем Рейчел стала б присматривать, из них там целая очередь, пока мы сами тоже не состаримся…
– А ты никак не сможешь приехать?
– Тебе отлично известно, что я дежурю. На Рождество я не дежурила, так что придется на Новый год.
– Ладно, дорогая. Я вполне понимаю. Во всяком случае, к концу следующей недели я буду свободна.
– Ты всегда так говоришь.
– Разве? Я хотела сказать, что мне придется к зубному сходить. По-моему, у меня абсцесс опять на зуб переходит. Вот я и записалась.
– Больно?
– Когда как. Не о чем беспокоиться. Аспирин боль снимает. Боюсь, мне пора. Вилли ждет, ей позвонить нужно. Еще раз – с Новым годом. Ты бы позвонила той бедной девочке и пригласила бы ее на ужин, а?
Повесив трубку, Сид подумала: а почему бы и нет? Она до того сыта расстройствами, привыкла к ним, до того устала от бесконечных расстроенных и порушенных надежд, ее настолько изводила общая хроническая ревность к избыточному (с ее точки зрения) бескорыстию Рейчел, столь постоянно проявляемому (это всегда внушало ей изводящий душу страх, что она теряет свою значимость для Рейчел или что никакой значимости в действительности с самого начала не было), что мысль провести вечер с той, кто открыто обожает ее, легла бальзамом на душу. Той, кто, по крайней мере, хочет побыть с ней, кто поймет, если ее вдруг вызовут на станцию скорой помощи, кто дождется ее возвращения, кто наверняка по достоинству оценит то скромное пиршество, которое она приготовила, чтобы порадовать Рейчел, и у кого наверняка не хватит духу есть в одиночку. Как бы то ни было, она была не вполне уверена, что звонок Тельме окажется благом. Одно дело давать ей бесплатные уроки игры на скрипке – это воспринималось ею как ее долг перед бедняжкой. И водить ее время от времени на концерты тоже представлялось вполне пристойной добротой. А вот пригласить ее на ужин… это придаст новую основу их отношениям и, возможно, таким, какие она окажется не в состоянии поддерживать. Тельму ей было жалко: как было ее не жалеть? Родители Тельмы погибли: отец – участвуя в североатлантическом конвое, мать – во время воздушного налета на Ковентри. Похоже, что другой родни у девочки не было, и она сражалась за выживание, хватаясь за подворачивавшуюся плохо оплачиваемую временную работу. Сид с ней познакомила неистово добрая леди, управлявшая столовыми на разных станциях скорой помощи. Девочка приходила убираться в ее доме, но, уверяла леди, на самом деле она одаренный музыкант. Как-то, вернувшись неожиданно домой, миссис Дэйвенпорт застала ее за игрой на фортепиано – играла она «просто поразительно хорошо». Разумеется, она сама ничего не понимает в музыке, говорила леди, но сразу же поняла: у этой девочки есть дар… А девочка рассказала ей, что не считает фортепиано по-настоящему своим инструментом: она считала себя скрипачкой.
Разумеется, она согласилась прослушать девочку, в чьем музыкальном таланте не оказалось ничего примечательного. Зато у нее было такое желание, такое рвение учиться, и все в ней так явно говорило о стремлении стать профессиональным музыкантом, что Сид, тосковавшая по преподаванию больше, чем сама представляла, взялась за нее. Тельма была признательна – причудливо, трогательно. Сид постоянно получала маленькие подарки: букетики фиалок, пакетики сладостей, пачки сигарет – и вместе с ними целый поток открыток. К тому же она исключительно усердно работала со скрипкой в промежутках между еженедельными уроками. Когда племянница Рейчел вышла замуж и Сид присутствовала на свадьбе, Тельма сделала подборку вырезок из солидных газет об этом событии, и Сид, кого во всем этом больше всего радовала возможность повидать Рейчел, переслала той эту подборку с припиской: «От моей маленькой неутомимой ученицы». «Но, осмелюсь предположить, – написала она дальше, – что кому-то из вашей семьи захочется их посмотреть». Разумеется, ей было жалко Тельму, но, возможно, не настолько жалко, чтобы встречать с ней Новый год. Нет, она поужинает одна.
Только она решила это, как зазвонил телефон: Тельма спрашивала, можно она принесет маленький новогодний подарок? И уже через секунду Сид не только пригласила ее отужинать, но даже и предложила: если Тельма хочет встретить с нею Новый год, то лучше ей захватить с собой вещи, чтоб можно было переночевать. Поскольку Тельма снимала комнатку около Ватерлоо и вряд ли могла позволить себе вернуться домой на такси, такое предложение выглядело небольшим проявлением доброты на практике. «То, что Рейчел наверняка сделала бы», – сказала Сид себе. Она чувствовала себя усталой и подавленной, эгоистичной и обиженной, вовсе не расположенной ни к какой праздничности. Когда Новый год состарится на неделю, ей стукнет сорок четыре, и у нее было такое чувство, что она никогда не перестанет еле-еле сводить концы с концами безо всякой радости под конец.
* * *
– Дорогой, не надо так говорить. До Нового года еще самое малое четыре часа.
– Я, видно, буду говорить так всякий раз, как выпью. А нынче вечером это будет довольно часто.
– Плохая неделя?
– Чертовски ужасная неделя.
– Опять Хью?
Он кивнул.
– Не знаю, что в старину вселилось. Он всегда был упрям, как мул, но в последнее время, что бы я ни сказал, он нарочно твердит обратное. А потом отстаивает это. И никак его с места не сдвинешь.
Диана не успела ответить, как сверху донеслись вопли.
– Я поднимусь взгляну. Дорогой, просто расслабься. Выпей еще виски. Мне, видимо, какое-то время придется его ублажать. Сосни немного: до ужина еще полно времени. Подбрось в огонь еще полено, слышишь, дорогой?
Поленья лежали в большой корзине у громадного открытого очага. Он осторожно поднялся с кресла: в коттедже было полно балок, и последнее, чего бы ему хотелось, это башку о них проломить. Она устроила все очень мило: помещение, занимавшее почти весь первый этаж, было и гостевой и столовой вместе, там же была кухонька с печкой, топившейся углем или дровами, умывальником, подставкой для сушки и дверью, ведшей в кладовку-ледник. Основная комната была заставлена довольно потертыми диваном и двумя креслами, отчищенным столом, накрытым к ужину, комодом, на котором держали фарфор, а в дальнем углу, около входной двери, напротив которой висел старый ковер, предохранявший от сильных сквозняков, располагался детский манеж с моющимися детскими книжками, кубиками и несколькими тряпичными куклами-животными, которые с какой-то стоической отрешенностью сидели, прислонившись к прутьям ограждения. В конце комнаты стоял трехколесный велосипед Джейми, рядом – его резиновые сапожки. Помимо очага, комнату освещала большая керосиновая лампа, стоявшая на комоде и еще больше наполнявшая все вокруг потоками сочного золотого света и таинственными сумеречными тенями. В дневное время в комнате с ее маленькими, глубоко посаженными окошками было довольно темно, ночью же она начинала жить своей жизнью. Хорошо тут, подумал он. Дома был бы Хью, и либо мы с ним в очередной раз поссорились, либо все выходные пили бы изо всех бутылок.
Он налил себе. Спать не хотелось, хотелось самому пройти через все это и, возможно, суметь отрешиться от излишнего гнева, туманившего его разум. Точно. Они достаточно долго добивались компенсации за ущерб, причиненный причалу войной, были месяцы оценок, ревизий книги фондовых ценностей, писанины всех мыслимых видов, но в конце концов выплатили – сто процентов как за ремонт собственности, так и за стоимость хранившегося там товара. Казалось бы, прекрасно. Но тут, как гром с ясного неба, в конце того налогового года фирма столкнулась с налогом на избыточную прибыль на весь товар, словно бы они продали его, что означало, по сути, что они не получают за него ничего. Налогом обложили всю прибыль за лес, что был продан, но то был весь запас, стоивший добрую половину из двухсот тысяч фунтов: платить с этого НИП, по сути, означало, что оставшимися деньгами его не возместить. Он был до того разъярен, что тут же пошел к адвокатам, хотя Хью и предупреждал, что в этом нет смысла. Им попросту придется заплатить налог, говорил он, – снова и снова. Адвокат был довольно хилым: утверждал, если они станут биться, то дело, несомненно, дойдет аж до палаты лордов, поскольку оно создавало бы прецедент или в лучшем случае стало бы попыткой помешать его установлению. Он переговорил со Старцем, который предложил им переговорить с его приятелем из министерства торговли. «Выясните, много ли таких случаев или наш единичный», – посоветовал он. Приятель Старца заявил, разумеется, что на самом деле это не в его компетенции, но к тому же более или менее дал понять, что, по его разумению, им следует смириться. Хью мрачно торжествовал: «Говорил же тебе, не будет ни малейшей пользы, простая трата времени и денег». Только он чувствовал: слишком многое для них в этом на кону, чтобы успокаиваться. Те деньги представляли собой их торговое будущее, и, учитывая, что строевой лес неуклонно рос в цене, к тому времени, когда им потребуется обновить запасы, они в любом случае не смогут восполнить того, что было уничтожено при бомбежках. НИП был последней соломинкой. А потому сегодня утром он еще раз предпринял попытку подвигнуть Хью на борьбу за все дело целиком. Тут не только их деньги затронуты, убеждал он, есть еще и принцип: со стороны правительства явно несправедливо превращать компенсацию за понесенный ущерб в своего рода надуманную прибыль, считать это за продажу. Хью с этим, казалось, согласился, но затем повернул все на высокие издержки по найму подходящих адвокатов, которые действовали бы от их имени, на чудовищную трату времени, на то, что у них не хватает работников, а это окажется задержкой на месяцы. «А главное, – сказал он под конец, – у нас нет никаких гарантий добиться успеха. Мы попросту можем впасть в еще большее безденежье и выкажем себя дураками».
Хью сидел за столом, когда говорил это, и играл пресс-папье, поднимая его и роняя с высоты около дюйма обратно на стол. И потом добавил то, отчего Эдвард и рассвирепел:
– Во всяком случае, я еще раз переговорил со Старцем, и он непоколебимо против этого. Так что, боюсь, двое против одного.
– Он не был против до этого!
– Что ж, теперь он против.
– Тебе прекрасно известно, что это ты преподнес ему дело так, чтобы заставить его согласиться с тобой.
– Свое мнение я ему высказал, естественно.
– Огорчительнее всего то, что ты счел пригодным говорить с ним за моей спиной.
– Разве? Я-то полагал, что ты вполне обеими руками за то, чтобы обделывать дела за чужими спинами.
Этот окольный, но безошибочный намек на Диану до того разозлил его, что он вскочил и бросился вон из кабинета Хью, сильно хлопнув дверью. Вот задница! С того самого ужасного разговора с Хью, когда тот почти уговорил его отделаться от Дианы, и потом, когда по очевидным причинам он этого не сделал, от Хью исходило тлеющее неприятие, которое ему оказалось очень трудно выносить. Потому как с обыденной точки зрения Хью прав. Только ему безразличны чувства – и его, и Дианы. Он любил ее, у нее от него ребенок, теперь он не мог ее бросить. Тут он не был способен думать дальше сегодняшнего дня. Только Хью права не имел приплетать это к обсуждению или спору по поводу бизнеса. Тут он, Эдвард, неоспоримо прав. Не в первый раз пожалел он, что с ними нет старины Рупа, но тут же (и тоже не в первый раз) вспомнил, что Руп с пылким сочувствием готов был соглашаться с любым, кто с ним разговаривал. «Мне надо было бы за Старца взяться», – подумал он. В любом случае завтра ему предстоит возвращение, он и вырвался-то только на эту ночь, сославшись на то, что его пригласили по делу в Королевские ВВС и отказаться нельзя. Сказать правду, хорошо, что в конце концов Диана высказалась против того, чтобы жить в Лондоне. Этот коттедж на полпути между причалом и Суссексом стал куда лучшим выбором, хотя он и догадывался, что временами ей было немного одиноко. Зато она выбрала его, или, точнее, один из богатых приятелей Ангусангуса предложил ей коттедж почти за бесценок: то был домик управляющего в его семейном поместье. Боже, подумал он, какая же все-таки во всем неразбериха. Он не хотел ссориться с Хью, он любил старинушку и знал, чувствовал, как тяжко ударила по тому смерть Сибил. В последний раз он ощущал подлинную близость к Хью, когда увез его после нее. Бог знает, почему он выбрал Уэстморленд. Думал, место должно быть таким, где они прежде никогда не бывали, только он не угадал с погодой. Лило каждый день. Они совершали долгие прогулки под дождем, прихватив из маленькой гостиницы упаковки с ленчем, вечерами играли в дартс, слушали новости по радио в баре, играли в шахматы и рано ложились спать, хотя было ясно, что Хью спалось плохо. Начать с того, что он, казалось, ходил как потерянный, стал очень молчалив, хотя время от времени и говорил нечто вроде: «Не могу выразить, как я тебе признателен за то, что помогаешь мне пережить это», – тут глаза его увлажнялись и он замолкал. Потом постепенно стал говорить о Сибил: отчаянные, лихорадочные размышления, можно ли было ее спасти – если бы рак обнаружили раньше, если бы она сказала ему, когда почувствовала, что заболела, если бы оперировали раньше… «Под конец, знаешь, мы говорили об этом, – сказал Хью. – Я выяснил, что она знала о своей болезни уже не один месяц. Однажды ночью ее сильно рвало: она заставила себя съесть обычный ужин, чтобы ублажить меня. Очень расстраивалась, потому что, по ее словам, ей было невыносимо думать, что я все это выброшу. Я уверял ее, возможность что угодно сделать для нее – это радость, блаженство, своего рода утешение, и тогда, когда я принес ей чистую ночнушку и помог ее надеть, она сказала мне, что знает, что умирает, знает, что и я знаю. «Хочу успеть столько всего сказать тебе, – сказала, – ведь скоро вовсе ничего сказать не смогу».
Они разговаривали, сказал Хью, будто только что встретились, слой за слоем открывая что-то друг в друге, словно шелуху с лука счищали, как она выразилась, а когда она уставала говорить, он читал ей: ей особенно нравилась поэзия, которая никогда для него много не значила. «Сказать правду, – признался он, – зачастую читал страницы стихов, не вникая по-настоящему в то, о чем речь шла. Но когда привык, то иногда вдруг понимал, к чему малый клонит, и на самом деле это было здорово… очень впечатляюще. Хью взял с собой одну-две ее любимые книги, усердно вчитывался в них, но это было не то. Под конец она до того ослабела от жуткой боли, что просто хотела, чтоб он посидел с ней и не говорил очень много. Но за пару дней до того, как она умерла, когда ей вкололи что-то такое и она чувствовала себя не слишком плохо, она спросила, помнит ли он, как они ездили в Сент-Мориц, а он ответил, мол, как же, разумеется, помню, она улыбнулась и сказала: «Расскажи мне об этом», – и он рассказал. После этого повисло долгое молчание. Вспоминая лицо Хью, на котором легкая тень улыбки воспоминаний то возникала, то пропадала, не успев задеть его несчастных истерзанных глаз, он чувствовал, как возвращается знакомая и бережная любовь, с какой он всегда относился к старшему брату. Было в Хью что-то жесткое, несгибаемо не от мира сего, благородное и наивное, что нуждалось в защите, подумал он. В тот момент он поднялся против несгибаемости. Э-э, что говорить, должно быть, он был слишком нетерпелив со старинушкой.
– Извини, что так долго. Джейми хочет, чтоб ты пожелал ему спокойной ночи. – Она переоделась в домашнее одеяние из темно-синего бархата, делавшего ее кожу весьма манящей. – Я уложила Сьюзен, так что не позволяй ему разгуливаться и шуметь.
Джейми лежал на спине, укрывшись одеялом до подбородка.
– Привет, старина.
– Привет, старина. – Мальчик подумал и прибавил: – Вообще-то я не старый. Ладно, я старый, но не такой старый, как ты. Ты, должно быть, очень-очень- очень-очень старый.
– Ну да, полагаю, я такой. – В тот вечер он и впрямь чувствовал себя стариком.
– Тебе сколько лет? – спросил мальчик так, будто этот вопрос долгое время мешал им.
– Сорок шесть.
– Сорок шесть! Боже правый!
– Джейми, по-моему, тебе не надо так говорить.
– Мой дедушка, тот, что живет в Шотландии, все время так говорит. Даже про осу, когда видит ее у себя на мармеладе за завтраком. И он говорит так все время, когда газету читает. Вот, разумеется, я и набрался. Миссис Кэмпбелл, она там готовит, говорит, это поразительно, чего я набираюсь. Если уж чего набрался, то в себе не удержишь, – разъяснил тот.
– Что ты думаешь о своей новой сестренке?
Мальчик притворился, будто раздумывает.
– По правде, она мне не нравится. По мне, уж лучше бы у нас собака была. Она мне не нравится, потому что некрасивая и глупая, понимаешь.
– О, не беда, – сказал он, вставая с кровати, – уверен, она будет тебе нравиться, когда подрастет.
– Я не уверен. Почитаешь мне сказку?
– Не сегодня, старичок. Я собираюсь сейчас поужинать.
– Вели ей пожелать мне спокойной ночи. Прикажи ей.
Когда он выходил из комнаты, Джейми окликнул:
– Дядя Эдвард! Если я ее застрелю, мне голову отрубят?
– Я бы сказал, вполне-вполне возможно.
* * *
– Боже правый!
– Он не тебя имел в виду, разумеется, а Сьюзен.
– Это мне известно. Он страшно ревнует, бедный барашек.
– Но он же ничего ужасного с ней не сотворит, а?
– Может, и попробует, – спокойно сказала она. – Ты бы постарался и представил, каково ему живется. Вот хотя бы один пример, – голос ее млел от разумности, – положим, однажды ты вдруг везешь меня обратно в Хоум-Плейс и говоришь Вилли, что, хотя, разумеется, любишь ее, отныне я буду жить с вами обоими. Что, по-твоему, она почувствует?
– Не доводи до абсурда. Естественно, ей это не понравится.
– Это уж точно мягко сказано. Она станет дьявольски ревновать. Знаю, я бы стала.
Последовало короткое молчание, и она заметила, что глаза у него похолодели, как голубые мраморные шарики.
– Боюсь, на самом деле я не вижу параллели, – выговорил он наконец.
– Я только хотела сказать, что именно такое чувство Джейми питает к Сьюзен. Я принесу рагу.
Это вовсе не все, что она хотела сказать, подумал он. Это лишь насколько ей смелости хватило близко к правде о том, что она чувствует. Он понимал: надо брать быка за рога. Только, как однажды выразился старина Руп, когда возьмешься, помни о том, что все равно дело придется иметь со всем остальным быком.
* * *
– А ну, давай! С Новым годом, малышка!
– С Новым годом. – С минуту она не понимала, где она, но уже приучилась быть в таких случаях тише воды ниже травы, зная, что рано или поздно она все ж разберется.
– Е! Скажи, во ночка нам досталась! Ты – как?
Она постаралась сесть, и в голове стало бухать, как в какой-нибудь громоздкой машине. Она опять откинулась на подушку и закрыла глаза, чтоб комната перестала ходуном ходить.
– Бедняжечка! Теперь так, ты просто полежи тут, а дядя Эрл что-нибудь тебе состряпает.
Вот оно что! Это его она на прошлой неделе в «Асторе» встретила, когда с Джо Бронстайном поцапалась, потому что она хотела домой идти, а он не хотел. Эрл тогда подошел к их столику и как-то – как по волшебству – все уладил. Глазом не успела моргнуть, как оказалась в такси и – дома, у себя в квартире, куда он проводил ее до двери, убедился, что она вошла, а потом оставил с миром. На следующее утро доставили большой букет красных роз с его карточкой, на которой значилось: «Полковник Эрл К. Блэк», – и запиской с его телефонным номером и словами о том, как ему хотелось бы снова с ней увидеться. Джо она была уже сыта по горло, его, так же как и всех остальных, было насквозь видно в постели, а вне ее – зануднее многих. Так что сейчас она в квартире этого майора, надо полагать, только не помнила ничуть, как она в ней оказалась. Неважно. Если лежать совершенно неподвижно и глаза держать закрытыми, грохочущее буханье в голове и впрямь вроде убывает…
– …ну-ка, давай, Анджи, радость моя, присядь-ка…
– Что это?
Он протягивал ей стакан с какой-то коричневато-красной жидкостью.
– Честно, не могу. Мутит, просто жуть.
– Знаю, голубушка, но от этого тебе легче станет. Доверься Эрлу. – Он обвил ее рукой за плечи, приподнял ее и поднес стакан ко рту. Хуже же не будет, подумала она и послушно проглотила наперченную склизкую смесь, хотя и ощутила позыв к рвоте.
– Вот и умница, – произнес он. Поставил стакан и прикрыл ей плечи (они были голые, сообразила она) верхом своей полосатой пижамы.
– Ты просто посиди немного, а потом будешь чувствовать себя прекрасно. Горячий душ – и будешь чувствовать еще лучше.
– У вас, случаем, нет зубной щетки? Мне б зубы почистить.
– Найду. Хочешь в туалет сходить до того, как я душ приму?
Она хотела. Вылезла из постели и пошла, шатаясь, по комнате, запахивая на себе пижаму, – та ей почти до колен доставала.
Когда она вернулась и благодарно забралась обратно в постель, на нем были одни спортивные трусы. Она следила взглядом, как он прошел в небольшую бежевую спальню, стал выбирать полотенца. Был он мужчина, что называется, грудь колесом, в плечах косая сажень, вся грудь поросла буйными кучеряшками, похожими на поседевшую щетку. У него был широкий низкий лоб, с которого такие же курчавые, но густые волосы собирались во внушительную шапку. Брови у него росли воинственными маленькими колючками, мускулистые, отстоявшие от торса руки были волосаты, как и ноги. Должно быть, он довольно пожилой, прикинула она, лет сорок, не меньше. Она соображала, занимался ли он с ней любовью (она все еще это так называла), но спросить не решалась. Удивительно, но ей стало лучше. На другой стороне комнаты ее вчерашнее платье было аккуратно перекинуто через спинку обитого парчой стула.
Сказав, что время принимать душ, он препроводил ее в небольшую ванную – и даже душ ей включил.
– Тут на двери халат висит, – уведомил, – можешь его надеть.
Выглядела она жутко. Зеркало ванной со своей бессердечной лампочкой сверху (окна в ванной не было) являло бледное лицо с темными кольцами смазанной туши для ресниц вокруг глаз и потеками всякой иной косметики, стекавшими у нее по шее. Ее обычно гладкие и блестящие волосы в зеркале виделись тусклыми и темными, словно бы ее всю ночь пот пробирал, брови общипаны так, что нужен карандаш, чтобы вновь отчертить эти два тенистых полумесяца. Рядом с душем, на вешалке для полотенец висело ее нижнее белье: чулки, пояс и трусики – все свежевыстиранное. О боже! Глаза наполнились слезами унижения: она ничего не помнила, кроме того, что они сидели в каком-то ночном клубе, для нее новом… все в темноте… за шатающимся крохотным столиком, на котором стояли бутылки и стаканы. «С Новым годом», – сказал он тогда, а она только помнит, как поднялось в ней чувство полного отчаяния, грозя снести даже ту улыбку, что у нее «на выход»; унимая ее, она залпом опрокинула выпивку. И все. После этого она не помнит ни шиша. Не помнит даже ощущения, что была пьяной, такого противного и такого знакомого, а ведь была, должно быть, пьяной – и очень, если так отключилась. Пора кончать, думала она, что-то другое попробовать, убежать, найти что-то другое – новую жизнь. Дальше так нельзя. Вот только темень всякого другого ужасала ее своей зияющей пастью: она могла чем угодно заняться – безо всякой разницы. Меж тем, так или иначе, но она должна еще часок выдержать, отмыться, выйти к нему, извиниться и поплестись домой, подальше от всего этого убожества. Сняв пижаму, она встала под душ, который хотя и едва не обжигал ее, но тем не менее успокаивал. В ее квартире горячая вода не всегда бывает: Кэрол, девушка, вдвоем с которой они ее снимают, похоже, единственная, кто успевает горячую ванну от гейзера принять. Пока обсыхала, думала про квартиру. Кэрол, если она там, еще спит: она работала в лондонском «Палладиуме»[24] и всегда спала до трех часов дня. Спальня Анджелы (меньшая из двух) выходила окном на кирпичную стену и крошечный дворик, где теснились переполненные ресторанные баки для мусора и отходов. Прошлым летом они воняли жутко. Это уже, кажется, четвертое место, где она жила: девушки, с кем снимала раньше, призывались на военную службу, выходили замуж, отыскивали работу где-нибудь вблизи Лондона, и почему-то так выходило, что все они оказывались основными съемщицами, ей дальнейшее проживание в одиночку было не потянуть, вот она и переезжала. Она по-прежнему работала на Би-би-си: шесть ночей через три, – так что, как ни крути, вся жизнь ее проходила с наступлением темноты. В квартире была крохотная кухонька, но она готовкой себя не утруждала: на работе ела в столовой, а в выходные ее по вечерам куда-нибудь водили. Зарплата уходила на одежду, косметику, парикмахерскую и такси. Пришествие американцев в Лондон означало, что всегда находился кто-то, кому хотелось вывезти ее куда-нибудь на вечерок. С ними ей было куда легче, чем с англичанами. Были они обычно одиноки, не докучали ей вопросами про семью, были щедры, одаривали чудесными чулками из нейлона, духами, сигаретами и выпивкой без счета, банками масла и тушенки (на которые она выменивала купоны на одежду на черном рынке), а раз даже присланным из Нью-Йорка великолепным отрезом зеленого шелка, из которого она сшила прелестное платье. Были они к тому же обычно женатыми или помолвленными с кем-то на родине, и, хотя никто по доброй воле о таких фактах не распространялся, она очень хорошо научилась выведывать их. Поначалу ее это как-то трогало, зато больше – ничуть. Солдаты находились за многие мили от дома, в который вполне могли и не вернуться никогда, были отрезаны ото всего знакомого и просто хотели хорошо провести время. Представления о том, как это устроить, у них разнились, но ненамного. У нее было такое чувство, будто и она тоже унеслась за много миль от дома или, скорее, что у нее его вообще нет. Френшем обратился в некий санаторий, и с тех пор, как мать влезла в ее дела с Брайаном, она в Сент-Джонс-Вуд не появлялась. Отец благополучно затаился в Вудстоке, Кристофер, единственный из родных, к кому у нее душа лежала, трудился в поте лица на каком-то лазаретном огороде в Суссексе, парень Лондон терпеть не мог, и она его почти не видела. Осенью она побывала на свадьбе у своей кузины, было восхитительно вновь оказаться со всеми Казалетами, просто получить признание как член этой семьи, посидеть в церкви рядом с родителями невесты, Кристофером, Норой и Джуди. Сидя там, ожидая, когда Луиза пойдет по проходу, опираясь на руку дяди Эдварда, она поняла, насколько отдалилась от этой семьи, как бы потрясены были бы все в ней, узнав, что за жизнь она ведет: спит все утро, возится с чем-то у себя в жуткой каморке, чулки чинит, гладит, ногти красит, днем моется и одевается, а вечер за вечером шатается с мужчинами, которых едва знает, по ресторанам, распивочным, ночным клубам, обнимается и тискается в такси, иногда привозит кого-то к себе (но не часто: стыдится свой каморки и не хочет, чтобы ее кто-то видел) – если ложится (все равно с кем) в постель, то предпочитает делать это «на их территории» или в безликости гостиничного номера.
В первые месяц после того, как Брайан бросил ее, и после аборта она ухватилась за мысль о любви. В любви, дважды бывшей такой болезненной – с Рупертом, а потом с Брайаном, – по-прежнему видела она свою цель и спасение – если продолжит искать ее, то однажды обязательно это случится. А между тем ей надо проживать дни и ночи. Работа у нее была одинокая, часто не было с кем словом перемолвиться, кроме младших инженеров программы по обе стороны стеклянной перегородки в студии да еще людей в столовой, скупо отмерявших ей завтрак. Она обожала танцы, они создавали иллюзию близости: быть в чьих-то объятиях в темном месте под медленную музыку – это как наркотик, ощущение, что ее обожают, что она желанна, успокаивало ее, позволяло считать себя не такой никчемной. Она выучилась доставлять удовольствие… любому, вообще-то – кроме себя самой. Она не пускалась с каждым во все тяжкие, ни в коем случае, и была разборчива, однако в глубине души чувствовала, что за обожание надо платить, и обходилась тем, что называла это только временным, пока она не встретит того чудесного и пока неведомого, кто преобразит ее жизнь. Это все война, говорила она себе, она все меняет, делает, если не быть очень осторожным, более трудным, невыразимо скучным. Но месяцы проходили за месяцами, и мысль о любви являлась все реже, она уже не очень-то и разбирала, что оно такое, эта любовь, а жизнь проживать по-прежнему было нужно. Было опасение, что ее призовут, но, когда время пришло, она не прошла медкомиссию: что-то там в груди, сказали, – ее это не беспокоило, а потому и не интересовало, просто словно камень с души свалился. После этого, считай, целую неделю жизнь ее была чудо как свободна и легка, пленительна даже, но вскоре вновь нудно заскользила по-старому, когда, казалось, ничего не трогало, будучи либо скучным, либо менее скучным способом влачиться во времени.
Он постучал в дверь ванной, извещая:
– Кофе готов.
Она сполоснула под душем волосы и расчесала их. Лицо, освобожденное от косметики, все еще розовело от горячей воды. Хуже, чем до душа, выглядеть она не могла, подумалось ей, да и какая вообще-то разница. Выпьет кофе, натянет на себя сырое нижнее белье и куцее холодное платьишко и позволит посадить себя в такси. Вот и все.
Кофе был накрыт на шатком столике в гостиной. Это его квартира, поняла она, а не номер в гостинице и не люкс. Кофе был очень крепкий и приятный. Он подвинул к ней сахарницу, а когда она отрицательно повела головой, настоял:
– Возьми. У меня тут есть нечего, а у тебя в желудке пусто. Не переживай, голубушка. Ты марихуану покурила, а эта штука на убой, мы туда больше ни ногой.
– А вы как же? Вы…
– Я пил скотч. А ты джин – вот в чем беда.
– Мне правда жаль…
– Не о чем жалеть. Еще повезло, что не мы оба. Курево было дрянь.
Но у нее голова трещала от унизительных картинок: как она отключилась, как ничего не соображала и поделать ничего не могла, – и оттого, что ничегошеньки не могла вспомнить, казалось, что все было куда хуже…
– Мне, думаю, пора, – сказала она. – Вы не могли бы мне такси вызвать?
– Предлагаю кое-что получше. Мне кое-кто одолжил автомобиль. Я отвезу тебя домой, подожду, пока ты оденешься потеплее, а потом мы поехали бы куда-нибудь за город и сытно поели. – И, не дожидаясь ее ответа, добавил: – На тот случай, если тебя волнует, не воспользовался ли я вчера ночью твоим состоянием, позволь сообщить: не воспользовался. – Он накрыл своей волосатой лапищей ее лежавшую на столе руку. – Вот те крест, и чтоб я сдох. Ничего не было. Идет?
– Хорошо, – кивнула она. Смущение никуда не девалось, но она почувствовала облегчение: она верила ему про минувшую ночь, – но это не значило, что она и в чем другом ему доверилась.
* * *
– Хорошо-хорошо, хватит новогодних поздравлений, – поднял руку Арчи. – А как насчет новогодних обещаний?[25]
Они собрались в гостиной. Старшие члены семейства отправились спать: у Дюши и мисс Миллимент была сильная простуда, Рейчел сдалась на милость зубной боли сразу же после того, как куранты Биг-Бена возвестили Новый год: «Не могу никого вас поцеловать, дорогие мои, у меня лицо чувствительно, как вскипающий мозг», – говорила она, пытаясь улыбнуться, но выглядела, решила Клэри, жутко. Эдвард с Вилли были в Лондоне, празднуя с Гермионой. Так что Арчи с Хью оставили с детьми вплоть до Лидии, которая пообещала пойти спать, когда ей Арчи скажет. Все расцеловались со всеми и пожелали счастливого Нового года.
– А мы не могли бы в шарады поиграть? – Лидия полагала, что это займет больше времени, чем обещания.
– Нет, Арчи сказал – в обещания. По скольку будем? Одно или по скольку хочешь?
– Думаю, по три от каждого, – сказал Арчи. – Что скажете, Хью?
– Что? А-а, само собой, по три. Виски?
– Спасибо. – Лидия подхватила стакан и понесла его своему дяде. В ней не унимался чертик удовольствия, подававший надежду, что за обещаниями, может, последуют и шарады.
– И какие? – не умолкал Невилл. – Какого рода обещания, я имею в виду?
– О, конечно же, благие, – сказала Полли. – Вроде: быть добрым к своим врагам.
– Глупость какая! Какие же они мне враги, если я к ним добр.
– Итак, обещания должны быть благими, – сказал Арчи. – Я говорю, ожидаемыми, понимаете, слегка обещающими что-то улучшить.
Кто-то предложил записать обещания, и Лидия тут же порхнула к старинному карточному столику и вернулась с кипой листочков для записи (на них записывались ставки и очки всех игр, от бриджа до «гонки демона») и пригоршней карандашей.
– Пять минут, – объявил Арчи. – После чего каждый может прочесть свои обещания.
– Или обещания других, – подала голос Клэри. – О, да… мы же можем их все перемешать, а потом кто-то читает листочек, а мы все должны догадаться, чьи это обещания. Так будет гораздо интереснее. О, давайте же так и сделаем!
– Победа за вами, – согласился Арчи. – Бросьте еще полено в огонь, не то я у вас на глазах окоченею до смерти.
Наступило вертлявое молчание с покусыванием кончиков карандашей.
– Я кончила, – сообщила Лидия. – Я чудесные придумала. По правде, благие и добрые.
– Ты, конечно, сознаешь, что тебе придется прекрасно их сдержать, так? – заметил Саймон. Он от напряжения даже взмок. Но, как ни бился, как ни тужился, в голову приходило только: «Поцеловать мисс Бленкинсопп» – намерение, которое он счел за благо не оглашать. Она учила в школе рисованию, стара, конечно, но куда моложе учителей и на вид совершенная кудесница: волосы черные, губы ярко-красные и пушистая челка, которую она то и дело смахивала со своих великолепных глаз длинными белыми пальцами в бирюзовых кольцах. – Учись сдерживаться, – буркнул он.
Невилл тоже маялся. Он намеревался сбежать из своей жуткой школы, но не мог решить, куда. Если бы война кончилась, он мог бы, наверное, устроиться работать изобретателем. Меж тем он подумывал, чтобы жить с Сесили Кортнайдж[26], ее пластинка с записью сценки, где она заказывает две дюжины двойных дамасских обеденных салфеток, вызывала у него восторг, сколько бы раз он ее ни слушал.
Клэри написала свои, которые, она считала, были отменно скучными, потом пошла взяла шляпу из оружейной комнаты, в которую играющие могли сложить свои бумажки.
– Поспешите, – поторопила она тугодумов.
– Время истекло. – Арчи положил свою бумажку в шляпу и пустил ее по кругу.
Ему выпало читать первым.
– «Быть добрым к старым людям», – прочел он. – «Раздать все мои деньги». «Спасти чью-нибудь жизнь».
– Это мои, – объявила Лидия, о чем мог догадаться каждый по ее самодовольному виду.
– Идиотство, – хмыкнул Невилл. – Дурочка, ты ж не хочешь спасти жизнь любому и всякому? Гитлеру? Спасла бы ты ему жизнь?
– Не-е-т. Только я вряд ли с ним встречусь. Конечно же, жизнь хорошего человека.
– Так ты, значит, подойдешь к кому-то, кто из самолета вываливается, и спросишь: «А вы хороший?» – и на слово ему поверишь, а он, конечно, правду не скажет, каким бы злыднем ни был, – и ты его спасешь? За всю свою жизнь не слышал подобной глупости.
– Не думаю, что она имела в виду нечто подобное, – мягко возразил Арчи.
– Ну да, а про деньги тоже идиотство. Она потратила все свои рождественские деньги, так что только и выйдет, что шиллинг в неделю. Как же ты купишь мне подарок ко дню рождения, если все свои деньги раздашь? Или, – добавил он осмотрительно, – если на то пошло, ко дню рождения еще кого-то.
Лидия силилась не заплакать, насупливала брови и закусывала нижнюю губу.
– Ты слишком уж чересчур жуткий, чтоб тебе подарки дарить, – выговорила она. – Вы же видите, как трудно быть доброй к такому злому и ужасному, как Невилл, – обратилась она к остальным.
– По-моему, нам следует просто читать бумажки, а всем слушать. – Арчи вручил шляпу Полли.
– «Не курить так много. Относиться терпеливо к людям. Помогать Дюши в садике». Это, должно быть, ты, папа. – Последовало минутное молчание, потом она сказала: – По-моему, ты ужасно терпеливо относишься к людям. Правда-правда.
Арчи заметил, как они улыбнулись друг другу, она, до боли желая утешить, он, принимая, но оставаясь безутешным. В комнате повисло то же самое ощущение боли, как и раньше, когда Клэри захотела выпить за отсутствующих друзей, она имела в виду своего отца, но подтекст оказался шире ее намерения.
– Твоя очередь, Клэри, – поспешно сказал он.
Клэри развернула выбранную бумажку и прочла с нарочитой насмешкой:
– «Покончить с войной! Уйти из школы! Пообедать с Сесили Кортнайдж». Мы знаем, кто это! Все перепутал, как обычно. Честное слово, Невилл. Это вовсе не значит добиться того, что тебе нравится. Или такое, как покончить с войной, чего ты попросту не в силах сделать!
– Это то, на что я настроен. И не собираюсь ничего менять.
– Ты не можешь уйти из школы, пока не будешь на годы и годы старше, – сказала Лидия. – А раз ты не премьер-министр, слава Господу, то не можешь покончить с войной. А Сесили Кортнайдж и во сне не снится обед с каким-то безвестным мальчишкой. Я согласна с Клэри.
– Мы договорились не обсуждать обещания участников, – сказал Арчи. – Хью?
– «Научиться сдерживаться. Научиться писать стихи. Изобрести что-нибудь». Силы небесные, Полл, это ты?
– Это я, – признался Саймон. Он сделался пунцовым.
– Боже милостивый. Как интересно, Саймон, – заметила Полли.
– Очень трудно научиться писать стихи, – произнесла Клэри. – У меня такое чувство, что с этим нужно родиться. И я бы сказала, мы бы уже заметили, если бы у тебя была хоть крупица таланта.
– Клэри, так и подавить можно.
– Не в том была цель.
– Нет, в том.
– Давайте, заканчиваем игру, – возгласил Арчи. – Всем нам пора спать.
– А как же шарады?
– Никто не хочет играть в них, кроме тебя. Давай, твоя очередь читать.
– «Выучить французский. Перестать кусать себе ногти. Чинить свою одежду до того, как починить ее станет нельзя», – прочла Лидия. – Это, должно быть, ты, Клэри. Ты единственная, кто всерьез кусает ноги.
– Она только свои кусает, – заметил Невилл. – По-моему, ей надо разрешить делать это. Если б она у других кусала, можно было бы быть против нее.
– Твоя очередь читать, Невилл, – сказал Арчи.
– «Ходить плавать. Выучить русский. Порисовать немного». Не понимаю, как плавание может быть обещанием. – Ему нравилось плавать: и почему только он сам до такого не додумался?
– Это вы, Арчи, правда?
– Точно. Я ненавижу плавать в плавательных ваннах. Это для того, чтоб ноге было легче. Чувствую себя тигром в клетке. Вниз – вверх, туда – сюда.
– Когда мы переедем в Лондон, я с вами буду ходить, – сказала Клэри. – Мы можем вести интересные разговоры, и вы не заметите, до чего это тоскливо.
– Что ж, я в постельку, – сказал Хью, словно бы дожидался малейшего подходящего момента для этих слов.
– Ой, неужели надо?
– Никто меня не прочел, – произнесла Полли.
– О, Полл, миленькая! – Хью снова сел. – Прочти. Я вправду хочу узнать.
– Это не мне читать, – сказала Полли. – Только смысла особого нет, потому как вы и без того знаете, что это – я.
– Я еще ничьей не читал, – сказал Саймон и взял бумажку. – «Научиться готовить. Научить Уиллса читать. Сказать правду».
– Видите? Совсем неинтересно. – Полли явно была очень обижена.
– Нет, интересно, – возразил Саймон, чья откровенная преданность слегка конфузила.
– В постель, – произнес Арчи. – Все делают все, что нужно. Выставить стражу перед огнем. Выгнать кошку. Вести себя тихо на лестнице. Дайте мне руку, Полл. Нет, Лидия, спасибо, пусть лучше Полл.
– Что он имел в виду про «кошку»? Флосси будет на кухне спать. Ей не понравится, если ее еще куда-то выгонят.
– Это образное выражение, Лидия, – пояснил Хью. Он поцеловал Полли и положил руку Саймону на плечо. – Доброй ночи, старичок. – Когда он целовал детей, ему хотелось заплакать. В прошлом году в это время, думал он, она была здесь. Только начинала опять чувствовать себя паршиво, но она была здесь.
* * *
– Вы считаете, новый год будет счастливым?
– О, думаю, он обязательно будет лучше. Мы сейчас немцев погнали, ты знаешь. Монти действует изумительно. Не удивлюсь, если Эль-Аламейн окажется поворотной точкой. И они ничего не добились в России. Никто из вторгающихся в Россию не берет в расчет погоду. И мы устраиваем им веселенький ад на их же собственной земле. Да, по-моему, мы определенно можем сказать, что тысяча девятьсот сорок третий будет счастливее. За нас, благослови нас Бог. – Он ласково улыбнулся ей и сказал: – А ваш муж участник войн?
– Больше нет. Служил недолго в авиации, но потом ему пришлось вернуться, чтобы управлять семейным бизнесом. – Потом неожиданно выговорила: – Разумеется, он воевал на первой войне… в Пятой армии.
– У старины Гоффи?[27] Этого люблю очень. Что ж, вы радоваться должны, что он у вас дома.
Радовалась бы, подумала она, если б был. То, что он не появился на праздновании у Гермионы, вызвало у нее сначала гнев, потом смятение и, наконец, беспокойство. Где он был? В квартире у себя не был, да и его бритвенных принадлежностей там нет. Его не было дома: она звонила туда под предлогом пожелать семейству счастливого Нового года, и, если бы он там был, об этом сказали бы. Однако… «Пусть ваша встреча будет славной, – сказала Рейчел, – вы оба заслуживаете повеселиться вместе». Им она не сообщила, что его с ней нет. Но, разумеется, Гермионе сказать пришлось. Она позвонила ей из квартиры.
«Дорогуша, как это утомительно для вас. Не печальтесь, возможно, он просто здесь объявится. О, об этом не тревожьтесь. Я на всякий случай двух свободных мужчин пригласила».
И вот теперь она сидит рядом с одним из них. Полковник Чессингтон-Блэр был пухленьким розовым толстячком, кому перевалило за шестьдесят. Он напоминал ей пробку, прыгающую по поверхности всякого разговора, говоря первое, что приходило другим в голову, так проворно и столького недоговаривая, что почти придавал своей болтовне вид оригинальных высказываний. Работал он, по его собственному выражению, в военном доме: представить его без формы было невозможно.
Когда дамы удалились и большинство из них направилось в спальню Гермионы, хозяйка взяла ее под руку и придержала от следования за остальными, сказав: «Вы были божественно милы со старым Поросеночком. Он, как я видела, просто обожал вас. – Потом посоветовала: – Не тревожьтесь об Эдварде. Должно быть, что-то случилось, и, я уверена, он пытался разыскать вас. Вы же знаете, как сейчас телефоны работают».
– Я не тревожусь.
– Почему вы не остаетесь здесь на ночь? Не так-то легко и, знаете ли, страшновато отыскивать такси в такое время.
Нет, ответила она, ей лучше поехать на квартиру. (Что такого могло бы «произойти»?)
Прекрасно было быть одетой в вечерний наряд, быть в Лондоне, быть на празднике, но всякий раз удовольствие от всего этого смазывалось таинственным отсутствием Эдварда, в ней поднималось раздражение и испуг. Что, если с ним случилось что-то ужасное? Она едва ли соображала, чего хочется меньше всего: чтобы он был повинен в том, что его здесь не было, или чтобы в том не было никакой его вины.
Весна 1943 года
Есть между все еще совсем сном и уже пробуждением маленький волшебный промежуток времени, какой она стала замечать с тех пор, как они в Лондон переехали. У него нет определенной продолжительности, он всегда воспринимается мучительно кратким, поскольку начинает пропадать в тот миг, когда она осознает, что он настал. Иногда она думала, что это самый конец сна, ведь не только ее душа с мыслями, но и все тело становились невесомо легкими – своего рода безмятежная отрешенность, все еще хранящая радостный отклик на невесть что, уже таинственно ускользавшее в прошлое, растворявшееся в отдаленной памяти и тумане, пока не оказывалось либо забытым, либо вовсе неведомым. Сны могли быть такими, она знала. Они могли быть, как телеграммы, как самые запоминающиеся поэтические строчки – настолько наполнены частичкой истины, что на какой-то момент кажется, будто освещают все вокруг. Однако сны не всегда несут радостные послания, они доносят всякое, от волнения до кошмара, – она и это знала. Преследующий ее кошмар (всего раз рассказанный Клэри): она пытается поцеловать мамин лоб, а сама, как сквозь пустоту, тающим снегом уходит в подушку, – вселяет некий стойкий ужас, который не утрачивает силы, сколько бы раз ни повторялся. Зато этот промежуток больше вызывает ощущение, будто летит она в какой-то пронизанной солнечным светом стихии вниз, опускается на собственное свое тело, а потом, войдя в него, обнаруживает, что ее крылья исчезли. Она оказывалась обыкновенной Полли, лежавшей в постели на спине, в комнате на верхнем этаже отцовского дома в Лондоне. В комнате рядом – Клэри, крепко спящая, пока ее не потрясти хорошенько. В Хоум-Плейс она всегда была в одной комнате с Клэри, а иногда еще и с Луизой. У Клэри, по крайней мере, своя комната (их называют спальнями-гостиными), но для Полли жить в доме отца, с подвальной кухней тремя этажами ниже, было не то же самое, как если бы жить в их с Клэри квартире, как они всегда задумывали. Только когда пришло время решать и она выяснила, что папа всегда полагал, что они будут жить вместе, а он выяснил, что девушки намеревались найти себе собственное жилье, и она увидела, как сильно его огорчение, скрытое под внешне добродушным согласием, то поняла, что настаивать не сможет. «Ты можешь искать квартиру, – сказала она тогда Клэри, – но я просто не могу. В первый раз я увидела папу хоть как-то довольным или взволнованным чем-то с тех пор, как мама умерла. Ему так тошно быть одному дома без нее. Ты ведь понимаешь, да?» И Клэри, метнув в нее взгляд, в котором мешались разочарование, озлобление и любовь, тут же ответила: «А как же. Я и не мечтала о квартире, в какой не было бы тебя». На лице ее всегда отражались все ее чувства, как бы ни пыталась она сгладить это голосом.
И папа был мил во всем. В их полное распоряжение был отдан верхний этаж. «Комнаты там большие, так что можете устроить себе спальни-гостиные, – сказал он. – И у вас будет своя ванная комната, пониже на лестничной площадке. Я попрошу установить на последнем этаже телефонную розетку. Думаю, вам захочется созваниваться с подругами. И, если вы соберетесь устроить для них вечеринку, я всегда могу уйти. Вы должны просто сказать мне, что вам нужно в смысле мебели. Думаю, надо еще и комнаты покрасить. Вы должны выбрать цвета, которые вам обеим по вкусу». Он все говорил и говорил об этом, а когда Клэри спросила, можно ли ей привезти из дому все ее книги, он сказал, мол, разумеется, а когда увидел, какое их множество, то заказал для них книжные полки. Могло показаться, что он хочет, чтоб они жили тут вечно.
Мебель они собрали со всего дома. Тетя Рейч разрешила им взять гардины с Честер-террас, потому как те, что висели там, были такими легкими и ужасными, что не годились для затемнения.
Ныне, после каких-то трех месяцев, они уже вошли в колею. Пять дней в неделю ходили на Путманские секретарские курсы: четыре дня отправляясь туда на велосипедах, но по пятницам добирались на автобусе, потому что сразу после работы спешили попасть на поезд в Суссекс. Клэри хотелось оставаться в Лондоне на выходные, и иногда она оставалась, но Полли долг звал домой, повидать Уиллса. Тот не особо радовался, видя ее, но что-то подсказывало ей: если она станет придерживаться этого, то, может быть, он привыкнет. Она нравилась мальчику, если делала все, что он ни попросит, так что холодные дни она проводила, толкая его детский велосипед-самокат, помогая собирать безымянные сооружения из детских конструкторов и читая ему «Винни-Пуха». Уиллс сделался неутешным тираном, рвущимся заполучить все, что на самом деле ему и нужно не было, пользуясь несчетными исполненными капризами, как листьями для укрытия тайного тела своей утраты. Так, он настаивал, что будет носить один носок красный, а другой – синий, не ел картофельное пюре, пока не перекладывал его себе в кружку, засыпал свою постель еловыми шишками, у многих из которых имелись таинственные названия, устраивал жуткий грохот, просто открывая двери и хлопая ими со всей силы. Тетя Вилли учила его читать, но он соглашался делать это, только если она позволит ему быть в шляпе. Почти год прошел, но Полли знала, что он все еще тоскует по матери, хотя тетушки, похоже, считали, что мальчик одолевает горе. Так что уезжала она из-за него. И еще – из-за отца. Он обожал встречаться с ней на вокзале, покупать ей газету почитать (когда уезжала и Клэри, он всегда и ей покупал). Обычно он засыпал на полпути, а она сидела и учила свои стенографические знаки. Выходные всегда проходили однообразно. Их встречал Тонбридж, сообщавший обо всех мелких бедах, случившихся за неделю (порой они вместе делали ставки на то, кому на этот раз не повезет), потом они выслушивали несколько его мнений, высказанных в виде вопросов, о войне. В доме запахи – такие знакомые, когда она жила в нем, что она их не замечала, – горящих сырых поленьев в очаге, трубочного табака Брига, воска и долетающих порой паров готовящейся еды – когда Айлин металась взад-вперед через матерчатую дверь, накрывая в столовой ужин. Наверху запахи сменялись на лаванду, дегтярное мыло, ваксу для обуви, на запахи одежды, сохнущей возле камина детской, звуки же извещали о купании детей или о тех, кто пытался заставить их помыться. Полли отправлялась к себе в комнату переодеться к ужину во что-нибудь потеплее: больше уже к ужину они не переодевались, за исключением субботнего вечера, когда она всегда надевала свой бледно-зеленый парчовый домашний наряд, сшитый тетушками из гардинной ткани в прошлом году ей ко дню рождения. После ужина они слушали новости, а потом они с Клэри играли в карты, в «безик» и «гонку демона». Она всегда скучала по Клэри, если та оставалась в Лондоне, а больше, чем скучала, не могла не чувствовать зависти: Клэри ходила в кино с Арчи и иногда в театр, он и поесть ее водил. Помимо доставляемых удовольствий, она еще и проводила время наедине с Арчи, что в глазах Полли само по себе было удовольствием. Конечно, он иногда приезжал на выходные – и, можете быть уверены, тогда Клэри в Лондоне никогда не оставалась. Свелось все это к тому, что Полли ни единого вечера не провела вдвоем с Арчи, но ведь, постоянно напоминала она себе, у нее есть обязанности, а у Клэри их нет. Только все равно наваливалось застарелое, мелочное и надоедливое ощущение, что это несправедливо: конечно же, она уже знала, что ничего справедливого нет, только это ничуточки не мешало ей желать, чтоб было.
Сегодня пятница, и обе они поедут домой, потому как Арчи приедет: в субботу год исполнится со смерти матери – дата, о которой папа слова не сказал, однако все остальные в семействе остро воспринимали ее. Что-то вроде противоположного дню рождения, думала она, день смерти, только на самом деле хуже не станет оттого, что ее мама мертва уже триста шестьдесят пять дней, а не триста шестьдесят четыре или шесть. Хорошо, что Саймон будет еще в школе. «Но я потому только довольна, что ему было бы хуже, если б он там не оставался, на самом-то деле я не рада. На самом деле я ничему не рада», – говорила она Клэри, пока они ждали автобус, чтобы отправиться на курсы.
Клэри согласилась.
– И я тоже ничему. По-моему, жизнь страшно унылая. Если почти все переживают времена похуже наших, то я вообще в этом смысла не вижу.
– Мне кажется, это просто из-за войны, – сказала она.
– Откуда нам знать? Мы никакого представления не имеем, какой бы была жизнь, не будь войны.
– Мы можем помнить. Всего-то три года с хвостиком после мирной жизни.
– Да, но тогда мы детьми были. Послушными всяческим щенячьим правилам, что Они установили. А теперь, когда мы становимся Ими, попросту кажется, что правил еще больше.
– Например?
– Ну вот, смотри, – подумав, начала Клэри. – Ни ты, ни я не хотим достичь жуткого совершенства в машинописи и скорописи. Мы жили в детстве, не мечтая уметь писать на машинке по шестьдесят слов в минуту.
– Это могло бы пригодиться, если ты собираешься стать писателем. Взгляни на Бернарда Шоу.
– Он, уверена, изобретает что-то на собственный лад. Да и то только потому, что он хотел этого. Но вообще-то мужчинам не приходится учиться печатать на машинке.
– Приходится им сплачиваться и убивать людей, – грустно заметила Полли. – Беда в том, что мы так и не разобрались, во что верим. Мы просто все еще пребываем в безотрадной путанице неверия.
Подошел автобус. Когда они сели в него, Клэри сказала:
– Не верить – это не то же самое, что неверие. Во что мы не верим?
– В войну, – разом ответила Полли. – Я совершенно не верю в войну.
– От этого, в общем, нет никакого проку, ведь она нам досталась.
– Ну, ты меня спросила. Ты думаешь о чем-то.
– О Боге, – сказала Клэри, – я не верю в Бога. Хотя на самом деле мне приходило в голову, что их, возможно, целая куча, оттого-то и такая мешанина кругом – они ни в чем один с другим не соглашаются.
– Я могу быть против войны, – сказала Полли, продолжая размышлять. – Тот факт, что она нам досталась, ни туда ни сюда не годится. Я против идеи ее. Как Кристофер.
– Он недолго держался. Отправился в армию записываться. И только оттого, что у него какие-то нелады со зрением, его не взяли.
– Он отправился, не веря в нее, потому что посчитал несправедливым предоставить другим делать грязную работу. У него есть принципы.
– Да будет тебе, ты веришь в них? Если да, то в какие именно?
Однако они уже доехали до Ланкастер-Гейт, и осыпающиеся, вздувшиеся пузырями колонны оштукатуренного здания, где им предстояло последующие шесть часов выстукивать на пишущих машинках то, что Клэри звала музыкой гастингского причала, учиться писать: «Уважаемый сэр! Благодарим Вас за Ваше письмо от 10-го сего месяца…» – в невразумительном бумагомарании, сражаться с ведением двойной бухгалтерии, которую они обе просто-таки ненавидели.
– Мне она безумием кажется, – призналась Клэри после первого занятия. – Либо у тебя нет денег, чтобы вносить их в столбцы и колонки, либо, наоборот, у тебя их масса, и в таком случае нужды в таблицах нет.
– Глупенькая, мы же не свои деньги будем вносить, а нашего будущего богатого нанимателя.
День был обозначен обеденным перерывом, когда они съели по сэндвичу и выпили розовато-коричневого чаю, отдававшего металлическим чайником. В подвале имелось помещение, где обучающиеся могли собираться по сигналу на обед, а желающие – купить себе сэндвичи. Пока еще они ни с кем не сошлись для веселой болтовни, все их однокашники казались глубоко увлеченными ученьем, к тому же курсы были ускоренными, так что в любом случае времени для братания не хватало. Обычно им удавалось на обед выбираться на свежий воздух, в парк, где они и уминали свои сэндвичи. В это утро, однако, в их классе появилась новенькая, по виду очень отличавшаяся от всех остальных. Начать с того, что была она очень намного старше, но и почти все остальное в ней было иным. Невероятно высокая – просто возвышалась над всеми остальными, – но с длинными, худыми руками и ногами с изящными лодыжками. Ее серые, как сталь, волосы были сбиты в небрежный пучок и с одной стороны головы острижены короче, носила она черный жакет, довольно небрежно расшитый лютиками и маками. Однако больше всего их обеих поразило ее лицо. В отличие от всех остальных она совсем не пользовалась косметикой, кожа ее была ровного оливкового оттенка, очень тонкие темные брови дугой вздымались над глазами, о поразительном цвете которых девушки так и не пришли к согласию.
– Вроде бледно-серовато-зеленые, – решила Клэри.
– Голубого больше. Аквамариновые, что скажешь?
– Сказать-то я могу, только ничего не выйдет, если это написать. На самом деле этим их на опишешь.
– А я бы поняла, что это значит.
Они решили перекусить сэндвичами в подвале в надежде познакомиться с новой ученицей, но той не было. Ее отсутствие подогрело любопытство.
– По-моему, она иностранка.
– Нам это известно. Мы слышали, как она говорила «спасибо» мисс Хэлтон.
– Так, по-моему, она из королевской семьи какой-нибудь малой центральноевропейской монархии.
– Или, возможно, ее какой-нибудь американский генерал привез. Уверена, им разрешают брать с собой за границу своих любовниц. Знаешь, вроде того, как Стенли брал с собой ящики порта, когда исследовал Африку.
– Право слово, Клэри, это совсем не одно и то же.
– Она может быть королевской крови и чьей-то любовницей.
– Должна заметить, на жену она совсем не похожа.
– Возможно, она была замужем в юности за каким-нибудь страшным пруссаком-мужланом. Потом все ее дети умерли от туберкулеза, потому что в замке стоял жуткий холод, и она сбежала. – Клэри не так давно купила за пенни на букинистическом развале «Мотыльков» и настолько увлекалась Уидой[28], что это повлияло на ее восприятие людей. – Целые недели блуждала она по континенту в крестьянской одежде, потом спряталась на пароходе, на котором и прибыла сюда.
– Не думаю, чтоб у нее получилось хорошо спрятаться, – рассудила Полли. – Она чуть слишком заметная, чтоб не выделяться на любом фоне. И крупная, – прибавила она, немного подумав.
Когда он вернулись обратно в класс на второе занятие по машинописи, незнакомки все еще не было.
– В следующий раз, как увидим ее, давай пригласим ее к нам поужинать.
– Хорошо. Как думаешь, они с папой поладят?
– Ты говорила, что он обещал уходить из дому, если мы захотим своих друзей принять.
– Знаю, только…
– Ой, Полл, мы должны начать наши собственные жизни устраивать.
– О’кей. Но она довольно старая – ему по возрасту под стать. Если она и на самом деле жутко мила, то могла бы стать ему подходящей женой. – И, поскольку Клэри, возражая, безысходно фыркнула, прибавила: – Я не имею в виду, что он будет присутствовать на первом ужине. Я просто хотела сказать, что если мы решим, что она о’кей, то могли бы их и познакомить.
– Не вижу в этом особого смысла. Оба они слишком стары для секса, вот о чем я бы подумала.
– Откуда тебе знать. Ты, значит, думаешь, что и Арчи стар для секса?
Настала мертвая тишина, и она заметила, как заалел лоб Клэри, прежде чем та выговорила:
– Арчи – это другое.
«Другое, – подумала Полли, – конечно же, другое. Он – самый другой из всех, кого я встречала».
13 марта 1943 года
Сейчас субботний день, папа, идет дождь, к тому же и довольно холодно, так что сижу я у себя в постели в Хоум-Плейс, укрывшись пуховым одеялом, и пишу тебе. Ужасно: я поняла, что ничего не писала еще с кануна Рождества. Частично это из-за нашего переезда в Лондон: нашего с Полл в дом дяди Хью, – что привнесло столько перемен в нашу жизнь и, похоже, лишило меня свободного времени. Вот и неправда: время было, только мне совсем не хотелось писать. С Рождеством все было о’кей, кажется. Роли, Уиллс и Джули были от него в восторге, так же, как и Лидия с Невиллом, но мне оно, по-моему, начинает наскучивать. Невилл пытался подарить мне крысу, которая ему в школе надоела. Ну кому бы могла понадобиться крыса, которую он выдрессировал? Я так и сказала. Полли он подарил лобзик, у которого, как мы знали, не было пяти зубчиков. Он просто не тратит карманные деньги на подарки, ему одни только деньги и нужны. Есть люди, которые дают их ему, однако уже заметно зреет неодобрительное отношение к этому.
Так вот, после Рождества мы поехали в Лондон, поскольку должны ходить на Путманские ускоренные курсы машинописи и стенографии с тем, чтобы, когда призовут, от нас была бы хоть какая-то польза. Я до безумия мечтала, чтоб у нас было свое собственное жилье, но в конце концов пришлось жить у дяди Хью, потому что Полл уверяла, что ему так хочется этого, что она чувствует, как ему одиноко без тети Сиб. Я ее понимаю… Если бы это был ты, я бы на месте Полл чувствовала то же самое, так что, конечно же, пришлось согласиться. У нас у каждой по комнате на последнем этаже и своя отдельная ванная комната, только приходится готовить в подвале, так что, пока донесем еду до своих норок, все остывает. Зато можно кипятить чай в ванной, а это уже кое-что. Дядя Хью очень добрый, он разрешил нам покрасить наши комнаты и заказал для меня книжные полки, которые тянутся во всю стену, что хорошо, потому как комнату мне выкрасили не в тот желтый цвет, а перекрашивать ее уже охоты нет. Тетя Рейч разрешила нам взять шторы из дома на Честер-террас, поскольку у тети Сиб их никогда наверху не было, и взяла нас с собой на Честер-террас, чтобы выбрать. Она пообещала подогнать шторы под окна, что жуть как славно с ее стороны. Странно было возвращаться в тот дом, папа. Все в чехлах – вся мебель, – и жалюзи спущены, и лампочки, чтоб свет зажечь, считай, не найти. Когда мы вошли, слабо пахнуло чем-то сырым и темноватым, как от отсыревших молитвенников. Все шторы были сложены у Брига в кабинете в чайные сундуки с наклейками, откуда каждая, но, конечно же, мне запомнились только те, что висели в общей комнате – громадные белые розы на зеленом блестящем ситце и полотенечные с синими птицами, которые были в моей спальне, пока я жила тут, когда ты на Зоуи женился, когда мне девять лет было. Папа, я тебе не говорила, но, по-честному, то было самое разнесчастное время моей жизни. Я не верила, что ты вернешься забрать меня, понимаешь. Я думала, что они просто пытаются смягчить удар, когда так говорят. Я стащила полкроны у Дюши из сумки, чтобы купить билет на автобус и уехать домой, но потом вспомнила, что Эллен забрала Невилла к себе домой и что впустить меня будет некому. Вспомнила я об этом в коридоре, уже когда шла, а потом поняла, что ехать мне некуда. Это было хуже всего. Я до того разозлилась, что хотелось все перебить и поломать, и я вытащила из Бриговой трости упрятанный в нее стилет и бахнула им через проволочную защитную сетку по стеклу входной двери, чтоб разнести ее. Одно стеклышко все же разбила, но я заплакала, тут меня и нашли. Пришла тетя Рейч, и я лягнула ее, заорала, что меня в ловушке держат, что деваться некуда и жаль, что я не умерла. Теперь я понимаю, как по-доброму она отнеслась ко всему этому. Не наказала меня, хотя я этого слегка хотела, хотела, чтобы все и дальше шло просто и плохо. Она отвела меня в кабинет Брига, он находился ближе остальных комнат, и прижимала меня к себе, пока я плакать не перестала, и рассказывала мне про то, что ты новобрачный, а у новобрачных бывает медовый месяц для того, чтоб они немного побыли наедине друг с другом, а потом она дала мне календарь (я помню, у него еще сверху эмблема «Тимбер трэйдз» была) и отметила на нем тот день, какой был, а потом отметила день, когда ты домой приедешь, а еще дала мне красный мелок вычеркивать дни (их еще десять оставалось), и я тогда не смогла ей не поверить. В тот день она повела меня на очень грандиозное чаепитие в «Гюнтер» – всякие чаи со льдом и горячим шоколадом – и купила мне пакетик их особенных лимонных леденцов с собой. Я вспомнила обо всем этом потому, что шторы хранились в кабинете Брига и на входной двери не осталось ни одного стекла, а вся она была деревом обшита. В тот вечер (после чаепития в «Гюнтер») Дюши отрезала мне кусок полотна, чтоб я вышила для тебя чехол для пижамы, но вышивальщицей я была – из рук вон, так чехол и не вышила. Короче, шторы с синими птицами мне точно были не нужны, и Полл, выбравшая белые розы, предложила мне взять голубые бархатные. Забавно, пап, ты был тогда во Франции, но тогда ты вернулся. И в конце концов, конечно же, ты снова вернешься. Только на этот раз тебя нет долго, правда? И календарь мне тут не поможет, легко может так случиться, что еще больше года пройдет. Я продолжаю писать это для себя столько же, сколько и для тебя, ведь это помогает мне помнить тебя, я хочу сказать – больше помнить. Трудно еще и оттого, что тебя нет так давно: уже два года и девять месяцев, – оттого, что хотя я, конечно же, много думаю о тебе, но, похоже, держу в памяти все меньше всякого про тебя. Перебираю эти воспоминания раз за разом, что все время чувствую, что чего-то уже не помню. Как будто ты медленно уходишь от меня спиной вперед в даль. Это нестерпимо. Если люди именно про это говорят, что горе стало ослабевать, то я такого не хочу. Хочу помнить тебя так же полно и четко, как и в тот вечер, когда позвонил тот мужчина сказать, что ты пропал, как и тогда, когда Пипетт доставил потрясающее письмо, которое ты написал мне и которое я храню в секретном ящике стола, какой мне Полл дала. Ты помнишь, как ты снял пенку с моего горячего молока и съел ее? Я об этом часто думаю.
Сегодня воскресенье. Вряд ли я писала, что в эти выходные Арчи здесь, что хорошо, потому как он со всеми ладит и ободряет людей, даже бедного дядю Хью, кого ты, папа, по-моему, нашел бы ужасно изменившимся. Стал таким тихим и суетным – все время что-то берет в руки и вновь на место кладет, словно удивляясь, что у себя в руке это обнаружил, и, даже когда он улыбается или кто-нибудь пошутит, взгляд у него напряженный и чуточку не от мира сего. По-моему, у него сердце разбито, а Полл на днях сказала, что надеется, что он снова женится. Я бы сочла, что в его возрасте это очень маловероятно. Беда в том, что из-за войны мы нечасто с кем-то видимся, и, конечно же, ни с кем из добрых и угасших, кто бы, с моей точки зрения, ему подошел больше всего.
Однажды я не поехала домой (в общем, на самом-то деле несколько раз) на выходные, но один раз я все выходные провела с Арчи. Это не специально, просто как-то само собой получилось. Он пригласил меня сходить с ним в субботу днем в кино. Если быть точной, он меня не приглашал: так вышло, что, когда вечером накануне он пришел поужинать с дядей Хью и нами с Полл и я сказала, что собираюсь посмотреть, что такое выходные в Лондоне, то должна признаться, что сказала, как было бы мило сходить с ним в кино, а он тут же сказал, что готов – в субботу днем. Только потом в пятницу вечером, когда я вернулась в дом одна, поскольку Полл отправилась на вокзал Чаринг-Кросс встречать дядю Хью, все как-то, казалось, притихло. На меня легкая хандра напала, потому как забыла хлеба купить, и остался только очень черствый ломоть да мой сыр по карточке, пока я в темноте пробиралась к окну шторку поднять, потому как эти дежурные по светомаскировке на случай воздушных налетов сущими дьяволами становятся, если видят в чьем-то окне свет. Орут: «Гаси свет!», прямо с улицы, а потом тебе в дверь звонят, чтоб еще раз о том же сказать. Короче, зазвонил телефон, я взяла трубку – это был Арчи. Он спросил, не помешал ли мне одеваться для вечеринки. «Какой вечеринки?» – спросила я. Он ответил: «Я и не представлял себе, что вы остаетесь на выходные, если не идете в какую-нибудь компанию».
Я объяснила, что никого не знаю, к кому бы могла пойти, и он сказал: «Пойдемте тогда в очень небольшую компанию вместе со мной. Берите такси и приезжайте ко мне на квартиру в любое время после семи». Ну, разве это не было добрым и ободряющим с его стороны? Тут мне Полл не хватало, потому как она куда лучше меня разбирается в том, что надо надевать на выход, но вообще-то у меня всего одно приличное платье и есть, то, что Зоуи на Рождество подарила, из вельвета бутылочной зелени (вместо поднадоевшего мне темно-синего, которое я уже целую вечность носила), с вырезом каре и рукавами по локоть, оно делало меня чуточку взрослее, чем старое синее. Я подстриглась, чтобы избавиться от перманента, который, стоило дождю пойти, начинал кудрявиться, да и нестерпимо было спать на этих ужасных железных бигуди, что ночью врезались в голову, так что сейчас волосы у меня опять лежат прямо, как всегда было, а Полли подарила мне к Рождеству старую черепаховую заколку, которую отыскала в лавке со всяким старьем, так что наяву все еще красивее, чем в описании. Обычно Полли помогает мне с косметикой, так что самой мне пришлось несколько раз перепробовать. В конце концов я только немного зеленые тени наложила (я их у Полли взяла, но они ей не идут, так она не будет в претензии) и взяла ее темно-синюю тушь для ресниц, которую очень трудно наносить без того, чтобы щеткой себе в глаз не заехать, а еще губную помаду цвета «призывный красный», она отличная, вот только сразу сходит, стоит мне только хоть одно печеньице съесть. Румянами я перестала пользоваться, потому как мое лицо становилось таким красным после того, как его оттираешь (на деле приходилось свет выключать и головой из окна свешиваться, чтоб вернуть лицу нормальный цвет (он что-то вроде смеси защитного и ягодного пюре по сливками, цвет для лица вовсе не подходящий). Полл правда повезло быть такой писаной красавицей.
Арчи сменил свою старую квартиру на куда более прелестную новую в Южном Кенсингтоне. Она в высоком темно-красном доме, выходящем на площадь, но внутри просто прелесть. У него есть граммофон, как у Дюши, с громадным раструбом, сделанным из чего-то черного с золотом, вроде папье-маше, по-моему, и у него такие треугольные деревянные иглы, которые приходится заострять после каждой пластинки. Очень современно и порядком дорого, я бы сказала. Короче, Арчи слушал его, когда я приехала. Мы пили джин (в моем был лайм), пока он заканчивал слушать тот квартет Шуберта, который так обожает Дюши. Обнимая меня, он сказал, что я выгляжу шикарно, так что, по крайности, обратил внимание. Он повел меня ужинать в местный, как он его называет, ресторанчик, он оказался киприотским, где подают отбивные из барашка с рисом, а потом изумительный пудинг с маленькими обжаренными медовыми шариками и турецкий кофе – надо быть осторожным и следить, чтобы гущу не выпить. Только мы вели интереснейший разговор про новую идею, носящую название «государства благоденствия», придуманную человеком по имени сэр Уильям Беверидж[29]. Суть идеи в том, что все станет справедливее и для всех о’кей с бесплатными школами, бесплатными врачами и больницами. По-моему, это исключительно благая идея, ведь благотворительность до того разношерстна и случайна, и, хотя наша семья в сравнении со многими богата, большинство людей едва сводят концы с концами. Мы разговорились об этом, потому что я заявила, что когда заработаю деньги, то намерена половину их раздать бедным (когда мне впервые пришло это в голову, Невилл, узнав об этом, сказал, что эти деньги я могу ему отдать, поскольку он всегда бедный). Однако Арчи сказал, что все мы будем платить больше налогов, что и будет означать, что мы вносим свою долю. Он сказал, что, по его мнению, после войны даже консерваторы поймут необходимость большей справедливости и того, чтобы у всех имелись одинаковые возможности, тогда и появится гораздо больше людей умных и полезных. Я спросила, социалист ли он, и он ответил, да, он социалист, хотя и не очень-то распространяется об этом в Хоум-Плейс, которое назвал оплотом тори. Сказал, что с великим уважением относится к м-ру Эттли и надеется, что тот станет премьер-министром, что, по моему разумению, очень сомнительно, ведь м-р Черчилль так основательно популярен. После ужина Арчи сказал, что отвезет меня домой в Лэдброк-Гроув, по пути туда спросил, ночую ли я дома одна, и, когда я ответила, что да, сказал, что ему это не нравится и что, видимо, мне лучше у него остаться. Конечно же, это было бы куда веселей, так что я собрала свои вещички, пока он в такси ждал. Мы поехали обратно, и он приготовил какао с сухим молоком, которое, если сахару добавить, получится совсем недурно, – ну, это он так сказал, я-то сама считала, что это изумительно, – потом спросил, нравится ли мне в Лондоне. Тогда я ему рассказала, что получилось не так, как мне представлялось: жить у дяди Хью это совсем не то же самое, что было бы, имей мы свое отдельное жилье. К тому же, сказала я, мы поняли, что мало кого знаем вне семейства, и он этому посочувствовал. Я заметила, что он был, наверное, первым социалистом, с которым я познакомилась, что весьма хило, если учесть, сколько мне лет.
Тогда он сказал, что завтра вечером поведет меня ужинать к своим друзьям – он скульптор и живет с испанкой. Встретил ее, когда воевал на гражданской войне в Испании против Франко. Арчи знал их еще до войны, потому что когда-то жил во Франции. Я спросила, знал ли он тебя, и Арчи припомнил, что, кажется, ты с ним знакомился однажды, когда останавливался у него, но он в этом не уверен. Потом он сказал, что нам лучше отправиться спать, потому как на следующий день предстоит много дел. То была пятница. И то был один из лучших вечеров в моей жизни, а самым лучшим в нем было то, что одним вечером все не ограничивалось – впереди был целый следующий день.
Утром мы позавтракали чаем с весьма подгоревшим тостом и мармеладом, и Арчи спросил, что бы я делала, если бы была одна, сама по себе, и я ответила, что провела бы утро на Чаринг-Кросс-роуд, улице, где полно книжных магазинов, во многих из которых продают подержанные книги. Полл ни разу не захотела сделать этого, ей нравятся магазины, где есть всего понемногу. Арчи сказал, что мысль хорошая, мы сели на автобус и поехали.
Здесь Клэри остановилась. Вдруг неожиданно пропасть между тем, какой день она провела с Арчи, и каким он у нее в душе отложился, показалась громадной. Он вроде бы не походил на тот, что был тогда: а если бы походил, так она в рассказе о нем и до сих пор не продвинулась бы, даже описывая его своему отцу. Это сейчас, сидя в своей постели в Хоум-Плейс, очень быстро записывая на бумаге слова, не поспевавшие за мыслями, она вновь полностью переживала часы безмятежной радости от просмотра и поисков среди рядов потрепанных книг, плотно уставленных на шатких прилавках книжных магазинов, от посещения галереи «Редферн», где Арчи обратил ее внимание на картины художника Кристофера Вуда[30], которым сам очень восхищался, от ленча со спагетти в итальянском ресторанчике, где мужчины ели с салфетками, заткнутыми за воротник под подбородком, от того момента, когда Арчи распечатал новую пачку сигарет, потащил было одну из нее, а потом сказал: «Прошу прощения, милая Клэри, хотите?» А она, переведя взгляд с предлагаемой пачки на исполненные дружеской заботливости глаза, показала головой и сказала: «Дядя Хью пообещал нам с Полл золотые часы, если мы не станем курить до двадцати одного года».
– Так тому и быть, – отозвался он. – А сколько вам сейчас?
– Мне восемнадцать будет в августе.
– Еще три с половиной года. Все время забываю, насколько вы юны.
– Семнадцать с половиной лет – не особенно-то и юна.
– Ну, разумеется. Что ж, по-моему, вы абсолютно великолепны для своего возраста. – Он издал особый свой квакающий сдавленный смешок, означавший – она знала, – что он потешается, но не успела она обидеться, как он принялся еще больше поддразнивать ее.
– Великолепны, – повторил Арчи. – Я имею в виду, быть все утро на ногах, иметь все свои зубы в целости, слышать безо всяких помех – да вы просто чудесная старушенция для своих лет.
Тут так. Если бы она запомнила только, как старина Арчи поддразнивал старушку Клэри, это было бы знакомо и просто. Только сейчас, вспоминая об этом, она обнаружила, что и кое-что другое явилось и продолжает являться с растущей ощутимостью всякий раз, когда она мысленно прокручивает эту сцену. Это не могло быть воспоминаниями, потому как тогда она их вовсе не заметила, – тут, должно быть, воображение ее разыгралось: обращает что-то подлинное, что происходило, во что-то еще. «Прошу прощения, милая Клэри, хотите?» – и потом перевод взгляда с сигарет на его глаза, бледно-серые, ласкающие, пристально устремленные на нее. Вот к чему она то и дело возвращалась, и каждый раз верное звучание его голоса, выражение глаз, то, как дрогнули его длинные узкие губы, но не дотянули до улыбки, все отчетливее врезалось в память, принося с собой целый вал ничем не запятнанного счастья, такого сияющего, такого полного, что все остальные чувства в ней пропадали. Приходя в себя, она вновь обращалась к этому чистому неистовому счастью, бывшему целиком новым для нее: во всей жизни своей не могла она припомнить ничего схожего с этим, а ведь иногда было такое, что ей казалось, что она счастлива, – а то и вовсе о том и не думала бы. Только потом ей хотелось еще больше его, и она снова проигрывала ту же сцену. Тогда она ничего не чувствовала, а если и что-то, то едва заметное: привязанность к Арчи, признательность за то, что обращается к ней как ко взрослой и предоставляет возможность выбора, то ли взять сигарету, то ли нет. Но вот с выходных проходили недели, и она стала осознавать, что в тот момент познала нечто новое и странное, будто тогда – на долю секунды – чувства подсказали, что надвигается нечто, способное сбить ее, в беспамятство отправить, нечто проворное и сильное, как приливная волна, и ей как-то удалось от этого увернуться.
Я купила великолепные книги [писала она], все читанные, так что, может, ты их и читал. Романы: «Утерянный горизонт» Джеймса Хилтона – про Тибет, – «Смерть героя» Ричарда Олдингтона – про Первую мировую войну, «Спаркенброк» Чарльза Моргана и «Эвелина» Фанни Берни. Потом купила пингвинское издание «Серого волка» о человеке по имени Мустафа Кемаль и письма Китса, а еще тоненькую книжечку стихов Хаусмана. На этом пришлось остановиться, потому как больше мне было нести не под силу, а Арчи, который был в форме, говорит, что есть закон, не позволяющий флотским офицерам носить бумажные свертки и пакеты. Полагаю, тебе, пап, об этом было известно.
Вечером Арчи повел меня ужинать к скульптору и его жене-испанке. На самом деле она ему не жена, но они живут вместе. Он весьма стар (я хочу сказать, старше тебя и Арчи), и он еврей, почему и уехал из Франции. Ему сначала пришлось отправиться на остров Мэн[31], и Терезе тоже, потому что они иностранцы. Она темная и совсем не худая, скорее пленительная, я бы сказала, плодоносная, у нее длинные позванивающие серьги, и она напомнила мне черемуху. Длинные серьги кольцами мне нравятся, жаль, что их больше не носят. Тереза приготовила поразительное блюдо из мидий, риса и курицы, рис был желтым, запах и вкус у него были изумительные, еще мы пили вино. Живут они в одной большущей комнате, в которой есть духовка со стеклянной дверцей. Луис, так его зовут. Луис Качинский. Самое интересное, что они коммунисты, это здорово волновало, ведь до этого я ни одного не встречала. Луис принадлежит к какой-то организации, именуемой Союзом «Залог мира», но, несмотря на это, полон желания, чтобы мы воевали вместе с русскими. Арчи подшучивал над ним, мол, война сразу станет делом правым, если ее ведут русские, а Луис объяснял, что взгляды его изменились после сообщений о том, что немцы творят с евреями в Польше и вообще повсюду. Он сказал, что они стараются уничтожить их всех до единого, но ведь они не смогли бы такого сделать, правда? То есть нельзя же убить весь народ целиком: это же, должно быть, тысячи и тысячи людей, – как они смогут такое, даже если они настолько злодеи, что хотят этого? Я спросила Луиса, верующий ли он еврей, и он ответил, что нет, но от этого он не перестал чувствовать себя евреем, как англичане не перестают чувствовать себя англичанами, если они не протестанты. Говорили в основном он и Арчи (и Луис говорил с лихвой больше, чем Арчи), я просто слушала, а Тереза шила. У Луиса нога искалечена, как у Арчи, только его в Испании ранило. Арчи сказал, что они могли бы меж собой скачки на трех ногах устроить, но он не знает, что это такое. Арчи спросил, над чем Луис сейчас работает, и тот рассказал, что забросил скульптуру, потому что заказов нет, да и материалы достать нелегко, и занялся рисованием. «Энциклопедия рук», – сказал он. Показал нам целую серию рисунков, в основном углем, рук – сомкнутых, стиснутых, молитвенно сложенных, играющих на фортепиано, просто лежащих на столе, иногда кисти с тыльной стороны, иногда ладонями вверх, руки не одного и того же человека, а самых разных.
Не все были нарисованы углем, некоторые карандашом, а некоторые тушью разных цветов. Рисунков были десятки, и порой он на одном листе делал несколько. Арчи их целую вечность разглядывал, но я заметила, как Луис все время следил за ним, чтоб понять, о чем Арчи думает, и я видела, что ему было не все равно. Время от времени Арчи спрашивал его, чьи руки были нарисованы, и Луис пояснял: «пианист», «хирург знакомый», «женщина в бумажной лавке», «соседский ребенок», «любой, кто мне свои руки выставлял». В конце рассматривания Арчи заявил, что рисунки ему понравились чрезвычайно, что это новый вид портретной живописи. Когда мы уходили – было уже весьма поздно, – м-р Качинский обнял Арчи, потом тряхнул его хорошенько и сказал: «Ты бы приходил ужинать, по крайности, хоть раз в неделю, ты – моя публика из одного человека».
Тут она опять остановилась, вспомнив, как Арчи взял ее за руку на темной улице, как шли они по Кингс-роуд в поисках такси, а оно все не появлялось и не появлялось, пока они так далеко ушли, что Арчи сказал, мол, проще было бы до самого дома дойти. Он рассказывал ей про Луиса, кто, оказалось, был венгром, и Терезу, которая, оказалось, не вышла за него замуж, потому как была замужем, когда Луис с ней познакомился, но муж, случалось, избивал ее, тогда Луис похитил ее и увез во Францию. У них был ребенок, но он умер, а больше она иметь не может, но, по словам Арчи, они счастливы вместе и хорошо устроены. Луис, может, и требователен порой, но ей нравится ухаживать за ним. Наполовину она выслушивала это, а наполовину просто наслаждалась прогулкой по темным пустым улицам с хромавшим рядом Арчи. «Значит, это ваши первые коммунисты, – сказал он. – Не очень-то отличаются от других людей».
Она написала: «Ой, между прочим, папа, он с тобой не встречался. И очень сожалел об этом. Сказал, что с удовольствием встретится с тобой после войны. Подумалось, это было мило с его стороны».
Это было не совсем то, что ей хотелось сказать, она поняла: мило с его стороны было не то, что он хочет с папой познакомиться, более чем мило было то, как он за само собой разумеющееся принял, что после войны отец окажется жив и с ним можно будет встретиться. Порой в этом сердце подводило ее: теперь казалось, что так много времени прошло, как он пропал, – и так долго еще, кажется, до того, как войне, возможно, конец настанет. Люди говорят про «второй фронт», то есть про вторжение во Францию, но с этим ничего не происходит, а даже если и произойдет, то не будет концом войны, хотя может стать началом конца. Как это выразился не так давно м-р Черчилль? «Не начало конца, но, по-видимому, конец начала». Точно она не помнила. Ужас в том, что уже давным-давно ее буквально тошнит от того, как семейство слушает все выпуски новостей подряд, а потом обсуждает то, что услышали и прочитали.
Больше ей писать не хотелось. На следующий день они с Арчи ходили в Ричмонд-Парк, потом пообедали у него в квартире консервированным стейком и пудингом из почек – абсолютно изумительно, подумалось ей. Потом Арчи повел ее в кино на Оксфорд-стрит, где шли старые французские фильмы, и они смотрели La Fin du jour[32] с Жаном Габеном, который она раньше не видела, чудесный фильм, и она подумала, что ходить на французские фильмы, возможно, лучший способ учить французский язык. Когда они зашли в Угловой Дом[33] у Мраморной Арки поужинать пораньше, она спросила Арчи, что он об этом думает.
«Думаю, идея была бы отличной, если бы вы обе учились еще чему-нибудь, помимо скорописи и машинописи, – ответил он. – Полли следует заняться рисованием. Если бы она ходила в художественную школу – по вечерам, к примеру, – так встречалась бы со своими ровесниками». «А я как же?» – подумала она, но ничего тогда не сказала про это. Вместо этого неожиданно для самой себя произнесла: «Полли красавица, она просто выйдет за кого-нибудь замуж, по-моему. Не думаю, что ей хочется быть художницей на самом-то деле».
Он тогда ответил: «Она красива на диво, не могу не признать».
А она спросила его, считает ли он, что красота или привлекательность важны, и он ответил, что этому есть свое место. Потом помолчал, взглянул на нее оценивающе. «Но есть то, что не позволяет этому стать мерилом смертельного рода, – сказал. – У всех разные представления о том, что составляет будь то красоту, или привлекательность, или как это ни назови. Это один из маленьких фокусов природы ради сведения людей в пары, но, с другой стороны, не могу себе представить, что прыгну за борт за дамой, у которой четырнадцать колец вокруг жирафоподобной шеи (в тот день за завтраком они просматривали в «Санди экспресс» рубрику «Хотите верьте, хотите нет»).
«Это не считается. Так делают потому, что это модно, – как жесткие корсеты у нас или бинтовка ног, как в Китае делают. Я же говорю о том, какие люди изначально есть».
«Впрочем, надолго они такими не остаются, верно? Разумеется, вы правы: дама-жираф не пример. Отлично, Клэри! Но вот, к примеру, вы не так давно сделали завивку… должен сказать, с прямыми волосами вам гораздо лучше. И, коль скоро мы заговорили об этом, не думаю, что на самом деле вам идет красить чем-то лицо».
«Это потому, что вы против косметики».
«Нет. Я считаю, что некоторым людям она идет…»
«Полли выглядит красивой, хоть пользуется она ею, хоть нет».
«Верно. С этим я согласен. Но она ей не нужна».
«Вы хотите сказать, – выговорила она, вдруг почувствовав себя довольно беспомощной, – что есть два вида людей, кому не стоит ничего делать: ужасно красивые, и такие, как я».
Настала недолгая тишина. Они сидели друг против друга за небольшим столиком с мраморной столешницей, и она чувствовала, как наворачиваются на глаза горячие, разнесчастные и кошмарные слезы.
«Клэри, мне не хотелось бы, чтоб вы в чем-то были другой. Вы мне нравитесь в точности какая вы есть. Для меня вы выглядите именно так, как надо».
«Значит, у вас, должно быть, плохой вкус в оценке людей», – высказала она со всей грубостью, на какую осмелилась.
«Ну это резковато. Позвольте мне напомнить вам… уверен, что мисс Миллимент не преминула бы это привести, поскольку, пари держу, вы его не читали… что сказал Конгрив, или вложил в уста одного из своих героев, словом, мужчина женщине: «Что ей следует так же восхищаться им за красоту, какую восхваляет он в ней, как если бы он сам обладал ею». Вбейте себе это в головку и запомните хорошенько».
Ненадолго она воспротивилась этому: «Вы хотите сказать, что ей следует восхищаться им за его умение так тонко различать? Знаете, по-моему, вы просто стараетесь быть тактичным или еще что. Папа сказал однажды, что я красавица, и я на чуть-чуть сдуру едва ему не поверила, потому что, как вам известно, он обладал ужасно хорошим вкусом во всем… только на самом-то деле он всего лишь старался, чтоб я чувствовала себя… менее… заурядной».
Она подняла взгляд: он внимательно смотрел на нее.
«И ему это удалось?»
«Я же сказала, на чуть-чуть… Мне не хотелось, чтоб вы думали, будто я завидую Полл… или зло на нее таю за то, что она так хороша, что глаз не оторвешь. Просто иногда жалеешь… – она пожала плечами, мол, дело-то обычное, – ну, вы-то понимаете. Я говорю, людям придется уповать на мой характер, разве не так, а он, кстати, ничуть не лучше, чем у Полл, наверное, даже хуже, по сути, только у заурядных людей характеры должны быть лучше, чтоб возместить их заурядное обличье».
Клэри умолкла, но Арчи продолжал слушать, и она сказала: «Раз, когда Невиллу лет шесть было, я играла с ним в игру, где надо было сказать, какой ты больше всего хочешь быть. И я сказала, что хочу быть доброй и смелой. А Невилл глаза вытаращил, будто я вопиющее вранье сказала, а потом глянул на потолок и сказал, что он хотел бы стать богатым и красивым. И я тут же почувствовала, что и я хотела того же, если по правде, просто выдумала другое, чтоб звучало пристойно».
Вот он, сидит… смотрит, как она снова в своих мыслях путается, только на этот раз не как в прошлый, на этот раз его глаза, которые, кажется, способны понять и выразить так много, устремлены на нее с выражением, которое ей нестерпимо (в один жуткий миг у нее мелькнула мысль, что ему жалко ее, представить такое было для нее до того унизительно и отвратительно, что она тут же решительно прогнала ее). А высказала вот что: «По мне, у вас какой-то до крайности расчувствованый вид. О чем вы думаете, скажите на милость?»
И он тут же ответил: «Сдерживаюсь, чтобы не рассмеяться».
Тогда она была до того признательна ему за это (люди уж точно не жалеют того, над кем стараются не рассмеяться), что смогла безо всякого смущения сменить тему. «А расскажите-ка мне, – попросила она, – все, что вы про бордели знаете. Про них, похоже, только в очень старых книжках пишут. Они по-прежнему существуют? Вы же знаете, как наше семейство относится ко всякому такому. Они просто об этом не говорят. Так что я все еще не в курсе».
Только иногда, как сейчас, когда она сидела в постели, укутав плечи в пуховое одеяло, то, что она так ненадолго ощутила, заметив то, второе, выражение лица Арчи, возвращалось, и волна унижения жаром обдавала ее. Если только когда-нибудь он начнет ее жалеть, это будет конец всему. «Это было бы наглостью до того основательной, что я никогда бы от нее не оправилась», – записала она в дневнике, не успев удержать себя, а потом в смятении перечитала. Вот уж точно, ей не хотелось, чтоб папа это прочел, потому как вообще-то фраза никак не вязалась со всем остальным, про что она писала. С другой стороны, именно она казалась ей весьма интересным и зрелым высказыванием, таким, от какого в душе она не считала себя вправе отмахнуться. В конце концов она тщательнейшим образом стерла и зачеркала написанное в дневнике, а потом переписала фразу в записную книжку, которую Полл подарила ей на Рождество, – записывать все, что сгодилось бы для замыслов книг.
Лето 1943 года
Попытки заглянуть наперед приводили только к тому, что в сознании все прочнее застревала та невыразительная пустыня, какою в душе виделась ей теперешняя ее жизнь, так что обед с мужем сестры, некогда бывший лишь слабым (очень слабым) отвлечением, ныне обретал размеры приключения. Она решила, что успеет на ранний поезд, заедет к м-ру Бейли на Брук-стрит сделать прическу, потом отправится в «Либерти», где Зоуи недавно купила премиленькие полосатые покрывала из хлопка, из которых сшила платья себе и Джульетте. Для постельного белья и отделки не нужны никакие купоны, вот только трудно отыскать что-либо подходящее. На ночь она решила не оставаться: с того самого жуткого празднества у Гермионы, о каком Эдвард забыл начисто, она терпеть не могла его мрачную квартирку. Понять не могла, зачем ему она. Место неприятное, современное, стесненное какое-то, убранство ее напоминает капитанскую каюту на боевом корабле (только с чего это вдруг ей в голову такое сравнение пришло, она не представляла: ни в какой капитанской каюте она нигде не была). И все же: все кругом серое, ковры по цвету и фактуре овсянке под стать. Мебели минимум, и та «современная», то есть такая, создатель которой из кожи вон лез, чтобы она выглядела необычной. У ящиков нет ручек, но они до того невместительные, что практически ничего и не выиграешь, если их откроешь, у кранов тоже, нормальной пробки нет, зато верх вделан намертво и закрутке не поддается. Хотя вместо одинарного диванчика Эвард поставил кровать побольше, все равно она была не очень просторна для них обоих, приходилось всю ночь касаться друг друга, что всегда ей не очень-то нравилось. Как бы то ни было, Эдвард был в отъезде (поехал в Саутгемптон, где недавно был куплен причал), так что смысла оставаться ей не было. И все же она здесь, приехала, желая убраться из Родового Гнезда хотя бы и не на весь день. Пусть тот дом и полон людей, но она в нем чувствовала себя одинокой. Она тосковала без Сибил куда больше, чем могла себе представить, она тосковала по Руперту, кого, как и все остальное семейство, в душе считала погибшим, она тосковала по своей довоенной жизни в Лондоне, хотя временами и находила ее пресной, она тосковала даже по своей сестре Джессике и по ее долгим летним наездам, когда та была беднее и как-то доступнее, чем, похоже, сейчас.
В целом же особо не было времени для тоскливых воспоминаний и самокопания. Артрит Макальпайна означал не только то, что сад ему был уже не по силам, но и то, что нрав его сделался таков, что ни одному парню, нанятому из истощающегося запаса работников, не удавалось продержаться дольше нескольких недель. Прошлым летом она научилась пользоваться косой и скосила весь сад, заслужив его сдержанную похвалу. «Видывал я и похуже», – бросил он. Она же после этого самое меньшее дважды в неделю работала днем на свежем воздухе: научилась обрезать фруктовые деревья, отшкурила и перекрасила одну из теплиц и, конечно же, в дождливые дни всегда можно было попилить дрова и сложить их. «Не изводите вы себя так», – говорила Дюши, но именно этого ей и хотелось весь последний год, с прошлой весны, которая, казалось, была совсем давным-давно. Только помимо… этого (она теперь никогда не позволяла себе упоминать его имя) выдались в прошлом году и иные неприятности. После ссоры с Эдвардом из-за того, что тот забыл о празднестве у Гермионы, во время которой она бросила ему классический упрек, мол, он вообще не обращает на нее внимания, муж необычно много времени потратил на любовные ласки, а она была до того взбудоражена и до того извелась, притворяясь, будто ей это нравится, что лишь на следующее утро вспомнила, что никак не предохранялась. Так что, когда на следующий месяц у нее случилась задержка, то, естественно, посчитала себя беременной, и на этот раз, в отличие от того, что было с Роли, вообще-то почувствовала, что довольна таким исходом. Это будет ее последний ребенок, она сможет вынашивать его одновременно с Луизой, которая тоже понесла. Однако когда она рассказала Эдварду, то почувствовала, что тот не в большом восторге, хотя вслух никак не возразил. «Господь праведный! Ну, я не знаю… Ты действительно считаешь, что должна…» – вот то, что от него можно было услышать. В конце концов, под нажимом, он выговорил, что, разумеется, он обрадован, вот только подумал, что, возможно, она немного не расположена иметь еще одного ребенка. Разумеется, не была бы, будь это ее первый, ответила она тогда, но она совершенно здорова, на самом деле нет никаких причин, почему бы ей и не… Была у нее мысль съездить в Лондон, наведаться к доктору Боллатеру, но в конце концов она обратилась к доктору Карру. Она пришла к нему в кабинет у него дома, потому что не хотела уведомлять семейство, пока сама не будет абсолютно уверена, но уже шел второй месяц и она ощущала уверенность. «Я убеждена, что я – да, – сказала она д-ру Карру, – я просто хотела, чтобы вы это подтвердили».
Он бросил на нее острый взгляд из-под своих кустистых бровей и заметил, что еще слишком рано быть уверенной…
Осмотрев ее и задав весьма много вопросов, доктор сказал, что, возможно, ей это и не понравится, но он считает, что куда более вероятно, что у нее наступает период климакса, нежели беременности. Возможно, он ошибается, добавил д-р Карр, однако было ясно, что сам он так не думает.
«В конце концов, миссис Казалет, вам сорок семь лет, у вас и без того четверо прекрасных детишек. Вы сами-то разве не думаете, что чуть поздновато начинать сызнова?»
«Уверена, для всего этого еще чересчур рано!» Сама мысль о перемене ее ошарашила.
«У всех это по-разному происходит. Вы рассказывали мне, что менструации у вас начались поздно, а те, кто позже начинает, обычно заканчивают раньше».
Она почувствовала, как вспыхнула: ее смущение одолевало, когда она слышала любые слова, имевшие отношение к этой в целом отвратительной сфере. Врач же ошибочно принял ее отвращение за огорчение и ободряюще заговорил о ее перспективе стать бабушкой (Луиза дважды посещала его). «Вы вполне молоды, чтобы найти полное удовольствие во внуках», – сказал он, однако Вилли всегда считала, что быть довольной значило в первую очередь свести к минимуму подлинность ее страданий, и относилась к этому враждебно или, во всяком случае, невосприимчиво.
Разумеется, вскоре после этого посещения последовало неопровержимое свидетельство, что она не беременна, и остаток той зимы она провела в большом расстройстве. Облегчение, с каким Эдвард воспринял эту весть, раздражало ее, несколько раз она высказывалась, как он, должно быть, доволен, не упоминая, однако, о другом отвратительном исходе.
Так или иначе, но было приятно ожидать небольшой вылазки. Она, разумеется, съездит и Луизу навестит, которая все еще в родильном доме, где на прошлой неделе родила малютку. Майкл сообщил об этом по телефону: ему удалось получить отпуск на несколько дней, – и она тут же предложила поехать, но он сказал, что гораздо лучше будет повременить, пока закончится его отпуск и Луиза, возможно, почувствует себя одиноко. А потом ей позвонил Раймонд. Слышно было плохо, голос его звучал как-то зловеще и в то же время еле- еле. Ему так бы хотелось увидеть ее, произнес он дважды: она единственная, кто мог бы, он это чувствует, дать ему совет… Это высказывание имело обоюдоострую привлекательность: оно тешило ее тщеславие и возбуждало ее любопытство – и свое дело сделало, она согласилась встретиться с ним в клубе Художественного театра на Грейт-Ньюпорт-стрит без четверти час. Она надела прошлогодний синий костюм с блузкой из шифона (было совсем солнечно и тепло) и успела на поезд.
Она приехала рано, его еще не было, так что она сидела в заполненном народом и очень небольшом темноватом пространстве, бывшем наполовину проходом, наполовину помещением на первом этаже, и смотрела, как люди покупают театральные билеты, встречаются, чтобы пообедать вместе, пока неожиданно рядом с нею невесть откуда не оказался Раймонд, склонился к ней своим громадным бледным лицом, которое только что не светилось в сумраке призрачным светом.
– Моя дорогая! Мой поезд опоздал. Ужасно неудобно, извините. – Щека у него была влажной, усы торчали чертополохом. Он взял ее руку. – Может, сразу и пойдем? Выпьем и все прочее?
Он повел ее в большой приятный на вид обеденный зал.
– Столик на двоих, на имя Касл, – сообщил он тоном наигранной вежливости, каким обращался к тем, кого считал ниже себя. Такого она прежде за ним не замечала, но сейчас увидела в том привычку. – И нам хотелось бы сразу же заказать выпить… если вы будете так добры.
Напитки подали, он предложил ей сигарету и принялся кропотливо справляться о здоровье каждого члена семейства, выслушивая ее ответы так, словно именно этого и ожидал услышать, и она стала замечать, что он нервничает.
– Полагаю, о работе вашей спрашивать бесполезно, – сказала.
– Боюсь, что так. Конечно, нравится ощущать свою полезность… отыскать какую-никакую нишу. Я и впрямь чувствую, что кому-то в нашей семье надо вносить вклад в борьбу за победу в войне.
– О, Раймонд! Кристофер работает на ферме, а кто не знает, как нужно нам выращивать здесь продукты, и Нора, говорят, просто чудесная сестра милосердия, а разве Анджела не перешла из Би-би-си в министерство информации? В конце концов, Джуди еще ребенок. А… – Но тут она осеклась. Честно говоря, не могла вспомнить, что полезное совершает Джессика и совершала ли хоть когда-то, только тут осознав, что ее в разговорах никогда не упоминали.
– Что касается Джессики, – сказал он, будто прочитав ее мысли, – то ее вкладом, по всему судя, стало прелюбодеяние. – Ненадолго повисла тишина: слово скорпионом затаилось между ними на столе.
Потом он заговорил:
– Был ужасный миг, когда я думал, что вам, наверное, это известно. Что все знали, кроме меня. Но ведь вы не знали, верно?
Нет, сказала она, не знала. Она была до того потрясена: она всегда исходила из того, что они с Джессикой к подобным вещам относятся одинаково, – что, хотя сознание ее закипало от вопросов, каждый сам по себе казался слишком расхожим, чтобы его задавать.
– А вы уверены? – удалось ей наконец спросить.
– Намертво. – И он пустился отвечать на все эти вопросы, хотя она и не задала ни единого.
Узнал он уже около месяца назад. Вначале, когда это выяснилось, инстинкт требовал пойти и сразу с ней объясниться, но он не осмелился.
– Мне хотелось убить ее, – признался он. – Честное слово, я боялся того, что могу наделать. Понимаете, она так много лгала мне. Я чувствовал себя таким дураком. К тому же было еще и такое, чего я знать не хотел. Предположим, она считала, что влюблена в мерзавца, к примеру, или, предположим, не была… это было просто так, в стожку поваляться… не знаю, что вызывает во мне чувство большего омерзения. Потом я выяснил, что это продолжалось довольно долго…
– Как долго?
– О, много больше года. Я не знаю… могло быть и гораздо дольше. Она познакомилась с ним, когда мы еще во Френшеме учились. Вам, конечно, уже известно, кто тот малый, так?
Она была уже готова сказать: нет, не знает, но слова еще не слетели у нее с губ, как впилась ужасная мысль, сомнение, подозрение, что в одну секунду смерзлось в болезненную уверенность.
– О, нет!
– Дорогая моя! Простите, что я вас так огорчил, хотя я вполне понимаю ваши чувства. Такое потрясает. Прилично воспитанная женщина, двадцать семь лет в браке… счастливом браке, как я всегда считал…
Она выпила воды, пока он продолжал бубнить, и его лицо, которое ненадолго расплылось в дрожащее пятно, резким скачком вновь обрело четкость. То же произошло и со всяческими мелочами: сказанным и несказанным, тем, как Джессика никогда не предлагала ей остаться, как, похоже, не хотела приезжать в Хоум-Плейс, не хотела, чтобы Луиза оставалась у нее, а потом тот непонятный случай, когда она нагрянула в Сент-Джонс-Вуд, а Джессика повела себя так странно…
Раймонд меж тем делился своим мнением о Клаттеруорте и неожиданно, похоже, никак не мог остановиться, поминая это имя: «Если мистер Клаттеруорт думает, что ему, как музыканту, позволительно вести себя таким образом… и, что важнее, если мистер Клаттеруорт считает, что ему это сойдет с рук, то мистер Лоренс Клаттеруорт катастрофически просчитается. Я уже наполовину настроен связаться с разнесчастной его женой, чтобы понять, известно ли ей, что происходит…»
«Если это продолжалось больше года, значит, я даже не была его первой избранницей, – думала она, чувствуя, как, казалось бы, похороненное унижение от того жуткого вечера в Мейфэр нахлынуло вновь. – О боже! Только подумать, что потом он рассказал ей об этом!»
Однако худшее было впереди.
– Скажите мне, – говорил он, перегнувшись к ней через столик. – Скажите на милость, как может любая порядочная женщина… я чуть было не сказал леди… хоть на миг позволить себе влюбиться в такого прилизанного маленького червяка? Не говоря уж… – тут лицо его покрылось краской смущения, – не говоря уж… о физической близости с таким созданием? Вы вообще можете понять такое? То есть я что, тупоумный, что ли?
По счастью, ответа он, видимо, не ждал, был до того поглощен горестными излияниями, что любой вопрос был риторическим: ей оставалось только, подумала она, сидеть и сносить рвущийся из него поток гнева и шока, – поскольку его неуклюжая, полная избитых фраз речь говорила ей (и опыт работы в Красном Кресте это подтверждал), что он пребывал в состоянии шока – и до конца обеда это состояние не пройдет. Она оставила попытки есть, закурила сигарету, уставилась в тарелку и старалась, чтобы полнейшее унижение выслушивать, как человека, кого она, по крайней мере, считала, что любила, теперь ей преподносят в выражениях, где сплетались непристойность и грубая реальность, волной обдало бы ее с головы до ног. Этому тупому бездумному забытью вдруг пришел конец: по-видимому, он спрашивал о чем-то…
– … что, по-вашему, мне делать?
– Делать? В каком смысле?
– В том смысле, чтобы поговорить с ней. Должен признаться, что я и в самом деле не знаю, как за это взяться.
Она изумленно глянула на него. Гнев его, казалось, испарился, теперь он словно нервно юлил, ища пути к примирению. Она не успела ничего ответить, а он уже воскликнул с всецело убедительной непосредственностью:
– Понимаю! Что ж, то есть, если вы чувствуете, что смогли бы… переговорить с ней?
Он уцепился за это, невзирая на все ее протесты: что она должна сказать? Что он хочет, чтобы она сказала? Чего он вообще хочет? Он полагал, что она могла бы выяснить, что на самом деле Джессика чувствует, – может, даже поговорит с женой этого типа, побудит ее убрать его со сцены и еще что-то. Под всей былой напыщенностью, от какой теперь не осталось и следа, она увидела, как он волновался, как малодушничал, как очень был испуган. В конце концов, желая отвязаться, она сказала, что подумает, и он записал ей адрес и номер телефона в Вудстоке, чтобы она могла с ним связаться. К тому времени, когда они расстались за порогом клуба Художественного театра, было уже четыре часа, и ей пришлось торопиться на Чаринг-Кросс, чтобы успеть на поезд.
* * *
Невилла с Лидией, которые допустили большущую ошибку, пожаловавшись, что им нечего делать, отправили на выгон заполнить водопойный желоб для лошадей. Для этого нужно было наполнить два ведра (по одному на каждого) водой из шланга за конюшней, тащить, шатаясь, воду через арку в стене по узкой тропке из шлака мимо навеса для консервирования, мимо кучи компоста и сломанной собачьей конуры, по заросшей травой дорожке с выжженными солнцем колеями до желоба прямо у ворот, ведших на лошадиный выгон: пеший путь выходил длинным. Они сделали уже по четыре ходки, а желоб был лишь наполовину полон.
– Это еще и потому, что Мэриголд всю воду выпивает, когда нас нет, – ныл Невилл.
Обычное свое, почти машинальное ворчливое нытье по поводу задания они завели сразу, как только им было сказано, что надо сделать, – не осталась незамеченной и несправедливость заставлять их работать в каникулы, особенно в такой жаркий день, когда больше никто, они спорить готовы, не работает. Завистливо перечислялись праздные и пустяковые занятия взрослых: Дюши машинку гоняет, тетя Зоуи боль- ным в госпитале читает, тетя Рейчел шьет, тетя Долли (Задира) отдыхает (детишки закатывают друг перед другом глаза в приступе саркастического изумления), тетя Вилли уехала куда-то на машине что-то там такое забрать…
– Они все сидят, – подытожил Невилл.
– Вряд ли из сил выбиваются, мой дорогой, – согласилась Лидия. – Почему мистер Рен этого не делает? Подожди меня, мне надо руку сменить.
– Да ничего он не делает, только дерево в щепки переводит да по вечерам в паб ходит. Тонбриджу приходится иногда его домой отвозить, потому что он на ногах еле держится.
– Он травит себя выпивкой, – сказала Лидия.
– Но что он весь день делает? По-моему, это нам надо выяснить.
– Ой, Нев! Он же может совсем испугаться… особенно если его разбудить, когда он спит.
– Ну знаешь, ему на его хилых ножках так быстро, как нам, не побежать.
Они опять добрались до выгона. Старая гнедая пила из желоба. Она резко дернула головой и перевернула ведерко Лидии, вода выплеснулась на прокаленную землю и тут же испарилась.
– О боже!
– Тебе надо было сначала ее морду отвести в сторону. Нам придется заниматься этим практически весь день, а тебе надо будет еще один лишний разок сходить.
– Может, и не надо будет.
– Посмотрим, – произнес Невилл голосом Эллен.
Они пустились обратно, налегке с пустыми ведрами, теперь уже замечая всякое кругом: старую сирень у ворот кухонного дворика, к примеру, вокруг которой все кишело бабочками, спавшую на самом неудобном узком куске стены Флосси, чей длинный хвост свешивался, «как пестрая лента», заметил Невилл – он здорово начитался про Шерлока Холмса. Когда наконец они добрались до дверей конюшни, рядом с которыми торчал кран, а к нему проволокой был прикручен шланг, то попросту вдвоем пошли и сели на подставку для посадки на лошадь передохнуть.
– Значит так, этот день одно решает. Когда я стану взрослым, то буду на вольных хлебах, от других брать не стану ни копья на свою голову.
– Как это?
– Это значит, что не приходится делать того, что не нравится.
– Но что это значит?
Невилл ни малейшего представления не имел, но будь он проклят, если позволит девчонке узнать об этом.
– Есть такая южноамериканская змея, – начал он лекторским голосом, – исключительно ядовитая, называется «копьеголовая». Это отсюда идет. Змея только тогда людей жалит, когда ей нравится, понимаешь.
Лидия знала, что Невилл крайне интересуется змеями и читает о них все, что ему ни попадется, а потому объяснение приняла сразу же.
– Понятно, что во Франции копьеголовая на самом деле может быть на вольных хлебах, – сказала она. – Я спрошу у мисс Миллимент.
– Я б на твоем месте спрашивать не стал. Познания мисс Миллимент о пресмыкающихся всегда поражают меня своей неразвитостью. – Теперь он пустил в ход иной голос – школьного учителя, похоже. Ей хотелось указать ему, что копировать голоса незнакомых людей вовсе не смешно, но пересиливало желание сохранить его расположение: а вдруг он да и махнет рукой на ее лишнее ведро.
– Ты что про Муссолини думаешь?
– Я вообще о нем вряд ли думаю, теперь, когда его свергли, он уже не считается. Слушай, у меня идея.
У нее сердце замерло. Догадалась, что это будет связано с м-ром Реном. Так и вышло.
– Я заберусь по стремянке на сеновал и, если он спит, обрызгаю его из шланга и спрошу, почему он не носит воду лошадям. Можешь полюбоваться.
– А вдруг он не спит? Он же, может… – И она закончила фразу, шевеля одними губами: – Может, он слушал нас. – Она представила, как садовник слушает, улыбаясь своей мрачной жесткой улыбкой, и готовится наброситься на Невилла, когда тот долезет до верха стремянки… – Он может спихнуть тебя, – выговорила она.
– Я осторожно. Я его первым окликну. Если он отзовется, я до верха не полезу.
– Давай сначала свою работу закончим. – К тому времени, наверное, уже чай пора будет пить, а этого вечно голодный Невилл не пропустит.
– Можешь идти, если хочешь. – Невилл встал с подставки и подобрал шланг. Дверь конюшни была приоткрыта. Он распахнул ее и исчез во мраке. – Мистер Рен! Слышите, мистер Рен!
Услышала Лидия, как позвал он. Стояла тишина. Девочка слезла с подставки и последовала за двоюродным братцем.
– Расправь мне шланг, я полез.
Она сделала, как он просил, а потом страх заставил ее осмотреть денники на тот случай, если м-р Рен спрятался в одном из них. Но они были пусты, если не считать старого гнезда в одной из железных кормушек, прикрепленных скобами к стене. Стены были побелены и обросли плотной паутиной, такой же большой, как и рыбацкие сети в Гастингсе, их уже давно не белили заново. Она заглянула во все четыре стойла. В каждом было круглое окно, вырезанное высоко в стене (лошади нельзя смотреть, что творится снаружи), и почти во всех стекла потрескались и покрылись грязью, кругом стоял пропитанный пылью сумрак. Она слышала, как Невилл долез до самого верха стремянки: его шаги громко раздавались над головой по доскам сеновала.
– Его тут нет, – донесся его голос. – Должно быть, ушел. Возьми шланг, сможешь?
Возвращаясь к подножию стремянки, она заметила дверь сбруйного сарая. Та была закрыта: конюх вполне мог быть там. Когда Невилл передавал ей шланг, она молча указала на сарай и отошла к двери конюшни, чтобы успеть убежать, если вдруг м-р Рен выскочит и накинется на них. Но он не выскочил.
Невилл, спустившись, снова взялся за шланг.
– Спорим, он там все время был, – сказал он. Запор на двери был тугой и заскрипел, когда мальчик поднял его. – Да! Вон, спит, как обычно.
Лидия подошла, встала в дверях. Пол в сбруйном сарае был выложен из кирпича. Очаг, огражденный небольшой стальной решеткой, над ним каминная полка, на которой стояло треснувшее зеркало. На стенах рядом висели поблекшие розетки, завоеванные Луизой на соревнованиях во времена, когда она занималась в манеже. Окно было закрыто прибитым к нему гвоздями куском мешковины, но некоторые гвозди проржавели, и окно закрывалось лишь наполовину. В сарае пахло не так, как во всей конюшне: сырой кожей и заплесневелой старой одеждой. М-р Рен лежал на походной койке в дальнем углу. Он был прикрыт лошадиной попоной, но ноги в кожаных гетрах и темных бежевых сапогах торчали из-под нее.
– Мистер Рен! – воскликнул Невилл дразнящим голосом.
– Невилл, не надо… – потянулась было Лидия, но было уже поздно. Он бросил на нее вкрадчивый сияющий взгляд, означавший, как она знала, полную решимость, сжал краник на шланге и слегка повел им над лежащей фигурой. Та даже не шевельнулась.
– Крепко же он спит, – произнес Невилл, но позволил Лидии забрать у него шланг.
А она тут же направилась к койке.
– Не спит, – выговорила. – У него глаза широко открыты. Ты не думаешь, что он, возможно… ну знаешь… мертвый?
– Да ну! Я не знаю. Вроде он не вполне бледный. Пощупай его.
– Сам щупай.
Мальчик склонился и осторожно положил руку на лоб старика. На нем были капли воды, но кожа на ощупь была холодная.
– Лучше я у него пульс потрогаю, – произнес он, стараясь говорить спокойно, однако голос его дрожал. Откинул попону: Рен лежал в грязной полосатой рубашке без воротника, подтяжки цеплялись за бриджи, в правой руке он сжимал какую-то желтоватую бумажку. Когда Невилл поднял его кисть, бумажка упала на пол, и они увидели, что это старая фотография из газеты – их дедушка на лошади, уздечку которой держит молодой человек в твидовой шапочке: «М-р Уильям Казалет на Эбони со своим конюхом», – гласила подпись. Кисть руки, сплошь кости, обтянутые кожей, тоже была холодной. Когда Невилл отпустил ее, она упала на кровать так быстро, что он едва не отпрянул. Слезы набежали на глаза.
– Он, должно быть, мертвый.
– О, бедный мистер Рен! Должно быть, он умер ужасно внезапно, если даже не успел глаза закрыть, – заплакала Лидия, чему он был рад: ее плач остановил его.
– Надо пойти и сказать им, – произнес он.
– Думаю, нам надо сначала помолиться за него. Думаю, люди, кто находит людей, которые мертвые, обязаны сделать что-нибудь такое.
– Ладно, ты можешь оставаться и молиться, если хочешь, а я пошел искать тетю Рейч.
– Ой, нет, я, наверное, не останусь, – торопливо пролепетала она, – я с тобой пойду и по дороге помолюсь.
* * *
Они отыскали тетю Рейч и рассказали ей, и они с тетей Вилли пошли посмотреть, а потом д-р Карр пришел, а потом приехала черная машина-фургон из Гастингса и увезла м-ра Рена, и все это время Невилла с Лидией просили не путаться под ногами, «пойти поиграть в теннис, или сквош, или в какую-нибудь еще игру». Это злило их обоих.
– Когда наконец они перестанут обращаться с нами как с детьми? – восклицала Лидия своим самым страдальческим взрослым голосом.
– Если бы не мы, он так и оставался бы там много дней, недель и месяцев. Даже, наверное, лет. Пока не остался бы от него один скелет в одежде, – сказал Невилл и тут же принялся размышлять, куда подевалось бы остальное.
– Вообще-то, нашли бы, потому как Эди каждый день носит ему обед на тарелочке с крышкой. Она бы заметила, что тарелки скапливаются, – возразила Лидия. Она раздумывала, что происходит с телесной частью людей. «Только Невилла спрашивать не буду», – подумала. Она спорить была готова, что он не знает и просто-напросто выдумает что-нибудь жуткое. По обоюдному согласию он прошли через зеленую суконную дверь на кухню, где с удовольствием донесли до прислуги – самой благодарной публике – полный исключительного драматизма отчет о произошедшем событии.
– …и вот о чем мы вдвоем подумали, – поведал Невилл, когда в конце концов уже нельзя было сообразить, о чем еще рассказать, – как это у мертвого человека глаза закрывают?
Миссис Криппс сказала, что, по ее мнению, вопрос этот не очень приличный, но Лиззи своим грубым шепотом, на который переходила, когда (редко) высказывалась в присутствии миссис Криппс, сообщила, что покойникам медные пенни на веки кладут.
– Это в самом деле полезно знать, – сказала Лидия, когда они мыли руки перед ужином, однако Невилл возразил, мол, не ужасно, потому что покойники попадаются не очень часто.
– Мне тринадцать, – сказал он, – почти, а это первый, какого я увидел. А Клэри и этого не видела. Она точно с ума сойдет от зависти.
Лидия, уже давно это чувствовавшая, высказалась в том смысле, как ее потрясло его бессердечное отношение к бедному м-ру Рену.
– Я вообще-то не бессердечный, но должен признаться, что сердечного отношения к нему у меня не было. Мне жалко его, что он умер, но я не чувствую, что мне себя от этого жалко, то есть.
– Я в точности понимаю, что ты имеешь в виду, – сказала Лидия. – Он и впрямь большую часть времени ходил молча в плохом настроении. Только мамочка говорит, что он ужасно расстроился из-за того, что Бриг стал на машине всюду ездить, а не на лошадях. В особенности когда Бриг до того ослеп, что не мог верхом ездить. Я могу понять, что такого рода вещи делали его жизнь яркой.
Похороны Рена состоялись неделю спустя, и Бриг с Дюши и Рейчел с Вилли на них присутствовали.
* * *
В сентябре пришла пора Зоуи вновь наведаться к матери на остров Уайт. Она ездила каждые три месяца, оставалась дня на три-четыре или неделю, если могла это вынести. Весной и летом брала с собой Джульетту, однако чем старше становилась Джульетта, тем сложнее делалось брать ее с собой. Мать ее могла управляться с маленькой подвижной малышкой не больше получаса, а Джули в три года была еще слишком мала, чтобы оставлять ее без присмотра, так что Зоуи все труднее было делить время между ними, чтобы каждая оставалась довольна.
На этот раз Эллен согласилась присмотреть за ней, да и Вилли будет рядом, чтобы в случае чего приглядеть.
– Я пробуду там всего три дня, – обещала Зоуи.
Дюши как-то предположила, что Зоуи, возможно, понравится, если ее мама поживет в Хоум-Плейс, однако Зоуи (ошарашенная такой мыслью) быстренько сообщила, что ее мама путешествовать так далеко в одиночку не может, если ей, Зоуи, поехать ее забрать, то с тем же успехом она могла бы и с ней остаться, и Дюши, которая прекрасно поняла, что по какой-то причине Зоуи не желает приезда своей матери, к тому же и знала, что чем старше становишься, тем меньше хочешь переезжать оттуда, где все хорошо знакомо, сразу же отказалась от своей задумки.
Она уже собралась: зимняя ночнушка, потому как в «Бедняцком крае», домике, который она собиралась одолжить у маминой приятельницы, миссис Уиттинг, всегда холодно; грелка, потому как кровать, на которой ей спать, большую часть года стояла в сырости (ей никогда не забыть своего первого приезда, когда пар клубами пошел, стоило ей грелку в постель сунуть); пачка имбирного печенья: едва ли просто лакомство, – и макинтош на тот случай, если ветреные прогулки, в которые она отправлялась, когда испытывала нужду сбежать, оказались бы еще и дождливыми. Еще она взяла для матери коробку пастилы, всегдашней излюбленной ее сласти. Захватила также шитье, вязанье и «Анну Каренину», роман, с которым Руперт познакомил ее перед самым своим призывом и который, к ее удивлению, она читала с очень большим удовольствием. Она всегда брала с собой такого рода книги на те случае, когда необходимо было занять долгие вечера после того, как мать с Мод отправлялись спать. Взяла и бутылку шерри для Мод, поскольку всякий раз, когда она приезжала, устраивалась небольшая вечеринка с шерри, чтоб ее можно было показать соседям и друзьям. Для такой оказии требовались платье и драгоценная пара чулок – у нее всего две ненадеванных пары осталось.
Чемодан, когда наполнился, оказался очень тяжел, а – война же! – рассчитывать на носильщиков не приходилось, но Тонбридж донес ей его до поезда на Лондон.
Оказавшись в пути, она почувствовала облегчение. Оставлять Джули было всегда тяжело: когда девочка была поменьше, то едва ли замечала это, зато тогда она страдала. Теперь, по сути весь этот год, Джули капризничала, даже когда мать на день в Лондон уезжала, хотя Эллен и утверждала, что потом очень быстро успокаивалась. А с Уиллсом и Роли она в самом деле не единственный ребенок. «Хотя и останется моим единственным ребенком, полагаю», – подумала Зоуи.
Возможность на несколько ничем не прерываемых часов остаться наедине с собой была практически единственным в этих поездках, чего она ждала с удовольствием, и вот дождалась: она могла позволить себе роскошь подумать о себе самой, прикидывая такое, что разные члены семейства Казалет отнесли бы либо к эгоистичному, либо к нездоровому, либо к тому и другому разом. Что с нею станется? Ей двадцать восемь лет: не может же она провести остаток жизни в Хоум-Плейс, работая приходящей медсестрой-любительницей, приглядывая за Джули, – помогать Дюши, шить и перешивать одежду, стирать, гладить, ухаживать за инвалидами в доме (Бригом и тетей Долли), слушать нескончаемые сводки новостей о войне по радио. Войне, о которой все говорили, что та, скорее всего, кончится через годик-другой, завершится через какое-то время после открытия «второго фронта», хотя никто не ожидал этого раньше следующей весны. Конец, впрочем, еще не так давно казавшийся невообразимым, уже определенно виден. И что тогда ей делать? Годы привыкания к непрестанному теплому пульсу семейной жизни, которая для родни мужа казалась такой естественной и необходимой, истощили в ней предприимчивость: мысль вернуться в дом на Брук-Грин и жить самой по себе с Джули казалась безрадостной. Ведь она больше уже не ждала, что Руперт вернется, сейчас, в поезде, была вольна признать это. Дома ее окружали люди, которые, даже если втайне и соглашались с ней, никогда бы того не признали, хотя бы не по чему иному, как по всеобщему пребыванию в плену у неизменной веры Клэри в то, что отец жив. Конечно, она ощутила чудесное облегчение, когда тот француз доставил весточку от него. Она рыдала от восторга и радости. Только то было два года назад, два года без какого-либо признака того, что он еще жив. Этим летом руководителя французского Сопротивления замучили до смерти в гестапо. Об этом сообщили в девятичасовых новостях – никто не сказал ни слова, но в комнате стало не продохнуть от невысказанных тревог. Она, помнится, раздумывала, сколько времени кто угодно будет продолжать укрывать его, если будет знать, что рискует – в случае обнаружения беглеца – претерпеть пытки, прежде чем умереть. Клэри тогда в комнате не было.
С тех пор она старалась (и обычно ей удавалось) выбросить из головы все мысли о нем. В этом она никогда-никогда не призналась бы ни одному из членов семейства, поскольку понимала: либо не поверят ей, либо сочтут неестественно холодной и себялюбивой. Возможно, такая она и есть, подумалось ей сейчас. Однако факт оставался фактом, и она пребывала в каком-то непреходяще переходном состоянии: не была вдовой, но не была и той, кого в семействе, подсмеиваясь над Бригом, называли очаровательной малышкой, чей муж сидит в плену. Она могла бы, если разобраться, быть любой из них, сама природа вещей толкает стать либо той, либо другой, только что поделать или каким чувствам предаться, если она сама не знает, кем из двух? Вот и приходится искать убежища в настоящем, в мелочах повседневности военной жизни, вполне наполненной прозаическими сложностями, чтобы время занять и без сил остаться. Ее побегом сделалось чтение романов, предпочтительно толстых, старинных. Отыскать их в доме труда не составляло: они были небрежно расставлены по полкам повсюду, никто не наводил в них порядка, никто не ведал, где именно находилась та или иная книга, кроме девушек, у которых в комнате стояли свои стеллажи, – так что каждый роман, который она читала, становился открытием, порой глубоко радовавшим, порой до того скучным, что почти читать не хотелось. Поскольку, стоит сразу сказать, у нее было простое представление, мол, раз уж все эти книги классика, так и должны быть увлекательны, то ее смущало, что требуется побороть себя, чтобы через некоторые из них продраться. Разговор с мисс Миллимент, однако, изменил этот поверхностный взгляд: она помогла ей понять, что и литература девятнадцатого века пожинала плоды халтуры, выпускала в свет книги, которые в описаниях мисс Миллимент походили на викариево яйцо (разве не слышала она такое выражение? – оно означает «частично хорошее»[34]), романы, которыми наслаждались за их общественную значимость, наряду с шедеврами, «хотя порой шедевры, как, я уверена, вам известно, тоже могут быть скучными». После этого она расспрашивала мисс Миллимент о найденных книгах, прежде чем взяться за их чтение. «Приходится помнить еще и о том, – выговаривала та своим мягким застенчивым голосом, – что даже очень хорошие писатели создают произведения изменчивого достоинства, а потому можно весьма и весьма восхищаться одним романом и ничего не почувствовать, читая другой». Порой Зоуи приходила в голову мысль: а если бы не было войны и если бы Руперт не пропал, обнаружила ли бы она в себе способность находить удовольствие в чтении романов?.. Наверное, нет.
Арчи предложил ей пообедать с ним, когда она будет проездом в Лондоне, но ей надо было забежать в магазины, купить что-то для матери, и они договорились пообедать вместе на ее обратном пути домой. Было бы приятно посидеть с Арчи вдвоем, подумала она, и в самом деле восхитительно пообедать в ресторане. На этот случай она взяла с собой новую зеленую твидовую юбку и блузу к ней, которую сама выкроила. Арчи ей нравился, хотя привлекательным она его и не находила: и слава богу, думала она сейчас, потому как было бы явно великой глупостью влюбиться с лучшего друга своего мужа, – а с того жутко неприятного случая (со временем событие усохло именно до него) с Филипом Шерлоком она зареклась от самой мысли флиртовать с кем-либо. Нет, Арчи теперь был кем-то вроде члена семейства, он знал все обо всех, потому что все они поверяли ему свои тайны: он единственный знал, что она считает Руперта погибшим, и не пытался вызвать в ней чувство вины или ощутить себя из-за этого бессердечной.
Для того чтобы купить именно те лифы и ночные рубашки, какие хотелось ее матери, пришлось бы отправиться либо в «Понтингс» на Кенсингтон-Хай-стрит, либо в «Гэйлор энд Поуп» в Мэрилебоне. Мать как-то сказала, что если того, что ей нужно, нет в одном магазине, то в другом будет почти наверняка, только от такого выбора ничуть не легче. На деле эти два магазина в разных концах города, а она без машины, так что времени наведаться в оба у нее не будет. Она выбрала «Понтингс», потому как сможет доехать до самого магазина на автобусе номер девять – долгая поездка всего за четыре пенса. Багаж она оставила на Чаринг-Кросс. Кенсингтонские сады выглядели куда просторнее и больше походили на сельский парк после того, как там сняли все металлические ограждения. Она вспомнила скучные прогулки, на которые ее время от времени водили какие-то люди, фамилии которых она едва помнит, которые приглядывали за нею, когда мать была на работе, и подумала, неужто и она поведет туда Джули – кататься на лодке, может, на Круглом пруду или птиц кормить у озера Серпентин. «Но, надеюсь, мне придется хоть где-то работать», – думала она. Схожесть жизни матери с ее собственной поразила ее сейчас с внезапной силой. Случались и раньше косые удары, но ей удавалось уходить от них: теперь же собственная ее жизнь, казалось, ужасно повторяла мамину во всех отношениях. Ее мать овдовела в прошлую войну. Она, Зоуи, осталась единственным ребенком. Когда ее мать ушла наконец на пенсию из косметической фирмы, на которой проработала почти двадцать лет, то получила триста фунтов и серебряный поднос, предназначавшийся для визитных карточек. Она помнила несмелые попытки матери подыскать мужчину для компании (несомненно, в надежде выйти замуж) и ее собственное каменное упорство в том, чтобы помешать им. Сколько Зоуи помнит, мать все время, как порой называла это дочь, «носилась» с ней, следила за ее одеждой, расчесывала ей волосы по сотне раз за вечер, учила ее следить за своей внешностью, посылала в те школы, где плата, если оглянуться назад, заставляла ее бороться за то, чтобы ее себе позволить, а после, когда Зоуи вышла замуж за Руперта, продать небольшую квартиру в особняке, бывшую им домом, и переехать в ту, что была еще меньше. И она, выросшая на том, что принимала все преподносимое матерью как должное, выросла еще и настолько влюбленной в собственное свое обличье, насколько могла быть влюблена в него одна лишь ее мать. Мать воспитала в ней чувство собственной значимости, красавицы, которая далеко пойдет. В школе было во многом то же самое. Другие девочки завидовали ее прекрасной чистой коже, ее сияющим волосам, вившимся от природы, ее длинным ногам и ее зеленым глазам: они завидовали ей, но и обожали ее, баловали, отдавая лучшие роли в пьесах в конце учебного года, знакомя с приезжавшими в школу родителями, некоторые ослепленные девицы даже предлагали делать за нее домашние задания по математике. Джули она не должна так растить, думала Зоуи. Джули должна ходить в школу, где будет учиться. Четыре года, прожитые с Казалетами, научили ее, что в этом семействе внешность вовсе не берется в расчет: о ней никогда не говорили, и, по крайней мере, в присутствии Дюши предполагалось, что тщеславие по поводу внешности, а равно и всего остального, исключалось совершенно. Она думала о Джули, у которой такие же густые блестящие темные волосы, такие же выгнутые бровки-бабочки. Только глаза другие: они были голубыми, как у Руперта, как у большинства Казалетов. Она была – да и сейчас остается – самым прелестным ребенком, какого Зоуи только видеть приходилось, но в этом семействе это не имело никакого различия. Эллен звала ее маленькой мадам, когда девочка показывала свой капризный нрав, обращалась с ней совершенно так же, как с Уиллсом и Роли. «Как бы вам понравилось, если бы кто-то взял вашего мишку да и выкинул в окошко? – услышала она однажды увещевания Эллен. – Вы бы осерчали – ведь так? – и заплакали бы от этого. Так вот, вы не должны другим людям делать такое, что, вы знаете, вам не понравилось бы, если бы они сделали вам». Ей ничего подобного никто никогда не говорил. «Если бы я не встретила Руперта и все его семейство, я бы, может, и не повзрослела бы вовсе», – подумала она. Чувства говорили, насколько она отличается от той избалованной, тщеславной, пустой девятнадцатилетней девушки, которая выходила замуж за Руперта. Нынче еще два года – и ей будет тридцать, юность уйдет, и никто не захочет взять за себя средних лет женщину с ребенком (тридцать лет всегда представлялось ей началом среднего возраста).
В «Понтингс» лифы были, но не было ночных рубашек. Поскольку это означало, что у матери в книжке останутся купоны на одежду (к тому же Зоуи припомнила о пробирающем до костей холоде «Бедняцкого края»), она купила матери вместо рубашек бледно-розовый шерстяной корсаж. Было уже половина первого – время возвращаться на Чаринг-Кросс, найти что-нибудь поесть на обед, забрать багаж и отправляться на Ватерлоо садиться в поезд до Саутгемптона.
Пообедала она в «Фуллерс» на Стрэнде: две серые сосиски, будто в дождевик запакованные, ложка сероватого картофельного пюре с морковью. Вода в стакане сильно отдавала хлоркой. На десерт имелись запаренный рулет с патокой или желе. Вспомнив про еду у Мод, она взяла рулет. Обедать одна на публике она не привыкла и жалела, что не захватила с собой книгу. «Так я на удовольствие и не рассчитывала, – подумала она. – Я только делаю самое малое, что могу, для мамули». И сейчас, как и в других случаях, ее вдруг поразила мысль, что совсем другая дочь покинула бы дом родни мужа и устроила бы на время войны себе дом у матери. Даже намек на представление об этом заставил ее внутренне сжаться от ужаса. Бездеятельное, смиренное отношение ее матери к жизни, а в особенности к Зоуи, раздражало ее до невыносимости. Ее чаяния, тусклые и жеманные одновременно, ограничивались тем, что было лишь немногим лучше представлявшегося ей: молоко, оказавшееся не свернувшимся к ее утреннему чаю, – вот, пожалуй, справедливый пример, или у девушки в местной парикмахерской оказалось достаточно раствора, чтобы сделать ей завивку-перманент. Когда Зоуи привозила с собой Джули, мать не уставала восхищаться прелестью девочки (это прямо той в глаза!) и то и дело убеждала Зоуи расчесать ребенку волосы или смазать ей веки вазелином на ночь: «Ты же хочешь вырасти красивой леди, правда, Джульетта?» Впрочем, и без Джули раздражения вполне хватало, пока мамуля со своей подругой Мод устраивались вместе и образовывали общество взаимного обожания, слегка препирались, отвергая у себя качества, приписываемые ей подругой, и каждая обращалась к Зоуи за поддержкой своих взглядов. Раздражение сменялось чувством вины, и после двадцати четырех часов в «Бедняцком крае» Зоуи ловила себя на том, что считает часы до своего освобождения.
Так было и на этот раз. После поезда, а потом парома, а потом маленького местного поезда ее встретила Мод на своем крошечном «остине».
– Подождите немного, пока я в нее заберусь. Пассажирская дверца открывается только изнутри.
Ваша мама так возбуждена вашим приездом, что я уговорила ее немного отдохнуть после чая. Да, она вполне здорова, как можно ожидать, но, конечно, никогда не знаешь, как вы знаете, она никогда не жалуется. Вот на прошлой неделе она поскользнулась, выходя из ванны, и ударилась так, что синяк посадила, только я об этом и не узнала бы никогда, если бы не застала ее за поисками бальзама «Поммэйд дивайн».
Она включила зажигание, малютка «остин» удивленно дернулся, и мотор заглох.
– Вот беда! Я ее на скорости оставила. Вот глупая. Вас, я полагаю, ваше долгое путешествие просто измотало. Не стану расспрашивать вас о всех ваших новостях, потому что знаю, что Сесили смерть как хочется их услышать. Вот и поехали.
К концу пути (всего-навсего полторы мили[35]) она поведала все местные новости. Коммандер Лоуренс сломал руку, свою правую руку, и теперь ему очень трудно играть в бридж; страшная нехватка картошки – лавка торгует ею по карточкам; леди Харкнесс до того грубо обошлась с женой викария, что викарий не счел возможным обратиться к ней в ратуше, хотя пожертвования на ремонт зала церкви крайне необходимы, а леди Харкнесс всегда была таким щедрым источником; Прим, полосатая кошка, которую они считали котом и звали Патриком, вдруг принесла четырех котят, «так что теперь она Примроза, Прим сокращенно, – поясняла Мод. – Родила она их прямо на кровати у Сесили, что было для той ужасным ударом, но, конечно, повела она себя в этом отношении чудесно. По-моему, это все наши новости, – закончила она. – О том, что итальянцы сдались, вы, конечно, знаете».
Зоуи видела плакат в Ватерлоо.
Они добрались в конце концов до «Бедняцкого края», машина заползла в невероятно маленькую пристройку с односкатной крышей с одной стороны домика, служившую ей гаражом, после того как Зоуи вышла из нее, а ее багаж был с трудом извлечен с заднего сиденья.
Ее мать вышла из общей комнаты поприветствовать их. На ней было шерстяное платье пыльно-розового цвета с искусственными жемчугами времен окончания вуза. Она тщательно навела макияж: голубые тени и тушь на ресницах, яркая губная помада и персикового цвета пудра, которая посыпалась на Зоуи, когда они расцеловались. Было похоже, что целуешься с мохнатым мотыльком.
– Как же приятно, что ты выбралась сюда, – произнесла мать так вяло, что Зоуи в ее голосе различила однообразное удивление.
Ей полагалось пожелать поднять вещи наверх, разобрать их и «помыться» перед тем, как присоединиться к обеим женщинам в гостиной. «Вы в своей обычной комнате», – возгласила Мод сверху лестницы – будто был иной выбор. Но при трех спальнях его быть не могло, думала Зоуи, поднимая тугой запор на двери, который всегда застревал, когда замок впервые пытались открыть, и сразу попала под порыв холодного сырого соленого воздуха. Окно было раскрыто настежь: когда она спустится вниз, ее уведомят, что комнату проветривали, и каждая из двоих думала, что другая окно закрыла. Она упоминать об этом не станет. Комната была маленькой и узкой, места в ней хватало лишь для кровати, комода и стула. Висели темно-синие шторы, которые она, закрыв окно, задернула, и еще штора в углу комнаты, за которой можно было с грехом пополам повесить одежду. На стене над кроватью висел большой красочный плакат «Когда вы в последний раз виделись со своим отцом?», на комоде стоял все тот же керамический горшочек с осыпающимися бессмертниками. Она наведалась в туалет, развесила одежду и с подарками в руках спустилась к поджидавшим хозяйкам.
Потом все сидели у небольшого, не желавшего разгораться камелька, у всех были бокалы с шерри, и Зоуи отвечала на вопросы о здоровье Джульетты и семейства Казалет, а мать рассказала ей про то, как кошка родила котят на ее кровати. Мод наконец сказала, что должна пойти позаботиться об их ужине, и немного поспорила с матерью Зоуи, уверяя, что никакая помощь ей не понадобится. «Вы вдвоем радуйтесь компании друг друга. Я на кухне совершенно счастлива». Она закрыла дверь к ним, и наступила тишина, пока они с матерью лихорадочно соображали, чем ее нарушить.
– Мод чудесная, – возвестила мать, прежде чем Зоуи до чего-то додумалась.
– Она действительно, похоже, добра.
– Она всегда была доброй. Не знаю, что бы я без нее делала. – А потом, словно сообразив, что ее слова могут быть восприняты за некоторый укор, добавила: – Конечно, я бы справилась.
– Боюсь, тебе тут будет слишком тихо, – вновь заговорила мать. – Коммандер Лоуренс сломал руку, так что, боюсь, наш вечерний бридж будет не столь приятен, как обычно. Он сломал руку, пытаясь забраться на чердак.
– Ты же знаешь, мама, я неважно играю в бридж.
– Но я полагала, при всем том большом семействе, ты уже успела вдоволь наиграться.
– Они не много играют.
– Ой-ей. – Последовала пауза: кусок полена вывалился из огневой решетки, и Зоуи пошла водворить его обратно. – Зоуи, милая, надеюсь, ты не против, если я спрошу, но, конечно же, я так за тебя переживала…
– О Руперте известий нет, – поспешила она сказать. – Совсем нет. – Каждый раз, когда она приезжала, мать задавала тот же самый вопрос теми же в точности словами, и это было одним из того, что она выносила меньше всего. – Я уже обещала тебе, как только будет хоть что-нибудь новое, я тебе позвоню по телефону, разве ты не помнишь? – Пытаясь скрыть раздражение, она сбивалась на истерический тон.
– Дорогая, не сердись. Я не хотела тебя расстроить. Вот только…
– Извини, мама. Я бы предпочла не говорить об этом.
– Конечно. Я вполне понимаю.
Опять настало молчание, потом мать произнесла:
– Ты помнишь леди Харкнесс? Она приходила один раз выпить шерри, когда ты была тут, по-моему, это с год назад было. Очень высокая женщина с превосходной кожей? Так вот, она довольно несдержанно повела себя в разговоре с нашим викарием, должна с сожалением сказать, что он воспринял это не совсем правильно, отчего возникла некоторая неловкость. В плане общения, я имею в виду.
В этот момент Мод просунула в дверь свое обветренное лицо и сказала, что ужин готов.
Ужин был накрыт в крохотной комнатушке по соседству с кухней на шатком столике с раскладными ножками и состоял из котлеток размером со связанную тушку мыши – по одной каждой – с картофельным пюре и шинкованной капустой. Пока ели, Мод подробно расписывала, как готовить котлетки, если в твоем распоряжении всего четыре унции сосисочного фарша, хлебные крошки да зелень, а мать говорила, до чего же Мод распорядительна с питанием по карточкам. Затем последовали припущенные сливы в стеклянных мисочках (косточки девать было некуда). Зоуи захватила с собой карточки, предварительно посоветовавшись с миссис Криппс по поводу надлежащего вклада в питание на три дня. Ей приятно было думать о пачке имбирного печенья в своей комнате. Столовая не отапливалась, и ее беленые стены блестели от сырости. После ужина возникло небольшое препирательство из-за мытья посуды, в результате чего все три ринулись в маленькую темноватую кухню, толкая друг друга, унося оставшееся от ужина и принося нужное для завтрака. Мод предложила оставить все на столе до утра, мол, так будет гораздо легче. К тому времени, когда они вернулись в гостиную, огонь уже потух. Началось обсуждение на сон грядущий: вопрос, кто будет или мог бы помыться, горячей воды хватило бы на один раз, и обе ее хозяйки, казалось, единодушно уступали ее Зоуи. Был еще и вопрос, не хочет ли кто выпить горяченького, и, конечно, были еще и грелки, которые надлежало наполнить. Чайник был до того стар и в нем был такой слой накипи, что вечность требовалась, чтобы его вскипятить, к тому же он был настолько мал, что кипятка из него хватало всего на одну грелку зараз. В целом приготовления ко сну заняли остаток вечера, и лишь намного позже десяти Зоуи смогла закрыться в своей комнатке. «А это только среда, – подумала, – впереди еще четверг и пятница полностью и половина субботы». – И она считала оставшиеся часы, грызя печенье и прижимая к животу горячую грелку.
Этот приезд походил на все остальные, с той только разницей, что с нею не было Джули: было легче, зато значительно скучнее. Они совершали, по выражению ее матери, небольшие прогулочки; коммандер Лоуренс с женой и лабрадором навестили их к чаю. Лабрадор вежливо стоял, если к нему обращались, и размахивал увесистым хвостом, сшибая время от времени твердое печенье со столиков и тут же проглатывая их – как не бывало. Коммандер говорил, что пес плохо себя ведет, хотя обычно он не такой, однако от какой собаки можно дождаться полного послушания. Рука у него была на перевязи, отчего, по его словам (произнесенным после того, как бравый капитан со всеми подробностями описал Зоуи обстоятельства, при каких руку сломал), он чувствует себя кем-то вроде Нельсона.
Лифы матери понравились, зато корсаж вызвал сомнения. «На самом деле, мне таких два нужно бы, – сказала она, – чтоб толк был. Иначе я могу простудиться, пока он стирается».
Они нанесли обычный визит мисс Фенвик и ее матери, которая, как не раз повторила Мод, просто великолепна для своего возраста. Было ей девяносто два года. Мисс Фенвик большую часть утра потратила на мытье и одевание матери, на то, чтобы втиснуть ее в огромное кресло, которое старушка заполнила собою, как объемистый мешок с песком. Была она практически лысая и все время носила красную шляпу, одну сторону которой пронзала усыпанная алмазами стрела. Под пышной юбкой из джерси ноги ее покоились на скамеечке, обутые в домашние шлепанцы, которые формой своей напоминали, как не преминули бы заметить в семействе дома, старые широкие горошины. Беседовать с ней было трудно, потому как она была глуха как тетерев и не помнила, кто из присутствующих кто, даром что регулярно перебивала других довольно сердитыми расспросами, когда еще подадут поесть. В таких случаях мисс Фенвик всегда поясняла: «Мама и впрямь радуется случаю поесть».
Разговор при этом, если не вращался вокруг чуда древности миссис Фенвик, шел о том, что больше всего они утратили в сравнении с мирным временем, и в большинстве случаев это оказывалось едой. «Свежие сливки», – заявила Мод, она до того любит пирожные со свежими сливками – не говоря уж про клубнику со сливками. «Лимоны», – подала голос Зоуи, однако никто на нее особого внимания не обращал. Кстати о пирожных, заговорила ее мать, чего ей на самом деле не хватает, так это фуллерского торта с грецкими орехами, а мама, сообщила мисс Фенвик, на самом деле очень тоскует по бананам.
В конечном счете и этот визит подошел к концу, потому что мисс Фенвик сказала, что маме не нравится опаздывать к обеду. «Силы небесные, – подумала Зоуи, – до чего ж ужасно быть старой. Мне б уж лучше умереть, чем стать такой, как миссис Фенвик», – однако вслух она этого не высказала.
Состоялся и вечер за шерри, на который пришли Лоуренсы и викарий со своей племянницей. Откупорили бутылку Зоуи, а Мод сделала из маленьких кусочков тостов сэндвичи, намазав их куриным и свиным паштетом. Они отправлялись за покупками с карточками Зоуи, купили банку мясных консервов («про запас»), а еще миссис Криппс одобрила использование карточек на сыр, а три унции сыра, заявила Мод, – это дар божий, который можно растянуть на три раза. Так прошли четверг и пятница. «Завтра я поеду домой, – думала Зоуи, – а по пути пообедаю с Арчи». Она заранее предупредила, что не сможет задержаться из-за Джули, которую, сказали ей в ответ, она должна привезти в следующий раз. В последний вечер за кусочками трески в соусе из консервированного молока и брюквенного пюре то и дело говорили, как печально, что ей приходится уезжать. Мод в особенности расписывала без устали, как обожает ее мать приезды дочери, хотя сама Зоуи не заметила ни единого признака этого, ведь, в общем-то, им нечего было сказать друг другу. «Я вас вместе одних оставлю, а сама только в деревню загляну за хлебом», – сказала Мод после раннего завтрака.
– Она такая заботливая, – сказала мать, когда они обе услышали, как закрылась входная дверь. Казалось, доброта Мод успела стать своего рода подпоркой в разговоре.
– Есть что-нибудь, что я могла бы сделать для тебя в Лондоне, мама? – спросила она в отчаянии.
– О, не думаю, милая. Разве что еще один корсаж мне купишь. Ой… я прежде забыла сказать, но была бы очень тебе признательна за сетку для волос. На ночь, ты же знаешь. «Леди Джейн», вот фасон, какой я предпочитаю. Уверена, в «Понтингс» или «Гэйлор энд Поуп» они есть. Но только если это по пути. Я знаю, как ты занята.
– Знаешь, в этот раз я сделать этого не смогу, но, когда в следующий раз попаду в Лондон, то не забуду. Могу, кстати, по почте их тебе прислать.
– Но ты же скоро опять приедешь, разве нет?
– Как сказать… возможно, не раньше, чем после Рождества. У меня же работа в госпитале, понимаешь.
– Что ж, милая, заботься получше о своих руках. Уход за больными портит руки. А они у тебя когда-то были такие прелестные. Да и сейчас тоже, – торопливо добавила она.
– Ты тут вполне счастлива, верно?
– О да. Вполне счастлива. Мод – самое доброта, как тебе известно. И, конечно же, я вношу свой вклад в уход за домом. Я не хочу быть обузой.
– С деньгами все в порядке, да, мама? – Она знала, что Руперт устроил так, что доходы от лондонской квартиры надежно вкладывались, многого дать это не могло, но у матери есть еще и ее вдовья пенсия.
Однако ее мать, считавшая деньги предметом вульгарным, поспешила уверить:
– Тут не о чем беспокоиться. Мы ведем тихую жизнь и очень хорошо справляемся. Но это напомнило мне, что я должна тебе за нижнее белье.
– Не должна. Это подарок.
– Я о таком и не мечтала. – И она принялась рыться в своей сумке, отыскивая кошелек.
– Мама, прошу тебя, не надо, в самом деле.
– Я все же очень хотела бы заплатить тебе. Ты помнишь, сколько это стоило?
Вот неблагодарный спор и суета по поводу этого всего, думала Зоуи, все больше и больше беспомощно раздражаясь: ее мать хотела знать, сколько в точности стоили вещи, а она не могла вспомнить, а потом мать не поверила ей, когда она сказала наобум, а потом у нее оказалась всего одна пятифунтовая банкнота – так продолжалось, пока не вернулась Мод. У Мод была мелочь: мать сказала, что на лифах, наверное, еще остались бирки с ценой, пусть кто-то заглянет к ней в комнату и посмотрит, и Мод, знавшая, где лежат вещи, предложила сделать это. К этому времени мать заупрямилась, а Зоуи помрачнела. Оказалось, что лифы стоили по восемь шиллингов и шесть пенсов каждый, так что потом матери понадобились карандаш с бумагой, чтобы она смогла вычислить сумму. «Мне никогда цифры не давались, – а потом возник вопрос с корсажем: – Выходит двадцать пять шиллингов и шесть пенсов… и?»
– Тридцать шиллингов, – сказала Зоуи.
– Всего, значит, будет… – Мать писала, губы ее шевелились, пока она вела подсчет, и Зоуи заметила маленькие потеки губной помады, поднявшиеся по ее верхней губе, тогда как Мод убеждала, оставив всякие оперные штучки, что им обязательно надо отправляться.
– Два фунта пятнадцать шиллингов и шесть пенсов! Мод! У тебя есть чем разменять?
– Мама, мне пора. Я вправду не должна опоздать на паром.
– Я ей на станции отдам, Сесили.
– Так я же с вами иду. Только туфли переодену.
– Мы должны ехать, – закричала Зоуи. – Времени переодевать туфли нет!
Так что в конце концов мать осталась, и Зоуи поцеловала смиренное напудренное лицо.
– Придется мне, как в кино говорят, жать по полной, – заметила Мод, неспешно выводя «остин» из пристройки. – Наверное, вам лучше взять деньги из моего кошелька. Сесили никогда не простит мне, если я их вам не отдам.
– Да не нужны они мне, понимаете.
– Положим, я понимаю, что не нужны, милая моя. Однако мы не должны ее расстраивать – сердце у нее малость хворое, понимаете.
– Почему она раньше не сказала, что собиралась поехать?
– Думаю, это ей вдруг в голову взбрело. Ей всегда жутко не по себе, когда вы уезжаете, понимаете. После, как я вернусь, все с ней будет в порядке. Мы с ней выпьем по чашечке прелестного какао с молоком на угощенье, разыграем сцену не хуже, чем в «Пеготти»[36], пройдемся по всем событиям вашего приезда, а потом я уговорю ее немного отдохнуть – очень уж волнующими для нее были последние несколько дней. Она так гордится вами, понимаете.
* * *
В поезде, практически пустом, и на пароме, всего наполовину заполненном, ей вспоминались эти слова, она снова и снова прокручивала их в уме. Поначалу думала, какой же груз спадет с нее, стоит только на поезд сесть, оставив свое посещение позади, но на смену скуке и раздражению теперь пришло одно лишь ощущение вины, когда она мысленно перебирала все способы, какими могла бы доставить своей матери больше удовольствия, быть добрее, ласковее, терпеливее. Отчего же, несмотря на все эти годы, когда она почувствовала, что выросла из испорченной и самовлюбленной девчонки и стала основательно взрослой женой и матерью, ответственным членом большого семейства, стоило ей побыть хоть несколько минут со своей матерью, как она возвращалась к себе самой прежней, особе, в общении не привлекательной? Это ведь ее поведение, в конце концов, делало мать такой робкой и примирительной, толкало на все то, что она, Зоуи, находила самым неприемлемым. Ожидая в пустом купе отправления поезда на Лондон, она вдруг подумала: «Представь, Джули, когда станет взрослой, будет чувствовать то же ко мне?» От такой мысли на глаза навернулись слезы. Она раскрыла «Анну Каренину», но уже дошла до места, где Анна видится с сыном после того, как тот тайком съел персик, и решает взять его с собой в Москву. Она уже знала, что Анне не будет позволено иметь и Вронского, и своего сына, и от одной только мысли о подобном выборе глаза вновь наполнились слезами, и одна из них упала на книгу. Она поискала и нашла в сумочке платок. Поезд начал движение, в этот момент распахнулась дверь вагона и вошел военный, офицер. Он выбрал себе место напротив, наискосок от нее, закинул маленький, но очень аккуратный вещмешок с именной биркой на багажную полку. Теперь вот даже доплакать в одиночестве не удастся, подумала она. Секунду спустя офицер достал пачку сигарет и одну предложил ей.
– Я не курю.
– Не станете возражать, если я закурю?
Она покачала головой:
– Вовсе нет.
– Вас послушать, так к вам словно простуда подступает, – сказал он с той сочувственной фамильярностью, которая смутила ее. Впрочем, он был американцем, она поняла это – не только по выговору, но и по его форме, которая была куда более приятным – бледновато-зеленым – аналогом английского хаки.
– Вовсе нет. Просто прочла в книге довольно печальный кусок, вот и все. – Такое оправдание, казавшееся вполне подобающим, высказанное, оказалось совсем не таким.
– В самом деле?
– Нет, в общем-то.
– Наверное, вы прочли то, что напомнило вам что-то из вашей собственной жизни, и это подействовало.
Она глянула поверх платка и увидела, что он пристально смотрит на нее. У него были очень темные, почти черные глаза. Он прикурил сигарету от большой, довольно потертой металлической зажигалки. Потом произнес:
– Вы видите себя русской героиней? Анной?
– Откуда вы знаете…
– Я до того хорошо образован, что умею читать буквы перевернутыми.
Уверенности, что незнакомец над ней не смеется, не было, и она быстро спросила:
– Вы читали роман?
– Очень давно. Когда в колледже учился. Помню достаточно, чтобы предупредить вас: Анну ждет печальный конец.
– Я это знаю. Я его уже читала.
– В самом деле? И на что похоже чтение романа, когда наперед знаешь, что произойдет?
– Когда знаешь сюжет, начинаешь замечать кое-что другое.
Короткое молчание. Потом он заговорил:
– Меня зовут Джек, Джек Гринфельдт. Я все думаю, не согласились бы вы пообедать со мной, когда мы прибудем в Лондон?
– Боюсь, у меня уже есть с кем пообедать.
– С мужем?
– О нет. С другом. – Она глянула на свое обручальное кольцо. Подумала: задает много вопросов, но это, видимо, потому, что он американец, – прежде ей ни один не попадался. Если можно ему, можно и мне.
– Вы женаты?
– Был… Я разведен. Сколько у вас детей?
– Откуда вы знаете, что они у меня есть?
– Понимаете, вы уж меня простите, но я вижу, что вам больше восемнадцати и вы не носите форму: есть вероятность, что у вас дети. Само собой, вы могли бы быть еще и очень высокопоставленной или редкого типа госслужащей, как вы их здесь у себя зовете, но мне вы как-то особой такого рода не видитесь.
– У меня один ребенок, дочка.
– Покажите мне ее карточку.
Ей показалось странным, что ему понадобилось увидеть карточку ребенка совершенной незнакомки, но отчего бы и нет? Она вынула из сумочки кожаную раскладную книжечку с двумя своими любимыми фотографиями: Джульетта, стоящая на подставке во внутреннем дворике с садовой шляпой Дюши на голове (девочка обожала шляпы), и Джульетта, сидящая в густой траве рядом с теннисным кортом в самом лучшем своем летнем белом муслиновом платье. На первом фото она смеется, на втором выглядит очень серьезной.
Он довольно долго внимательно рассматривал карточки. Потом, закрыв книжечку и возвращая ее, сказал:
– Она очень похожа на вас. Я признателен вам за то, что вы мне показали. Где она?
– В деревне.
– Вы не живете в Лондоне? – Огорчение его было очевидно. От этого она почувствовала себя добрее и старше.
– Нет. Не возражаете, если я спрошу вас кое о чем?
– Не считаю себя вправе возражать. Что вы хотите узнать?
– Скажите, это потому, что вы американец, вы задаете столько вопросов совершенно незнакомому человеку?
Он задумался ненадолго.
– Не думаю. Я всегда был любознательным… любопытным скорее, во всяком случае, в отношении людей. Как сами видите, у меня такой нос, что он очень легко встревает в дела других людей. – Слова заставили ее посмотреть на его лицо. Он улыбнулся: на фоне землистой кожи зубы его казались очень белыми. – А я думал, вы спросите о чем-то более личном, – сказал он.
На этот раз молчание оказалось нервным. Если бы она сочла, что американец заигрывает с нею, она бы в точности знала, что ей делать, а чего не делать, могла бы выбрать следующий ход. Тут же она совершенно растерялась – она понятия не имела, что за игра ведется, у нее лишь крепло неловкое ощущение, будто он знает больше, чем она – о чем угодно.
– Очень трудно быть счастливым на войне.
– Почему вы это сказали?
– Потому, что почувствовал, что вы вините себя за то, что не ведаете счастья. С чего бы вам его ведать, скажите на милость? При том, что все время гибнут люди, идет бойня, их убивают и порой прежде мучают пытками, притом, что разбиваются семьи, все лишаются суженых, притом, что не хватает всего, что облегчает жизнь, зато есть монотонная рутина и общее отсутствие чего бы то ни было, что напоминало бы о славных временах, почему должны вы – да и любой другой на этом острове – быть счастливой? Вы способны претерпевать – британцы, мне кажется, в том весьма преуспели, – но почему вы должны этому радоваться? Я знаю, что твердость духа глубоко внедрена в британское мировоззрение, но попробуйте улыбнуться сурово сжатыми губами!
Попутчик пустился в общие рассуждения – она почувствовала себя увереннее.
– Мы обучили наши губы, – сказала. – И теперь привычны к этому.
– Я успел убедиться, как весьма опасно привыкать к чему-либо.
– Ко всему?
– Да – ко всему. Перестаешь замечать что бы то ни было, и, того хуже, появляется иллюзия, будто ты чего-то достиг.
– Я такого вовсе не чувствую, – сказал она, открывая это в себе.
– В самом деле?
– Знаете, полагаю, это зависит от того, что вы подразумеваете под замечать что-то или под привыкать к чему-то…
– Ничто из связанного с вашей жизнью не зависит от того, что я имею в виду, – перебил он ее, но это не было ни резкостью, ни грубостью.
– По-моему, можно к чему-то привыкнуть и все же замечать это, – сказала Зоуи. Она думала о Руперте.
– Это должно быть что-то очень серьезное.
– Да. Должно быть. И есть. – Она тут же перепугалась, что он станет расспрашивать, чем должно быть такое – примется и дальше оттеснять ее за черту невольной откровенности, но он этого не сделал. Поднялся и пересел в кресло прямо напротив нее.
– Я все еще не знаю вашего имени.
Она назвала.
– Зоуи Казалет. Не откажетесь вечером поужинать со мной? Вижу, что собираетесь меня отшить. Не надо. Это очень серьезное приглашение.
Причины, почему этого делать ей не стоило, обступили ее толпой. Что она скажет семейству? «Я ужинаю с американцем, с которым в поезде познакомилась»? Где ей остановиться в Лондоне, поскольку вряд ли она так поздно попадет на поезд? Куда бы можно было податься между обедом и ужином? Святые угодники. Почему она даже задумывается об этом?
– Мне нечего надеть, – сказала она.
Октябрь 1943 года
– Он еще не насытился?
– Он все время засыпает.
Мэри, новая, очень молодая, в высшей степени обученная няня, глянула неодобрительно. И посоветовала:
– Щипните его за щечку.
Луиза нежно щипнула. Малыш изогнулся, ткнулся ей головкой в грудь, вновь отыскал сосок, но после одного-двух сосаний выпустил.
– По-моему, у меня уже на этой стороне молока не осталось.
– Тогда так. Вы воздух отрыгнуть ему давали?
– Я пробовала, но, боюсь, что-то ничего не вышло.
Мэри наклонилась и взяла у нее ребенка.
– Иди к Мэри, – заговорила она другим, более ласковым голосом. Положила младенца животиком себе через плечо, похлопала его по попке. Малыш несколько раз отрыгнул. – Вот и молодец. Там, на столике, ваша чашка чая.
– Спасибо, Мэри.
– Ну, скажи мамочке до свидания. – Няня опустила ребенка, чтобы Луиза смогла поцеловать его личико. Малыш был бледен, только на щечках пламенели два пятна, розовый ротик был приоткрыт, на оттопыренной нижней губе белели капельки молока. От него пахло молоком, и глаза у него были закрыты. Когда они ушли, Луиза застегнула бюстгальтер для кормления, наложив на соски свежие прокладки. Соски болели, но не сравнить с тем, что было раньше. Взяв чашку, она с удовольствием выпила чай, благодаря про себя заботливую няню. Первое утреннее кормление давалось хуже всего. Мэри будила ее от глубокого сна, порой в шесть часов, а то и раньше, и кормление, если только малыш не сосал как следует, которое не должно бы занимать более получаса, растягивалось на вдвое дольше. К концу его Луиза чувствовала себя усталой, но до ужаса не хотела спать. Вечность проходила, пока удавалось снова заснуть, а когда она засыпала, пора было вставать завтракать. Дома она оставалась бы в постели, но в Хаттоне, где она находилась сейчас, это было исключено. Приходилось вставать, принимать ванну, одеваться и завтракать вместе с Ци и Питом, а вскоре наступало и время следующего кормления.
Майкл привез ее сюда неделю назад, и ей ясно дали понять, что, хотя, разумеется, остаться он не сможет, Ци желает посмотреть на своего внука, «по-настоящему к нему привыкнуть». Так что им предстояло пробыть здесь три недели, из которых всего одна почти прошла. Майкл в точности не знал, когда он сможет снова приехать, и Ци принялась говорить, что, разумеется, было бы лучше, если бы Луиза с малышом оставались у них, пока он не будет в состоянии их забрать. Это, она чувствовала, может растянуться на недели, если не на месяцы. Без двадцати семь: надо постараться заснуть. Она выключила лампу у кровати, но, как обычно, темнота, казалось, оживляла все, чему приходилось прятаться при людях и в дневное время. Иногда, как сейчас, ей приходило в голову, что, если отдаться тьме во власть, она будет лучше понимать ее.
Начиналось всегда с занудного перечня того, как ей повезло: она замужем за знаменитым человеком, выбравшим именно ее, когда мог бы, если верить Ци, жениться на ком угодно; у нее здоровый сын, как того от нее все и ожидали. У нее собственный дом в Лондоне (в Сент-Джонс-Вуд, принадлежавший леди Райдал, поскольку тетя Джессика собиралась вернуться жить во Френшем, когда Нора выйдет замуж). У нее есть няня, чего большинство молодых женщин в такое время не могут ни устроить, ни позволить себе. Чего ж ей еще? Ей двадцать лет, она замужем ровно тринадцать месяцев, и до сей поры Майкл не был убит или даже ранен. У нее есть все, за что быть признательной. Она повернулась на бок, чтобы, если за слезами последуют рыдания, их можно было бы заглушить, уткнувшись в подушку. Ци, как оказалось, иногда прохаживалась ночью и, не раз, случалось, открывала дверь ее спальни и стояла там, один раз, когда Майкл был с нею в постели, и дважды, когда она лежала одна. Об этих посещениях никогда не говорилось, зато, мало того, что они как-никак пугали, еще и были вторжением в ее интимную жизнь, ставшую необходимой при том одиночестве, в какое ее ввергли. Она и подумать-то о своих неестественных склонностях могла, разве что оставшись совсем одна, а в остальное время приходилось играть роль счастливой молодой жены и матери, обеспокоенной, конечно, тем, что Майкл воюет, зато во всем остальном пребывающей в безоблачной атмосфере. Весь ужас состоял в том, что не было у нее никаких чувств, считавшихся чувствами естественными, какие полагалось бы иметь всем. Она понимала, что в чем-то это ее вина, однако, хотя искренне стыдилась и сожалела, что она такая, совершенно не знала, как изменить все к лучшему. Раз-другой за месяцы беременности она пыталась заговорить с Майклом о том, какой страх охватывает ее при мысли о ребенке. Не о муках и заботах, связанных с ним (всегда считалось, что ребенок будет мальчиком), а о самом факте его существования. Майкл, когда слушал, отмахивался от ее тревог, уверял, что, как только мальчик родится, она будет совсем по-другому чувствовать. В конце концов она свыклась с этим. Зато стала – с тех самых рейдов на бомбардировщиках над Германией (их было несколько) – все больше и больше бояться, когда он вышел в море и стал сражаться с немецкими торпедными катерами. Погибали знакомые ей офицеры береговой охраны, в том числе и очень опытные, и казалось, все меньше и меньше причин, почему бы и Майклу не стать одним из них. Однажды, после того как они сняли меблированный дом в Сифорде и прожили в нем несколько недель, когда он ночевал дома, если не выходил в море, он вернулся вечером и сообщил, что утром эскадра перебазируется. Она разразилась слезами: «Значит, придется дом бросить!» – рыдала, не в силах словами выразить свои самые худшие страхи.
– Не очень-то это и хороший дом, – сказал он тогда. – Он вообще-то нам всегда был безразличен. Будет у нас дом получше, когда-нибудь. Ну-ну, давай, милочка, держись бодрее.
Но она никак не могла остановиться.
– Мы никогда не бываем вместе, у нас нет никакой нормальной семейной жизни. У нас нет даже времени поговорить.
– Да все у нас есть, разумеется, – ответил он. – Вот только как я могу говорить с тобой, если ты плачешь – ты ни слова не услышишь из того, что я говорю. Такое во время войн случается. Люди не бывают вместе. У всех сейчас так.
Тут зазвонил телефон, он взял трубку: звонил его «первый номер», спрашивал, когда он вернется на борт.
– Они торпеды загружают, – сказал Майкл. – Я должен быть там, проследить, чтоб их правильно уложили. Когда закроешь дом, я ненадолго заеду к твоему семейству домой, дорогая. Так будет лучше, пока я побольше не узнаю, что мне выпадет дальше.
– Может, хотя бы поужинать останешься?
– Нет, я же тебе сказал, что должен идти. Лучше я сейчас вещички соберу. Веселей, дорогая, и помоги мне собраться. Спарки через полчаса пришлет машину.
Так что он ушел, а она собрала вещи и попыталась убрать все из кладовки, где не так-то много чего набралось, потом позвонила в Хоум-Плейс, предупредила, что приедет. А потом подъела остатки какого-то консервированного мяса и всю ночь промучилась, ее тошнило и несло. Думала, что помрет. Утром позвонила домой и рассказала матери, та пообещала заехать за ней на машине и отвезти домой. После этого она не пыталась делиться с Майклом тем, что внушало ей страх, или тревожило ее, или чего не понимала. И держалась такого представления, что, когда у нее появится ребенок, все пойдет по-другому. Дома она пробыла, пока до родов не остался примерно месяц, и они с матерью перевезли ее на Гамильтон-террас. Переезд взволновал: в доме все еще сохранилось кое-что из мебели, принадлежавшей ее дедушке с бабушкой, – но дом был запущенным, его нужно было отделать заново. А еще она смогла распаковать свадебные подарки и привезти из Родового Гнезда свои вещи, свои книги. Она лихорадочно старалась все успеть до того, как появится ребенок, и Стелла, которая каким-то чудом получила недельный отпуск, приехала помочь ей покрасить стены в гостиной и детской. Через неделю ее мать должна была вернуться в Хоум-Плейс, а Стелла – в Блетчли, где она работала в таком секретном месте, что и говорить нельзя. Было чудесно побыть вместе с нею. Потом приехал Майкл, получивший недельный отпуск. Они сходили в кино, поужинали в кафе, а потом, когда дома легли в постель, он приступил к любовным утехам. «Я слишком толстая!» – произнесла она тогда – на самом деле она не хотела этого, не было у нее для этого обычного чувства, мысль об этом явно была ей невыносима.
«Чепуха, глупышка, мне все равно, какая ты толстая!» И он продолжал, и было это все исключительно неудобно. На следующее утро ему понадобилось идти в Адмиралтейство, но он сказал, что к вечеру вернется. Схватки у нее начались перед обедом, когда приехала ее мать с каким-то профессором из Королевского колледжа музыки, которому предстояло забрать оставшиеся от деда рукописи. Она приготовила для них обед – стоило больших стараний, но Майкл привез свои карточки, так что она получила банку консервированного мяса, приправила его гвоздикой, слегка посыпала сахаром и поставила в духовку. Этого, вместе с вареной картошкой и салатом, должно было хватить. После обеда, когда старый профессор разбирался в кипах бумаг в кабинете деда, она сказала матери, что ей кажется, возможно, что-то происходит, хотя ей совсем не больно, а шевеления, как она их описывала, похоже, происходят лишь время от времени. Мать напомнила, что ребенок не должен появиться еще, по крайней мере, три недели, и сочла, что вряд ли это схватки начались. «Во всяком случае, Майкл довольно скоро вернется, иначе я бы осталась».
«О нет, незачем. Наверное, желудок немного расстроился».
Когда мать со стариком уехали, она прибралась после обеда. После этого не могла сообразить, чем заняться: бродила вверх, вниз и кругом по дому. Он был невелик: две небольшие мансарды на верхнем этаже, где когда-то она спала, когда оставалась у деда с бабушкой. Рисунок обоев состоял из белых облачков на синем небе, и у леди Райдал имелись разных размеров чайки, которых можно было вырезать из бумаги и прикрепить на стену в место, какое сама выберешь, но разрешалось проделать это всего с одной чайкой за приезд. Под мансардами располагались три спальни и ванная комната. Самой солнечной и просторной предстояло стать детской, где стояли кровать для няни и семейная детская кроватка для малыша, хотя поначалу тому предстояло спать в корзине. Другая большая комната была ее с Майклом. Она выходила окнами на север и выглядела мрачноватой. Здесь был кабинет ее дедушки, где он сочинял свою музыку. Третья спальня, очень маленькая, в которой места как раз хватало для кровати и комода, была дедовой спальней, где он и умер. Нижний этаж занимала большая гостиная со стеклянной дверью и ступеньками, спускавшимися в небольшой квадратный садик, и двустворчатыми дверями, что вели в столовую, куда еда подавалась на лифте из подвала. В подвале находилась просторная кухня со старой плитой, на которой кипятили воду, и древней газовой плитой для готовки. Были там еще две тесные, сырые, темные, хоть глаз коли, комнатушки с маленькими, крепко зарешеченными оконцами, где спали несчастные слуги леди Райдал. Имелись также чулан, кладовая и уборная. Луиза подвальную часть дома терпеть не могла и проводила там как можно меньше времени.
Когда она завершила обход дома, заболела спина. Летний июльский день, начавшийся при голубом небе и сияющем солнце, теперь уже сделался пасмурным, серым, влажным и невыносимо жарким. Она решила немного полежать на диване и почитать, но нужная книга лежала в спальне, а взбираться за ней по лестнице не хотелось. Вновь начались любопытные шевеления, они, казалось, не были постоянными и совсем не причиняли боли. В конце концов она решила поиграть по нотам, один из дедушкиных роялей по-прежнему стоял в гостиной, где на полках лежали ноты. Но тут она обнаружила, что сидеть ей приходится так далеко от клавиатуры из-за – по ее мнению – чудовищного живота, что спина болела больше обычного.
О том, как закончился тот день, она помнила мало. Приготовила рис с рыбой и карри для себя с Майклом, но рис переварился, а рыба осталась жесткой и соленой: приятного было мало, однако Майкл сказал, что ему все равно, он все равно толстый, что, признала она, было правдой. Она не помнила, что они делали после ужина, о чем говорили, говорили ли вообще. Помнится, сказала, что устала, жара не унималась, и у нее разболелась голова, а Майкл сказал, что позже будет шторм. Она смогла внушить, что на самом деле не хочет никаких супружеских ласк (она не рассказала ему про шевеления целый день), но призналась, что чувствует себя препаршиво, и он с тем смирился. Они отправились спать, а спустя какое-то время (она не понимала, сколько его прошло) она проснулась, потому как боли стали появляться примерно каждые десять минут. Она разбудила Майкла, тот с невероятной быстротой натянул на себя одежду и позвонил в родильный дом, где она должна была родить. Там сказали, что у нее еще слишком рано для схваток, но на всякий случай лучше ее привезти. Пока Майкл ходил доставать машину, она надела юбку и халатик, в которых весь день ходила, а потом попыталась уложить свои вещи в чемодан. Его следовало бы заранее собрать, но ее мать заявила, что нет смысла делать это, пока срок не подойдет поближе. Она положила две ночные рубашки, мешочек с принадлежностями для мытья и шлепанцы, но едва подступала боль, как приходилось останавливаться. Все происходившее представлялось чем-то нереальным: не было ни возбуждения, ни страха – ничего вообще.
Родильный дом находился между Кромвель-роуд и Кенсингтон-Хай-стрит. Это было одно из тех немыслимо высоких серых зданий с целым лестничным маршем, ведшим к входной двери. Принимала их нянечка или сестра, Луиза не могла понять, кто она, которая, так или иначе, внушала ей, что она изводит себя истерической суетой и, как несомненно окажется, попусту.
– Ей лучше у нас переночевать, – сказала она Майклу, – а потом доктор осмотрит ее утром, после чего, даже не сомневаюсь, мы ее отправим домой.
– Хорошо. Вот ее вещи, сестра. – Казалось, ему не терпится уехать. А ей вдруг отчаянно захотелось, чтобы он остался, но он скользнул губами по ее щеке, сказал, в каких она теперь надежных руках, и исчез за входной дверью прежде, чем она сумел что-то сказать.
– Нам придется на самый верх идти: мы вас раньше чем через три недели не ждали.
Луиза шагала за нею по четырем пролетам лестницы. На полпути ей стало больно, но она не посмела остановиться, потому как уже начала побаиваться нянечку.
Ей велели раздеться и лечь в постель.
– Я просто гляну, что там у вас. Давно у вас боли?
– Сегодня с обеда началось.
– Жаль, вы раньше не позвонили.
– Простите. Я тогда не думала, что это ребенок.
Нянечка на это не ответила, но стояла, очень терпеливо дожидаясь, пока Луиза уляжется и будет готова к осмотру: от нее несло недоброжелательностью, как из незакрытой конфорки газом, и Луизу страх разбирал от ее прикосновений.
Когда, похоже, осмотр закончился, она предприняла еще одну попытку:
– Как по-вашему, не могли бы мне сказать, что дальше произойдет? Я хочу сказать, вы столько всего про это знаете, а я не знаю ничего.
– А дальше, молодая леди, будет происходить то, что, раз уж вы тут, я вас побрею на всякий случай, а потом дам вам кое-что, чтобы вы уснули.
Нянечка ушла и возвратилась с чашечкой воды, мылом и бритвой, у которой оказалось очень тупое лезвие, что, казалось, рассердило ее еще больше. У Луизы духу не хватило спросить, зачем ее нужно было брить. Когда и это закончилось, она проглотила большую таблетку, запила ее водой из стакана, и нянечка удалилась, выключив по пути свет.
Лучше всего было бы поспать. Тогда бы она никому не досаждала, а завтра утром могла бы пойти домой. Вдруг с тревогой подумалось, что все равно придется сюда возвращаться, но тут же и отлегло: не все же сестры такие, как эта. Очень скоро она уже крепко спала.
Проснулась от резкой боли. Постель, похоже, намокла и стала липкой. Она потянулась к лампочке у кровати, посмотреть, что там такое. Вся постель была в крови, и ей тут же пришло в голову, что ребенок умер у нее внутри. На тумбочке у кровати рядом с лампой стоял колокольчик, и она позвонила в него. «Наверное, он мертвый и я умираю», – подумала она, когда подобрался очередной приступ боли. Никто не приходил. Она позвонила еще два раза, подольше, но ответом была полная тишина. Только теперь-то она уже испугалась по-настоящему. Не сразу, но выбралась с кровати и открыла дверь палаты, позвала:
– Пожалуйста! Подойдите кто-нибудь!
Под конец она уже кричала это во весь голос, и тогда услышала шаги, увидела, как зажегся свет в коридоре. Появилась нянечка, и Луиза, не дав ей и слова сказать, указала на кровь.
– Тсс. Не будите других пациенток. Теперь садитесь вон туда на стул, а я постель перестелю. – Она вышла на лестничную площадку к шкафу и вернулась с чистой простыней.
– Что происходит?
– У вас тут маленькое представление. Это означает, что ребенок в пути. – Боли, казалось, повторялись примерно через каждые четыре минуты, и не было никаких сомнений в том, что это – боли. Мать говорила ей, что не стоит поднимать шума во время схваток, и сейчас она вспомнила об этом. – Я пришлю кого-нибудь посидеть с вами. Не беспокойтесь. Еще не один час пройдет.
Луиза снова залезла на кровать. Никогда в жизни не чувствовала она себя такой одинокой и покинутой. Почему Майкл оставил ее терпеть все это?
В остаток той жуткой ночи ей удалось удержаться от плача и крика. Нянечка вернулась еще с одной, пожилой и явно вырванной из объятий сна, вид у нее был угрюмый и тоже недружелюбный. Луиза спросила, когда придет врач, и ей сказали, что никак не раньше утра, а возможно, и позже. Дали ей какое-то хитрое устройство с резиновой маской, которую следовало надевать на лицо и дышать, когда боль становится особенно сильной, но когда она попробовала, то никакой разницы не почувствовала.
– По-моему, это не работает.
Акушерка, расположившаяся на стуле как можно дальше от кровати, подошла, взглянула.
– Она сломатая, – сказала. И убрала устройство.
За окном бушевала гроза, гремели чудовищные раскаты грома. Между схватками Луиза боролась с мучительным желанием уснуть, вызываемым таблеткой. Всякий раз, когда она чувствовала, что погружается в забытье, ее охватывал очередной приступ боли и она просыпалась, как от пытки. «Хоть бы она поговорила со мной!» – думала она, но нянечка продолжала читать газету. Когда она увидела, что небо посветлело от промоин в чернильной мгле, а гром, похоже, громыхал уже в отдалении, она спросила, как долго это будет продолжаться.
Нянька, даже не отрываясь от своей газеты, пробурчала, что до отрыжки сыта этим вопросом, который все задают. После такого расспрашивать еще о чем-нибудь не хотелось.
В конце концов, все шло своим чередом: пришла еще одна нянечка и посмотрела на нее, потом явился врач и велел ей натужиться, потом вдруг вокруг постели оказалось по меньшей мере три человека. Губы у нее пересохли, и она сумела выдавить из себя, что хочет пить, после чего врач поднес стакан с водой к ее рту и сразу отвел его, едва она успела сделать один глоток.
– Еще разок натужимся, и я дам вам такое, что вы ничего не почувствуете.
Так оно и произошло. Последнее усилие было до того мучительным, что ей показалось, будто она кричать начала, и крик тут же прервался, поскольку врач прижал ей к лицу маску, и она пропала, или, во всяком случае, такое ощущение появилось – она попросту перестала существовать. Когда пришла в себя, хлопотавшая вокруг нее сестра и врач улыбались и говорили, какой великолепный мальчик, но она ничего не видела. «Его купают», – объяснили. Теперь все вокруг улыбались. Она спросила, сколько времени, и ей сообщили: без четверти двенадцать, – а кто-то подал ей чашку чая. Потом появился Майкл с ребенком на руках и вручил ей его, будто бы подарок от себя, и по выражению лица мужа она поняла, что должна быть вне себя от восторга. Она глянула на туго укутанный белый сверток с торчащим из него маленьким, морщинистым, помидорно-красным личиком – отрешенным, округлым и крепко спящим – и совсем ничего не почувствовала.
– Шесть фунтов двенадцать унций[37], – горделиво произнес Майкл, – да ты у нас умница!
Ей принесли еще чашку чая, но она сказала, что больше не хочет, а просто хочет поспать.
– Сначала вы должны выпить это, – сказали ей, – вам нужно пить, чтобы молоко пришло.
Так что пришлось ей выпить чай, Майкл сказал, что сейчас позвонит ее родителям, и младенца унесли.
Когда она проснулась, то плакала. Вечером приехал Майкл и сказал, что скатает в Хаттон, поскольку Ци хочет, чтобы он провел остаток отпуска с ней. Жидкости вливали в нее до тех пор, пока груди у нее болезненно не вспухли от молока, но младенец, родившийся до времени, не желал сосать, постоянно засыпал, в те первые дни она и видела его, только когда он спал или плакал. В конце концов ей предписали грудной отсос, но к тому времени ей уже было невыносимо, когда ее трогали. Ее убеждали, как ей повезло, что у нее хватает молока, в родном отечестве хватает матерей, говорили ей, у кого его, считай, и нет вовсе. Тогда нельзя ли ей кормить одного из их младенцев? – спрашивала Луиза, но их ее предложение, похоже, ввергало в шок, и ей отвечали, что так не годится. Три дня она плакала – от изнеможения, от боли (помимо грудей, боль была и от наложенных швов), от жажды (одним из способов уменьшить количество молока сочли полный отказ ей в любого вида питье), от тоски по дому (хотя она и не понимала, по какому дому), от ощущения, что Майкл ее бросил (дважды: первый раз, когда оставил одну в родильном доме со злыми чужими людьми, а потом опять, когда предпочел провести остаток отпуска со своей матерью, а не с ней) и, самое худшее, от растущего убеждения, что с ней что-то не так, поскольку своего малыша она явно не любит, как того ожидала, или вообще что-либо чувствует к нему, кроме смутного страха. Это называли послеродовой депрессией и говорили, что скоро она от нее избавится, а через несколько дней велели ей взять себя в руки и одолеть болезнь.
Две недели спустя ее отправили домой в Сент-Джонс-Вуд с болтливой медсестрой средних лет, которой предстояло в течение месяца научить ее, как пользоваться «тампаксом», и следить, чтобы мамаша по-прежнему близко не подходила к ребеночку, разве что для кормления или когда он плакал. «Малец – золото, я вам так скажу!» – восклицала сестра. Она часами рассказывала Луизе о своем последнем месте у титулованной леди в большом загородном доме, где имелся надлежащий штат прислуги и ей не приходилось таскаться с подносами вверх и вниз по лестницам. Весь штат Луизы состоял из очень старой леди, которую Ци вырвала из благостной отставки и прислала на месяц поварихой. Она являлась после завтрака выслушать, что Луиза желает на обед, но никогда то, что просилось, на стол не попадало: или выяснялось, что этого в магазинах нет, или, как подозревала Луиза, потому, что миссис Корсоран не желала этого готовить. Сестра Сандерс, мало того, что сноб, еще и с норовом была: требовала, чтобы Луиза оставалась в постели две недели из четырех, пока она будет в доме, и заставляла ее после этого предаваться скуке отдыха днем. Еще у нее была ужасающая привычка приносить малыша, когда тот был голоден и плакал, и укладывать в корзину на другой стороне спальни, где тот добрых пятнадцать минут заливался в ожидании кормления. «Пусть, пусть сам себя изведет, только спать после этого получше будет», – приговаривала сестра милосердия, оставляя мать и дитя в столь безрадостном состоянии. Луиза не могла выносить этого, но, когда она вставала с постели и брала малыша на руки, тот не переставал плакать (она до того боялась сестры Сандерс, что не осмеливалась начинать кормление, пока не получала позволения). Младенцу Луиза, как ей казалось, не очень-то нравилась: даже во время кормления он редко ловил ее взгляд и отворачивался, когда она пыталась (при том, что сестры Сандерс рядом не было) поцеловать его. На половине каждого кормления сестра Сандерс брала малыша и хлопала его по спинке, пока у того головка не дергалась и он не отрыгивал.
– Ему спинке не больно? – не удержалась Луиза от вопроса в первый раз.
– Спинке больно? Вот те раз, да за кого ж вы меня принимаете-то? Спинке ему больно? Нам надо, чтоб из него воздух вышел. Мамочка тебя не понимает, ведь так? Бедная крошка. – И так далее и так далее. Луиза считала дни, остававшиеся до ухода сестры Сандерс. Няня, пришедшая ей на смену, казалось, никак не могла быть ужаснее ее: начать с того, что она была молодая и к тому же обучалась в «Отеле малюток» тети Рейч. Может, у нее хоть какая-то компания появится. Однако Мэри, когда пришла, отпугнула ее своей тихой уверенностью, и, поскольку обе оказались примерно ровесницами, обеим было весьма трудно понять, как вести себя в том положении, в каком они оказались. Малыша Мэри полюбила сразу, и ему она, похоже, понравилась, что было уже кое- что. «Он мне улыбнулся!» – сказала она сестре Сандерс утром, когда та уходила. «Воздух, – ворчливо бросила сестра Сандерс. – Это всего лишь воздух». Она ушла после обеда, и Луиза почувствовала впервые за много месяцев некий душевный подъем. На выходные должна была Стелла приехать, Мэри приглядит за малышом, и они смогут пойти погулять между кормлениями. Меж тем ей в первый раз предстояло самой покормить маленького в два часа.
Она помнила (ныне с горечью), как взлетала вверх по лестнице, полная добрых намерений: она его покормит, поговорит с ним, на руках покачает и – без зловредного присутствия сестры Сандерс – он откликнется. Мальчик спал, и, прежде чем разбудить, она приготовила все для того, чтобы его перепеленать. Делать это ей приходилось нечасто, умения и сноровки еще не было. Потом она бережно извлекла его из корзины. Малыш промок насквозь и принялся плакать еще до того, как оказался у нее на коленях. Снять мокрый подгузник было легко, а вот заменить его на чистый – это другое дело. Младенец уже заходился в крике, выгибал спинку и метался из стороны в сторону. Она положила его на пол поверх заранее разложенных подгузников, но понадобилась целая вечность, чтобы завернуть и заколоть их, потому как она очень боялась уколоть его булавкой. Под конец лицо малыша сделалось красным, он (она это чувствовала) был в ярости на нее – до того рассердился на деле, что для начала отказался от молока, просто бился головкой ей в грудь и продолжал реветь. Только она стала безумно предполагать, уж не накормила ли его напоследок сестра Сандерс сухим молоком из банки, купленным по ее требованию, как вдруг малыш больно ухватил ее за сосок и принялся сосать, укоризненно уставившись на нее своими серовато-голубыми глазами. В середине кормления зазвонил телефон, она, положив младенца на плечо, спустилась вниз и взяла трубку. Звонил Майкл. Он вырвался на пару ночей домой и приедет прямо к ужину.
– Стелла приезжает, – уведомила она.
– Вот и хорошо, – обрадованно отозвался он. – Будет здорово снова повидаться с ней. Как Себастиан?
– Себастиан? Ой! Только что срыгнул мне на плечо.
– Бедный малый! Ладно, увидимся позже, милая. Дракоша улетела?
– Да, только что. Новая няня придет к чаю.
– Великолепно. Я вас обеих поведу куда-нибудь, если захочешь.
Она вернулась в детскую и довершила кормление. Как-то смешно называть такую кроху Себастианом, подумала она. Имя ей, в любом случае, не очень-то нравилось, но Майкл утверждал, что это семейное имя.
Вскоре пришла Мэри и, не теряя времени, прямо в своем сиренево-белом полосатом хлопчатобумажном платье принялась купать малыша.
Выходные же, увы, радости как-то не доставили. Именно тогда она и обнаружила, что она – это два разных человека: со Стеллой – одна, а с Майклом – другая, а с ними двумя она не знала, какой ей быть. К тому же в ней теплилась надежда, что она уломает себя поговорить со Стеллой о своем внушающем ужас отсутствии материнского чувства: та была единственной, с кем, она чувствовала, можно пойти на такой риск. Однако не пошла дальше того, что призналась, как жутко было в родильном доме, и Стелла слушала сочувственно, сама вспомнила, как отец ей рассказывал, что все хорошие медсестры либо в крупных больницах, либо за границей, что частным родильным домам приходится довольствоваться отбросами. От этого ей стало получше: то было признание того, что время сейчас плохое, о чем она не слышала ни от кого другого.
– Ужасно было больно? – спросила Стелла, и она смогла сказать: да, было. Потом пришло время кормить ребенка, а посреди кормления и Майкл приехал. В те выходные ее не оставляло ощущение, что, несмотря доброжелательное друг к другу отношение, у Майкла со Стеллой, по правде говоря, не было ничего общего, кроме нее самой. Он позвонил матери в первый вечер и долго разговаривал с ней.
– Мамочке очень хочется, чтобы ты привезла Себастиана в Хаттон, – сказал он в ту ночь, когда они лежали в постели. – Я мог бы завтра тебя отвезти. Если Стелла ничего не имеет против.
Она говорила, что не может уехать из нового дома так скоро, она должна навести во всем порядок, да и миссис Корсоран ненадолго еще задержится, нельзя же оставлять дом пустым. Так что тогда было решено подождать еще месяц, теперь он прошел, вот тебе и пожалуйста.
Беда коренилась в том, что тогда как все в Хаттоне (от Ци с Питом до слуг, среди которых оказались даже шофер Кроули и садовник Бэйтсон) поголовно обожали малютку Себастиана, то ее, его маму, кого, казалось бы, полагалось больше всего восхвалять и любить, – ничего подобного. Если раньше она думала, что хочет иметь детей, но только после того, как привыкнет к замужеству, то теперь пришла к выводу, что ей вообще никогда не следовало бы иметь ребенка, и такая бесполезность угнетала ее все больше и больше. Ее охватывали то вина, то стыд, а порой и настоящая злость. Наедине с сыном она все же старалась создать какие-то связующие узы между ними, но тот, казалось, примкнул к общему заговору: ему явно не нравились ее поцелуи и объятия, а когда она говорила с ним, он попросту выказывал какое-то отрешенное безразличие. Казалось, сын понимал, что она плохая мать, ей представлялось, что одним из самых ранних его воспоминаний будет то, как мать извиняется перед ним. Так что дни она проводила, играя роль, какой от нее ожидали, а ночи (ранние утра) – борясь со своей горемычной путаницей.
Была пятница, означавшая, что на выходные начнут съезжаться гости. Бесконечный людской поток лился в Хаттон: на обед, на ужин, на ночь, на крохи отпуска или на краткие передышки от Лондона. Многие были людьми старыми и выдающимися, немало было и молодых, подающих надежды, практически все были мужского пола. Ци, похоже, без усилий собирала вокруг себя мужчин и, обходительно не обращая внимания на то, что большинство из них были женаты, обычно каким-то таинственным образом устраивала так, что те являлись в одиночестве. Немалая доля тех, кто постарше, когда-то были влюблены в нее – насколько Луиза понимала, они и сейчас еще были в ее сетях.
От каждого ожидалось представление: музыкальное исполнение, пение, участие в шарадах или шарадах-пантомимах, а при невозможности такого – рассказы о необычайных и занимательных случаях в жизни (это последнее было всецело прерогативой очень старых и заслуженных, достаточно поживших, по мнению Луизы, чтобы в их жизни такие случаи и бывали). Наносившие свой первый визит были, как правило, людьми молодыми, зачастую довольно молчаливыми, но Ци умела и им дать почувствовать себя непринужденно, и у других вызвать к ним особый интерес, так что очень скоро они выучивались и в игры играть, и шуткам смеяться, и вообще проникались утонченным духом этого места. То, что в подвижных играх Луиза оказывалась на первых ролях, говорило в ее пользу: и это было хорошо, потому как (и очевидным для нее это стало только в этот приезд, и то, когда Майкл уехал) было и другое, что, она чувствовала, шло ей в минус. Вот, к примеру, их прибытие сюда. Приехали они на поезде, поскольку у Майкла не хватало горючего, чтобы поехать на машине, поезд нестерпимо задерживался из-за ремонта путей. Себастиан проголодался, успокоить его водичкой в бутылочке не получилось, так что в конце концов, невзирая на то, что в вагоне полно людей, Луиза покормила его. Когда об этом узнали в Хаттоне (от Майкла, который счел этот случай довольно смелым и восхитительным), стало ясно, что Ци не считает его ни тем, ни другим. «Солдаты в вашем купе? – изумлялась она. – Надо же, полагаю, это у вас зовется богемой. До чего же неприемлемое положение – вот что я почувствовала бы».
Говоря это, она смотрела на Луизу и морщила нос в какой-то показной брезгливости, но Луиза ясно различила и неодобрение, и неприязнь, и даже презрение. Потом, она курила, что некурящей Ци не нравилось. Впрочем, тут она могла сказать немного, потому как практически все ее гости курили, как курили и Пит с Майклом. Еще Луиза пила, не только бокалы вина, но и джин, а такое, было ясно дано ей понять, девушке не подобает. Теперь уже Луиза понимала, что подлинная трудность была в том, что Ци вообще не любила женщин, что было, пожалуй, похуже ее конкретного неприятия своей невестки. «А означает это то, – рассуждала Луиза, расчесывая волосы, – что мне не победить. Что бы я ни делала, я ей не понравлюсь: она мирится со мной из-за Майкла и еще потому, что так заинтересована в детях». То, что она обожала Себастиана, не вызывало сомнения. Часами нянчила его у себя на коленях или легонько толкала его в старой коляске Майкла по террасам вокруг дома. Когда Майкл был здесь, он рисовал спящего малыша, зато она изящно вылепила из воска его головку, а Судья, Пит, принося извинения, что не умеет рисовать, посвятил Себастиану сонет. Теперь Ци занялась, по ее выражению, «одной из своих вещных картин», в которых для изображения использовала все мыслимые материалы аппликации, а то и вышивку. Это произведение напоминало лес у Руссо[38] с дикими животными, сидящими в засаде за каждым деревом или кустом. Картина очаровывала: как раз такую, понимала Луиза, маленький ребенок был бы рад видеть у себя в детской.
Звонки Майкла были еще одним поводом для легкой, но несомненной натянутости. Поскольку Ци большую часть дня проводила на диване с телефоном, она, как правило, говорила с сыном первой и довольно долго, прежде чем передать трубку Луизе, причем всегда со словами: «Скажите ему, чтоб не вешал трубку. Когда вы закончите, я хочу поговорить с ним». В присутствии Ци Луиза испытывала затруднение в разговорах с Майклом, сама слышала, каким пустым и скучным было то, что она говорила. Да, ребенок здоров и прибавил полфунта с тех пор, как Майкл уехал, да, Мэри, кажется, вполне подходящая, да, у нее все прекрасно, усталость дает себя знать намного меньше. Стоит чудесная погода начала октября… как у него дела? Тут следовало долгое перечисление самых последних боевых действий в Канале[39] или на Северном море, потом Ци начинала выказывать нетерпение, и Луизе приходилось прощаться, передавать ее просьбу не вешать трубку, и мать с сыном пускались в длительную беседу о корабле Майкла, о его боевых товарищах, об общем состоянии войны: ну не чудесно ли, что «Тирпиц» торпедирован? Некто по имени Джимми – из флотских, сын одного из обожателей Ци – провел лето в каком-то танке на миниатюрной подлодке в Уелвин-Гарден-Сити[40], это не мог быть он? Если так, то она должна послать телеграмму его отцу. И так далее. Луиза делала вид, что читает, или иногда попросту уходила из комнаты, но что бы она ни сделала, ощущение поражения преследовало ее – и ощущение, что ею пренебрегают. Письма, по крайней мере, были делом более личным, и ей нравилось писать их: писала по меньшей мере дважды в неделю, – и Майкл вел себя совершенным молодцом и писал ей по меньшей мере раз в две недели. Но вот однажды утром она обнаружила, что даже письма не остаются нетронутыми. Письмо от Майкла было положено перед нею на стол перед завтраком, но оно было вскрыто. Не просто клапан с полоской клея был отклеен: конверт был вскрыт сверху ножом для бумаг. Ци в то утро к завтраку не вышла, Луиза сидела за столом наедине с Судьей.
– Мое письмо вскрыли!
– Дорогая? – Судья оторвался от «Таймс».
– Мое письмо от Майкла. Оно взрезано.
– Ах да. Ци просила меня передать, что вскрыла его по ошибке. Она так привыкла к его посланиям, видите ли, что не разглядела как следует, кому письмо адресовано.
Луиза положила письмо обратно на стол. Руки у нее дрожали, злость душила так, что она не могла говорить.
– Сожалею. Вижу, это расстроило вас, – произнес Судья. Выражение его лица, схожее с чеканным изображением на римской монете, смягчилось до озабоченности. – Ци будет сожалеть, что вы расстроены, и это расстроит ее, что, как я знаю, вам известно, не полезно для ее сердца. Простите ее ради меня. – Он вежливо улыбнулся, и лицо его вновь обрело прежнее безмятежное выражение.
Когда позже утром Ци вышла, она ничего не сказала о письме. Луиза была злобно уверена, что свекровь все письмо прочла, и ни на секунду не верила, что та вскрыла его по ошибке, но, как ни странно, больше всего в этом прискорбном случае ее смутило поведение Судьи. Он, кто казался – и был – человеком наивысшей чести, человеком, кто, как она чувствовала, был бы не способен никому лгать, никого обманывать или предавать. И тем не менее он открыто извиняет свою жену до такой степени, что даже, похоже, не считает необходимым с ее стороны принести извинения. Вывод для Луизы был нелегким: Хаттон, поняла она, – это мир Ци, и она устанавливает правила в нем.
В тот приезд произошли еще два случая, которые нарушили ее покой, как осозналось впоследствии, куда больше, чем она поняла тогда. В субботу, накануне ее предполагаемого отъезда, состоялся, как она его называла, «званый завтрак заслуженного старичья»: адмирал, посол (отставной), генерал (со своей женой) и еще какой-то очень тщедушный старикашка, оказавшийся, к удивлению, открывателем новых земель. «Но больше уже не открываю, – поделился он с нею за супом. – Нынче я с трудом отыскиваю ночью путь к своей спальне».
– А чем же вы занимаетесь в дневное время? – Луиза усвоила, что начатый разговор следует продолжать, а не просто молча соглашаться с тем, что ей сказано.
– Хороший вопрос. – Старичок склонился к ней и выговорил сценическим шепотом: – Исследую впадины в собственных зубах. В тех, что у меня еще остались. Пока еще не добрался туда, где обойдусь безо всего[41], но, несомненно, доберусь. А вы ведь, право слово, красавица, ведь так? – Что-то в том, как он на нее посмотрел, обдало Луизу жаром, и она не ответила.
Когда они переходили в гостиную пить кофе, Ци сказала:
– Луизе надо идти кормить своего очаровательного малыша. Луиза, а почему бы вам не принести Себастиана в гостиную и не покормить его там? Уверена, все с удовольствием познакомятся с ним и на вас обоих посмотрят.
– И не подумаю.
Ци поначалу, как заметила Луиза, отказывалась поверить услышанному, себя же она сочла объектом своего рода злой шутки, которая пришлась по вкусу всей компании. Да, да, кивали они, Луиза видела, как адмирал с землепроходцем не сводили своих покрасневших слезящихся глаз с ее груди. Она вскочила так резко, что опрокинула свою чашку с кофе в блюдечко, после чего, кое-как принудив себя извиниться, вытерла кофе и вышла из комнаты.
Мэри ждала ее в спальне, шагая взад-вперед с плачущим Себастианом.
– Извините, что задержалась. – Она, похоже, только и делала, что извинялась, хотя времени было всего четверть третьего.
Когда Мэри устроила ее с малышом и ушла, слезы, которыми полнились глаза, полились – на ребенка, на грудь, вниз по левой руке, которой она держала малыша. Когда он покончил с одной стороной, она обвила его обеими руками и приложилась губами к стороне его круглой головки, а он поморщился и отвел голову в сторону. «Потеряна любовь меж нами», – подумала она, укладывая его себе на плечо, чтобы избавить от мешавшего воздуха, вот только она не знала, почему, и не было вокруг никого, кого бы спросить.
Когда пришла Мэри и забрала ребенка, Луиза легла на кровать, охваченная тем, что всегда звала тоской по дому, только теперь это было чем-то более неосязаемым, не связанным больше с конкретным местом… Майкл, он был ей нужен, чтобы здесь был, забрал ее отсюда, чтоб на ее стороне стоял, когда не пристало ей кормить своего ребенка на глазах у множества похотливых старичков, чтобы сказал своей мамочке, что нельзя ей вскрывать его письма, нельзя стоять в открытых дверях по ночам совершенно неизвестно зачем… но стоило ей, разозлившись, почувствовать себя лучше (ей это казалось странным, но это была правда), как она вспомнила, с каким выражением на лице принес Майкл к ней малыша после того, как тот родился. Он ждал, что она будет испытывать к Себастиану те же чувства, какие так явно его мать всегда испытывала к нему. Отчаяние охватило ее: он представления не имеет, какая она ужасно иная, а если б имел, так первым бы и осудил, – и если она не в силах ему рассказать, то как может оказаться настолько вероломной, чтобы поделиться с кем-то другим? Возможно, это переменится. Станет старше, она сможет говорить с ним, в игры с ним играть, когда он личностью станет. Однако скованность жутким страхом не давала ей и дальше мысленно развивать такой ход событий, и она опять вернулась к Майклу, и опять попыталась объяснить ему, отчего и в чем так запуталась. Только когда она снова увидит его? И долго ли, сколько времени удастся им провести наедине? Даже если она настоит на этом: откажется ехать в Хаттон, например, когда у него будет отпуск, – то как сможет высказать ему все эти ужасные, противоестественные вещи, ввергающие ее в путаницу и наверняка его шокирующие, когда всего через пару дней ему предстоит снова уехать, вернуться на свой корабль, где он легко может погибнуть? Отпуска военнослужащим давались, чтобы те дух перевели, отдохнули, разве можно раскачивать домашнюю лодку, как оно происходит, вместо того чтобы дать им покой, время отдохнуть, наделить их радостными воспоминаниями, с какими они и вернутся на войну? Если мать из нее никакая, тем упорнее должна она быть женой.
Последнее, что случилось в тот приезд, произошло утром перед ее отъездом из Хаттона. Майкл не вернулся, но она настояла на возвращении в лондонский дом по прошествии трех недель. Неожиданно Ци предложила ей прогуляться в лесу. Стоял великолепный солнечный день, бодрящий и ясный, с белым инеем по земле. Накануне звонил Майкл сообщить, что за летние сражения его наградили крестом «За заслуги», и Ци убеждала ее обязательно сходить к Дживсу[42], купить полагающуюся ленту и пришить ее на его форменную одежду.
– И, разумеется, – добавила она, – я приеду в Лондон, пойду с ним во дворец, и, думаю, потом нам следует это отметить. – Потом, не успела Луиза и слова сказать, продолжила: – О, милочка, вы пойдете с нами. Ему два билета положены для публики. Я на днях говорила ему, что на самом деле подумывала представить вас ко двору, но мы решили, что будет лучше подождать, пока у вас не родится следующий ребенок.
– Что?!
– Давайте присядем, Луиза, я достаточно находилась. – Удобно попалось поваленное дерево.
– Вы не слишком-то радивая мать, верно? Помню, когда Майкл родился, я месяцами и месяцами ни о чем другом и думать не могла, кроме как о нем. Однако Мэри сообщает мне, что вы и в детской-то едва ли когда бываете. А следовательно, очень важно, чтобы у него был братик, с кем можно было бы играть. Уверена, вы это понимаете?
Луизе удалось выговорить:
– Мы с Майклом еще не обсуждали этого. – Однако в горле у нее пересохло, и не было уверенности, что Ци расслышала.
– Майкл глубоко расположен к большой семье. По этой причине он и женился на вас. Уверена, вы знали об этом?
– Нет.
– Я говорила ему, что вы молоды, однако он был убежден, что вы для него подходящая жена, и, разумеется, я пожелала бы чего угодно, чего желал он, чтобы стать счастливым. – Она поднялась на ноги. – Я желала бы, чтобы и вы того же хотели. Но если, – закончила Ци, – я почувствую, что вы – каким угодно способом – доставляете ему несчастье, я вас насмерть зарежу. И сделаю это с удовольствием. – Ее игривая улыбка никоим образом не скрывала леденящей крови сути сказанного. Луизе почему-то припомнился исторический роман Конан Дойла («Гугеноты»?), где в лесах Канады было полно кровожадных ирокезов, нагишом пробиравшихся в переплетениях света и теней от деревьев, ликуя в предвкушении смерти. Лес, в каком она была сейчас, воспринимался таким же опасным: сердце Луизы замерло, она почувствовала, как ее прошил озноб.
Они пошли обратно к дому, выйдя из леса на поляну, по краям которой из голой земли лиловым пламенем вздымались цветы безвременника.
– Как бы вы их описали? – спросила Ци.
– Они похожи на людей, надевших вечерние наряды утром, – ответила она.
– Очень хорошо! Надо запомнить и сказать об этом Питу.
Сцена в лесу уже представлялась нереальной – до того дикой, что Луиза наполовину думала, что ее, наверное, и вовсе не было.
Декабрь 1943 года
– Дорогой! Это у тебя единственные брюки?
– Вроде того. Есть еще бриджи для работы.
– Но эти же у тебя, должно быть, уже много лет! Они дюймов на шесть короче, чем следует.
Кристофер глянул вниз на свои ноги, на зазор между обшлагами его клетчатых брючин и началом носков (все в дырках), но надеялся, что мама не поймет, что и неудобные туфли, которые тоже были у него уже много лет, но едва ли когда носились, тоже стали чересчур тесны.
– Малость коротковаты, – согласился он в надежде, что его согласием дело и кончится.
– Тебе же нельзя идти в них на свадьбу Норы! И рукава у твоего пиджака слишком коротки.
– Они у меня всегда такие, – терпеливо выговорил он.
– Вот что, покупать тебе что-либо уже поздно. Я посмотрю, нет ли у Хью чего-нибудь, что он мог бы одолжить тебе. Вы с ним примерно одного роста. – Вот только нет никого худее, подумала она, спускаясь по лестнице в поисках Хью.
Они остановились в доме Хью, который любезно предоставил его для всех членов семьи Касл (Полли с Клэри уехали побыть с Луизой) на ночь перед свадьбой. Вся семья (то есть за исключением Раймонда, который позвонил сообщить, что раньше никак не может вырваться, но утром отправится ранним поездом. Анджела еще не приехала, но она присоединится к ним за ужином – все устроил добряк Хью. Что как с неба свалилось, потому как она наверняка не могла бы положиться на Вилли, от той ни малейшей помощи ждать не следовало. Джессика подозревала, что это она убедила Раймонда занять такую твердую позицию с тем, чтобы она вернулась во Френшем, вместо того чтобы оставаться в Лондоне. Объяснение, мол, дом нужен Луизе, казалось ей абсурдным: у Майкла Хадли хватало денег, чтобы снять, а то и купить дом для Луизы, и никакой надобности у него в доме Райдал не было, но дом был оставлен ей совместно с Вилли, а Раймонд заявил, что он попросту не готов содержать два дома. Она подумала – после язвительного телефонного разговора с ним, – уж не проведал ли как-нибудь муж про Лоренцо, но, если честно, не понимала, как бы это он смог: они вообще-то были весьма осторожны, полагала она, хотя однажды Лоренцо признался, что не мог заставить себя сжечь дорогие ему ее письма. После этого она стала осторожнее в том, что доверяла письмам, а сама держала все его записки (он никогда не писал ничего больше записки) в секретном отделении своего ящика с шитьем. С возвращением во Френшем она провела немало времени в поездах, катаясь в Лондон и обратно, но теперь с этим будет сложнее, так как Нора и ее муж собирались жить в доме с нею, а у Норы были намерения превратить его в некое подобие приюта по уходу за инвалидами и младенцами. Возможно, тогда ей удастся найти малюсенькое pied-à-terre[43] в Лондоне, что было бы к лучшему: Лоренцо часто работал до того много и был до того занят, что порой – в последнее время – ее поездки в Лондон оказывались напрасными. Она могла бы убедить Раймонда, что уж лучше Норе, в конце концов, одной распоряжаться домом, ведь ей предстоит замужество не из легких, пусть это и не было ни в малейшей степени правдой, ведь Нора дьявольски настроена превратить дом в некое лечебное заведение с другими людьми, оказавшимися в таком же положении, что и Ричард, и кому также нужен уход. Если понадобится, она могла бы предложить, пусть Вилли или Майкл Хадли купят ее долю маминого дома, что даст ей наверняка достаточно средств, чтобы снимать небольшую квартирку. В этом году ей исполнится сорок шесть, и больше двадцати лет она жила для других, поднимая на ноги детей, готовя, стирая, отчищая жуткие домики, в каких они жили, пока не умерла тетя Раймонда и не оставила им дом во Френшеме и солидную сумму денег. В деревне жить она не хотела, тем более в этом музее Викторианской эпохи, однако Раймонд настоял. Появление каких-никаких, а денег, возможность нанять прислугу, как другие делали (как всегда было у Вилли), возможность покупать пристойную одежду, волосы укладывать в парикмахерской, ездить на новой машине, не на б/у – такого рода вещи (а их было столько много) поначалу казались чудом. Но по мере того как уходила прочь хроническая усталость – боже! она только поняла, как была измотана все эти годы, – а теперь еще и Раймонд не помеха и не надо испытывать никаких неприятностей, постоянно гася напряженность между ним и детьми, что-то щелкнуло в ней, словно бы бабочка появилась из куколки домоседства: ей только того и хотелось, чтобы получать удовольствие, перестать заниматься тем, что не доставляло радости. Дети, за исключением Джуди, кого теперь они могли себе позволить отправить в интернат, зажили своими жизнями. Она знала, что Вилли считает ее легкомысленной и усиленно порицала бы ее… то есть и порицала настолько, насколько была осведомлена о положении дел. Вилли считала, что она должна была либо обустраивать дом для Раймонда в Вудстоке, либо найти себе работу в связи с войной. Если бы Вилли знала про Лоренцо, она бы разозлилась так, что из себя бы вон. Как-то она сказала ему об этом, на что он ответил, что она женщина холодная, которая, как ему представляется, тот самый английский тип в отношении секса. (Она еще и то нем любила, что он обладал почти женской проницательностью.) Когда бы война окончилась, ей бы пришлось вновь стать женой Раймонда, чего бы это ни стоило и ни требовало, но пока… пока она как можно больше возьмет от того, что самой себе расписывала как бабье лето.
Хью, слушавший шестичасовые новости в своей довольно пыльной гостиной (трех немцев повесили в Харькове за военные преступления), затушил сигарету и сказал, что наверняка подыщет что-нибудь для Кристофера, и почему бы ей не предоставить ему экипировать молодца, и не желает ли она выпить?
– Вы ангел. Я бы с удовольствием выпила капельку виски, если у вас есть.
– Будьте как дома. Где Кристофер?
– Боюсь, прямо наверху дома. Но вы ему крикните, он спустится к вам в комнату.
Но едва она стала наливать себе осторожный глоточек из полбутылки «Джонни Уоккера», как услышала смятенный вопль, исходивший, несомненно, от Джуди, ранее отправленной принять ванну.
– Мам! Мам! О, приди, пожалуйста, мам!
– Я здесь.
Джуди открыла дверь ванной и, как только Джессика переступила порог, заперла ее за ней.
– Не хочу, чтобы дядя Хью или Кристофер видели меня. – Она до половины натянула на себя желтое сетчатое платье подружки невесты и тщетно пыталась стянуть лиф вниз посреди зловещего треска расходящихся швов. – Мамочка, оно слишком мало, я в него не влезаю.
– Стой спокойно. Глупая девчонка, ты, наверное, сзади не расстегнула. Стой спокойно.
Но даже когда она стянула платье через голову Джуди, расстегнула все кнопки с крючками сзади и вновь попробовала, платье оказалось явно слишком мало.
– Это бестолковщина! Я не виновата! Я все равно желтое ненавижу.
– Должно быть, это платье для Лидии, а значит, твое у нее. Не волнуйся. Я позвоню тете Вилли, и мы ими поменяется. Только все равно кое-что надо будет подправить. Жаль, что ты не подождала, а попыталась сама в него втиснуться.
– Если б ждала, было бы слишком поздно меняться. Лидия пошла бы в церковь в моем, а мне пришлось бы идти в моей свинской школьной форме! Это нечестно.
Большую часть разговора Джуди вела так, будто была актрисой, игравшей девочку в мелодраме, подумала Джессика, стараясь не раздражаться. У Джуди сейчас трудный возраст, как когда-то говорила ей мать. Школьное питание, скорее всего, по большей части из углеводов, превратило ее в толстушечку, причем довольно прыщавую. За последний год она сильно подросла, но от этого не перестала быть рыхлой, волосы у нее вечно сальные, низ верхней губы, доставивший столько расстройств летом, а потом лечившийся перекисью ее верной подругой Моникой, теперь словно бы покрылся медной корочкой, над которой буйствовали угри. Само собой, думала Джессика, с возрастом дочь избавится от всех этих мелких неприятностей, но пока что просто удача, что она в целом, кажется, не замечает их.
– Надень свое воскресное платье, – сказала она, – и приберись в ванной. У нее вид не то лавки старьевщика, не то болота.
– Мамочка, ты говоришь совсем как мисс Бленкинсопп в школе. Воскресное платье мне тоже под мышками жмет, – прибавила Джуди.
– Посмотрю, смогу ли расшить его, но к сегодняшнему вечеру не сделаю. А теперь подотри пол, собери всю свою одежду и отнеси к себе в комнату. Оставь ванную такой, какой хотела бы ее найти.
– Ну ладно. Ты не забыла взять мой жемчуг?
– Взяла.
– А брошку, какую мне на крещение подарили?
– Взяла. А теперь – за дело.
Такого рода вопросы летели ей вдогонку, пока она убегала к себе наверх переодеться к ужину в ресторане.
Само собой, она была довольна, что Нора выходит замуж: долгое время она полагала, что такое вряд ли произойдет. По сути, она полагала, что из четверых ее детей как раз Нора и закончит жизнь старой девой – старшей медсестрой в больнице, возможно. Но, увидев Кристофера после долгого перерыва (он редко бывал дома и никогда не приезжал в Лондон, когда она жила там), она задумалась и о его будущем. Он отчаянно худой и не очень радостен с виду. Его не призвали в армию, частично из-за его раннего срыва и лечения электрошоком, через которое он прошел, но еще и потому, что он оказался очень близоруким и теперь носил очки с толстыми линзами. От едва не постоянной работы на свежем воздухе у него цветущий цвет лица, на котором постоянно заметны порезы и царапины, нанесенные во время бритья. Едва ли не первым его вопросом по прибытии был: «Отец здесь?» – и, когда она сообщила, что тот раньше завтрашнего дня не приедет, он кивнул, но она успела заметить в его взгляде мгновенный проблеск облегчения. Раймонд как отец преуспел не очень-то: трое старших детей, хотя чувства их и разнились, каждый по-своему списывал его со счетов: Анджела его презирала, Нора относилась покровительственно, а вот Кристофер дрожал от страха и боялся его. Лишь Джуди удалось найти цель в любви к отцу, выполняющему очень секретную и важную военную работу. Джессике легко было представить, как школьники вели своего рода состязание в том, кто их отец, отец лучшей подруги Джуди, Моники, был майором авиации и, опосредованно, источником всех сведений Джуди о войне. «Отец Моники говорит, что незачем было выпускать из тюрьмы Освальда Мосли[44], – писала она в прошлом учебном году из школы. – Он говорит, что это совершенно возмутительно». В такого рода состязании Джуди, по-видимому, превратила своего отца в тайного агента. Надо будет рассказать Раймонду, это, возможно, его позабавит.
* * *
А в трех милях от них Ричард Холт участвовал в том, что его ближайший друг, его врач, его родители и его сестра то и дело называли «прощанием с холостяцкой жизнью». Наверное, самый степенный из «мальчишников» такого рода, с ноткой утомленности думал он. Спину ломило: болеутоляющее, принятое до ужина, больше не действовало, его изо всех сил тянуло полежать, вытянувшись, на спине, но за столом только-только добрались до десерта. Он глянул через стол на Тони, и тот мгновенно поймал его взгляд, он улыбнулся, и Тони улыбнулся в ответ милейшей из всех улыбок: просто глядя на друга, Ричард чувствовал себя лучше.
– Ричарду шоколадный мусс пришелся бы по вкусу, – говорила его мать.
– Ну, мне все ж хотелось бы выбрать, – произнес он, делая усилие, чтобы это прозвучало прожорливо и заинтересованно.
– Разумеется, милый, – и мать положила перед ним меню.
– Рис со сливками, яблочный пирог, сыр и печенье, – читал он.
– И шоколадный мусс.
– И шоколадный мусс. Ты права. Это для меня.
Его кресло стояло рядом со стулом матери, чтобы она могла кормить его. С завтрашнего дня это будет делать Нора, подумал он, три раза в день во веки вечные. До своего ранения он любил поесть: в Саффолке, где жили родители, у них была ферма, и пища была простая, но здоровая. Помимо собственной баранины, лакомился он и дичиной, на которую охотился: утки и гуси всегда были на столе, а зимой и зайцы, которых мама тушила, или жарила, или пускала на начинку для пирогов. В армии он о еде не думал, она была просто горючим и временем, когда можно было избавить ноги от усталости. Но восемнадцать месяцев кормежки всех с ложечки едой, которая наполовину остывала еще на пути в палату, вереницей сестер, в ком эта процедура, похоже, пробуждала скрытые материнские или покровительственные чувства (стоило ему сказать, что он наелся, как раздавалась чепуха вроде «ну еще ложечку, доставьте мне удовольствие»), зато на самом деле отвращала его от еды (хотя, казалось бы, прием ее должен бы быть событием в распорядке дня больного). Напитки – это другое дело, их он мог тянуть через соломинку и ни от кого не зависеть.
Собрались на маленькое семейное торжество: только его родители, сестра, овдовевшая в начале войны, но оставшаяся с близнецами (их не было), и Тони, кому предстояло быть его шафером. Он бы не стал его просить, но Тони сам предложил. Это предложение стало последней – золотой – соломинкой щедрой его натуры и любви.
Подали шоколадный мусс. Мать разглаживала салфетку у сына на коленях.
– Я не голоден, – сказал он, имея в виду: пожалуйста, не заставляйте есть это все.
– Ты съешь сколько хочешь, – успокаивала мать. – Никакого смысла нет напихиваться едой, если не хочешь. – Ее глаза, васильковую синь которых отмыло до бледной голубизны незабудок, хранили то же выражение, какое помнилось ему с детства: смесь мудрости и наивности, – оно как-то очень подходило ее много повидавшему лицу, покрытому сеткой тонких морщинок, как печеное яблоко. Сама она и его отец говорили, что в юности была она сорванцом (хотя в те времена, это, по-видимому, значило не больше чем нелюбовь ездить верхом в дамском седле и отказ носить корсет), сейчас же выглядела так, словно исполнила почти все из того, что знала и чему научилась, однако сама ее наивность всегда упорядочивала познания. Ныне, когда ей уже за шестьдесят, при том, что в ее описании звучало как легкий приступ ангины, она понемногу отходила от той активной жизни, что вела прежде. Он никак не мог взвалить на нее заботы о себе.
– Жалко, что Нора не может быть с нами, – заговорила его сестра.
– О, Сьюзен, ты же знаешь, что это нехорошая примета, когда жених с невестой встречаются накануне свадьбы.
– Знаю, но все равно жалко. Тебе-то хорошо, папа, – ты с ней виделся, а я – нет.
– Она чудесная девушка, – сказал его отец, далеко не в первый раз.
«Чудесная, чтобы выйти замуж за старый горшок вроде меня», – думал Ричард, когда его наконец уложили в постель. Только как же она хотела этого! Он познакомился с ней, когда в первый раз попытались оперировать ему спину. Однажды вечером она пришла на дежурство, когда ему не спалось, боль сводила его с ума, и он отсчитывал минуты – все сто десять их – до следующей дозы лекарства. Она сразу поняла, что он мучается, принесла ему пару таблеток с горячим питьем, приподняла и поддерживала его, пока он пил. Потом она поменяла у него всякие подушки, так что, когда она положила его на них, он почувствовал себя совсем по-другому, гораздо удобнее. «Я после обхода опять приду, – сказала она. – Только посмотрю, нет ли у нас подходящих подушек для вас». Она всегда была мягка, уверенна, расторопна и чудесным образом лишена показного бодрячества. Первоклассная сестра милосердия. Казалось, она никогда не торопилась, как многие из них, и ничто не воспринимала как непоправимую беду. Так это все началось. Спустя месяцы он спросил, как ей удалось достать для него дозу болеутоляющего в неурочное, в общем-то, время. «Это не было болеутоляющим, – сказала она. – Просто трава такая, арника, в виде таблеток. Вам нужно было почувствовать, что что-то предпринято».
К тому времени они уже вполне хорошо узнали друг друга. Когда месяцы спустя пришло время ему перебираться в другой дом (так это называлось, а на самом деле в больницу) и он сказал ей об этом, она надолго замолчала. Потом стала кругами толкать его кресло по земле: у нее был выходной, и они часто проводили его так. Он чувствовал (хотя и не видел ее у себя за спиной), что Нора удручена, и, когда они добрались до громадного дерева, вокруг ствола которого было устроено деревянное сиденье, она остановила кресло и села – скорее рухнула.
– Я буду скучать по вас, – сказал он. То была правда.
– Будете ли, Ричард? На самом деле?
– Конечно. Представить не могу, как буду обходиться без вас. – Это было не совсем правдой: представить он мог, но чувствовал, что ей нужно услышать это.
– Мне будет вас не хватать, – произнесла она так тихо, что он едва расслышал. А потом она сделала ему предложение – последнее, чего он мог бы ожидать или, коли на то пошло, желать. Он был тронут и в то же время ужаснулся.
– Нора, дорогая. За таких, как я, не выходят замуж, – сказал он. – Я не смогу дать вам того, что вам нужно.
– Я могла бы ухаживать за вами!
– Знаю, что могли бы. Только это не было бы замужеством.
Она начала говорить, но потом вдруг уткнулась лицом в ладони и заплакала. Это было ужасно, ведь ему даже руки было не поднять, чтобы утешить ее, – даже такого чертова пустяка он не мог сделать.
– Не надо, – произнес он спустя некоторое время. – Не надо. Мне невыносимо, когда вы плачете… просто сидеть тут и смотреть, как вы плачете.
Она тут же перестала.
– Простите. Понимаю, что это нечестно. По отношению к вам нечестно, я имею в виду. Хотя должна вам признаться. Потому что, возможно, вы чувствовали… ну, даже если вы и считали, как бы это было хорошо, но, возможно, думали, что я не… в любом случае я хочу, чтоб вы знали, что я действительно люблю вас.
Таким бы первый разговор об этом. Его перевели на новое место, и она приезжала проведать его в свои выходные дни. Забавная штука: он и вправду скучал по ней. Она, казалось, всегда знала, что ему нужно, если он хотел, то часами читала ему, расспрашивала о его детстве, о его семье, и пришел день, когда она познакомилась с его родителями, отправившимися в дальнее путешествие, чтобы проведать его. После их отъезда она спросила, кто такой Тони. (Родители спрашивали, может ли Тони наведаться к нему, он ответил: да, но только изредка.) «Он просто друг», – сказал он тогда.
– А я подумала, может, это старая подруга. Знаешь, иногда девушек по имени Антония зовут Тони.
– Нет.
– Ну и ладно, – сказала она, и он уловил, как тяжело давался ей легкий тон, – значит, у меня нет соперницы.
Он так и не смог рассказать ей о Тони. После она узнала, что Тони навещал его время от времени, – позаботился, чтобы не приезжать в один с нею день.
– Это даже лучше – развести посетителей во времени, – сказала она.
Тони в любом случае не мог приезжать часто. По работе ему приходилось ездить по всей стране: после того как он был комиссован из армии, где получил специальность инженера-электрика, он стал работать на обслуживании заводских энергоустановок. Ричард предупредил Тони, что тому нет смысла писать ему, ведь письма сам он читать не сможет, но тот все равно присылал открытки, а когда все-таки приезжал, то увозил его в кресле куда подальше от чужих глаз, так, чтобы они могли почувствовать себя, насколько могли, вместе и наедине. На самом-то деле иронией было то, что они встретились, потому что оба были великолепными атлетами, всегда были среди лидеров либо одной команды, либо соперничающих команд, хотя проявлялись и различия: Тони, скажем, был спринтером, а он бегал на длинные дистанции. Тони покалечило раньше его, но он отделался сравнительно легко: ходил теперь, заметно хромая, и с легкими все было неблагополучно. Когда ему стало получше, они провели отпуск Ричарда вместе: десять незабываемых дней в Северном Уэльсе. Тогда все время лил дождь, и даже теперь он относится к дождю с большой приязнью.
Вскоре после и случилась у него авария, сшибка, как говорят в Королевских ВВС. Как бы то ни было, авария произошла после того, как его атаковал истребитель, и в позвоночнике у него засела пуля, так что воспользоваться парашютом он не мог. Все остальные его раны и повреждения – из-за аварии, говорили, чудо вообще, что он уцелел. На госпитальную койку его доставили без сознания, напичканным лекарствами, утратившим связь с телесной оболочкой, начать с того, что считал себя умершим, а все остальное принимал за начало чего-то еще. Прошло время, прежде чем он понял – и ему об этом сказали, – насколько тяжело он пострадал, и гораздо больше, прежде чем он получил возможность рассказать Тони. То был первый раз, когда он понял, как на много способны руки, если ими движут привязанность и любовь: он не мог дотронуться, утешить или ободрить Тони – просто лежал себе и рассказывал. Тогда Тони сразу же заявил, что это ни на что не повлияет, не будет вовсе никакой разницы. В двадцать три Ричард был бы уверен, что сказал бы то же самое. Только теперь он на десяток лет старше, но все равно, даже сейчас в сознании еще не уложились все последствия его положения. Еще хватало места для мыслей о том, что, когда ему станет лучше, он будет меньше нуждаться в уходе, станет, так или иначе, более самостоятельным. И только по мере того, как месяцы тащились за месяцами, он осознавал, что такому в сколько-нибудь существенной мере не бывать никогда. Но и при этом он был не в состоянии разочаровывать Тони или был не в состоянии вынести такого, поскольку страшился того, что больше он Тони не увидит. Однако, когда его выписали из первоначального места излечения и перевели во вторую больницу, он понял, что ему выпало на долю. Родители хотели забрать его домой, мать сказала, что станет ухаживать за ним: «Я уверена, мне покажут все, что мне необходимо делать, – заявила она тогда, – а отец поможет мне тебя поднимать». Но он понимал: такое исключается, он калека, и его карьере, любой работе, даже общению с друзьями это помешало бы, любым забавам и – последнее, но ни в коей мере не наименее значимое – любому сексу. Он не мог бы позволить, чтобы кто-то в двадцать четыре года обрек себя на такое, не смог бы порицать верное и любящее сердце за столь неизбежное предательство. Тони был мальчиком д-ра Бамардо: он всю жизнь прожил в учреждениях, никогда не знал семейной привязанности, не говоря уж о любви, пока не встретил его, Ричарда. То была его первая любовь: он одолеет ее. Эта решимость совпала с предложением Норы. Поначалу сама мысль такая была для него абсурдна: он ее не любил, и не в том он состоянии, чтобы заключить договор о партнерстве любого рода с кем бы то ни было. Куда спокойнее придерживаться уже установившейся жизни, в которой от него ничего не ожидается и в которой людям платят за то, чтобы они следили, как он перебивается со дня на день. Однако его взгляды, его суждения, его решимость, похоже, мало значили для чувств Норы, как и для чувств Тони. И это уже стало проявляться в приездах Тони. Тони стал вести разговоры о их будущем и спорил, когда Ричард говорил, что его у них не будет, – порой едва не доходило до ссоры. Тогда он делал попытку сменить тему, наступали молчаливые паузы, наполненные неумолимо страстным желанием, воспоминаниями о его удовлетворении, которые отныне и станут всем, что у них останется, и они переглядывались, не зная, что сказать. А потом, в один из таких дней, Тони сказал:
– Есть одно, чего бы мне хотелось. Всего раз.
– Говори.
– Я мог бы поднять тебя из кресла и положить на землю.
– Из этого ничего не вышло бы, милый. Я не могу…
– Это я знаю. Просто хочу лечь рядом с тобой, в объятия тебя заключить – побыть твоим любящим и дружеским возлюбленным.
Он снял пиджак, свернул из него подушку, а потом поднял Ричарда из кресла и опустил его нежно, как слетающий с ветки на отдых листок. Потом обнял его за плечи с жуткими обрубками, оставшимися от рук, и плакал до тех пор, пока Ричард не почувствовал, как готовы разорваться оба их сердца.
– Вот так, значит, – сказал Тони, перестав плакать. Он отер собственные слезы с лица Ричарда, прежде чем поцеловать его. Потом вновь усадил его в кресло, поднял свой пиджак и отвез кресло в комнату. Как раз тогда он и понял, что Тони наконец-то примирился с тем, что у них нет будущего. Месяц спустя он согласился жениться на Норе.
Зато теперь, когда свадьба так близка, он ощутил страх. Не за Нору: никто не мог лучше ее знать, за кого она шла, она была практична, месяцами ходила за ним, у нее не могло быть иллюзий по поводу будущего. Она утверждала, что любит его, и он поверил ей. У них были довольно тяжелые беседы по поводу никаких детей, никакого секса и прочего, и она упорно повторяла, что все это знает, что понимает – и ей это неважно. «Вам, наверное, тяжелее», – решила она. «Нет, – возразил он, – мое либидо вполне онемело». Одного не мог он заставить себя рассказать ей, что он чувствовал, до сих пор чувствовал к Тони. Она считала Тони просто университетским приятелем, в этом она походила на его родителей. Женясь на Норе, он делал, как надеялся, лучше для всех, но Тони он не предаст, тот продолжал навещать его, пекся и заботился о нем, а весть о женитьбе воспринял с милым добросердечием. «Такое впечатление, что она как раз для тебя. Рад, что она тебя любит. – Тони улыбнулся и прибавил: – Придется мне выигрывать в бильярд, чтобы быть с ней на равных». (К тому времени ему уже рассказали про ее семью, про дом во Френшеме и про все такое.) И даже это, хотя и могло бы, но не было сказано с горечью. Позже он сказал:
– Тебе же шафер понадобится, ведь так?
– Думаю, понадобится.
– Я буду твоим шафером, буду рядом, – сказал он. – Если хочешь. – И улыбнулся второй раз, а Ричард уже в который раз подумал, красивее ли его друг, когда улыбается, или когда – нет.
– Ты всегда будешь мне ближе всех, – сказал он, не успев остановить себя. – Звучит как-то слащаво, верно?
И Тони, голосом самого нелюбимого их преподавателя, ответил:
– Очень опасаюсь, Ричард, что так и есть.
Слава всем святым, Тони не остановился в гостинице. Родители подняли Ричарда наверх и положили в постель. Это означало, что теперь ему придется всю ночь оставаться в одном положении – обычно кто-то переворачивал его, но он об этом не говорил. «Выспись хорошенько, тебе отдых нужен», – сказали ему, и опять он знал: если вернется и будет жить с ними, то у них отдыха не будет никогда. Он лежал, как казалось, не час и не два, давая себе слово по-доброму относиться к Норе, только в конце концов не выдержал и отправился обратно в Уэльс с Тони.
* * *
Кристофер уже минут двадцать пробыл внутри церкви, где стоявший на улице лютый мороз казался немного теплее, зато и темно было основательнее. Огни от медных канделябров в вечернем сумраке казались желтыми. Было всего два часа дня, а казалось, что день уже подошел к концу. Он был единственным распорядителем, свадьба была небольшой, и, если честно, так и казалось, что пришедшие на нее затеряются в просторной церкви. Он проводил м-ра и миссис Холт на передние места с надлежащей стороны. Странно, до чего некоторые люди ужасно выглядят в лучших своих нарядах, подумал он. Даже он понимал, что миссис Холт непривычно носить шляпу, как и м-р – выходной темный костюм. Жениха в кресле ровно катил по проходу симпатичнейший молодой парень, золотисто-рыжий, темноглазый и хромой. В сравнении с ним малый в кресле (его будущий шурин) выглядел довольно обыкновенно, то есть так его лицо выглядело, все остальное обыкновенным никак не назовешь. Тетя Вилли прибыла с Уиллсом, Лидией и Невиллом. Лидия обвила его руками со словами: «Я духами надушилась. Даю тебе их понюхать». Поверх длинного желтого платья на ней было теплое пальто. Невилл нарочито пошел в самую глубь церкви, тогда как тетя Вилли, удерживая старающегося вырваться из ее руки Уиллса, расцеловалась с Кристофером и сказала, как приятно снова увидеться с ним. Возвратился Невилл.
– Полагаю, Нора знает, что у него рук нет, – сказал он. – Под пальто это как-то скрыто, но все ж видно, что у него их обеих нет.
– Так говорить нельзя, Невилл, это затрагивает личность, – выговорила Лидия своим самым уничтожающим голосом.
– Дети, дети. Хватит разговоров.
Уиллс, так и не вырвавший у Вилли свою руку, попытался усесться на пол:
– Когда мы уйдем отсюда?
– А где Роланд? – спросил Кристофер.
– У него горло заболело, и я вместо него взяла Уиллса, чтобы Эллен было полегче. Дюши передает тебе привет, приглашает приехать и побыть у нас, когда ты сможешь вырваться. Мы найдем себе места. Лидия, ты останься с Кристофером.
Орган заиграл что-то непонятное из Баха, и вдруг приехало сразу много людей. Медсестры, ухаживавшие за Ричардом, его сестра, толстая и грустная на вид, а за ними три кузины, Луиза, Полли и Клэри, все выглядевшие по-взрослому в шляпах, оставлявших в тени их лица. Было славно видеть их и вспоминать о временах, проведенных в Хоум-Плейс летом. Потом мама с Джуди, тоже в платье, как у Лидии.
– Я подружка невесты.
– Всего лишь одна из них, – заметила Лидия.
Девушки оглядели друг друга.
– Я свой жемчуг надела. И перманент сделала.
– Вижу. – Волосы Лидии, прямые и сияющие, цвета темного меда, свисали у нее ниже плеч и удерживались надо лбом желтой бархатной сеткой. На ней природной короной покоился узкий венчик из лютиков и маргариток. Тот же самый венчик на Джуди выглядел неподобающе неуместно. Однако цвета выбирала Нора, она предписывала и из чего должны быть венки. Сочувствуя Джуди, Кристофер неловко обнял ее.
– Платье мне не помни, – сказала та.
Вернулась мама, извлекала из картонной коробки букет невесты.
– Она будет с минуты на минуту, – сказала она.
Приехала Анджела. Они не виделись целую вечность. На ней были изумрудно-зеленый пиджак, под которым плечи ее казались значительно шире, и очень короткая облегающая юбка, открывавшая ее прелестные длинные ноги в чулках как у кинозвезды. Она перестала безудержно выщипывать брови, а губы ее, так похожие на мамины, теперь окрашены розовой помадой, а не ярко-красной, вроде почтового ящика и пожарного крана, как в последний раз, когда он видел ее.
– От тебя очень славно пахнет, – сказал он, когда она поцеловала его (духи Лидии оказались лавандовой водой). – Жаль, что тебя вчера не было. – Анджела так и не пришла.
– Извини, Крис. Так уж… получилось. Где мне сесть?
– На любом месте с этой стороны. Я через минуту к тебе подсяду.
Он вновь повернулся к двери, и вот уже появились его отец с Норой, она – в длинном белом платье и в фате, почти скрывавшей ее лицо. Обменявшись с отцом натужными дежурными улыбками, он произнес:
– Нора, ты выглядишь потрясающе!
Она кивнула, он видел ее глаза, блиставшие от возбуждения за вуалью. Пауза, пока мама выстраивала подружек невесты за Норой, та взяла отца под руку, орган грянул музыку, какую от него ждали. Ему было видно священника, стоявшего на ступенях пред алтарем. Мама взяла его под руку, и они скользнули по боковому проходу на свои места, он с Анджелой во втором ряду, мама – впереди.
Во время службы он раздумывал, понимает ли Нора, что делает. Вспоминал время, когда она хотела быть монахиней, «невестой Христовой». Надеялся, что нет у нее ощущения, будто она в жертву себя приносит: меньшую, полагал он, по значимости, поскольку Ричард все же не Бог, только все равно жертву. Представление о жертвенности вызывало у него тревогу: он чувствовал, что сам способен выдержать жертву лишь краткую и резкую, а Нора наверняка на такое не пойдет, и будет это продолжаться, пока либо она, либо Ричард не умрут. Это обратило его мысли к Оливеру – нынче ему, наверное, уже лет восемь, а собаки живут не многим больше двенадцати-четырнадцати лет. Незачем и думать об этом. Часто то, что целую вечность тревожило его, оказывалось не таким уж и плохим, как ему представлялось, а порой ничего и вовсе не случалось. Вроде призыва в армию: стоило ему решить, что он обязан согласиться стать солдатом или чем-то вроде, как его помели за ненадобностью. Со зрением у него непорядок, не говоря уж обо все этой шоковой терапии. Вот тогда он и пошел на фермера работать, который вообще-то был рыночным огородником. Выращивал акры овощей, кое-какие салаты, кое-какие фрукты и позволил Кристоферу использовать рабочий фургон под жилье на выходные за очень низкую плату. Фермер с женой вполне привязались к Кристоферу и предлагали ему комнату в своем доме, но ему, если честно, нравился фургон, который он обустроил под дом для себя и Оливера. Ферма располагалась сразу за Уэртингом, у него был мотоцикл, чтобы ездить за продуктами и за всем другим, что понадобится. Питался он в основном овощами с фермы плюс картошкой с хлебом. Стал вегетарианцем, решив, что нельзя любить животных, как он любил, а потом есть их, так что свой мясной рацион он отдавал Оливеру. Раз в неделю ужинал с Херстами, в остальное же время готовил себе на примусе. У него была керосиновая лампа, духовка на керосине и спальный мешок, так что было вполне уютно, даже зимой, еще мама подарила ему радиоприемник на Рождество. Все у него было в полном порядке. Работал, не жалея сил, не страдал от одиночества, хотя и понял, увидев сегодня Полли, до чего ж он тосковал по ней. Боже, до чего ж она хороша вот сейчас, когда в церковь заходит! Луиза, с которой он никогда особо и не разговаривал, выглядела довольно старой в серой беличьей шубе (чего он не одобрял: это же жуть какое количество белок на такую шубу пошло), Клэри выглядела почти так же, как и всегда, только ростом выше да шляпу малость по-глупому носит, зато Полли в пальто цвета темно-синих гиацинтов и голубой шляпе, скрывающей ее белый лоб и медного цвета волосы, выглядела неприступно пленительно – она вдруг настолько повзрослела, что он чувствовал, что и знать не будет, о чем с ней говорить.
Вот отец оставил Нору и пошел обратно сесть в первом ряду с мамой. Жуть, должно быть, на месте Ричарда оказаться, подумал он, совсем без рук, все время вынужденный быть признательным людям. Он глянул на свои руки, распростертые на коленях, чтобы удержать ноги в тепле: он не привык ходить в такой тонкой одежде. Мама аж вскрикнула, увидев их, когда старалась обрядить его в наряды дяди Хью. Они выглядели как руки, проведшие большую часть своей жизни на воздухе и много поработавшие: он так и не смог вычистить землю из-под ногтей, вся кожа была в пятнах от отморожений (и на ногах тоже), но он теперь уже привык к ним. Весной становится получше, а сейчас для них самое гиблое время года. Когда он начал работать на ферме, то у него еще и мозоли-волдыри были, но они скоро пропали. Все равно, не для увеселительных вечеринок такие руки…
Жених с невестой оба произнесли клятву: Ричарда он еле слышал, зато голос Норы звучал ясно и ровно. Забрела в голову мысль: сам-то он женится на ком-нибудь? – а следом и ответ подоспел: вообще-то, наверное, нет. Даже не представлялось, чтобы кто-то согласился пойти за него, он вообще совершенно не умел воображать будущее, не мог даже подумать о том, как все будет, когда кончится война, если та когда-нибудь кончится. Жениться, если ты не веришь в Бога, было бы, видимо, неправильно. И уж в чем он был вполне уверен, так это в том, что на двоюродной сестре жениться нельзя.
Произошло какое-то общее движение. Ричард с Норой укатили куда-то вглубь, мама с папой и родители Ричарда последовали за ними. Скоро все они поедут в какую-то гостиницу на свадебный обед, а потом Нора с Ричардом отправятся во Френшем, по крайней мере, до конца войны, и Нора собирается зарабатывать деньги, ухаживая за одним-двумя другими ранеными. Дом там большой, но, как он полагал, жить им придется только на первом этаже.
Стали возвращаться. Он надеялся, что вскоре все закончится, потому как он замерз и был донельзя голоден.
* * *
– А почему Арчи не было?
– Так его некому было пригласить. Нора его не знает, да даже тетя Джессика вряд ли знает его.
– А-а.
– Тебя тоже печаль берет? Забавно, до чего же свадьбы способны в печаль вгонять. Мне даже после Луизиной взгрустнулось, хотя событие было куда как более звездное.
– По-моему, эта было особенно трагической, если тебя мое мнение интересует.
– Клэри, она не была трагической. Нору никто не принуждал идти за него замуж. Она и раньше не делала того, чего не хотела, и сейчас явно не делает.
– Чего не делает?
– Не приносит себя в жертву.
– Ой, Полл, как раз приносит! Она хочет и приносит. Разве не помнишь, Луиза говорила, что она хотела стать монашкой?
– То просто период такой был, как тетушки говорят. Женская разновидность желания стать машинистом.
– Невилл вел себя ужасно, – сказала Клэри, словно следуя за ходом мысли. – Он спросил Ричарда, что он делает, когда у него что-то чешется.
– Быть не может!
– Еще как может – спросил. Я сказала ему, что он допустил и бездушие, и бестактность, а он в ответ, мол, если бы он был такой же, то предпочел бы, чтоб люди расспрашивали его, а не притворялись, будто он такой же, как и все остальные. Только, конечно же, – важно закончила она, – он ни малейшего понятия не может иметь, каково это быть Ричардом.
– Ну и я тоже не имею. Стоит попробовать думать об этом, как у меня все мысли отключаются. Не могу себе представить, что вообще будет стоить жить. Бедный Ричард! Силы небесные, ну разве не удача, что нечто подобное не случилось с Арчи?
– По-моему, когда разбиваются самолеты, все гораздо хуже. Вспомни только того беднягу, за кем Зоуи когда-то ухаживала в Милл-Хаус.
– Она все еще делает это?
– Не думаю. По-моему, он, может, и вернулся в свой другой госпиталь. Чем сегодня вечером займемся?
– Теплее всего нам в кино будет. После всех этих сэндвичей и прочего я есть не хочу. Можно бы позвонить Арчи, – сказала Полли, словно бы эта мысль только-только ее осенила.
Клэри испытывающе глянула на нее.
– Могли бы… впрочем, мне кажется, он будет занят… наверное, не стоит…
– Можем же мы, по крайней мере, попробовать, – сказала Полли, и Клэри поняла: попробует.
Так что они позвонили Арчи, мол, сейчас слишком уж холодно, чтоб из дому выходить, но, поскольку у него в квартире приятно и тепло, почему бы им не прийти и не поужинать в ней? «Я знаю, как бывает ужасно после свадеб, – сказал он. – Нет нужды веселиться по поводу обыкновенной жизни».
* * *
– Лапушка, лучшее, что ты можешь сделать, это перестать плакать и рассказать все мне.
Он вручил ей стакан с бурбоном и носовой платок.
Признательно кивнув, она высморкалась.
– По правде, я даже не знаю, с чего это я. Это все свадьба, будь она неладна.
– Разберемся, – сказал он, утешая, и сел рядом с ней на диван.
– Конечно, – сказала она, – на свадьбах часто плачут. И не в том дело, чтоб я особо от Норы без ума была. Мы с ней очень-то никогда не ладили. Она считала меня распущенной, а я считала ее занудой. К тому ж она еще и очень важничала. Раз сказала мне (это полагалось бы в тайне держать), что собирается монахиней стать, а я только подумала, ну, гора с плеч, если ее рядом не будет, чтобы меня по косточкам все время разбирать. Единственный раз, когда мы заодно оказались, это когда отец и впрямь жутко на Кристофера понес. Он, бывало, изводил его и маму шпынял. Тебе могу признаться: я ж из жуткой семьи. Снобистской и всю дорогу старающейся внешние приличия блюсти. Только отец мой никогда не зарабатывал хоть сколько-нибудь денег, и бедной маме приходилось еду варить и всякое такое, что вовсе не было тем, к чему ее по жизни готовили. К тому времени, когда умерла престарелая тетка отца, оставив ему дом и порядочную кучу денег, мама была уже слишком стара, чтобы получать от этого удовольствие. Короче, отец ждал, что из Кристофера выйдет герой войны, а мы удачно выйдем замуж.
– А это что значило? Войти в королевскую семью, такого рода партия?
– Не совсем так. Но – титул, либо кто-то вроде мужа моей кузины Луизы… понимаешь, знаменитость.
– Сливай воду! Хотя, полагаю, родители в отношении детей всегда честолюбивы…
– В нашем случае не сработало. Кристофер работает на ферме, а Нора вышла за паралитика…
– А ты связалась с американцем, который тебе в отцы годится.
– О, об этом они не знают! – воскликнула она. – То есть не потому, что ты американец или еще что, им не по нраву пришлось бы это самое вступление в связь. Люди их поколения просто в связь не вступают. – Она стала краснеть.
Он обнял своей медвежьей лапой ее худенькие плечи.
– Американские люди их поколения иногда в связь вступают, как тебе известно, – сказал. – Может быть так, что ты всего о них не знаешь.
Она откинулась назад, прижавшись к теплой стене его плеча.
– В Америке, я уверена, по-другому. И война, и все вообще.
– Ты так и не сказала мне, отчего свадьба Норы заставила тебя плакать.
– Ой! Не сказала. Полагаю, это все из-за того, чем она не была. Она была в белом платье и в фате, а Джуди и Лидия, это еще одна кузина, были подружками невесты. Но когда церемония окончилась и она шла по проходу, то попробовала катить его кресло, но его шафер не дал. И он был прав, конечно, если б она так сделала, это по-настоящему выглядело бы, будто медсестра больного везет. Только это было так грустно! – Глаза ее наполнились слезами. – Я говорю, у нее же никогда не получится… детей иметь. Ей все время придется ухаживать за ним.
– Видимо, она любит его, – заметил он. – Видимо, она любит его, знает, что нужна ему, и хочет быть нужной.
– Ты все время смотришь на светлую сторону.
– Нет. Я просто показываю тебе, лапушка, что может быть и такая.
– А предположим, она находит кого-то еще, когда-нибудь в будущем, и влюбляется в него?
– Такое может с каждым случиться.
– О, милый, прости. Я не хотела…
– Все это было давным-давно, и я знаю, что ты не хотела.
Но не раз, в разное время того вечера – когда они собирались на ужин в ресторан, когда танцевали (он очень хорошо танцевал), когда стояли на улице на ужасном холоде в ожидании такси, которое он вызвал, когда она уснула в машине у него в объятиях, когда они стояли в маленькой кабинке лифта, поднимаясь к нему на пятый этаж, когда он открыл дверь, и на них пахнуло (для него уютно знакомыми, для нее восхитительно экзотическими) запахами сигарет «Честерфилд», которые он курил одну за другой, и духов «Белая сирень», присланных ей из Нью-Йорка, когда они легли в постель и занялись делами любовными, когда он поцеловал ее напоследок и потянулся выключить лампу, которую поставил на пол, чтобы от света ее было больше уюта и романтичности, а она, засыпая, повернулась к нему гладкой спиной с выступающими косточками, – весь тот вечер, вырвавшись из прошлого, представала им Марион Блэк. Анджеле она виделась крупной, темноглазой женщиной с волосами цвета воронова крыла и ослепительно-белой кожей, грудастой и с низким хрипловатым голосом. Ему она помнилась маленькой, рыжеволосой, близорукой и визгливой. «Хорошая девочка, – сказала его мать, когда он привел Марион домой. – Воспитанная девочка». Ее невзрачность матери нравилась, и уж конечно, ее внешность никак не предвещала, что она сбежит с другим, с человеком, с кем он не был знаком и никогда о нем не слышал, – шаг, предпринятый ею безо всякого предупреждения или хотя бы намека на разочарование в своем семейном положении или в нем как муже. А потом, два года спустя, он прослышал, что она умерла, – до того неожиданно, что он подумал об автокатастрофе, но оказалось, внезапный и острый приступ диабета. Только после ее смерти он понял, что никогда ее не любил, а потому почувствовал себя виноватым. Восемь лет прожили они вместе, а он так никогда и не знал, ни что она думает, ни что она чувствует – о чем угодно, кроме того, что сожалеет о невозможности иметь детей. В те годы он работал, не щадя ни головы, ни задницы, сначала студентом-медиком, а после, получив диплом, в крупной клинике в Бронксе. Она работала регистратором у психиатра, но все равно денег совсем не хватало. После того как Марион ушла, он решил, что не очень разбирается в людях, и тогда же вознамерился стать психиатром. Психоанализ подсказал ему, как долго в своей жизни он действовал, будучи маменькиным сынком, и только со смертью матери (незадолго до Перл-Харбора) он оказался в состоянии понять, что она всю себя отдавала, чтоб ему было – по ее собственным понятиям – лучше. Ее смерть избавила его от ее неустанной кампании по поиску для него другой, более подходящей жены (акции Марион резко упали из-за ее неспособности произвести на свет внука). К тому времени дела у него шли вполне удачно: перебрался в большую квартиру в части города получше, обзавелся вместе с двумя коллегами регистраторшей и испытал усладу одной-двух незабываемых любовных связей (хотя никогда – с пациентками). Однако побег Марион не давал покоя душе: если бы она не умерла, он мог бы разыскать ее, поговорить с ней, даром что вовсе не был уверен, влез ли бы он в существенные хлопоты по ее поискам, а если б и влез, то согласилась ли бы она на столь обходительное исследование того, что уже было мертво. Как бы то ни было, но мысль о ней постоянно вызывала в нем ощущение незаконченности отношений между ними, а это – по причинам, которые он понимал, но которым не мог противиться, – порождало чувство вины.
Он вступил в армию, приехал в Англию, чтобы в дальнейшем участвовать во вторжении во Францию, и это дало ему ощутить себя свободным, обособленным и – за пределами служебных обязанностей – безответственным. Поначалу, хотя Лондон, казалось, кишел девицами, он оставался одинок. Ходил на вечеринки с коллегами-офицерами, где ели ужасную еду и смотрели, как парочки танцуют. Иногда другие приводили девиц, а раз даже и ему девица перепала, но искры не высеклось: она рассказывала ему непристойные анекдоты, чем вызвала у него стеснение и жалость к ней. Потом как-то вечером они ужинали с Джоном Райли, служившим в его подразделении, а после ужина закатились в «Астор» (как позже выяснилось, потому, что туда собиралась пойти одна интересовавшая Джона знакомая), и, вполне понятно, Джон враз отыскал свою леди и повел ее танцевать. Немного поглядев на них и уже подумывая уходить, он увидел, как этот говнюк Джо Бронстайн танцует с высокой худой девушкой в зеленом шелковом платье, с длинной стрижкой «под пажа». Когда пара приблизилась по кругу к его столику, он увидел, что Джо горло на нее дерет, а она это терпит. С Джо они на одном судне в эту страну прибыли, и тот ему не понравился тем, что приставал ко всем, кто был послабее его. Когда пара оказалась шагах в трех, он понял, что Джо пьян и что девице с трудом удается удерживать его на ногах. На секунду показалось, что она глянула на него и лицо ее, белое с кроваво-красным ртом и глазами, густо обрамленными черным, выражало всю скорбную беззащитность клоуна… Потом музыка смолкла, и Джо, ухватив девицу за руку повыше локтя, поволок ее к столику. Добравшись до него, толкнул ее на стул, Эрл видел, как девушка что-то сказала и встала, но Джо снова схватил ее и толкнул с такой силой, что она проскочила мимо стула и упала на пол. Дольше такое терпеть было нельзя. Он встал и подошел к ним. «Вам пора домой, лейтенант», – отчеканил, но большего делать не пришлось: налетели вышибалы и увели пьяного. Так он познакомился с Анджелой. Спросил ее, не хочет ли она выпить, и она ответила, мол, нет, просто хочет уехать домой. Вблизи она оказалась моложе, чем ему показалось. Принялась благодарить его на своем приятном, четком английском говоре, но посреди благодарностей ею вдруг овладели такая страшная зевота, что она едва успела рот прикрыть. Извинившись, сказала, что вполне устала. Тут подоспело вызванное им такси. Когда она поняла, что он едет с ней, то забилась в угол и назвала свой адрес голосом, хоть и одолевавшим расстояние, но основательно перепуганным. Ему просто надо убедиться, что она благополучно окажется дома, пояснил он, и она опять извинилась за то, что устала. (Пока добирались до ее квартиры, она извинялась четыре раза.)
На следующий день он послал ей розы с карточкой, на которой написал, что надеется, она хорошо выспалась, и не позвонит ли она ему? Слегка удивился, когда она позвонила. Он пригласил ее на встречу Нового года, они прилично напились и под конец оказались в ночном клубе, где от джина с травкой она отключилась.
Первые любовные утехи с ней разочаровали: было в ней что-то отработанное и бездушное, что вызывало в нем грусть и в чем он ощутил ущербность, выходившую за рамки Джо Бронстайна. В постели она вела себя, как будто ей постоянно утром надо было успевать на поезд в восемь десять, зная, что всю дорогу предстоит стоять. Однако в остальное время, когда он водил ее гулять, осматривая Лондон (который она, похоже, знала так же мало, как и он), во время поездок за город, когда удавалось достать что-либо из средств передвижения, в кино, когда погода портилась, когда они проводили вечера у него в квартире, ели консервы из индюшачьих грудок или стейки, которые удавалось купить в военторге, а он обучал ее играть в шахматы, она расцветала. Он держал себя с ней очень ровно, терпеливо и всегда вежливо: не хотел, чтобы она путала признательность с любовью. Как он полагал, она любила кого-то, кто погиб, но она ему о нем не рассказывала, а он – не расспрашивал.
* * *
Он успел на последний поезд до Оксфорда, и, когда прибыл, она ждала его на платформе, как он и думал. Стоял жуткий мороз, поезд опоздал, и он ковылял по платформе, едва не упав в ее объятия. Они поцеловались: лицо у нее замерзло, от нее пахло мятой. Внутри видавшего виды «эмджи», подаренного ей семьей бог весть когда, к двадцать первому дню рождения, поцеловались более основательно.
– Ах, Раймонд! Я так по тебе скучала!
Он был в отъезде всего лишь двадцать четыре часа.
– Вернулся, как только смог.
– О, я знаю! Я тебя не виню.
В салоне было жутко холодно, от их дыхания запотевали окна машины.
– Давай поедем, дорогая.
– Да, разумеется. Ты замерз, должно быть. – Она отерла ветровое стекло своим довольно ворсистым шарфом. Она обожала, когда он произносил «дорогая».
– Все прошло хорошо? – спросила она, постаравшись придать своему голосу, сколько смогла, легкости и беззаботности. Ей смертельно хотелось услышать все подробности о свадьбе, не то чтобы ревность мучила или еще что, столь же идиотское, просто ей интересно было знать о нем все.
– Очень хорошо, по-моему.
– Невеста была в белом?
– О да. Все как положено. Подружки невесты, знаешь ли, в церкви и все такое.
– Мило, должно быть, прошло. – И подумала: «А я должна ото всего от этого отказываться». Она так часто представляла себя медленно проходящей по церковному проходу, ее сияющее ликованием лицо частично скрыто рядами старинных кружев – как в конце всех ее любых кинофильмов. Но теперь, когда война окончена и Раймонд получил возможность оставить эту жуткую женщину, на какой женат, впереди одно только бюро регистрации. Впрочем, какое значение имеют эти мелочи в сравнении с их удивительными, уникальными отношениями?
– Должно быть, тебе все же пришлось помучиться, – сказала она. Это было уже намного позже, после того, как они оставили стоять машину возле громадного эдвардианского дома из темно-красного кирпича, в котором у них обоих были комнаты. Начать с того, что со всеми другими они были вместе еще в Кэбл-колледже, однако после того, как четверо мужиков вломились к ней в комнату и пытались залезть к ней в постель, Раймонд все чудесным образом устроил, чтобы они удалились. Каждый день их забирал автобус и отвозил в Бленэм. Среди их коллег было распространено мнение, что они спят вместе, что было не так. Они жили в состоянии целомудренного, романтического напряжения, когда она еще больше восхищалась Раймондом, потому что находила это таким невыносимым. Они очень близко подошли к соитию, однако ценность, которую он придавал ее девственности, казалось, превосходила все. Ей бы очень хотелось, чтобы, оставаясь таким же благородным, он в то же время уступил желанию. Потом он мог бы выразить сожаления, униженно просить прощения, а она была бы нежна и великодушна. Она столько раз репетировала эту сцену, которая, увы, до сих пор, к несчастью, не была исполнена.
– Я хочу сказать – в такой ситуации в целом, – продолжил она. Они были в ее комнате, и она готовила Раймонду какао, поскольку свой лимит на виски в местном баре он уже выбрал. Она зажгла маленькую газовую горелку, но они по-прежнему оставались в пальто. – Полагаю, тебе пришлось притворяться перед всеми.
– Как это?
– Ну как же… – Она запнулась, с трудом одолела себя. – То есть это же была совершенно нормальная ситуация. – Она представила, как он стоит рядом с женой, заученно улыбаясь и пожимая руки гостям.
– Ах, это. Да. – Он вдруг вспомнил, как следил взглядом, когда шафер нагнулся, чтобы надеть Норе кольцо, поскольку жених сделать этого был не в состоянии, – горький момент, который как-то раскрыл ему будущее положение Норы, как ничто другое. Слезы сами собой навернулись на глаза. – Было такое, – хрипло выговорил он.
– О, дорогой мой! – Она бросилась на колени перед его креслом. – Я и не думала расстраивать тебя! Давай поговорим о чем-нибудь другом!
* * *
– Ты в конструкторе понимаешь? – спросил Невилл в поезде, когда они возвращались в Хоум-Плейс.
– Конечно, понимаю, глупенький. Лично меня он никогда не интересовал.
– Так вот, если сделать длинные рейки, их можно было бы приладить к его культям… они у него есть, я видел под пиджаком… а на них поставить небольшой моторчик, то можно соорудить что-то вроде рук, когти, во всяком случае, и тогда он смог бы поднимать всякие вещи. Чуть-чуть на кран похоже, – разъяснил он: Лидия никогда ничего не понимала в механике.
– По-моему, это ужасно так говорить о бедном Ричарде.
– Вот и нет, вот и нет, вот и нет, – парировал он. – Я стараюсь придумать такое, что поможет ему, а это куда больше, чем то, с чем ты носишься. От твоего одного прискорбия ему ни малейшей пользы нет.
Она умолкла, а он всю оставшуюся часть пути раздумывал, быть или не быть ему изобретателем.
* * *
– …и папочка так доволен, что мы будем жить во Френшеме. Если бы дом реквизировали, одному богу известно, что бы с ним произошло, и, во всяком случае, он считает, что наши планы, как его использовать, намного лучше, чем планы правительства.
Они вернулись в гостиницу, где он провел ночь, и Норе предстояло занять номер, в котором останавливались его родители. Администрация гостиницы прислала цветы. Пунцовые и розовые гвоздики с гипсофилами буйствовали в хрустальной вазе. Еще принесли тарелку винограда, большую часть которого они съели. Завтра их повезут во Френшем.
– Ты устал, – сказала она, опережая его. – Сейчас я тебя устрою.
Полчаса спустя, когда все было сделано: спина его протерта хирургическим спиртом, зубы вычищены, моча собрана в грелку, лекарство принято, ночная рубашка с короткими рукавами на него надета (это куда удобнее, чем пижама, как верно заметила она, купив ему ее), когда его подушки, в том числе и одна особенная, удобно разложены, – она нагнулась и легко поцеловала его.
– В три часа приду перевернуть тебя, – сказала она, – и дверь оставлю открытой, так, чтобы ты позвать мог. Я тебя всегда услышу. – Она погасила свет и пошла в соседнюю комнату, и ему было слышно, как она готовится ко сну. И неожиданно, так всецело, что самого ошеломило, его тронуло то, что повела она себя так, словно вовсе ничего нового и не произошло.
* * *
Тони дождался, пока Ричард уехал со свадебного пира с Норой в лимузине, в который он и помог ему забраться. Вместе с остальной толпой он смотрел машине вслед, пока та, свернув за угол, резко не пропала из виду, потом вернулся в гостиничный гардероб, взял свое бобриковое пальто, вышел из гостиницы, отыскал паб и там напился допьяна.
Январь 1944 года
Без Полли и Клэри дом, казалось, ужасно опустел. Он заметил это с того самого мгновения, как утром прозвенел будильник. Лежа в постели, вслушивался в тишину: наверху никто не прыгал, никто ничего не ронял, никто не смеялся, не ругался, никто легкими шагами не сбегал по лестнице. Он быстро встал, накинул старый голубой домашний халат (тот, что Сибил подарила ему на первое с начала войны Рождество), сунул ноги в кожаные шлепанцы. Но все равно холод давал о себе знать. В ванной над спальней он установил водонагреватель, потому как в доме не осталось никого, кто бы топил печь. Нагреватель не очень охотно позволял ему обмыться в ванной, но вода в него набиралась до того медленно, что зимой вытекала скорее теплой, нежели горячей. Приходилось кипятить чайник, чтобы побриться. Помывшись, побрившись и одевшись, он мог выключить свет, поднять шторки затемнения и увидеть за окном пасмурный серый день. Он спускался в подвал, останавливаясь по пути, чтобы прихватить полпинты молока, доставлявшегося через день, и газету, приходившую всегда. «2300 тонн бомб сброшено на Берлин» – таков был главный заголовок номера в тот день. Он попробовал представить себе 2300 тонн бомб, но разум отказывался. Только подумать, что способна натворить одна бомба…
Он завтракал за кухонным столом: так было сподручнее, и, сделав тост, он оставлял гореть газ для тепла. Тост и чай – вот и весь завтрак, еще маргарин, чей гадкий вкус частично скрашивал джем миссис Криппс, или, в худшем случае, дрожжевая паста. В былые времена они завтракали с Сибил в столовой рядом с кухней, ели какую-нибудь дыню и вареные яйца, а порой и – самую им любимую – сельдь. Сибил всегда садилась спиной к стеклянной двери в сад, и в солнечный день прядки ее волос сияли в солнечных лучах. Такого рода воспоминания не вызывали больше былых мучений, но без них было не обойтись: он и дня не мог прожить без того, чтоб не думать о ней, не напомнить ей о какой-нибудь мелкой, сугубо личной шутке, не вспомнить того, что она говорила, о чем думала, что одобряла, о чем тревожилась. Всякий раз он ощущал легкий всплеск любви к ней, который на мгновение оттеснял отчаяние утраты. Он, как говорил сам себе, держал любовь на плаву. Не так уж много осталось способных на то же самое. Заботы бизнеса заполняли дни, кто ж спорит, но с тех пор, как Старец отошел от дел (практически, хотя и приезжал два раза в неделю и сидел в своем кабинете в ожидании, что кто-то придет и поговорит с ним), а они с Эдвардом в контрах из-за нового причала в Саутгемптоне, упражнения в коммерции едва ли доставляли удовольствие. Именно Эдвард настоял на покупке причала: собственность обошлась очень дешево, это верно, только все равно это означало не только отвлечение средств, полученных в возмещение ущерба от войны, но и привлечение едва ли не всего имевшегося у них капитала. Эдвард убеждал, что после войны начнется строительный бум и, располагая большими активами, они окажутся в куда более выгодном положении при складировании и переработке древесины твердых пород, сделавшей им имя, но Хью сомневался, что удастся найти деньги для покупки таких громадных запасов, какие оправдывали бы приобретение второго причала. У них из-за этого ссора вышла (и даже несколько ссор), однако Старец принял сторону Эдварда, так что новый причал был куплен и действовал. А теперь еще и этот большой, а ныне пустой дом. Было бы разумно, полагал он, продать его или, по крайней мере, закрыть, только ведь ему надо где-то жить, а это был их с нею дом. Если б только Полл осталась! Только ведь он сам и настаивал, чтобы она не оставалась. Луиза попросила их обеих пожить в ее доме. Клэри хотелось поехать, Полл возражала. «Я останусь с тобой, папа», – сказала она. Только он сразу понял, что она этого не хотела, даром что снова и снова повторяла, что хочет. Кончилось тем, что он пригласил ее поужинать, чтобы поговорить с глазу на глаз. Ужинали в его клубе, потому как он считал, что лучшего места для разговора не найти, а немного еще и потому, что очень гордился дочерью и с радостью знакомил ее со своими знакомыми по клубу. «Право слово! – восклицали те. – Какая потрясающая дочка!» – и всякое такое. Она и была потрясающей. Волосы у нее были как у Сибил в пору их знакомства, блестящие, насыщенного цвета меди, тот же белый цвет лица и тот же ровный изогнутый рот с короткой верхней губой, зато высокий открытый лоб и темно-голубые глаза – чисто казалетовские, очень похожие на те, что у Рейчел, в свою очередь похожей на Дюши. Любопытно, подумал он, никто бы не сказал, что у Полл глаза Дюши, скорее ее тетки, зато наверняка любой отметил бы, что у Рейчел глаза похожи на материнские. А вот в отношении одежды Полли отличалась и от своей мамы, и от тетки: она ухитрялась опрятность обращать в очарование. На ужин она пришла прямо с работы в белом свитере и темной плиссированной юбке. У свитера был высокий круглый воротник, а рукава она подтянула чуть ниже локтя, чтоб на ее запястье был виден широкий серебряный браслет, подаренный им на прошлое Рождество. Выглядела она дивно. Села напротив него в большое кожаное кресло и, потягивая заказанный им для нее шерри, рассказывала про их с Клэри собеседование о вступлении во вспомогательные женские войска.
– Было так смешно, пап, все, о чем нас спрашивали, мы либо никогда не получали, вроде школьного аттестата, либо и не могли бы получить, вроде справки с последнего места работы. Когда Клэри сказала, что она писатель, они просто пропустили это мимо ушей. Но там была громадная очередь, и они сказали, что ВЖВ и без того уже укомплектованы почти полностью. От этого как-то легче стало, если честно. Я не хотела уходить от… ни от кого.
– Так, и что же дальше?
– Ну, Клэри говорит, что есть сотни скучных мест для работы. Уверяет, что Лондон попросту битком набит машбюро, так что, полагаю, мы окажемся в одном из них. Потом, если нам страшно повезет, нас попросят временно поработать секретарями, потому как штатные загриппуют или еще что-нибудь, ну а потом, в случае успеха, станем чьими-нибудь постоянными секретарями. – Последовала пауза, после которой она прибавила: – Арчи говорит, что мне надо попытаться попасть в художественную школу. Там есть вечерние классы. Я буду не постоянной учащейся, а только по вечерам ходить. Но я еще не решила, к тому же не знаю, нужно ли жить в определенном районе Лондона, чтоб тебя допустили.
– Мысль представляется здравой, – сказал он. И пожалел, что сам не додумался до этого.
– Это было бы всего два вечера в неделю, – сказала она. – Остальное время я была бы дома с тобой.
– Как раз об этом я хочу поговорить с тобой.
– Ой, пап! Мы уже говорили об этом.
– Да, но недостаточно. Я подумал и пришел к выводу, что на самом деле идея эта не годится. Тебе следует быть со сверстниками. Плюс к этому мне, возможно, придется проводить одну-две ночи в неделю в Саутгемптоне, так что меня в доме даже не будет, а мне и подумать неприятно, что ты в нем останешься совсем одна.
– Со мной все будет в порядке.
– Есть и еще одно, – на ходу придумывал он. – Я серьезно подумываю о том, чтобы закрыть дом. Для меня он слишком велик, а даже и для нас двоих. И если я стану на каждые выходные уезжать в Хоум-Плейс и на две ночи в Саутгемптон, то на самом деле было бы лишено смысла содержать дом.
– О! Но куда же ты денешься, пап, в те ночи, которые тебе надо будет проводить в Лондоне?
– Могу здесь остановиться. Или, может, маленькую квартирку сниму. Но, – продолжил он с отвагой хитреца, – если мне понадобилось бы еще и о тебе заботиться, то все стало бы сложнее. Ну ты понимаешь: квартира побольше… – Ему было видно, что он брал верх: ей открывалась возможность заниматься тем, чем, он знал, ей хотелось, не чувствуя себя при этом эгоисткой.
– Я вот о чем думаю, пап, – заговорила она, стараясь, чтобы слова ее звучали обдуманно и выверенно, – это тебе нужно чаще выбираться из дому. Побольше встречаться с твоими сверстниками, – чинно закончила она.
Суть последней фразы еще раньше внушалась (с большей или меньшей деликатностью) ему другими и в большинстве случаев сводилась к тому, что ему следует снова жениться, – такое вмешательство в его личную жизнь (того хуже, если прикрывалось оно общими рассуждениями) всегда вызывало в нем раздражение и негодование. Потом он глянул на дочь. В ней не было коварства… или, скорее, ее коварство скрывало радость от предстоявшей жизни вместе с Клэри и Луизой, которая была до того прозрачно скрытой, что сводилась к тому же самому. Она не о нем беспокоится, думал он с болью и облегчением, она лишь говорит то, что, по ее мнению, полагалось бы говорить взрослым.
– Я пошутила, – сказала она. – Однако нам такое говорят, и Клэри говорит, что иногда и нам следует так же высказываться для разнообразия. Но всерьез о том не думать, милый папа.
– Ладно, но однажды ты влюбишься и выйдешь замуж, Полл. И тебе обязательно надо общаться с людьми, чтобы выбрать подходящего.
Он заметил, как легкий румянец занялся у нее на челе. И сказал:
– Пойдем поужинаем.
Когда они спускались по небольшой лестнице в обеденный зал, она произнесла:
– По-моему, мои шансы выйти за кого-то замуж чрезвычайно малы. По-настоящему.
– Ты так думаешь? – отозвался он. – Ну, а я – нет.
На следующей неделе они с Клэри съехали, и без них дом, казалось, сделался невыразимо угрюмым, однако он был уверен: Сибил согласилась бы, что он поступил правильно. В какой-то мере принять такое решение было легче, а вот решить, закрывать ли дом, – гораздо труднее. Вероятно, это было бы разумно, однако любой другой вариант казался ему таким предприятием, да еще и таким неблагодарным, что он не был уверен: сможет ли он взяться за него. Оборвется еще одна связующая с нею ниточка, потому как он был вполне уверен: если сейчас он дом покинет, то после войны ему незачем будет в него возвращаться. Как часто повторял он мысленно эту фразу! Много лет то было целью, к какой стремились все: время, когда наступит новая жизнь, когда воссоединятся семьи, когда демократия настолько возобладает, что будут исправлены довоенные социальные несправедливости. Дети всех классов станут получать более полное образование, национальная служба здравоохранения станет печься о здоровье каждого, тысячи новых домов с подобающей системой водоснабжения и канализации будут построены, казалось, когда наконец-то наступит мир, сбудутся все желания и надежды. Вот только ныне у него (эгоистично – он первый признает это) пропал всякий вкус к этому: впереди ему не грезилось ничего, кроме растянувшейся на много лет жизни без нее, а без нее, он чувствовал, он ничто. С одной стороны, это ж чепуха, говорил он себе: у него есть работа, семья, трое его детей, кому больше, чем когда-либо, нужна его ответственная любовь, но почему-то над этим, вне или внутри этого царило ощущение бесполезности. Чувства ныне были во многом те же, что и тогда, когда он ждал конца той, своей, войны, стоившей ему здоровья и руки. А потом он встретил ее – и все переменилось. Былое ушло, тогда он обрел свое чудо, а потом все ждал (хотя, разумеется, в то время и не знал этого) той поразительной, чудесной возможности сделать так, чтобы она вошла в его жизнь. Ему невероятно повезло. Только он на самом деле обрел свою удачу. Оставшуюся жизнь ему следует… он обязан… посвятить тому, чтобы как можно больше сделать для своих детей, для бизнеса и для остального семейства. Как ни скучал он по Полли, все ж был уверен, что правильно сделал, что отпустил ее. Пожить с кузинами – очень хороший для нее шаг по пути к полной независимости, а Луизе на правах молодой замужней женщины обязательно придется принимать у себя друзей мужа, а значит, и знакомить Полли с большим число ее сверстников.
С Саймоном, который приедет из школы на Пасху, забот больше. Саймон всегда больше тянулся к Сибил, во многом так же, как Полли – к нему. После смерти жены он предпринимал попытки сблизиться, но лишь убедился, что они подтвердили, как мало он знал своего сына и как трудно окажется исправить эту неосведомленность. Саймон сводил на нет все его попытки тем, что соглашался со всем, что он говорил, тем, что с каким-то ужасным послушанием встречал каждое предложение сделать или устроить что-либо вместе, тем, что своей отрешенной вежливостью, казалось, лишь подчеркивал отсутствие близости между ними. «Надеюсь, так и есть», – говорил он или: «Я не против». В этом году его должны призвать, поскольку в сентябре ему исполнится восемнадцать, и, когда Хью спросил, какой род войск выбрал бы для себя Саймон, тот просто ответил:
– Разницы ведь на самом деле никакой, верно? Я говорю, все едино: обучаться тому, как убивать людей, и всякому такому.
– А чем бы тебе хотелось заняться уже после войны? – настаивал Хью.
– Не знаю. Солтер, мой приятель, собирается стать врачом, и я тоже, по-моему, вполне мог бы захотеть им стать. Если только он не откроет ресторан, это у него тоже на уме. Он очень интересуется едой, ее приготовлением и всяким таким. Еще он знает абсолютно все про Моцарта. Так что, может, напишет о нем книжку-другую. Он вообще чем угодно может заняться.
– Судя по твоим словам, он интересный.
– Он такой, но, думаю, тебе он не очень понравился бы. Он верит в социализм, а еще он жутко заикается, один раз у него приступ был, а Матрона подумала, что он притворяется, как она сама, и он мог бы умереть. – Помолчав, Саймон добавил: – Его в армию не призовут из-за них – приступов, я имею в виду, – но меня, конечно же, призовут, так что нет никакой пользы нам строить планы вместе. Только я все равно думаю, пап, могу ли позвать его побыть недельку у нас в Лондоне, потому как он живет в Дорсете, а ему много чего хочется сделать в Лондоне, скажем, на концерт сходить и прочее. Он не станет говорить о политике – он знает, что ты политически неразвит, но он это вполне понимает, потому что его семья тоже такая же. Он говорит, что это столько же связано с поколением, сколько и с классом.
Он тогда сказал, что Саймон, разумеется, может пригласить своего друга на сколько захочет. Его до того обрадовало, что у Саймона есть друг (прежде речь не заходила ни о ком) и что есть что-то, что сыну нужно, а он, Хью, мог бы ему дать, и – самое главное – что лед сломан, что он несколько дней ощущал легкость в общении с сыном. Однако после такой вспышки разговорчивости Саймон вернулся к тому, что вежливо отправлял в аут любую попытку Хью завести с ним разговор.
В отношениях с Уиллсом тоже не все было ладно, но по-иному. Он просто не виделся с ним: пара вечеров в неделю – не так-то много, и, хотя он всячески старался поиграть с ним на выходных, Уиллс все время больше тянулся к женщинам – к Эллен, разумеется, к Вилли с Рейчел и Полли, когда та приезжала. Бриг наводил на мальчика ужас: однажды он изобразил льва… и последствия оказались погибельными. Ему было уже почти шесть – маленький довольно избалованный тиран. В том возрасте, в каком сейчас Уиллс, и младше дети всегда были на попечении Сибил, его время наступало позже, когда им исполнялось по семь-восемь лет, хотя с самого начала у него сложились особые отношения с Полл. Вилли готова была для Уиллса в лепешку расшибиться. Именно она учила его читать, брала к себе, когда у Эллен были выходные дни, она стригла ему волосы, покупала или подшивала одежду. Вот только когда он думал о Вилли, то неизбежно переходил на Эдварда. Хью всегда смутно подозревал, что Эдвард, как он это для себя называл, ходит на сторону, однако размах и степень его связи с Дианой Макинтош ошарашили его, когда он прознал об этом, что, разумеется, постепенно и произошло. Он почти, как ему казалось, убедил Эдварда бросить ее ради Вилли, однако Эдвард отступился, а затем последовал страшный удар: у него от нее ребенок. После такого он не знал, что сказать брату. Ему нестерпимо было знать про Диану из-за признательности и любви, какие он питал к Вилли. Ей он никогда не рассказал бы, о чем знал, однако знать и не рассказать – такое вызывало в нем ощущение бесчестности в отношениях с ней, что выглядело низменной отплатой за ее доброту к его сыну. Он понимал: Вилли будет полностью опустошена, если узнает, – и не гарантировал, что Эдвард не окажется настолько беспечен, что его измена не обнаружится. Когда он пробовал поговорить об этом с Эдвардом, то напряжение доходило до того, что, он понимал, могло разрешиться лишь еще одной бесполезной ссорой: голубые глаза Эдварда стекленели мраморными шариками, голос его делался холоден, и, дрожа от гнева, он просил Хью не лезть не в свое дело. Раз-другой попытавшись образумить Эдварда с более или менее тем же результатом, он дальнейшие попытки прекратил, однако неразрешенная коллизия сказывалась на всем, что их связывало, делая невозможной былую легкость близости, какой ныне ему не хватало больше всего. Он даже подумывал порой: а не пришли бы они с Эдвардом к какому-нибудь более приемлемому соглашению по новому причалу, если бы их отношения вообще были бы получше.
Он ехал в контору, день едва начался, а его уже усталость давила. «Все мы устали, старина, – заметил ему вчера в клубе его приятель Бобби Бичэм. – Если Адольфу понадобится начать еще один блицкриг на Лондон, по-моему, положение могло бы стать по-настоящему запутанным. Средний человек уже натерпелся под завязку. Все вокруг мрачно или ужасно. Слишком уж долго все это тянется. Нам «второй фронт» нужен тютелька в тютельку так же, как и русским. Прикончить гадов начисто, пока силы остались, вот что я скажу». Потом он пригласил Хью заглянуть с ним в «Мешок гвоздей»[45]: «Вреда не будет побыть немного в женской компании. Отвлечься мысленно от всяких дел». Но он не пошел. Дело не в каких-либо моральных обязательствах, говорил он себе, просто нет у него ни малейшего желания укладываться в постель невесть с кем, какой бы она ни была привлекательной. Ему крайне легко было представить себя самого, лишенного всякого возбуждения, кого какая-то девчушка втягивает в разговор о нем самом. Даже фраза «моя жена умерла» способна распахнуть шлюзы и заставить его захлебнуться отвращением к себе. Ничто не заставит его говорить о Сибил с совершенно чужим человеком.
* * *
– Дорогая, если ты хочешь сказать, что хочешь, чтобы Тельма тоже поехала, то я это вполне понимаю.
– Нет-нет, я не это имела в виду. – От мысли такой на нее ужасом пахнуло. – Я только хотела сказать, что время слегка неудобное, потому как я обещала свозить ее на несколько дней в Стратфорд, и она устроила так, чтобы ее отпуск совпал с моим.
– Беда в том, что на следующей неделе я не могу, потому как у Эллен выходной и мне на самом деле понадобится быть дома.
– Да я понимаю. Просто жаль, что ты не смогла сказать об этом пораньше. – Потом, не дожидаясь, пока Рейчел примется объяснять, почему она не смогла, Сид выговорила: – Я уверена, Тельма сможет как-то изменить время своего отпуска. Я поговорю с ней.
– Да, поговори, только имей в виду, что я отлично пойму, если она не сможет, и тогда мы могли бы поехать все втроем, что, возможно, было бы проще всего.
«Ну, нет, не было бы, – подумала Сид, вешая трубку. – Никак не было бы».
Тельма с Рейчел уже встречались, но то было почти год назад, когда все обстояло весьма по-другому, когда Тельма была всего лишь протеже, располагавшая всем необходимым для получения места: молодая, без гроша, без друзей и вполне талантлива. В Ковентри она приехала в надежде попасть в Академию (скрипка и фортепиано как второй инструмент), но эту мысль пришлось отставить, когда ее вдова-мать погибла во время сильного воздушного налета на город. Дом с террасами, в котором они жили, был обращен в кучу щебня. Квартира была съемной, а небольшая пенсия, позволявшая ее матери и выживать, и дочери помогать, погибла вместе с ней. Состояние зрения не позволяло ей быть призванной, а единственную иную возможность прожить давали только нудные работы в домах. Вскоре после их знакомства с Сид станция скорой помощи устраивала концерт, и Сид спросила, не сможет ли Тельма аккомпанировать ей на фортепиано. Тогда-то и выяснилось, что у Тельмы не было доступа к инструменту, и Сид предложила ей ключи от дома, чтобы девушка могла поупражняться. Начать с того, что Тельма скрупулезно приходила только тогда, когда Сид была на дежурстве, оказалась она добросовестна и в другом. Первое, что увидела Сид, вернувшись домой, – это чистая гостиная, поднос с посудой от вчерашнего ужина убран, пыль всюду вытерта, даже запачканное стекло двери в садик позади дома отчищено, а еще (и это тронуло ее больше всего) букетик довольно заплесневелых астр, срезанных в садике, стоял в вазе на каминной полке. Когда на следующий день Сид, встретив Тельму в столовой, поблагодарила ее, та воскликнула: «О! А я потом боялась, что вы недовольны будете… подумаете, что это нагло с моей стороны, – и залилась краской. – Просто я не знала, как мне отблагодарить вас», – выговорила она наконец. Когда начались репетиции концерта, для Тельмы уже стало обыкновением уделять внимание разного рода домашним мелочам: она отчистила старую газовую плиту так, что горелки зажигались как следует, не пожалела сил и терпения, чтобы удалить из коврочистки пучки волос, так что та вновь стала пригодна для чистки ковров, достала прокладку для крана горячей воды в ванной, и тот перестал подтекать, а еще заявила, что очень любит гладить. А ведь приятно, убедилась Сид, когда что-то для тебя делают люди, кто не только убеждает, что им работа нравится, но еще и преисполнены признательности, что им ее позволяют делать. «До чего ж славно попасть в настоящий дом, – не уставала повторять Тельма. – И я еще никогда не притрагивалась к фортепиано и вполовину такому хорошему, как это».
Когда приезжала Рейчел, что случалось нечасто, девушка убиралась в свободной комнате и, похоже, превосходно понимала, что Сид хотела бы побыть в доме без посторонних, пока в нем находится ее подруга. Рейчел всегда расспрашивала о ней и всей душой одобряла Сид за уроки, которые она ей давала, и за дружеское к ней расположение. Потом однажды, восхитившись, какой чистой стала кухня (они сидели там, приканчивая миску восхитительного овощного супа, сваренного Тельмой), она спросила:
– И сколько ты ей платишь за всю эту работу?
– Я не плачу.
– Вообще ничего?
– Как сказать, раз в неделю у нее бесплатный урок, и у нее ключи от дома, так что может приходить и упражняться, когда ей угодно. – Короткое молчание. Рейчел доставала сигарету из красивого портсигара с рисунком эмалью, подаренного ей Эдвардом. Она передала портсигар Сид, а затем перегнулась через стол к зажигалке Сид, и Сид уловила легкий аромат фиалок от духов, какими Рейчел пользовалась только в особых случаях. – По-твоему, следовало бы платить?
– Знаешь, полагаю, для нее было бы весьма хорошо немного подзаработать. Ты говорила, что она едва сводит концы с концами.
– Ты совершенно права, конечно. Мне стоило бы об этом подумать. Все это как-то неспешно получилось, и я не подумала. Дорогая! Что бы я без тебя делала!
И Рейчел сказала, улыбнувшись:
– А кто ж тебя неволит.
– Я сама. Чаще всего и впрямь сама. – Вырвалось это с большей горечью, нежели она намеревалась, говоря правду, она вообще не собиралась этого говорить.
– Я каждый день думаю о тебе, – выговорила Рейчел своим на первый взгляд обычным, но слегка нетвердым голосом, выдававшим глубокое чувство, и Сид охватила радость: словно бы ей сердце солнечным светом омыло, – которую неизменно вызывали такие признания, делавшиеся не всякий раз, когда они встречались.
Однако позже, на следующей неделе, когда она сунула Тельме в руку бумажки в фунт и десять шиллингов, результат оказался совсем не тот, какого она ожидала.
– Это за что?
Она объяснила: за всю ее работу.
– Мне не нужно этого!
Она объяснила: не может и дальше позволять ей делать всю домашнюю работу за так.
– Я думала, я вам друг! Как вы могли! – Она глянула на Сид с уязвленным видом. – Я думала, что вы… что я вам нравлюсь!
Сид начала было говорить, что, конечно, она ей нравится, но только это никак не связано.
– Для меня связано. – Тельма положила банкноты на кухонный стол. – Я не хочу, чтоб со мной обращались как с прислугой!
Сид обняла ее рукой за плечи, и девушка разразилась слезами.
– Вы всю мою жизнь изменили, я же не могу одарить вас ничем, а я бы для вас все сделала, и я думала, что вы про это знаете, вы такой замечательный музыкант, естественно, вам некогда обо всем этом думать, вот… Я думала, по крайности…
Сид сказала, что виновата (она и в самом деле так считала), и пригласила Тельму поужинать, сказав, что поведет ее куда-нибудь, но в конце концов никуда они не пошли, потому как она отвела Тельму наверх, дала ей джина и в первый раз спросила, как та живет, а к тому времени, когда Тельма завершила свой рассказ, было уже поздно, и они допили джин. В конце концов приготовили на кухне омлет из яичного порошка, выпили немного сидра, а потом и по чашке чая. Тогда было уже настолько поздно, что Сид предложила Тельме остаться на ночь. Одолжила ей пижаму и поместила ее, вновь радостную и слегка пьяненькую, в свободной комнате.
В ту ночь она задумалась о незавидном положении бедной девочки: та явно совсем не оправилась после смерти матери, которая так внезапно унесла все, что она знала и имела, – о ее одиночестве: похоже, в Лондоне у нее не было ни единого друга, – и, наконец, о поразительной привязанности Тельмы к ней самой. Это последнее, хотя она и пыталась отделаться от него как от смятения школьницы с чуть более повышенной чувствительностью, все же трогало ее. Когда тебя замечают и обожают, особенно как музыканта, – это своего рода бальзам, унимающий часть боли и одиночества, что мучили ее из-за любви к Рейчел, которой никогда не обрести завершения. Ее защитные инстинкты были разбужены, а Рейчел слишком редко оказывалась рядом, чтобы ее защищать. Эта же девочка благодарно отвечает на любую заботу или ласку. Ее юность, она тоже притягательна: хотя она и не была (как Сид определяла для себя) в обычном смысле красива, было что-то довольно соблазнительное в ее жгучих карих глазах с большими черными зрачками, смотревших на тебя с таким пылом. Она носила очки, когда играла по нотам, и Сид подозревала, что в остальное время она не очень-то и хорошо видит без них. Прямые темно-каштановые волосы Тельма носила разделенными на прямой пробор и все время смахивала прядки со своего лица. Была она бледной, за исключением случаев, когда краснела, что случалось частенько, и всякий раз так, будто это для нее нечто новое и смущающее. Низенькая и худенькая, она обладала высоким чистым голосом, который, если не видеть ее (на ум пришел телефон), можно было ошибочно принять за детский.
И не было ничего, чего бы эта девочка не сделала для нее! Проходили недели, и дом, который, как она понимала, понемногу становился от небрежения довольно убогим, преобразился. Шторы были сняты и выстираны или отданы в чистку. Мебель отполирована, краска отмыта, кухонные шкафчики приведены в идеальный порядок, ковры выбиты на заднем дворе, даже ее одежда и потрепанные нотные тетради аккуратно подправлены, а еда, ставшая для нее в одиночестве минимальной – сэндвич или открытая баночка консервов, – сделалась цивилизованной. Теперь три вечера в неделю Тельма кухарничала и оставалась ужинать, после чего они вместе разыгрывали сонаты для скрипки и фортепиано, и очень часто Тельма оставалась ночевать. Она рано распознала, что у Тельмы нет способностей концертной пианистки, зато она становилась великолепным аккомпаниатором и продолжала неуклонно, пусть и без блеска, совершенствоваться в игре на скрипке. Когда напряженность в работе «скорой помощи» пошла на убыль, Сид вернулась к преподаванию по два дня в неделю в школе-интернате для девочек в Суррее. Это потребовало отъездов на всю ночь, и для Тельмы сделалось обычным оставаться в доме, когда хозяйка уезжала.
Потом, это было в прошлом сентябре, они с Рейчел давно запланировали три дня отдыха в Эксмуре, и в четверг, накануне того, как Рейчел должна была присоединиться к Сид в Лондоне, она позвонила ей, чтобы сообщить, что у Брига бронхит и она не может его оставить. «Врач говорит, это легко может перейти в пневмонию, если он не будет оставаться в постели и выполнять в точности то, что ему предписано, а я боюсь, что я единственный человек, кто может убедить его».
Шок, огорчение от невозможности провести отпуск вместе с Рейчел, о чем она мечтала много недель, были так велики, что на мгновение она потеряла дар речи – не в силах была ответить.
– Дорогая, ты еще там?
– Это же всего на три дня! Наверняка в доме достаточно людей, чтобы ухаживать за ним три дня?
– Даже ты не могла бы огорчиться больше меня.
Но даже зная, что эти слова искренни, что Рейчел и в самом деле огорчена, сейчас Сид не смягчилась, как то часто ей удавалось в прошлом. Ей хотелось, разъярившись, заорать: «Э-э, нет, могла бы! Я могу! Тебе и не понять, как я огорчена… Тебе просто этого не понять!» Сказала же она другое:
– Но мы ведь забронировали номера и все остальное.
– Что поделать, я должна заплатить за это, разумеется.
Последовала пауза, а потом она услышала свои собственные слова:
– Не беспокойся.
– Дорогая, я слышу, что ты сердишься, и я так сожалею. Тут ничего не поделаешь.
Когда она повесила трубку, то заметила, что плачет. Казалось, никогда в жизни она так не огорчалась. Неожиданно для себя она попыталась найти нечто равное, поскольку в памяти всплыли события, вызывавшие в ней сходные чувства: когда Эви схватила ее любимую тряпичную куклу и сунула в кухонную печь; когда мать в конце концов сказала ей, что обещанных ею денег на уроки игры на скрипке нет; когда она не смогла получить свое первое место работы преподавателем, которое, казалось, было ей обеспечено; когда она копила и копила деньги, чтобы послушать Губермана[46], но заболела свинкой, а на концерт поехала Эми… – но ничто из этого, похоже, не шло ни в какое сравнение с тем, что творилось в ее душе сейчас. Никогда ей не быть у Рейчел на первом месте. Никогда не быть тому, чтобы она принадлежала ей и только ей. Даже эти жалкие, дозированные маленькие оазисы, до которых она с трудом добиралась неделями, могли обратиться – по мановению Рейчел – в миражи…
Зазвонил телефон.
– Дорогая! Я говорила с Дюши. Она говорит, почему бы тебе не приехать сюда погостить три дня?
Такое предложение, казалось, высветило, как ничто прежде, безнадежную пропасть между ними: годы страстных желаний и отчаяния, стремления сохранить все удобства в жизни Рейчел сплелись в один нерасторжимый клубок где-то у нее в глотке: она ощутила тошноту.
– Думаю, я все же поеду, мне в самом деле необходимо развеяться на свежем воздухе и поупражняться. Поблагодари, сделай милость, Дюши за ее приглашение. – Ее тошнило от гнева. – Я могла бы и Тельму взять с собой, – прибавила она.
– О, а вот это – отличная мысль! В компании тебе будет гораздо приятнее. Надеюсь, ты славно отдохнешь, дорогая. Непременно позвони, как только вернешься.
И она взяла с собой Тельму. И на отдых отправилась, главным образом, дабы показать Рейчел, что не станет всякий раз расстраивать свою жизнь из-за ее родителей и ее понимания своего долга по отношению к ним. «А ведь когда-то, – думала она теперь, – я была бы так признательна Дюши за приглашение, притащилась бы, исполненная благодарности даже за те несколько минут вместе с Рейчел, когда той удавалось их урвать. И когда-то я и мечтать не смела о том, чтобы исполнить то, что мною самою задумывалось для нас с нею. Когда-то я была бы весьма опечалена, но не испытывала бы гнева. И уж наверняка ни на миг не задумалась бы о том, чтобы взять с собой на отдых девушку, которая больше чем на двадцать лет моложе меня самой. В особенности, зная, что та влюблена в меня». Ведь как раз на отдыхе Тельма и заявила о своей любви таким образом, что Сид не могла больше притворяться перед собой, будто этой любви не существует. Она списывала ее на то, что девочки-школьницы именуют «страстью», или на признательность за помощь и поддержку от той, кому такого явно недостает. Упоительным сентябрьским днем они сидели в окружении вереска… и шаг был сделан. Она так давно изголодалась по такому, что чудом казалось такое же желание в девушке молодой, почти девочке, чья невинность была лишь под стать ее страсти.
В те три дня все казалось очень простым: они брали сэндвичи в гостевом доме, где были единственными обитателями, и, вооружившись картой, шагали все утро, находили укромное местечко среди скал и вереска, к которому не вела ни единая тропка, и, поев, укладывались вместе на упругий дерн. Ни разу никто их не побеспокоил. Вечерами после знатного раннего ужина – хозяева гостевого домика владели еще и фермой, а потому имелись такие деликатесы, как яйца и цыплята, домашняя грудинка и пироги с ежевикой – они играли в «безик», и Сид учила Тельму играть в шахматы, в которых та неожиданно весьма преуспела. Спать отправлялись рано, и Сид лежала в постели, поджидая Тельму, которая проскальзывала к ней в номер в халатике, под которым больше ничего из одежды не было. В те три дня ей было легко принимать все, что с такой готовностью предлагалось, наделять Тельму тем вниманием, какого она жаждала, и наслаждаться этим молодым, гладким белым телом, отданным ей целиком и полностью. «Я вас просто обожаю, – шептала Тельма, лежа в объятиях Сид. – Я такая счастливая… просто быть наедине с вами это уже прекрасно». Вначале было легко путать страсть с любовью. Начать с того, что она, сама того не сознавая, попросту радовалась, что вся ее горечь по Рейчел как-то растаяла, что смогла с сожалением увидеть ее угодившей в капкан долга, какого ждут от незамужней дочери родители, приверженные викторианской этике. Она понимала, что Рейчел должна быть отчаянно расстроена, что и она тоже с надеждой ждала редких прорывов в обстоятельствах, какие время от времени позволяли ей побыть с той, «кого она предпочла бы любому человеку на свете». «Даже ты не могла бы огорчиться больше меня», – припомнила теперь Сид. Это было в последнее утро отдыха с Тельмой, им надо было попасть на дневной поезд, а Тельма захотела повторить прогулку, которую они вместе проделали в первое утро. Сид убеждала, что может не хватить времени: тогда, чтобы добраться до места, понадобилось почти три часа, – у них просто не будет возможности вовремя вернуться, чтобы успеть на поезд в два тридцать восемь. Тельма приняла это за нежелание Сид сходить на то место. Последовал короткий бесплодный спор, ничего не решивший. «Почему это вас так особенно потянуло вернуться туда?» – спросила тогда Сид.
Тельма, пристально разглядывавшая что-то в окне, вдруг резко отвернулась от него. «Потому что… ведь это там я узнала, что вы любите меня! – сказала она. – Там вы признались, что любите меня». Она начала краснеть, но не сводила с лица Сид своих жгучих близоруких глаз.
Сид уже рот было открыла, чтобы сказать, что никогда не говорила, что любит ее… и не сказала, не смогла сказать ничего. То была правда, но было бы горько и безжалостно высказать ее. Реальность в первый раз дала ей встряску.
– Мне искренне жаль, что нет времени сходить туда. – Выговорить это она смогла.
В поезде на обратном пути, пока Тельма спала напротив нее в пустом купе, она начала ощущать первые признаки мучительного беспокойства… и вины. Тельму она не любила: любила она Рейчел. И повела себя отвратительно безответственно по отношению к той, кто была гораздо моложе и уязвимее. Их отношения никак не могли продолжаться таким образом. Она должна как-то объяснить этой девочке, что поддалась безумию, негодному для них обеих. Они могли бы оставаться друзьями, вернуться к тому положению, в каком пребывали до отдыха, только ничего, связанного с постелью, больше быть не могло. Тогда, в поезде, где рядом спала Тельма, это казалось совершенно возможным выходом. Она была неверна Рейчел, и с этим ей придется жить. Конечно же, она и дальше будет заботиться о Тельме, учить ее, играть с ней, брать ее на концерты, но не позволит ей тешить себя никакими мыслями о дальнейшей любовной связи между ними…
Ныне, спустя год, она, мучаясь над дилеммой, то ли пропустить несколько дней с Рейчел, то ли Тельму подвести, дивилась, до чего же была непозволительно наивна. Намерения, затрагивающие других, далеко не просты, они лишь кажутся такими, когда человек задумывает что-то сам по себе, но стоит только на сцене появиться другим главным героям, как простейшие побуждения извращаются конфликтом. Ей вовсе не удалось уладить свои отношения с Тельмой, хотя она, несомненно, пыталась. Только Тельма выказала какую-то упругую сопротивляемость, принимая все, что говорила Сид, или скорее встраиваясь в любую придуманную той схему, а после обращая ее к своей собственной выгоде. Так, когда Сид произнесла свои реплики о прекращении любовной связи, начав с не совсем честной причины, что ее продолжение повредит Тельме, девушка приняла это, разразившись плачем, но потом опять пришла к Сид со словами, мол, ей все равно, что с нею будет, лишь бы они по-прежнему могли быть вместе. Когда Сид в сильном смятении попыталась объяснить, что на самом деле не любит ее и не может уживаться с неравенством их чувств, Тельма (в очередной раз разразившись плачем) согласилась, что так было бы неправильно. Но потом вернулась, сообщив, что, как она выразилась, по зрелом размышлении (ох уж эти убийственные ее зрелые размышления!), ей а) неважно, любит ли Сид ее так же, как она любит Сид, и б) по ее мнению, Сид должна любить ее больше, чем она, Сид, осознает, коль скоро так сильно печется о ее чувствах. Она сделает в точности все, чего бы Сид ни понадобилось, твердила она, а положение как было, так и оставалось болезненным компромиссом или скорее более или менее таким, каким устраивало Тельму, думала теперь Сид. Она приходила и раз в неделю оставалась на ночь, когда порой они ложились в постель. Она по-прежнему прибиралась в доме, вникала во все хозяйственные нужды, упражнялась в игре на фортепиано, училась играть на скрипке и разыгрывала сонаты с Сид. Однажды Сид попыталась избавиться от нее, заявив, что всему этому надо полностью положить конец. Это случилось тогда, когда Тельма спросила: не любит ли она кого-то еще, «вашу подругу Рейчел Казалет, например»? – и Сид солгала. Инстинкт подсказал: рассказывать Тельме хоть что-то об этом было бы в самом деле опасно, однако ложь ослабила ее позиции. Она разделяла их, хотя и чувствовала, как настойчиво любопытство Тельмы в отношении Рейчел. Это означало, что приезд Рейчел становился делом рискованным: она уже не могла полностью положиться на то, что Тельма будет держаться в сторонке, с тех пор, как та однажды заявилась, когда Рейчел была в доме, и величайшей удачей было, что Сид увидела ее входящей в калитку палисадника. Было утро, и Рейчел принимала ванну. Сид поспешила вниз по лестнице и встретила Тельму у входной двери.
«Я бы не пришла, раз уж вы мне не велели, только я свой кошелек оставила со всеми деньгами в кухне на полке. Я мигом сбегаю вниз и возьму его. – Потом, заметив недовольство Сид, добавила: – Я, честное слово, не побеспокоила бы вас, только мне не протянуть бы целых три дня совсем без денег».
Когда она ушла, у Сид мелькнула мысль, что Тельма оставила кошелек нарочно, – мысль низменная, но не невероятная.
Нет – не получилось и, похоже, никак не предвидится никакого легкого выхода. Скорее, сложившееся положение зажило своей жизнью, и единственный способ, каким она могла остановить ее развитие, было сказать Тельме, чтобы она попросту уходила и никогда больше не возвращалась. Что помешало ей поступить так? Да то, что всякий раз, когда эта мысль приходила ей в голову, на нее набрасывались все виды возражений, и если с каким-нибудь одним из них у нее хватало сил разобраться, то вместе они составляли непреодолимое препятствие. Во-первых, в том, что все вообще началось, вина была прежде всего ее: стоило ей только устоять против прелестей Тельмы, сохранить свою верность Рейчел, и все оказалось бы куда более поддающимся решению: ученица с любовным заскоком – с таким ей уже доводилось успешно справляться. Потом она не могла не ставить себя на место Тельмы. Понимала, что за чувство вызывает в тебе неразделенная любовь; понимала – лучше многих – мучительное разочарование, когда та оказывалась безответной. А главное, она понимала, что неким ужасным образом тут замешано ее тщеславие: то, что тебя так холят, что ты так нужна, это одновременно и утешало, и ободряло. Годы, проведенные ею со своей сестрой Эви, напрочь отмели людей, которые могли бы стать друзьями, до появления Тельмы она свыклась с тем, что жизнь должна проходить в одиночестве, если не считать работы, теперь же она размякла – мысль о возвращении в дом ночь за ночью пустой, об утрате неоценимого удовольствия исполнять музыку с кем-то, с кем можно поговорить о чем угодно, от Шумана до мелочей повседневности… Было ново и соблазнительно ощущать на себе заботу в том, с каким усердием проявляла заботу Тельма.
Тем не менее, думала она сейчас, она будет беспощадна: не возьмет Тельму в Стратфорд, она поедет с Рейчел и просто скажет, что Рейчел понадобился отдых. В этом она будет тверда и решения своего не изменит, когда Тельма (а такое, она знала, случится) зальется слезами. Если она позволит Тельме вмешаться в драгоценное для себя время с Рейчел, для нее открытым останется лишь один путь: Тельме придется уйти. Возможность даже такой доли правды в том, что она неловко признавала ситуацию бесчестной, и будоражила, и воодушевляла. Она решила позвонить Рейчел и сказать ей, что с Тельмой у нее все улажено, а потом, вечером, с той и договориться… и тут же мысль: «О боже, это ж еще одна ложь. Я ничего не улажу с Тельмой». Обман, подумалось, становится ее второй натурой.
* * *
Арчи прибыл, как его и просили, в половине восьмого, что было вполне удачно, если учесть, насколько редко могут ходить автобусы по воскресеньям. Прогулка от остановки автобуса 53 на Абби-роуд утомила его: уже давно с ногой у него лучше не становилось. Справившись с расхлябанной калиткой, он, хромая, пошел по дорожке, обсаженной древними цветами ирисов. Входная дверь была вполовину стеклянной, и, хотя стекло было матовым, а потому ничего из происходившего внутри видно не было, дом был полон звуков. Играло фортепиано – исключительно хорошо, вероятно граммофонная пластинка, подумал он, – плакал ребенок, звук воды, сбегающей из ванны по большой сливной трубе сбоку от входной двери, голоса, чей-то смех – звуков было так много, что он не был уверен, что звонок, кнопку которого он нажал, звонил. Имелся дверной молоток, он им и воспользовался.
– Арчи! Ой, здорово! – То была Клэри. – А вы как есть пунктуальны, – прибавила она так, словно бы ему таким быть не следовало. Как обычно, она небрежно, походя обняла его.
– Кто играет на рояле?
– Питер Роуз, брат подруги Луизы, Стеллы.
В дальнем углу прихожей на ступеньках сидела Луиза. На ней был соблазнительный домашний халатик из какой-то полосатой материи. Волосы струились у нее по спине, ноги были босы. Она приветствовала Арчи воздушным поцелуем.
– Вы похожи на героиню оперы, – сказал он.
– Сижу здесь, чтобы Питера послушать, – объяснила она. – Если мы войдем, он перестанет.
Над лесенкой из подвала появилась головка девушки.
– Где консервный нож?
– Ни малейшего представления.
– Ой! – воскликнула Клэри. – Я им окошко в уборной заложила, чтоб не закрывалось.
– Как, в этой? – девушка указала на дверь напротив.
– Нет, наверху. А Полл ванну принимает.
– Ну и что, можешь прервать ее, Клэри. Придется, если тебе ужин нужен.
Луиза спросила:
– Пирс тебе помогает?
– Как сказать, он при мне. Не то чтобы помогает. По-моему, он последний из мужчин, с кем я согласилась бы оказаться на необитаемом острове.
– Ты не права. В разговорах я замечателен, и ты удивишься, как быстро тебе станет этого не хватать. – На лесенке за спиной Стеллы возвысилась фигура молодого человека.
– Это Арчи, – представила Клэри. – Пирс. Стелла.
Пирс обратил к нему усталую улыбку и сказал:
– Предупреждаю: в этом доме есть нечего, кроме пробковых матов.
Клэри потопала наверх на поиски консервного ножа. Арчи огляделся в поисках стула. Нога у него болела. Луиза похлопала ладошкой по лестнице рядом с собой:
– Идите садитесь сюда, Арчи.
– Нет. Мне оттуда никогда не встать. Так к месту и прирасту. Когда продадите этот дом, я пойду вместе с ним.
– Твой малыш плачет, – заметил Пирс, перегибаясь через перила и гладя Луизу по волосам.
– У него зубки режутся, Мэри говорит. Но я лучше пойду посмотрю, что она с ним делает.
– Материнская любовь. Ну не поразительно ли? Если бы мне пришлось выбирать самую отстойную вещь в доме, я бы очень затруднился выбрать между Себастианом и теми жуткими обезьянами из мыльного камня.
– Скульптурка еще Луизиной бабушке принадлежала, – сказала Стелла.
Арчи отыскал стул с шестью пальто на нем. Сложил пальто на пол, сел. Фортепиано умолкло.
Вновь появилась Клэри, с консервным ножом, и отдала его Стелле, которая спросила:
– На самом деле осталась всего одна банка говяжьей солонины?
– По-моему, да, потому как другую мы пустили на сэндвичи для Хампстед-Хит[47]. Мы вчера на пикник ездили, – обратилась Клэри к Арчи, – и отправились в Долину здоровья. Похоже на миленькую деревушку, которая неожиданно предстает перед тобой. Пирс знаком с художником, который там живет, только его не было.
– Все равно было здорово, – сказал Пирс. – Мы всю дорогу пели. Чем-то смахивающим на речитатив Генделя обращались с нелестными замечаниями к другим пешеходам.
– А еще пели веселенькие хоровые припевки. Впрочем, никто не догадался, что про них пелось, – добавила Клэри.
– А вам хотелось, чтоб догадались? – поинтересовался Арчи.
– Ну, понимаете, было бы забавно, если бы они малость из себя выходили, возмущались бы, что ли.
Вновь пришла Луиза, неся на плече своего малыша.
– Мэри нужно поужинать, вот я и сказала, что пусть он со мной побудет.
– Гости дорогие, давайте пройдем в гостиную, – предложил Пирс. – Лестницы для разговоров не годятся, если вас больше двух.
– Кто будет готовку ужина заканчивать? – требовательно спросила Клэри. – Вообще-то, это твое дело, Луиза, тебе в этом равных нет.
– Я ничуть не лучше Стеллы, мы с ней одному и тому же учились. И в любом случае у меня Себастиан. Я всю картошку почистила.
– Отлично, – сказала Стелла. – Мы с Клэри довершим остальное. Только напомните, на что мы нацеливаемся.
– Ты жаришь лук, мнешь картошку, а потом мешаешь пюре с консервами.
– Одна-то банка на семерых? Скудновато как-то.
– Я привез банку персиков, – сообщил Пирс. – Прямо из солнечного Блетчли.
– Что привез, то привез. Только персики к пюре с тушенкой не годятся. Придется им сойти за пудинг.
– Полли сделала свой пудинг из консервированного молока.
– Боже! От одних слов этих тошнит.
– Ничуть и не тошнит. Такой взбитый мусс. И не скажешь, что молоко из банки.
В гостиной было пусто, если не считать молодого человека за роялем. Он вскочил, когда они вошли, и Арчи увидел, что на нем форма Королевских ВВС.
– Рядовой ВВС Роуз, – представила Луиза. – А это Арчи Лестрэйндж, Пирса вы, конечно, знаете.
Малыш, который давно уже недвижимо и так безучастно разглядывал Арчи, что тому неловко становилось, вдруг передернулся и принялся плакать.
– Дайте его мне, – попросил Питер, протягивая руки, его довольно тяжелое и изможденное лицо преобразила ласковая улыбка. Он вернулся с малышом к роялю, усадил его на колено, придерживая руками, и принялся наигрывать песенку «Бе-бе, черная овечка, не дашь ли ты нам шерсти». Себастиан перестал плакать.
– Сыграй лучше вариации, Питер, – попросила Луиза из другого конца комнаты.
Арчи сел на жесткую маленькую кушетку подумал про себя, предложит ли кто ему выпить. Клэри со Стеллой удалились на кухню, а Пирс повел Луизу, минуя стеклянную дверь и ступеньки, в сад.
Потом появилась Полли, ее отливающие медью, только что помытые волосы сияли. На ней была темная плиссированная юбка, а поверх нее свободный свитер цвета морских колокольчиков, делившийся своей синевой с ее глазами.
– Прошу прощения, что так долго. Пришлось ждать, пока искупают Себастиана, а потом ненадолго горячей воды не было. Никто не дал вам выпить, я схожу посмотрю, есть ли что, и скажу вам. – Она прошла через двойные двери, ведущие в столовую. – Есть немного джина, но, похоже, нет ничего, чем бы его разбавить.
– Вода прекрасно подойдет.
Она вернулась со стаканом для чистки зубов и бутылкой джина.
– Наливайте сами, а я схожу за водой. – Принеся воду, аккуратно присела на пол в нескольких шагах от него.
– Я единственный, кто будет пить?
– Сегодня вечером – да. Ужасно возражать против этого мы не будем, бутылку открыли два дня назад, когда Луиза устроила вечеринку. Понимаете, в магазине нам дают всего по бутылке в месяц. – Сверкнув на него легкой вежливой улыбочкой, она уставилась на свои руки, сплетенные вокруг коленей.
– Как дела в художественной школе? – спросил он.
– А-а! Худшкола. Прекрасно. Очень интересно. Больше всего поражает то, насколько люди готовы быть моделями на натурных уроках. Рисовальщик из меня, разумеется, никакой.
– Немного рановато судить, не считаете?
– Возможно, – вежливо ответила она.
Музыка умолкла, и малыш опять заплакал. Питер встал из-за рояля и заходил по комнате с малышом на руках.
– На самом деле Моцарт ему не нравится, – приговаривал он, – он предпочитает простую мелодию.
– У него зубки режутся, – сказала Луиза, поднимаясь по ступенькам из сада. Пирс держал ее за руку. – Я отнесу его к Мэри.
Прошло еще немало времени, прежде чем они сели ужинать – в подвале на кухне, а к концу его Питер сказал, что ему пора возвращаться в Оксбридж, и Арчи, решивший возвращаться к себе на квартиру на такси, предложил подбросить его до нужной станции. У него отпуск был на сорок восемь часов, пояснил Питер, и Луиза всегда позволяет ему, когда нужно, переночевать, но он приезжает, только когда у Стеллы выходной, поскольку родителям его нравится, когда он отпуск проводит дома.
– Мы им о таких днях не рассказываем, – сказал он, – но вы ведь с ними незнакомы, так что все будет в порядке. Если узнают – шуму не оберешься.
– Я им, во всяком случае, не расскажу.
Белое, довольно изможденное лицо парня смягчилось, как и тогда, когда он Себастиана на руки взял.
– Вы простите, я и не думал, что расскажете. Просто жуть что получится, если они узнают.
Под глазами у него пролегли темные отметины, похожие на синяки, форма на нем выглядела маскарадным костюмом.
– Луиза чудесная, – заговорил Питер после недолгого молчания. – Она этот дом сделала таким дружеским, таким свойским. И, когда я приезжаю, она позволяет мне упражняться на рояле сколько захочу.
– Вы в оркестре ВВС играете, верно?
– Понимаю, что звучит это как удача на грани чуда, только есть и неприятные стороны. Видите ли, они считают, что нет совсем никакой нужды упражняться в игре. Я разъезжаю повсюду, приезжаю куда-то и играю что-то практически без репетиций обычно на жутком пианино, к которому до концерта у меня не было возможности даже прикоснуться.
– Полагаю, на войне на самом деле приходится выбирать между тем, чтобы дрожать от страха, и тем, чтобы страдать от скуки, – заметил Арчи.
– А вы что выбрали?
– Скажем так, после непродолжительного периода, когда я испытывал страх, меня сослали терпеть скуку.
После того как Арчи высадил Питера у Оксбриджа, мысль об альтернативах войны его не оставила: работа его, несомненно, была по большей части скукой. Часы, дни, а теперь уж, должно быть, и недели провел он на совещаниях, за чтением сотен донесений, бесконечного потока докладных, которые заполняли ящик входящих на его столе каждые несколько минут каждый рабочий день. Он и в самом деле был своего рода достославным клерком, что сводил воедино для вышестоящего начальства поступавшие сведения, принимал несчетные мелкие решения по отбору материалов, которые было необходимо направить именно в то управление или министерство, порой пытался убедить людей, в чьих головах теснились мысли, выпустить их на волю. С тех пор как в его кабинете взрывной волной выбило окно, а на его место вставили другое, очень маленькое, которое к тому же не открывалось, у него появилось ощущение, будто он уже многие годы дышит одним и тем же воздухом. И все же, если разобраться, ему повезло – оставаться в живых, иметь какое-никакое, а занятие, предположительно имевшее хоть какую-то пользу. Не было у него беспокойств, с какими должна была уживаться Луиза: о том, что муж ее мог бы погибнуть. Ему не довелось растратить свою юность, как то делают ее кузины-сверстницы: Полли работает машинисткой в министерстве информации, а Клэри совершенно неожиданно получила работу секретаря у очень молодого епископа. «Он не спрашивал меня, верю ли я в Бога, так что я просто ничего не говорю об этом», – поведала она ему. Но ясно, что в том доме они порой проводят время весело. Есть у них сильно заигранный граммофон, есть фортепиано, они ходят в кино, выбираются в походы, вроде того, в Хампстед-Хит. Несмотря на несуразную еду (да и той не очень-то много), на отсутствие выпивки, они сыплют глупыми шуточками, а Луиза устраивает вечеринки. «Кто на них приходит?» – спросил он. «О, мы иногда подбираем людей в подземке, еще приходят друзья Майкла, военные моряки, когда они в увольнении, они своих друзей приводят – народу полно», – беспечно ответила ему Клэри. Было время, когда была у них повариха, некая миссис Уезерби, ее Вилли нашла в Суссексе, но она никак не могла подстроиться к их распорядку, неопрятности и шуму и вскоре ушла. «Без нее куда веселее, да и кровать ее нам нужна была для тех, кто у нас оставался». В целом, думал он, хорошо, что девочки переехали жить к Луизе, частью потому, что пришла пора им побыть более независимыми, а частью потому, что он стал чувствовать: не были они уже так близки друг с другом, как раньше. И вот что стало ясно прежде всего: похоже, не стоило больше приглашать их на ужин или в кино вдвоем. Клэри заявила об этом вполне открыто: «Я бы предпочла пойти куда-нибудь только вдвоем с вами. У Полл, короче, десятки людей, влюбленных в нее, – могла бы хоть каждый вечер гулять, если б захотела. Еще одно неудобство работы у епископа. Он женат, и я представить себе не могу, куда он мог меня повести, кроме церковного празднества».
«Завидуете Полли?» – спросил он ее как-то вечером.
«Я? Завидую? Боже правый, нет. Я бы не вынесла этих жутких людей, что вздыхают по ней. До жути старые мужики в костюмах… куда старше вас, – торопливо поправилась она, – что работают в одном с ней здании, а еще толпы приятелей мужа Луизы – те все в нее влюбляются. Все дело во внешности: люди на нее в подземке пялятся, а раз, когда мы вместе с Луизой и Майклом, ему тогда отпуск дали, пришли в ресторан Художественного театра, так один взял да и прислал на наш столик записку для нее. Ведь он никак не мог узнать, что она за человек, правда? Просто через зал глядя. Не больше, – сказала она, подумав, – чем люди могли бы сказать, что я за человек, глядя на меня через весь зал. Или вы, Арчи». При этом она глянула на него с вызовом, но он решил не возражать. Но после этого взял за правило приглашать их по отдельности, хотя замечал, что, когда он наведывался на выходные в Хоум-Плейс, они обе тоже приезжали. В таких случаях Клэри довольно шумно заявляла свои права на него как на собственность, а Полли держалась в сторонке. Однако столько всего происходило вокруг, что ни одна из девочек не могла бы монополизировать его. Он успел стать своим в семействе, и ему по-свойски доверялись все мелкие потаенные жалобы. Вилли не нравилось то, как часто Зоуи ездит в Лондон – проведывать старую школьную подругу, только что вернувшуюся туда; Эллен тяжело приходится, жаловалась она, она хоть и справляется, но не считает Уиллса подарком. Бедная Рейчел разрывалась между требованиями своей старушки тети Долли и Бригом, у той отказывала память, а у этого – зрение, но никто из них не был в состоянии понять, почему бы ей не провести весь день именно с ней (или с ним), не отвлекаясь на другого (другую). Лидия жаловалась, что ее не послали в подходящую школу, как Невилла, что с ней обращаются как с ребенком. «Мне тринадцать лет, в конце концов, а они, кажется, не понимают этого, когда отправляют меня спать, а мне и идти не с кем. Моя противная кузина Джуди ходит в подходящую школу, учится танцам, живописи и всякому и все твердит про какой-то «командный дух», а я даже не знаю, что это такое! Вы могли бы указать им на кое-что из этого, Арчи, потому что к вам они прислушиваются. Я не хочу ходить в ту же школу, что и Джуди, но любая другая старая школа сгодилась бы».
Однажды, когда он заканчивал играть со всеми девушками в пельманов пасьянс, протекавший довольно язвительно, Лидия вдруг спросила:
– После войны, Арчи, вы собираетесь вернуться в свой дом и жить во Франции?
– Не знаю. Вполне может быть.
– Потому что если собираетесь, то я думала поехать с вами. Только мне очень хотелось бы знать, собираетесь ли вы, а то если нет, то я и не возилась бы с французским. Пока что это страшно нудный язык, на каком я могу сказать только такое, что на открытках пишут.
И тут же с обеих сторон насели на нее две кузины.
– Знаешь, Лидия, ты уже до края дошла! Нельзя же так запросто предлагать себя! – возмущалась Клэри.
– Может, ему и не нужен никто, но уже наверняка ему не нужен ребенок! – негодовала Полли.
– А если и нужен, то ему самому об этом и говорить, а не тебе, – сказала Клэри.
– И вообще, может, он и не собирается обратно во Францию вовсе, – сказала Полли.
– Ему точно не нужна будет такая, кто настолько много моложе его, как ты, в любом случае, – сказала Клэри.
– Перестаньте нос передо мной задирать! Арчи, вам сколько лет? Мы вас так хорошо знаем, что, по-моему, мне следует это знать.
– В этом году мне исполнится тридцать девять лет.
– Так что ты, получается, на двадцать шесть лет младше, и, сама понимаешь, тут и говорить не о чем.
– О чем это? Я и не собиралась за него замуж! Мне просто хочется быть искательницей приключений – как в «Бульдоге Драммонде»[48]. Я бы просто жила с ним, и он покупал бы мне наряды и непонятные экзотические духи, а я бы вечеринки устраивала.
– О, в самом деле, перестаньте говорить обо мне, словно бы меня здесь нет! – воскликнул Арчи в преувеличенном смятении, которое, он надеялся, сгладит положение. Не вышло.
– Ему не нужна всякая, кто так от природы груба и бестактна, – бросила в ответ Клэри. – Но, если вам и вправду нужен кто-то, ну вы понимаете, с кем поговорить вечером, я всегда могла бы прийти и побыть с вами.
Настала пауза.
– А ты как, Полл?
– Не знаю. – Пожатье хрупкими плечами. – Честное слово, ни малейшего понятия. Еще даже война не кончилась. По-моему, глупо говорить о… о чем угодно… пока она идет.
– Мистер Черчилль заявил, что близится час величайшего усилия, – сказала Клэри. – Может быть, скоро кончится.
– Только в Европе, – отозвалась Полли. – Все еще остаются японцы.
Лицо ее настолько побледнело, что Арчи понял, что только недавно оно пылало румянцем. Она посмотрела на него и принялась подбирать с пола карты.
Потом Клэри обняла ее рукой за плечи и сказала:
– Все в порядке, Полл. Японцы сюда никогда не сунутся.
Но Полли лишь ответила тоненько и недружелюбно:
– Да знаю я об этом. Конечно же, я об этом знаю.
И Арчи увидел, как вдруг сникла, почувствовав отпор, Клэри, и неожиданно ему захотелось обнять ее.
В ту ночь, когда он лежал в постели в ожидании сна, ему, будто наяву, явился домик во Франции. Однажды утром он покинул его в такой спешке (приятель владельца кафе предложил отвезти его на север на грузовике с грузом персиков для Парижа, и какой-то инстинкт подсказал ему воспользоваться этим предложением), что не осталось времени ни на что, кроме как покидать кое- что из одежды в мешок, он даже оставил постель незаправленной, миски со сковородками в раковине и кисти для красок неотмытыми – они, может, до сих пор торчат, жесткие и бесполезные, в банке из-под варенья, из которой давно испарился скипидар… Тогда он оглядел в последний раз кухню с глубокими окнами, выходившими на оливы и абрикосы сада, и на увитую виноградом веранду кафе внизу. Герань и базилик, оставленные им на подоконнике, быстро увянут без воды. Он оставил даже книгу, которую читал (громадный такой американский романище… как он назывался-то?.. «Энтони-Неудачник»[49]) или, скорее, через которую продирался, оставил раскрытой на инкрустированном столике, на котором в далеком прошлом, когда был, видимо, гадким ребенком, вырезал свои инициалы. Он вышел через им самим сделанную дверь пошире, соединявшую кухню с комнатой побольше, где он работал. Из нее открывался вид на долину, купавшуюся в тот момент в горячем потоке золотого света. В сущности, то не было домом: у него имелись две небольшие спаленки и душ, который он пристроил на этаже повыше, а еще крутая лестница, что вела к двери, открывавшейся прямо на деревенскую улицу. Однако этот отдельный выход делал его похожим на самостоятельную постройку, и ему нравились звуки и запахи из кафе, где он частенько столовался. Это позволяло ему меньше ощущать свое одиночество, и – после десятка с лишним лет – его признали подходящим иностранцем. Ключ он оставил в кафе, и, наверное, пожилая женщина, убиравшаяся у него, забрала цветы, хотя ни за что не прикоснулась бы к его кисточкам. Странно все же. Он тосковал по дому, сознавал, что его сильно тянет туда, но одновременно в том, что было связано с его одиночеством, ему чувствовалось какое-то облегчение. То было суровое испытание, но совсем иного свойства, чем то, первоначальное, когда он впервые попал туда. Тогда он сбежал, стараясь забыть Рейчел, ту единственную, кто была нужна ему, если ее у него быть не могло, то он вполне мог обойтись без кого угодно. Теперь же предстояло бы возвращение безо всякого отрешения, однако пришлось бы оставить это семейство, приютившее его, ставшее частью его жизни. Это лето (вторжение – дело решенное) станет началом конца войны. А с освобождением Франции решится и судьба Руперта. Все еще вполне возможно, хотя и весьма сомнительно, что он жив, а если нет, то ему придется позаботиться о Клэри. Он мог бы взять ее с собой во Францию, помочь справиться с утратой, как много лет назад он помог Руперту, когда умерла мать Клэри. Есть в этом какая-то симметрия. Это самое малое, что он готов сделать для Руперта, подумал он, едва ли не оправдываясь, и заметил, что улыбается в темноте.
Май – июнь 1944 года
«Сейчас конец недели, выходные, а я не поеду домой, потому что стала инспектором противовоздушной защиты и приходится ходить читать лекции, которые стараются устраивать в выходные, чтобы на них приходили люди, в будни занятые на работе. В последнее время бомбежек не было, но похоже, что все уверены, что они еще будут, – в особенности, когда начнется вторжение, которое может начаться теперь в любой день. Луиза уехала в Хаттон, потому как у Майкла отпуск, а он не очень-то расположен проводить его в Лондоне. Она взяла с собой малыша и Мэри, но Мэри скоро уходит, она замуж выходит. Мы все искренне надеемся, что Луиза найдет другую няню, потому как, когда Мэри уходила на выходные, дом превращался в жуткий кавардак, а Луиза только и делала, что стирала пеленки и стерилизовала бутылочки, Себастиан же просто исходил плачем. У него зубы резались, и все лицо покрывалось пятнами, красными, как помидоры. А так он очень похож на м-ра Черчилля, которому приписывают слова о том, что все младенцы похожи на него, так что, как видишь, мое сравнение не оригинально. Короче, сейчас субботнее утро и в доме очень тихо, поскольку Полли все еще спит. Она пристрастилась спать по выходным все дольше и дольше. Так что я сижу на ступеньках в садик позади дома, пью довольно холодный коричневый чай и пишу для тебя в свой дневник. Беда в том, пап, что ко времени, когда ты вернешься, в нем будет так много всего, что у тебя годы уйдут на чтение, и оно тебе, наверное, наскучит, за что я тебя винить не стану, хотя мне и будет обидно.
Я тебе не рассказывала про свою работу – мою первую работу. Вообще-то она немного на разрядку похожа: я работаю у епископа, которого зовут Петр. Он, считается, молод для епископа, но он не ужасно молодой. У него довольно задастая жена… думается, я имела в виду коренастая (но и задница у нее тоже имеется)… и она всегда улыбается, не особо-то чему-нибудь радуясь. Живут они в большом темном доме, набитом предметами мебели, которыми, похоже, не пользуются, и где все пропахло очень залежалой едой и одеждой. Все время приходят какие-то люди, и епископша угощает их чаем, иногда с печеньем, но часто без. Потом подносы оставляются на столе, пока я их не уберу, потому как у нее кончаются чайники. В садике полно чертополоха, вербейника и весьма общипанных хвойных. На садик у хозяев, по их словам, времени не хватает. Я работаю на одном конце стола в столовой – ну, там я письма на машинке печатаю, но сами письма я пишу в кабинете епископа. Сажусь в жесткое кресло, у которого вид такой, будто оно молью обито, а он ходит по кабинету и отпускает довольно ужасные шутки, которые я по ошибке то и дело вставляю в текст письма. Его любимые шутки – это слова-перевертыши и оговорки, ну знаешь, типа «извините, капитан, у вас из трусов палка мачтит» вместо «извините, капитан, у вас из парусов мачта торчит» или «не внимать обращения».
У них двое детей, которых зовут Леонард и Вероника, но их я еще не видела, потому как дома их никогда не бывает. Короче, утром я прихожу туда к половине десятого и обычно обедаю в кафе поблизости жареной картошкой и яичницей или еще сосисками, у которых вкус такой, будто их делали из животного, умершего в зоопарке, потом возвращаюсь и работаю до пяти, после чего еду на велосипеде домой. Я еще должна отвечать на телефонные звонки, но телефон в коридоре, хотя и недалеко от моей пишущей машинки. Какая-никакая, а это работа, и я получаю два фунта в неделю. Всех, с кем епископ знается, он называет святыми, или великолепными, или малость безумными, но бесконечно интересными, однако когда они приходят в дом, то, похоже, ничего такого в них нет. Так что о человеческой природе мне удается узнать не так-то много, что огорчает.
Дом наш странный, во многом, думаю, потому, что не чувствуется, что он кому-то принадлежит. В нем до сих пор довольно много мебели и другого всего, оставшегося от леди Райдал, а потом Луиза прибавила к этому свои свадебные подарки, а потом мы, Полли и я, привезли с собой кое-какие вещи. По выходным, когда в доме остаются люди, им приходится спать на кроватях в столовой, поскольку есть всего пять спален, и две из них занимают малыш с няней. У нас с Полл по комнатке-мансарде на верхнем этаже.
Замужество, кажется, не сильно изменило Луизу. Но и, конечно же, в чем-то не очень ее жизнь похожа на семейную, ведь Майкл почти все время отсутствует. Из приходящих полно людей, которые малость влюблены в нее, и, по-моему, ей это очень нравится.
А вот Полл меня беспокоит. С ней стало довольно-таки трудно разговаривать. Я понимаю, что работу свою она считает жуткой скукой, только не думаю, что дело только в этом. Она чувствует себя виноватой в том, что оставила дядю Хью одного в его доме, только и это еще не все. У меня подозрение, что она влюблена, но она злющей становится, стоит только заговорить на эту тему, что я с невероятным тактом пробовала сделать раз шесть или семь. Она посещает художественную школу два вечера в неделю, и, думаю, это может быть кто-то, кого она там встретила. То, что мне она ничего не рассказывает, означает, наверное, что он женат и все это обречено. Только было время, когда она могла делиться всем, а оттого, что сейчас этого не делает, стала гораздо раздраженнее, чем мне… кто-то звонит во входную дверь, кто-то из преданных обожателей Луизы, наверное, но мне придется пойти и встретить.
Это уже через несколько дней, потому что тогда пришел не один из Луизиных мужчин, а Невилл! Он был в школьной форме (я говорила тебе, папа, что из подготовительной школы он ушел, потому что слишком вырос для нее, и его послали в Тонбридж). Я знала, что ему там совершенно противно, поэтому, хоть он и сказал, что зашел позавтракать, я поняла, что он сбежал. У него с собой был маленький чемоданчик, который, я знала, был не его, только я подумала, что лучше будет накормить его завтраком (он здорово отощал и в последнее время всегда выглядел голодным, даже после еды), так что про чемоданчик я ничего не сказала. Он прошел за мной на кухню, я сделала ему тост, а он положил на него и маргарин, и мясной экстракт, потом съел сыр для макарон, оставшийся у нас с Полл от вчерашнего ужина, съел тушеное яблоко, а потом увидел банку сардин (я даже и не знала, что она у нас есть) и захотел попробовать. Все время, пока ел, он говорил про Лорела и Харди[50], про фильмы компании «Маркс бразерз». Но в конце концов даже у него иссяк запас подобных тем, и он просто сидел и пил чай. Потом сказал: «А ты знаешь, что попасть в Ирландию больше нельзя? Запрещено. Идиотство. Я не знал, пока в Лондон не приехал». Я вспомнила, что когда-то раньше он уже сбегал и говорил, что собирался жить в Ирландии, так что теперь я уверилась, что он опять это сделал. Я сказала ему, мол, ты убежал, и он сказал «да».
«Я же говорю, что по-настоящему, определенно, абсолютно, беспременно ненавижу ее, – сказал он. – Это ж полное идиотство оставаться в том месте, какое тебе так сильно ненавистно. – Потом взглянул на меня с поразительно обаятельной улыбкой и произнес: – Тебе тоже в жизни приходилось погано, вот я и подумал, что ты поймешь. Потому я и пришел сюда».
Зато если бы тебе удалось в Ирландию попасть, подумала я, ты бы просто убежал. Он на обаяние напирал, и надо сказать, пап, на свой жуткий лад он может быть страшно обаятельным. Я сказала: «Предположим, меня бы здесь просто не было. Что бы ты тогда сделал?»
«Подождал бы, – ответил он. – У меня в чемодане леденцы-кругляшки есть и овсянка, ими один мальчик кормит тайком крысу в школе. Я взял себе немного».
«Конечно же, дома ты ничего не сказал».
«Конечно же, нет. Они бы только постарались меня обратно отправить. Я сюда пришел, потому что думал, что ты другая. Или ты, – он глаза сощурил, и голос у него стал вкрадчивый, – успела стать одной из Них?»
На этот вопрос ответить было порядком трудно, как выяснилось. Ведь я не представляла себе, что он делать будет, если не вернется в школу. С другой стороны, предать его действительно казалось чем-то недостойным. В конце концов я призналась, что не знаю, зато дала слово ничего не предпринимать у него за спиной. «Тогда я буду всегда от тебя спиной отворачиваться», – сказал он, но, судя по его виду, уже с облегчением, я ведь только тогда обратила внимание, что в последнее время выражение лица у него было все время настороженное, немного похоже, будто он от погони спасался.
Потом я подумала об Арчи. Он бы знал, что делать. Сначала Невилл не хотел, чтобы я ему звонила, но, когда я уверила его, что Арчи не поведет себя подло, он согласился.
Арчи приехал на такси. Пока он был в пути, Невилл все перебирал по-глупому, чем бы мог заняться: водить такси (уверял, что Тонбридж научил его водить машину, но, конечно же, никак не годился по возрасту), или быть смотрителем в зоопарке (он довольно много знает про змей, только, сказать по правде, не думаю, что это ему помогло бы), или официантом в ресторане, или кондуктором автобуса, что ему, как он считал, вполне сгодилось бы на время, перебирал все профессии, безнадежные для мальчика, как он сам говорит, четырнадцати лет, хотя ему еще и этого нет.
Когда приехал Арчи, то, как обычно, обнял меня и поцеловал, а потом то же проделал и с Невиллом, так Невилл отшатывался от него, что твоя лошадь, а потом все супился и супился и, я видела, был очень расстроен: он старался не заплакать. Арчи, похоже, не обращал на это внимания, протянул небольшой пакетик, сказал, что это кофе, и попросил меня приготовить его. Пока я занималась этим, появилась Полли в домашнем халатике и вся в бигуди. Увидев Арчи, остановилась в дверях и сказала, что сейчас пойдет оденется. Не думаю, что ей хотелось, чтобы Арчи слишком разглядывал ее с бигуди в волосах. Он же предложил ей позавтракать, сказав, что хочет поговорить с Невиллом и они могли бы пойти наверх. Невилл заявил, что не желает выслушивать, что ему делать, на что Арчи успокоил его: «Я и не хочу ничего говорить вам, я хочу вас послушать». Невилла, похоже, это устроило, и они ушли наверх.
«Почему ты не сказала мне, что он здесь?»
«Не хотелось оставлять его одного. Он сбежал».
«Я не про Невилла, я имела в виду Арчи».
«Он только-только приехал. Я попросила его об этом, потому как не знаю, что делать». Потом рассказала ей, как трудно мне было решить, на чьей стороне быть, и она все про это поняла, сказала, что чувствовала бы то же самое. «И я похоже себя ощущала с Саймоном – он казался таким одиноким».
«Уж если ты думаешь, что он был одинок, то каково же, по-твоему, Невиллу? У него вообще никого: папа пропал… далеко… от Зоуи как от родительницы никакого прока, и не думаю, что он меня в расчет берет».
Когда я сварила кофе, она взяла с собой чашку и пошла одеваться. Я приготовила все на подносе для Арчи с Невиллом и поднялась с ним к гостиной, но дверь оказалась закрытой. Пришлось поставить поднос и открыть ее, и я расслышала голос Арчи, спрашивавшего что-то очень тихо, потом настала тишина, а потом, пока я поднимала поднос, Невилл вдруг разразился такими рыданиями, звучавшими так жутко и горько, как я никогда от него и не слышала. Арчи знаком показал мне оставить поднос и уйти, что я и сделала.
Не час и не два пробыли они наверху. Я вернулась на кухню, помыла посуду, потом отчистила все, что уже вечность не чистилось, потому как до того волновалась, что не могла придумать, чем заняться. Он, должно быть, жутко несчастен, не выходила у меня из головы мысль, я чувствовала, что вовсе не была ему хорошей сестрой: куда как чересчур себялюбивая, все время думаю о себе, вовсе не представляю себе, что за жизнь идет у него. И мне стало ясно, пап, что абсолютно бесполезна вся эта глубокомысленная жвачка: убеждать самое себя, как плохо я поступала, от этого только жуть берет и происходящее на самом деле кажется еще сложнее. Мне необходимо постараться и подумать, что еще я смогла бы сделать, порой это звучит так, будто делается вид, что изначально я хоть что-то сделала. В этом же случае я недостаточно заботилась о Невилле… я даже и любить-то его никогда особо не любила. Было дело, даже тайно ненавидела, потому как винила его в том, что умерла твоя жена (тут она зачеркнула «жена» и написала «первая жена»). Она была моей матерью как-никак, для него же это почти ничего не значило, поскольку он ее никогда не знал. После, полагаю, я примирилась с ним, и, когда тебя послали во Францию (должна сказать тебе, папа, что, будь я на месте Пипитта, я бы тебя не оставила; должна сказать, что в случае с тобой один-единственный человек заботит меня больше, чем вся эта страна целиком), я так волновалась за тебя, так тосковала по тебе, что даже не думала: а каково приходится Невиллу? А ведь из-за этого у него не осталось никого – с ним рядом не было мальчика-сверстника, как у меня была Полл. Так что с этих пор я намерена любить его. Тебя тут нет, и я буду делать это, пока ты наконец не вернешься. Есть одно «но»: он становится каким-то чудаком, а мне по своему опыту известно, что людям чудаки нравятся, только когда те умирают, или, во всяком случае, держатся от них подальше. Чудаки – это люди, существование которых другим людям нравится (как существование жирафов и горилл), но которых большинство людей не желало бы, как говорится, иметь у себя дома. «Наш милый дом» – зовем мы наше нынешнее жилье, особенно когда оно превращается в полный кавардак из-за того, что никто по дому ничего не делает и нет прислуги, чтобы это делать. Итак, отныне линии моего поведения в отношении Невилла предстоит измениться.
Короче, Арчи проявил себя лучше некуда. Он позвонил в школу и сообщил, что в воскресенье вечером приедет вместе с Невиллом, что их, похоже, вполне устроило. Там даже не заметили, что мальчик убежал, а потому и не звонили в Хоум-Плейс, что уже было хорошо. Арчи пригласил всех нас пообедать с ним, сказав, что потом можно было бы сходить в кино, но после этого он заберет Невилла к себе, пусть переночует в его квартире. А еще он поделился со мной, что, по его мнению, школа, куда отдали Невилла, совсем не для него, и он подыщет другую, получше. Мы посмотрели два фильма с Лорелом и Харди, и Невилл так хохотал, что люди в зале оглядывались на него, а потом, когда мы пили чай в «Лайонз», он показывал Арчи, как умеет подражать другим голосам. Это было довольно смешно… нет, он проделал это очень смешно: Невилл напомнил мне тебя, папа, когда ты изображал людей. Потом ему пришлось уйти, его затошнило, и было чуточку жалко, потому как пил он довольно дорогой чай. Я бы пошла с ним, но не могла, потому как ему надо было в мужской туалет. Но пошел Арчи, и, когда они вернулись, Невилл был весьма бледен, но весел, выпил еще чаю, съел тушеной фасоли и кусок баттенбергского торта – знаешь, жуткий такой, колбасиной с розовыми и кремовыми квадратиками на срезе. Потом мы распрощались на Таттенхем-Корт-роуд, мы с Полли сели на 53-й, а Невилл с Арчи отправились к Арчи домой. Арчи пообещал позвонить мне в воскресенье вечером – и позвонил. Сказал, что над Невиллом в школе ужасно измывались, что последней соломиной стало то, что его друг по начальной школе, который тоже пошел в эту школу с ним, присоединился к шайке измывавшихся над ним забияк. Арчи поставил школу в известность, что в конце семестра заберет Невилла, сказал, что знаком кое с кем, кто знает директора ужасно хорошей школы Стоу, которая, как он считает, подойдет Невиллу, и он собирается наведаться туда. Обычно в школу Стоу не принимают так скоро, но приятель Арчи считает, что там могут сделать исключение в случае с Невиллом. Арчи будет обедать с дядей Хью и обговорит с ним все это, чтобы заручиться согласием семейства, но поскольку ему все доверяют, то согласие он наверняка получит. Я сказала Арчи, что хочу помочь, и он попросил меня писать Невиллу письма и дать ему возможность на каникулах немного побыть в Лондоне. Как бы мы без Арчи обходились, спрашиваю я себя. Спросила об этом и Полл, в автобусе по пути домой, а она сказала: «Но ты же без него и не обходишься, верно?» Мы выходили из автобуса, и я уронила кошелек, но после задумалась, почему она так сказала это «ты же», но, когда я ее спросила, она сказала, что не говорила. Сказать она сказала, только мне не хотелось с ней спорить.
6 июня. Сегодня утром началось вторжение. О, папа! Надеюсь, до вас дойдут, где бы вы ни находились, и вас освободят. Все в волнении – даже епископ включил радио, чтобы послушать сводку новостей. Пока наши и близко не подошли туда, где, по последним сведениям, ты находишься, папа, но спорить могу: туда придут. Высаживаются в Нормандии, но, очевидно, это только начало. Луиза вернулась, а Майкл на фронте, она ужасно волнуется. За ночь до вторжения она ушла на какую-то вечеринку, и всю ночь ее не было дома. Сказала, что вечеринка была вне Лондона, о чем она не знала, и она прозевала, когда всех развозили обратно, и пришлось остаться на ночь. В ту ночь м-р Черчилль заявил в парламенте, что дела идут хорошо, но Арчи рассказал нам, что мешает плохая погода. Он говорил, как ужасно должно бы быть на десантных кораблях, которые довольно малы, потому как солдаты часами сидели в них, прежде чем они в море вышли, и очень многих, вероятно, укачало. Представить себе не могу ничего хуже, чем морская качка, после которой еще нужно было выбраться на берег и сражаться. (На самом деле я и не представляла, это Арчи представил такое для меня.) Майкл служит на флагманском эсминце. Нам кажется, вчера вечером, должно быть, что-то произошло, потому как самолеты все летели и летели всю ночь. О, папа, где бы ты ни был, надеюсь, ты знаешь, что это происходит, потому что это должно тебя ободрить.
* * *
Долго еще после этого не писала она в дневнике. Просто не могла за ручку взяться, потому как с самого начала была так уверена: стоит союзникам ступить на землю Франции, как он окажется свободен. Но ничего подобного не произошло. До сих пор полное молчание – вовсе никаких известий о нем. В то лето сердце стало подводить ее в отношении отца, приходилось отбиваться от мысли, что все эти годы его, может, и в живых не было, а от этого писать ему представлялось делом бессмысленным и зловещим. Ни о чем таком она ни с кем не делилась, даже с Полли. Каждое утро просыпалась с надеждой, которая с течением дня угасала, пока к вечеру в нее не вселялась болезненная уверенность, что отец не вернется. Одна в ночи, она постепенно привыкала к мысли, что он погиб, и плакала по нем. А потом просыпалась утром и думала, что считать так глупо и неверно, и представляла себе, как отец вдруг объявляется. Иногда ее тянуло поговорить с кем-нибудь, с Полл, к примеру, или с Арчи, только она чересчур боялась, что те ласково, по-доброму подтвердят самые худшие ее страхи, а поскольку она постепенно утвердилась во мнении, что она единственная, кто все еще верит, что отец жив, то выслушивать чьи угодно сомнения казалось ей своего рода предательством.
В то лето она потеряла работу по той совершенно основательной причине, что кузина жены епископа овдовела в первый же день вторжения и было решено, что она переедет к ним в дом, будет жить с ними, а секретарская работа позволит ей хоть чем-то заняться. Клэри ничуть не была против. Свое обещание писать Невиллу она держала.
ФАУ-1 заявились очень скоро после вторжения. В первый раз она увидела ракету, когда они с Полли вполне безмятежно пропалывали садик позади дома. Звучал сигнал воздушной тревоги, и они слышали, как в отдалении вели огонь зенитки: было похоже на звуки пробок, выходящих из бутылок. Потом они разглядели что-то похожее на очень маленький самолет, очень быстро сам собою пролетавший над головами, что было необычно.
– Он горит, – сказала Полли, и Клэри увидела пламя, рвавшееся у него из хвоста.
– Это не может быть бомбардировщик, – заметила она, – слишком маленький.
Было что-то загадочно бесчеловечное в том, как летел «самолетик», ничуть не отклоняясь от курса. Он удалился у них из виду, звук двигателей делался все тише и тише, пока совсем не пропал. Но вскоре после этого раздался грохот взрыва.
– По крайней мере одна бомба у него была, – сказала Полли.
В последовавшие дни было много беспилотников, самолетов-снарядов, как их называли, и все привыкли к их негромкому механическому реву, выучились замирать от страха в тот миг, когда двигатель смолкал, потому что это означало, что самолет-снаряд вот-вот рухнет со своей начинкой из взрывчатки.
Дорогой Невилл [писала она],
думаю, ты видел ФАУ-1, пролетавшие над вашей школой. Как инспектор противовоздушной защиты, я должна следить, чтобы люди шли в убежища после сигнала тревоги, пересчитывать их и, если людей не хватает, спрашивать пришедших, кого, по их мнению, нет. Если о ком-то известно, то я должна идти к ним в дом или на квартиру и приводить их. Пожилые уходят в убежища куда чаще, чем молодые. Можно было бы подумать, что все как раз наоборот, правда? Инспекторский пост находится в подвальной комнате на Абби-роуд (улицы, по какой идет автобус). Там всегда стоит жуткая жара, потому что из-за затемнения окна никогда не открываются, и пахнет углем; в ожидании налетов мы пьем чай. На дежурстве мы носим очень грубые темно-синие брюки и мундир, а еще жестяную каску с резинкой под подбородком. Иногда мы устраиваем лекции. Прошлой осенью была одна о том, заметили ли мы, что все почтовые ящики выкрасили в английский форменный бледно-зеленый цвет? Мы, конечно, заметили. Как нам объяснили, это потому, что немцы придумали какой-то новый ужасный газ, и если они его применят, то мы об этом узнаем по тому, как изменят цвет почтовые ящики. Мы все слушали тихо, и когда лектор больше ничего не сказал, я подняла руку и спросила, что же нам с этим газом делать, когда мы узнаем, что его применили, и он ответил (довольно сердито), мол, ничего мы поделать не сможем, газ смертельный, и наши противогазы не сработают. Я об этом Полли не рассказывала, потому как она как раз особенно газа боится, но я знаю, что могу на тебя положиться и ты будешь держать это в тайне от нее. Полли подумывает тоже стать инспектором, несмотря на то, что я ее отговариваю. Из-за ФАУ-1 Луиза отправила своего малыша в Хоум-Плейс. С тех пор как я перестала работать у епископа, делать мне особенно нечего, если не считать, что я переписываю на машинке пьесу одного приятеля Луизы, которая не ужасно хороша, но машинисткам не положено высказываться о том, что они печатают. Дела инспекторские занимают больше времени. Мы уже привыкли спать в подвале на матрацах рядами – это вполне забавно, если не обращать внимания на выползающих по ночам мокриц. На каникулах, когда ты приедешь к нам, я поведу тебя на множество фильмов, а мы ездим на прелестные пикники в Хампстед-Хит или в Ричмонд-Парк. Арчи иногда ездит с нами. Он говорит, что все о’кей с твоей новой школой, и собирается свозить тебя посмотреть ее. Я бы тоже поехала, но не стану просить его, если тебе этого не хочется. Луиза знает кое- кого, кто учился в Стоу, и они ей сказали, что это цивилизованное место, куда приятнее большинства школ, и в любом случае я уверена, что Арчи больше всего нашего семейства знает, какая школа терпима, а какая нет. Вынуждена согласиться с тем, что наше семейство, похоже, этого не замечает. Я часто думаю, неужели папе и дядям так ужасно пришлось и они просто думают, что это у всех так и ничего не поделаешь. Арчи более современен – это одно из того хорошего, что есть в нем. Пошло очередное предупреждение о налете, мне придется закончить. Прошу тебя, пиши мне. Я не уверена, что иметь после войны лавку, где продавать змей, было бы потрясающим успехом, потому как очень многие люди не так расположены к ним, как ты. Потом она решила, что это чуточку отбивает охоту, а потому прибавила: «Но я полагаю, что люди, служившие в армии и побывшие в странах с другим климатом, могли бы поменять свои пристрастия и даже скучать по рептилиям, так что, может, ты и прав».
Потом однажды Арчи позвонил ей и пригласил поужинать с ним. Она не видела его несколько недель, потому как по работе ему понадобилось уехать из Лондона.
– Вы меня одну приглашаете или меня и Полл?
– Думаю, в данном случае одну вас. Мы ужинали с Полл на прошлой неделе вообще-то.
– Вот так? Она мне не рассказывала.
Когда Полли вернулась с работы, она попросила ее одолжить ей блузку.
– О’кей, только вообще-то тебе следовало бы стирать свои блузки.
– Не в том дело. Большинство из них уже дошли до такой стадии, что, даже если я их постираю, они не выглядят стираными. Вот я и ношу всегда какую-нибудь другую.
– Ладно, можешь взять ту, с голубыми и зелеными шашечками.
– А можно мне твою кремовую? Мне придется льняной сарафан надеть – единственное приличное, в чем не жарко, что у меня есть.
– А ты куда собралась? – спросила Полли, обдумывая мою просьбу.
– К Арчи. Он меня на ужин пригласил.
– А ты и не сказала.
– Он звонил только после обеда. Ты ведь с ним ужинала на прошлой неделе, а мне об этом так и не рассказала.
Я ее выстираю и выглажу, – обещала она, поднимаясь вслед за Полли к ним в мансарду.
– Гладильщица из тебя скверная, мне только придется сызнова гладить. Боже, ну тут и жара.
Жарило, как в пекле. Жара навалилась в начале недели. Люди, поначалу нахваливавшие дивную погоду, уже через несколько дней после того, как постояли под солнцем в очередях на автобус, поработали в душных конторах, после того, как молоко сворачивалось и даже вода из-под крана казалась недостаточно холодной, стали терять терпение. Кондукторы пререкались, люди становились красными от солнечных ожогов, полученных во время поедания сэндвичей на выгоревшей траве парков, таксисты материли пешеходов, в пабах кончились запасы пиленого льда и напитки подавались теплыми, а над головами, в небесах, тяжелых и налитых жарой, допекали десятки небольших летающих роботов, пугая людей, безучастно неся им смерть и разрушения. В ожидании того, когда смолкнут их двигатели, люди порой потели от страха не меньше, чем от жары.
– Хорошо еще, что нам незачем спать здесь, – сказала она, стараясь, чтобы Полл по-дружески подошла к вопросу о блузке. Увы, не получилось.
– Беда в том, что ты в этой блузке вспотеешь, и она уже никогда не будет той же.
– Вспотею, куда деваться, – печально отозвалась она.
– А почему бы тебе не пойти в одном сарафане, ничего не поддевая? Было бы прохладнее.
– Я примерю его, а ты мне скажи, хорошо?
– Тебе, кстати, придется под мышками побрить, – заметила Полли, когда Клэри прошлась перед нею. – А в остальном смотрится совершенно нормально.
Так что одолжила она у Полли бритву, обула лучшие свои сандалии и отчистила щеткой ногти (она уже слегка привыкала к тому, чтобы не грызть их) и отправилась на Южный Кенсингтон, что означало сделать пересадку на Бейкер-стрит. К тому времени, пока она дошла до квартиры Арчи от станции Южный Кенсингтон, она знала, что лицо у нее все красное (чего не было), что совсем не вязалось, печально думала она, ожидая, когда он отзовется на звонок, с ее терракотовым льном сарафана. Но…
– Рад видеть вас! – воскликнул он, открыв дверь, и она вспыхнула от удовольствия, благо было так жарко, что это, она понимала, заметно не будет.
Он поставил два стула на балкончик, выходивший на сквер внизу, и принес ей джин с лаймом. Не очень-то он ей нравился, но ничего другого выпить не было.
– Ну, наконец-то, – заговорил он, – расскажите, что у вас нового. Нашли другую работу?
– Нет. Немного поработала машинисткой на приятеля Луизы. Плохонькая пьеса, по-моему, но, разумеется, я не сказала.
– Вы бы написали получше, верно? Так почему же не пишете?
– Мне? Пьесу написать?
– Ну а что же еще вы пишете?
– Ничего.
– А-а.
– Я писала кое-что, но перестала. Что вы думаете о социализме? – спросила она и из-за того, что хотела тему сменить, и потому, что заранее собиралась спросить его об этом.
– По-моему, после войны у нас его будет предостаточно.
– Вы серьезно?
– По-моему, таков будет расклад. Война, видите ли, неплохой выравниватель. Когда жизнь практически каждого висит на ниточке, люди вряд ли спасибо скажут за возврат к классовому строю, при котором жизни некоторых значат больше, нежели остальных.
– Но ведь они и не говорят, ведь так? В том смысле, что к старому нельзя будет вернуться. Как думаете, после войны женщин будут воспринимать более серьезно?
– Понятия не имею. А разве их всерьез не воспринимают?
– Разумеется, нет. Взгляните хотя бы на то, как женщинам предоставили все самые жалкие места работы, и я не уверена даже, что за нее им платят столько же, сколько и мужчинам. Или мужчины исполняют ту же работу.
– Клэри, уж не собираетесь ли вы стать феминисткой?
– Может быть. Все дело в том, что социализм строит отношения людей между собой и ко всему остальному справедливее. Я за такое.
– Жизнь несправедлива.
– Я знаю, что нет… кое в чем. Только это не должно мешать нам делать ее справедливой в том, что нам доступно. Да, думаю, я ею стану.
– Социалисткой или феминисткой?
– Вполне могу быть и той, и другой. Стремиться к большей справедливости для женщин – это часть стремления к справедливости для всех. Разве не так? Арчи, вы соглашаетесь со мной или попросту смеетесь надо мной?
– У меня такое тревожное чувство, что я соглашаюсь с вами. Разумеется, с куда большим удовольствием я бы смеялся. Вы ж меня знаете.
Она глянула на него, сидевшего на другой стороне балкончика, вытянувшего длинные негнущиеся ноги, сложившего длинные руки, рукава рубашки на которых были закатаны, и наблюдавшего за нею со своим обычным выражением сдерживаемого увеселения. Однако, кроме этого, она улавливала и некую разумность в его разглядывании, словно он на самом деле видел ее, не отвлекаясь на критику или настроение.
– Не знаю, если честно, – сказала. – Меня вдруг поразило, до чего же мало я вас знаю.
– Беда в том, – сказала она гораздо позже, когда они ели баночного лосося и салат, приготовленный Арчи на балконе, – что, по-моему, я привыкла принимать вас на веру. Думается, так все семейство поступает. Я имею в виду, взгляните на то, как вы решили задачку с Невиллом. Не вижу никого, кто еще был бы способен на это. Дядя Эдвард просто сказал бы, что все школы одинаково ужасны и Невилл должен с этим смириться. Дядя Хью наведался бы в школу и добился бы от них обещания, что издевательства над мальчиком прекратятся. Разумеется, они бы продолжались. Тетя Рейч устроила бы ему на каникулах какое-нибудь особенное развлечение.
– А Зоуи? Что бы она сделала?
– Именно ни-че-го. Она все больше и больше привыкает ездить в Лондон, а промежутки заполняет, проводя все время с Джули или подновляя свои наряды. Мы с Невиллом ее попросту совсем не считаем.
– Итак, чем же вы намерены заняться? То есть помимо постижения новых идей?
– Не знаю. Найти какую-нибудь другую скучную работу, полагаю.
– Почему нельзя найти работу и писать?
– Я больше не знаю, о чем писать.
– А как же ваш дневник? – Арчи о нем знал, хотя она его ему никогда не показывала.
– Я как бы вроде перестала его вести. – Она знала, что ему было известно: дневник она вела для отца.
Помолчав, он заметил:
– Видите ли, одно из требований к дневнику в том, что он должен продолжаться, быть завершенным. Вы могли бы ведь всю войну охватить.
– У меня такого желания нет.
– Ха! Что ж, если вам неизвестно, одно из отличий между любителем и профессионалом в том, что любители работают лишь тогда, когда у них есть к этому желание, профессионалы же работают, невзирая ни на какие чувства.
– Значит, я не профессионал, так? Все просто. – Она высказала это со всей напористостью, на какую была способна. – Я в туалет пошла, – сказала, просто чтобы сбежать. В туалете плакала. «Если я заговорю с ним о папе, он лишь постарается поведать мне благостную ложь про то, что он думает. Он не верит, что папа вернется. А я не желаю слушать, о чем он думает». Сморкаться пришлось в какую-то оберточную бумагу, которая, как ей по опыту было известно, для этого не годилась из-за своей жесткости.
К тому времени, когда она вновь присоединилась к Арчи, он успел убрать с балкончика все приготовленное для ужина и зажечь лампу в гостиной. Он усадил ее на диван, а сам устроился с другого конца на подлокотнике.
– Послушайте, Клэри, – заговорил он. – Я знаю, почему вы перестали вести дневник, или, по крайней мере, полагаю, что знаю. Вы решили, что он вернется, как только начнется вторжение.
По-моему, на вашем месте я тоже так же решил бы, однако если взглянуть на это извне, то такое вряд ли было бы возможно. Союзники не добрались даже дотуда, где Пипитт его оставил, не говоря уж о том, что он мог перебираться с места на место и с тех пор уйти довольно далеко. Средства сообщения во Франции временно ухудшатся, а не улучшатся. Я не пытаюсь вас утешать, – выговорил он резко, – так что незачем смотреть так сердито. Я говорю вам то, о чем думаю – а не то, что чувствую. Так вот, если все эти годы вы были уверены на его счет, то я говорю: нет у вас никакого повода перестать быть верной тому же чувству только из-за того, что мы ступили на землю Франции. Мы эту несчастную страну еще не освободили, а даже когда и освободим, то там будет царить хаос.
– Вы стараетесь пробудить во мне надежду, – произнесла она.
– Я стараюсь, чтобы вы поняли: нет никакой конкретной причины эти надежды менять.
– Но разве не мог он пробраться куда угодно, где наши армии уже есть, и присоединиться к ним? Ему должно быть известно подполье. Наверно, оно сделало бы что-нибудь?
Он поднялся, чтобы взять с полки свою трубку.
– Так вот, за исключением того, что ему почти наверняка известно про вторжение, на все остальное ответ – «нет», или «почти наверняка нет». Вторжение означает, что подполье работает днем и ночью и с большим напряжением сил. У подпольщиков просто не будет времени беспокоиться об отдельных людях. Для него было бы гораздо лучше сидеть тихо-смирно, пока все не уляжется.
– Так вы все же верите! О, Арчи, дорогой, вы думаете, как и я, правда? Ведь это так!
– Я не… – начал он, но осекся, увидев выражение ее лица. Ей не было его видно: ее слепили слезы. Он подошел к ней, слегка погладил трясущиеся плечи.
– Клэри. Не важно, ко всем чертям, что думаю я. Вы держались так долго, так не сдавайтесь же сейчас.
– Слабость с моей стороны.
– Да, было бы слабостью.
– И по отношению к папе тоже несправедливо.
– Ну вот опять вы! Справедливость тут ни при чем. Мы говорим о вере, а не о политике. Хотите чаю?
– Хотя вообще-то, знаете, – говорила она гораздо позже, помогая ему убираться после ужина, – думается, всякого рода вещи в жизни, возможно, справедливее, чем считают люди. Возьмите греческую трагедию. За злодейства расплачиваются… даже порочные персонажи, вроде короля Лира, расплачиваются. То, что меня тревожит, как раз наоборот. Я хочу сказать, когда пускаешь свой хлеб по водам, разве возвращается он к тебе пирожным?[51]
– Что ж, полагаю, может быть, только сам ты его за пирожное не примешь, – ответил он, радуясь быстроте, с какой она пришла в себя. – А теперь я посажу вас в такси.
– Ключи от дома у вас есть? – спросил он, помогая ей сесть в машину.
– Разумеется. Арчи, мне девятнадцать лет. Я не ребенок.
– Просто убедился. Я знаю, что вы не ребенок.
На следующий день она снова стала вести дневник.
Апрель – август 1944 года
– О господи! Как бы сделать, чтоб он вообще не отвечал на телефонные звонки.
Рейчел растерянно взглянула на мать. Та была по-настоящему расстроена, теребя крохотный кружевной платочек своими мягкими лиловыми пальцами (с сосудами у нее всегда было неважно).
– Что на этот раз?
– Он пригласил бригадного генерала и миссис Андерсон на ужин – опять.
– Они ужинали у нас всего дней десять назад!
– Это не помешало им принять приглашение. Миссис Андерсон лишилась повара, естественно, она до умопомрачения рада сходить в гости.
– И генерал тоже, смею думать, поскольку жена его такая убийственная зануда. Ничего, дорогая. Мы можем опять приготовить кролика, а в огороде полно овощей.
– Думаешь, мы могли бы убрать телефон? Он не заметит? Ведь если мы не уберем телефон из его кабинета, то такого рода вещи будут происходить постоянно. У миссис Криппс и без того дел хватает.
– На самом деле он станет возражать. Считает, что телефон ему принадлежит. Полагаю, можно было бы достать другой аппарат и поставить его где-нибудь.
– О, не думаю, что есть надобность заходить так далеко. – Дюши всегда смотрела на телефоны, как на декадентскую роскошь, и с самого начала настояла на том, чтобы его установили в дальнем коридоре, что вел в подвал, тем самым пользующемуся телефоном был обеспечен, наверное, самый сильный сквозняк в доме. Бриг, однако, взял верх, а теперь он, слепой, лежал в ожидании, что телефон будет звонить целый день. – Ладно, придется мне просто не спасовать перед миссис Криппс. Речь ведь не просто о двух лишних ртах, это значит, придется сообразить по меньшей мере еще одно блюдо.
– Мне отправить твои письма?
– Они не мои. Это Доллины. Она пристрастилась писать всем своим подругам девических лет, некоторые из которых повыходили замуж, только я не помню, за кого, а большинство же уже умерли. Смотри-ка! Мейбл Грин, Констанс Ренишоу, Мод Пембертон – иногда она даже адрес не указывает!
– Это занимает ее и радует, дорогая.
– Так ведь никто не отвечает! А она спрашивает меня… по нескольку раз за день… нет ли ей писем. Такая жалость подступает, что появляется ощущение, будто я должна написать. Очень надеюсь, дорогая, что старость меня не одолеет и я не стану для тебя причиной такого рода волнений.
Рейчел ее разуверила, потому как, разумеется, думала она про себя, шагая по дорожке, а потом вниз по холму к почтовому ящику, никакого иного занятия у нее нет. Но факт есть акт: доля стариков в доме начинает превышать долю молодых и деятельных. Всех что-то донимает. У Эллен ревматизм постепенно усилился настолько, что она уже с трудом ходила вверх-вниз по лестницам и, в общем, вряд ли достаточно расторопна с детьми, поручаемыми ее заботам. У миссис Криппс плохо с ногами, даже плотные эластичные чулки, которые она теперь носила, лишь держали в узде ее варикозные вены, и Дюши жила в непреходящем страхе, что в одно утро домашних дел та объявит, что ей больше невмоготу. Макальпайн не только истерзан артритом, но вдобавок потерял практически все зубы и, поскольку отказывается носить изготовленные ему протезы или хоть как-то ограничивать себя в выборе еды, страдает от постоянных приступов тяжелого несварения, которые делают его еще более невоздержанным. Бриг, помимо слепоты, все больше слабел грудью, что вовсе не уменьшало его пристрастия к сигарам, от которых он и не думал отказываться, зимой его регулярно укладывал в постель бронхит, дважды у него случалась пневмония, и тогда лишь новое чудодейственное лекарство M&B спасало ему жизнь. Дюши, казалось, хранило чудо: несмотря на возраст (ей в этом году исполнилось семьдесят четыре), волосы ее оставались темно-серыми, а спина прямой, какой и была всегда, но, как заметила Рейчел, она стала легче огорчаться из-за мелких трудностей и неурядиц домашней жизни военного времени. Мисс Миллимент (ее возраста не знал никто, но Рейчел с Вилли подозревали, что он уже перевалил за восемьдесят), казалось бы, весьма неожиданно, сделалась глуха и много сил тратила, чтобы скрывать такое свое состояние. Она, конечно же, тянула свою лямку, уча младших детей по утрам и читая Бригу днем, зато сразу же после ужина она ложилась спать и зачастую в постели же проводила утро воскресенья. Она по-прежнему семенила повсюду легкой неровной походкой, но Рейчел уже замечала, как порой гримасы искажали ее лицо, когда мисс Миллимент наталкивалась на мебель, словно бы что-то (возможно, ее ноги?) причиняло ей боль. В доме по-прежнему содержались четверо детей: Уиллс, Роли и Джульетта соответственно шести, пяти и четырех лет, от которых помощи в текущих делах ждать не следовало, хотя все они получали задания от Эллен, и еще Лидия, которая, достигнув возраста тринадцати лет, предпочитала по-своему проводить время в ходе учебы, хотя все еще играла с Невиллом, когда тот приезжал домой. Нельзя было и надеяться, что она стала бы выполнять одну и ту же домашнюю работу два дня подряд. Между старыми и малыми располагались Вилли, ставшая совершенно незаменимой, Тонбридж, исполнявший несколько мелких обязанностей, необычных для шофера (он с большим удовольствием побелил кладовку для миссис Криппс, но просто ненавидел любую работу по уходу за лошадьми, которые попросту ввергали его в ужас, но после того, как умер бедолага Рен, лошадей надо было либо кормить и поить, либо усыпить, о чем Бриг и слушать не желал). От Зоуи пользы немного, но и спрос с нее невелик, Рейчел сочувствовала ей, замурованной в деревне при ужасной неопределенности с Рупертом. Какое-то время она работала в санатории для выздоравливающих неподалеку от их дома, но почему-то перестала, а ныне зачастила в Лондон к какой-то переехавшей в столицу замужней подруге, оставляя при этом Джульетту на Эллен. Рейчел не могла не чувствовать, что это немного эгоистично, хотя и выдумывала всякие оправдания, позволявшие Зоуи (ведь ей еще и тридцати нет) хоть немного повеселиться и быть совершенно вправе иметь подруг за пределами семейства. И все же Джульетта сама по себе не была подарком для Эллен, а Зоуи, когда возвращалась из своих поездок, спала по утрам гораздо дольше и зачастую уверяла, что слишком устала, чтобы вести детей на дневную прогулку.
Что ж, у них все еще есть бесценная Айлин и Лиззи, кому приходится помогать в домашних делах, когда она не работает с миссис Криппс, – эти куда лучше некоторых. «И я стараюсь изо всех сил, – думала она, – и смогла бы куда больше, если бы не проклятая спина». На деле трудно было бы загадывать, насколько больше могла бы она успеть за день, даже если бы со спиной было все в порядке. Она ухаживала за тетей Долли, которая уже подходила к тому периоду, когда при сохранявшейся подвижности и почти полной потере памяти она превращалась в объект постоянного беспокойства, а порой и серьезного риска. С недавних пор у нее появилась привычка вставать ночью и бродить по дому. Она ударила в гонг к завтраку в четыре утра, объяснив это тем, что, когда она звала, никто из слуг не пришел, а она была голодна. В такое время года она вполне могла прогуляться по подъездной дорожке: собиралась встретить кого-то, объясняла она, но они не приехали. От этого она расстраивалась до слез, правда, чтобы утешить ее, вполне годилась карамелька. Рейчел с Вилли по очереди поднимали ее утром с постели, а сводить старушку вниз, в малую столовую, было, по выражению Вилли, равносильно передислокации батальона. Ей непременно нужен был запасной жакет, книга, которую, по ее уверению, она читала, ее бювар, ее мешочек для работы, ее шлепанцы на тот случай, если туфли станут слишком жать, шляпа на случай, если она выйдет на солнце, и очки. Приходилось отвязывать от кресла, на каком она сидела у себя в спальне, ее ножницы для вышивания и привязывать их к соответствующему креслу внизу. Если держать ножницы привязанными, то их никогда не потеряешь, не уставала она пояснять. Когда, почитав в «Таймс» объявления о кончинах, она, если везло, принималась работать иголкой с ниткой, ее можно было на время оставить. В невезучие дни она принималась бродить, и для человека, чьи движения были неспешными и трясущимися, всегда, казалось, проделывала очень дальний путь. Всем детям было велено: увидев бабушку, сказать ей, что ее незамедлительно хочет видеть Китти, и проводить домой.
Медленно вышагивая обратно в горку, она раздумывала о том, что Долли, должно быть, очень близка к концу жизни, еще и потому, что со смертью Фло не так-то много осталось в жизни того, ради чего ей стоило жить. Она на два года старше Дюши и на пять лет моложе Брига. Но в каком бы порядке это ни произошло, все они умрут в последующие несколько лет, думала она. «И тогда меня оставят. Тогда я смогу уехать и жить с Сид». Смутно она сознавала, что эта возможность обратилась скорее в утешение, нежели в цель, и пустила по ветру скромное свое ожидание. Стоял теплый и очень ветреный день – совсем не июньская погода. Понедельники всегда были довольно пасмурными, когда рано утром Эдвард с Хью отправлялись в Лондон на работу. На дорожке она встретила Тонбриджа, катившего к ключу тележку, полную пустых бутылей, которые предстояло заполнить питьевой водой. На нем были кожаные гетры, делавшие лишь заметнее, до чего маленькие и кривые у него ноги, серые шоферские бриджи и рубашка без воротничка с закатанными рукавами. Когда-то он и представить себе не смел о появлении перед кем-то из семейства в таком беспорядке, он и сейчас не подумал бы везти их в машине, не будучи одетым по полной форме, учитывая же дела, какими ныне ему приходилось заниматься (в нормальных условиях они никак не вязались с его обязанностями), он никак не мог трепать ради них свой отличный френч. Сейчас же, после того, как она пожелала ему доброго утра, он ответил на приветствие глуповатой улыбкой застигнутого за унизительным делом. «Что бы мы без вас делали!» – воскликнула она и заметила, как чело шофера от удовольствия расцвело цикламенами. Мать его не очень-то была с ним ласкова, подумала она, а потом еще эта ужасная жена. Ходили слухи о разводе, и Лидия говорила, что он, похоже, сильно глаз положил на миссис Криппс: «Я видела, как он обнял ее за талию. Не всю талию обнял, этого бы ни у кого не получилось, но вполне достаточно».
На обратном пути Рейчел сразу же засек Бриг со своего стратегического наблюдательного пункта у себя в кабинете.
– Рейчел, это ты? – позвал он. – Зайди сюда на минутку. Ты как раз тот человек, что мне нужен.
Бриг сидел за своим неоглядным рабочим столом, томясь от безделья.
– Поразительнейшее дело, – сказал он. – Зазвонил телефон. Какая-то женщина, назвавшаяся Айлин или Айлой, так послышалось… чертовски глупое имя… сказала, что ей нужно поговорить с мистером Казалетом. И сказала: «У Дианы в коттедже был пожар». Я сказал, что, по-моему, она, должно быть, ошиблась номером, но она, похоже, была вполне уверена. Выяснилось, что ей нужен был Эдвард. Живет в Уодхерсте. Сказала, что отправляется выручать эту самую Диану… не пойму, при чем тут Эдвард. Пытался позвать Вилли, но она, кажется, не слышала.
– Такое впечатление, – сказала Рейчел, – что Вилли это никак не касается. Я позвоню Эдварду, если хочешь.
– Что ж, дай ему знать, хотя, какое, скажи на милость, отношение он имеет к пожару в доме какой-то неизвестной женщины, ума не приложу. Чертово нахальство! Ладно, свяжись с ним.
Желая отделаться от него, пока она будет звонить Эдварду (зная при этом, что надежд на это нет), Рейчел позвонила. Она соединилась с мисс Сифанг, которая сообщила, что м-ра Эдварда в данный момент в конторе нет, но она постарается разыскать его и – «Не могли бы вы перезвонить? Надеюсь, дома у вас все в добром здравии», – прибавила она голосом, выдавшим ее подспудную надежду, что кому-то худо.
– В прекрасном, спасибо, мисс Сифанг, – ответила Рейчел, а потом, тревожась, как бы она не оставила неверного впечатления, добавила: – Но мне бы хотелось, чтобы он позвонил мне как можно скорее. Будьте любезны, передайте ему, что это очень срочно. – Мисс Сифанг наверняка передаст.
– Бриг, дорогой, думается, было бы весьма правильно не упоминать ни о чем об этом при Вилли – совсем.
– Почему это? – произнес он. – Это еще почему! – Затем он тяжело поднялся на ноги со словами: – Дайте мне эту чертову глупую палочку. Думается, капелька свежего воздуха будет мне полезна.
Когда Эдвард позвонил (а сделал он это почти сразу же), она слышала себя, пересказывающую историю, похожую на бурю в стакане воды, но затем поняла, что это совсем не так. Эдвард на минуту смолк, потом спросил:
– Он Вилли рассказал про это? Бриг, я имею в виду?
– Нет. Я попросила его не говорить.
– Хорошо. Вот неразбериха! Понять не могу, что взбрело вдруг этой треклятой золовке… Разумеется, Вилли была знакома с Дианой, но с тех пор уже годы прошли, и она, наверное, и не вспомнит ее. Муж ее погиб, бедняга, и она теперь, скорее всего, сама по себе.
– Эдвард, думаю, я бы предпочла больше ничего об этом не знать. – Для нее несносно было выслушивать, как он пытается замести следы.
– Хорошо. Что ж, спасибо, что позвонила. – Он повесил трубку.
Эдвард всегда заигрывал с любой встреченной привлекательной женщиной, подумала Рейчел, но мысль эта удовольствия не доставляла. Ее познания об отношениях Эдварда с женщинами уходили во времена еще до его женитьбы, когда, вернувшись с войны, он постоянно ходил на чаепития с танцами, теннисные игры, оделяя безделушками и шоколадками целую компанию девушек. Когда он женился, его сочли остепенившимся, но теперь по собственной своей реакции на утреннее сообщение Брига Рейчел поняла, что где-то всегда подозревала, что он все тот же. Разумеется, ничего серьезного быть не могло – и тем не менее он явно волновался, слышала ли Вилли о телефонном разговоре… Тот факт, что он не всегда приезжал домой на выходные, ныне обретал значимость: один к четырем, что приехать был не в состоянии. По причинам, до сих пор для нее неясным, он перестал жить с Хью в Лондоне. Тогда это не казалось странным, поскольку туда приехали Клэри с Полли, но сейчас, когда они уехали… Однако Вилли останавливалась в его квартире в Лондоне, она рассказывала о ней как о жуткой маленькой безликой коробке для обуви, но все ж останавливалась в ней – раз или два… Она, положим, никогда не считала Вилли особенно покладистой, но стала относиться к ней с большой нежностью и восхищалась тем, как умела приложить руки, похоже, ко всему. У нее сомнений не было, что Вилли крайне расстроится, если выяснит, что Эдвард ухаживает за кем-то еще. Возможно, подумала она, неплохо было бы обратиться к Хью и перекинуться с ним словцом. Разыскивая Дюши, чтобы посмотреть, как та пережила очередные хозяйственные разборки с миссис Криппс, она вдруг поймала себя, что совсем упустила из виду особу по имени Диана, чей муж погиб и чей дом пострадал от пожара. Золовка, должно быть, была встревожена не на шутку, иначе не стала бы звонить Эдварду. В конце концов, Диана, кем бы она ни была, видимо, вдова одного из сослуживцев Эдварда в Королевских ВВС. С него бы стало попросить, чтоб он присмотрел за ней. А Эдвард мог попросту испугаться, что Вилли станет ревновать, даже если у нее и не будет повода… Представлять себе, что каждый заботился о каждом, позволяло ей намного лучше относиться ко всей этой истории.
* * *
– Итак, меня выдали.
– Что ты имеешь в виду?
– Твоя золовка сегодня утром звонила в Хоум-Плейс и сообщила им.
– Быть того не может!
– Уверяю тебя, позвонила. Говорила с моим отцом… по счастью, он рассказал моей сестре, а не жене. Рейчел позвонила мне.
– Что это на нее нашло устроить такое?
– Как она сумела такое устроить? Это ты, должно быть, дала ей телефон.
– Эдвард, конечно же, я не давала. Должно быть, она его из справочника взяла.
– Ты, должно быть, рассказала ей о пожаре.
– Конечно, рассказала. А как же иначе. Там такой кавардак был, и я должна была выяснить, возьмет ли она детей, пока я постараюсь со всем разобраться. – Последовала пауза, потом она сказала: – В гостиной воды почти по колено от пожарной команды.
– Вообще, как это случилось? – спросил он, судя по голосу, все еще сердясь.
– Это все труба, большая перекрестная балка загорелась или, скорее, тлеть стала. Я пошла наверх, потому что показалось, что услышала голос Сьюзен, и увидела, что детская вся в дыму. Невероятно повезло, что я вовремя наверх поднялась, а то бы дети могли задохнуться.
– О господи! Уж как не повезет, так по-свински не повезет! Где ты сейчас?
– В пабе, в деревне, у меня телефон не работает. Айла приехала и забрала детей, слава небесам.
– Надеюсь, ты попросила ее перестать звонить мне домой.
– Я не могла ее попросить. Хотя бы потому, что не знала, что она звонила, а если сейчас попрошу, она заподозрит что-нибудь.
– Она, верно, уже заподозрила, иначе не стала бы беду кликать. Тебе надо будет сказать ей. В конце концов, тебе она ничего не сможет сделать.
– Эдвард, я всю ночь не спала. Я смертельно разбита, дети могли бы умереть, а в доме неописуемый кавардак. Я, знаешь, думаю, ты мог быть немного… – Она бросила трубку. Этого он наверняка не сделал бы. С минуту она ждала, не перезвонит ли он, потом поняла, что, конечно же, не перезвонит: не сможет, он же номера не знает. Тем не менее гордость не позволяла ей звонить ему, было страшно: а вдруг он наговорит такого, что заставит ее обидеться еще больше. «Мне с этим не справиться», – уныло думала она, катя на велосипеде против ветра обратно к коттеджу.
В доме сильно пахло сгоревшим деревом. Часть воды ушла, но мерзкие следы ее были видны повсюду на первом этаже – в гостиной, в малой кухне и в подвальном туалете. Она взяла тряпку с ведром и принялась за работу.
Она вытирала и вытирала, передвигала мебель и сновала туда-сюда, опорожняя бесконечные ведра грязной воды. Обида на Эдварда придавала ей силы: в ее мыслях всякое преимущество (для него – уединение, потаенность и прочее), которое якобы делало этот коттедж идеальным, теперь обращалось в недостаток. Поблизости от нее не было никаких соседей, и, следовательно, она не могла рассчитывать ни на чью помощь, и в деревне, что находилась в миле от нее, не было никого, кого она знала бы достаточно хорошо, чтобы о чем-то попросить или хотя бы воспользоваться их телефоном. Коттедж, изначально построенный для егеря, стоял в самом конце проселочной дороги, за которой поднимался лес. В нем не было электричества, а вода качалась из скважины шумным въедливым насосиком, зато был он чрезвычайно дешев, что и стало основной причиной, почему она согласилась его взять. Даже при том, что родители Ангусангуса платили половину платы за обучение старших детей, их нужно было еще и одевать: школьная форма, спортивная одежда, – а потом еще и зубные врачи, деньги на карманные расходы, билеты на поезд в Шотландию на каникулы, и все это еще до того, как она стала платить за самое себя, Джейми и Сьюзен. С деньгами и впрямь было очень туго, при том, что никакого улучшения не предвиделось. И хотя в самом деле появились признаки начала конца войны, она ничуть не стала ближе к замужеству с Эдвардом, чем в день своего знакомства с ним. Ей было сорок четыре года, и она оказалась в западне этого уединенного убежища, он же в свои сорок восемь (совсем другое дело для мужчины) жил, по сути, раздельно с Вилли, сам себе хозяин в Лондоне, и имел все возможности найти какую-нибудь помоложе и подоступнее. Да, каждую неделю Эдвард приезжал навестить ее по пути в Хоум-Плейс, и примерно раз в месяц он устраивал так, чтобы они вместе проводили выходные. Только было ясно видно, что в таких случаях коттедж казался ему неуютным и безрадостным, ему хотелось, чтобы она приезжала в Лондон побыть с ним. Она же могла пойти на такое, лишь когда и если получалось поднять по тревоге кого-то, кто мог бы присмотреть за детьми: время от времени Айлу, если удавалось как следует подлизаться к ней, а раз-другой старую нянюшку, нянчившую старших, когда те были младенцами. Однако зачастую эти планы рушились, и Эдварду приходилось мириться с коттеджем, а ей с готовкой еды и уединением, только после того, как дети улягутся вечером спать. Это навело ее на мысль, что, видимо, так Айла и вникла в ситуацию, поскольку Джейми рассказывал о наездах Эдварда в коттедж – вещь совершенно естественная, но удручающая.
Уже перевалило за полдень, когда она избавилась от воды и убедилась, что пол надо отчищать, она в обморок падала от усталости и голода. Раскрыла все окна, входную и заднюю двери, пытаясь проветрить помещения, сама же направилась в кладовую найти чего-нибудь поесть. Нашлось немного чего: в то утро она как раз собиралась в еженедельный поход за продуктами, – одна лишь горбушка хлебного каравая да остатки хлопьев «виноградные орешки», но без молока, потому как последнее она дала Джейми с Сьюзен на завтрак. Приготовив себе чашку чая, она принялась за «виноградные орешки» с водой, еду довольно ужасную. Ей надо бы в магазин съездить, если она поужинать захочет, но она упрямо застряла на мысли отчистить пол. Когда она наполовину уже закончила, перестала идти вода из кухонного крана, попытки же включить насос и подкачать еще воды успехом не увенчались. Вода, должно быть, в аккумулятор попала, решила она, но это означало только одно: пол докончить она не сможет. Не сможет и ванну принять, а она вся в мерзкой грязи. А теперь еще и время было почти шесть вечера, и магазины давно закрылись. Она пошла забрать оставленные в гостиной половые тряпки и жесткую щетку для оттирки пола, поскользнулась на остатках куска мыла, каким пользовалась, и подвернула колено. Это уже было слишком. Она рухнула на пол и залилась слезами.
Такой и нашел ее Эдвард (она не слышала, как его машина подъехала по дороге, поскольку над домиком ревело множество самолетов).
– Девочка моя! Дорогая! Диана! Что стряслось?
От потрясения, что видит его, от его внезапного появления она заплакала еще сильнее. Он склонился помочь ей, но, когда она попробовала встать, в колене резануло так, что Диана вскрикнула от боли. Он поднял ее на руки и уложил на диван.
– Ты колено подвернула, – сказал он, и она кивнула – у нее зубы стучали.
– Вода кончилась. Я не смогла отчистить пол. – Это казалось ей таким горем, что она плакала не переставая.
Он снял с вешалки у двери ее пальто и накрыл им ее.
– У тебя есть виски?
Она покачала головой:
– Нет, мы в прошлый раз допили.
– Я привез с собой. В машине осталось. Ты лежи, не двигайся.
Все время, пока он ходил за виски, искал стакан, давал ей свой темно-зеленый шелковый носовой платок, придвигал стул, чтобы сесть рядом, он беспрестанно бормотал, утешая и ободряя: «Бедненькая моя, как же тяжко тебе досталось. Я приехал, как только смог. Пока я узнавал телефон этого паба… никак не могу вспомнить его название… ты уехала. Не понимаю, с чего это связь прервалась. Я вел себя по-скотски… после всего, что ты вынесла. Без сна, и, спорить могу, ты не обедала. Что тебе нужно будет после того, как ты выпьешь, так это хорошая горячая ванна, а потом я свожу тебя поужинать.
Однако в ответ она едва ли не раздраженно заметила:
– Не могу я! Я в ванну не смогу залезть. Да и воды больше не осталось. Ни капли.
– Тогда так. Я отнесу тебя в машину и отвезу в гостиницу.
Она чувствовала, как раздражение, растворившееся при его появлении в чистом облегчении, вновь начало сгущаться. Он, похоже, всегда считал, что все на свете можно решить немногими – преходящими – земными благами. Он вывезет ее на ужин, затем привезет обратно в это место одиночества, где она продолжит жить безо всяких взрослых бесед за рамками обмена словесами с лавочниками и тем мужиком, кто – будем надеяться – починит или заменит аккумулятор в наносе. Все будет, как было прежде: она останется одинока и бедна, станет все больше и больше тревожиться о будущем, становясь старше, и придет день, когда – она это знала – он бросит ее. Ей хотелось спросить: «А что потом?» – но что-то внутри осмотрительно остановило ее. Она чувствовала, что сражается за свою жизнь, и решила, что в данном случае лучше сделать притворный шаг, нежели ошибочный.
Она подняла на него взгляд, гиацинтовые глаза все еще купались в слезах:
– О, дорогой, как это было бы прелестно, ты даже не представляешь!
* * *
С той самой их первой встречи в поезде Зоуи чувствовала, что жизнь ее раскололась – не поровну – на две, нет, не половинки, а части. Были Джульетта, семейная жизнь Казалетов с ее лишениями, ее обыденностью, ее обязанностями и привязанностями – и был Джек. Джека было куда меньше: порождение беспорядочно урванных дней и ночей, – зато до того наполненных восторгами, любовью и удовольствиями, доселе ей неведомыми, что, казалось, именно им отдана бо́льшая часть ее внимания – и эта часть способна проникнуть ей в мысли в любое время, оттеснив все, что угодно. Поначалу, конечно же, такого не было: передумав ехать прямо домой и остаться в Лондоне, чтобы поужинать с ним, привлекательным незнакомцем, столь открыто выставившим напоказ свой интерес, она уверяла себя, что это наверняка волнующе и, возможно, будет забавно (сколько лет прошло, когда она в последний раз была в ресторане хоть с каким-то мужчиной!), а потому смотрела на это как на слегка бесшабашное развлечение. Не больше. То, что она обедала с Арчи (к чему она с удовольствием стремилась по той же причине), вдруг, похоже, не считалось. Они пообедали, но после она воспротивилась минутному порыву доверительно поведать ему о незнакомце, впала в рассеянность, не находя, о чем бы еще можно было поговорить. Арчи явил себя как сама доброта: принес подарок для Джульетты и с пониманием отнесся к ее нудной поездке к матери. Когда они пили из маленьких чашечек горький кофе в гостиной его клуба (кофепитие проходило главным образом в молчании), он сказал:
– Бедная Зоуи! Ведь вас мучит некое жуткое состояние неопределенности, верно? Хотите поговорить об этом? Ведь я ясно вижу, что дома вам этого нельзя.
– Не знаю, что и сказать. Разве что… вы ведь не верите, что на самом деле Руперт жив, так?
– Нет, не думаю, что верю. Слишком много времени прошло. Разумеется, возможно, он и… – Арчи оставил фразу повисшей в воздухе.
– Полагаю, чувства говорят мне, что я должна верить, что он жив. А я не могу. Но мне хотелось бы знать. От этого я чувствую себя совсем… ну… а-а, ладно…
– Разозленной, я бы решил, – подсказал он. – Простите, этот кофе ужасный. Хотите запить его бренди?
Позыв рассказать ему вернулся. Она сказала, что выпьет.
Ждала, пока официант принесет коньяк, и лишь потом принялась рассказывать.
– Просто мне захотелось поужинать с ним, – закончила она. – Понимаете, это показалось таким маленьким приключением.
– Да.
– Считаете, что это плохо с моей стороны?
– Нет.
– Единственное, я на поезд не успею.
Он порылся в кармане и достал ключ.
– Можете переночевать у меня, если хотите. Если в этом окажется необходимость.
– Арчи, вы добры. Вы не расскажете… никому… обещаете?
– Даже не думал об этом.
Уже на ступенях клуба он спросил:
– А чем вы намерены заняться до вашего ужина?
– О… хотела попытаться купить где-нибудь платье. Я к маме ни одного не взяла… подходящего, я имею в виду. – Почувствовала, что начинает краснеть.
– А ваш багаж?
– Сдала в камеру хранения на Чаринг-Кросс. Кроме очень маленького чемоданчика. – Туда она положила необходимое в вокзальном дамском туалете, чтобы, по крайней мере, наложить макияж и надеть свои лучшие туфли.
– Что ж, захотите переодеться у меня дома, милости прошу. Кстати, а вы адрес мой знаете?
– Хорошо, что вы напомнили. Не знаю.
Он достал свой ежедневник, приложил его к колонне портика, записал адрес и вручил ей его.
– Элм-Парк-Гарденз. Это возле Южного Кенсингтона. Не потеряйте мой ключ, хорошо? Не беспокойтесь о том, чтобы звонить. Просто приходите или нет, как получится. – Нагнулся и поцеловал ее в щеку. – Желаю хорошо провести время в любом случае.
Позже, когда такси везло ее к магазину Гермионы, она задумалась о том, почему это он, похоже, считает, что она может и не прийти. Уж не думает ли он, что она из того рода особ, что проводят ночь с полным незнакомцем, с кем просто идут ужинать? От мысли такой она по-настоящему возмутилась.
Оказалось же, любые сомнения, какие могли быть у Арчи, имели веские основания. Она провела ночь (или то, что оставалось от нее) в квартире-студии в Найтсбридж. «Мои намерения, – сказал он ей за ужином, – сугубо благородны. Я хочу соблазнить вас».
Тогда, за ужином, это попросту казалось дикой, хотя и лестной, задумкой: у нее не было никакого намерения, чтобы ему сопутствовал успех. «Я не ложусь в постель с людьми после первой же встречи с ними», – парировала она.
«А я не желаю делать с вами что бы то ни было, что вы привыкли делать с людьми», – в тон ей ответил он.
После ужина он повел ее в «Астор», где они выпили еще шампанского и танцевали. Купленное у Гермионы платье оказалось идеальным выбором, оболочкой из нежного черного шелка, обрезанной чуть выше колен, с низким квадратным вырезом и широкими бретельками, оно было прохладным и пленительным и стоило, она это чувствовала, каждого пенни из своих двадцати двух фунтов. Она воспользовалась предложением Арчи переодеться в его квартире, провела изумительные полтора часа, моясь, одеваясь, накладывая косметику на лицо, занимаясь прической: то поднимала волосы, то снова опускала и, наконец, подняла их и перевила жемчужными бусами (единственным украшением, которое было у нее с собой), соединив их в узел на макушке. Духов у нее не было, сумочки на выход тоже, одно только зимнее пальто, чтобы надеть прямо на платье, но приходилось обходиться этим. В тот момент она находила удовольствие во всем этом приготовлении себя к выходу в свет (как и во всем остальном), и, когда пришел Арчи, она парадом прошлась перед ним, словно он был ее родителем, от которого предстояло получить одобрение перед тем, как отправиться на первые танцы.
– Ей-право! – воскликнул он. – Это полтора платья, или, полагаю, можно бы сказать – половина платья. В любом случае выглядите вы чрезвычайно красиво. Хотите выпить перед отъездом?
Ей не хотелось. Встреча была назначена на семь. Оставив свой чемоданчик у Чарли, она на такси отправилась в «Ритц».
Он ждал ее, поднялся с дивана, приветствовал с легкой нервной улыбкой.
– Я уже начал воображать себе, что вы не появитесь.
– Вы сказали, в семь.
– И вот вы здесь. – Он взял ее под руку и повел выпить перед ужином.
За напитками и после, за ужином, он забросал ее десятками вопросов: о ее семье, ее детстве, друзьях и подругах, интересах, о том, в каких странах побывала, кем, будучи ребенком, хотела стать, когда вырастет, – однако все эти вопросы лишь проскальзывали среди других. Что они будут есть на ужин? Что едят в Британии в военное время? Как она относится к войне? Боится ли авианалетов? Нет, отвечала она, куда больше она боится пауков, и он рассмеялся… Его почти черные глаза сияли, когда (а так было почти все время) были направлены на нее, смягчались, он умолкал, и она на мгновение ощущала, как любовная нега проникает ей в самое сердце. Так случалось несколько раз, и каждый раз вызывал легкий свежий прилив близости.
Под конец ужина он предложил ей сигарету и, когда она отказалась, сказал:
– Уверенности не было, курите вы или нет, или просто не принимаете сигарет от незнакомых мужчин.
– А вы и есть вполне незнакомый. О себе вы рассказываете немного.
– Я отвечаю на ваши вопросы.
– Да, только… – Она уже успела узнать, что он был журналистом, заодно и фотокорреспондентом, очевидно, приданным какой-то части американской армии, что вырос в Нью-Йорке, был женат и развелся (об этом он ей еще в поезде сообщил), что родители его тоже были в разводе. – Вы ничего мне не рассказываете.
– А что бы вам хотелось узнать?
Однако тогда она ничего не могла сообразить. Или, скорее, занимало то, что ей было любопытно, но о чем, похоже, не полагалось спрашивать человека едва знакомого. Она почувствовала, что начинает заливаться краской, и пожала плечами.
Когда подошел официант принять заказ на кофе, Джек заказал себе большую чашку и горячего молока, а ей предложил к кофе ликер.
– Теперь, – заговорил он, когда официант пришел и ушел, оставив из одних, – мне нужно спросить вас кое о чем. Ваш муж в плену?
– С чего вы решили?
– Не знаю. Просто ощущение. Вы совсем не говорите о нем. Это необычно. Всякий раз, говоря о своей семье, вы его не упоминаете.
– Это потому, что я не знаю, что сказать.
Последовало короткое молчание, потом он как бы походя произнес:
– Полагаю, могли бы сказать то, что есть.
И она рассказала ему. Начиная с Дюнкерка и того, как его оставили во Франции, про все их надежды, что он попал в плен, про то, что два года от него не было ни слова и надежды угасали, она стала думать, что он, должно быть, погиб, и тогда объявился француз с известиями – и все возликовали. А теперь уже прошло еще два года – ни словечка, никакого признака.
– Он никогда не видел своей дочери, – сказала она. – Не подверни он тогда колено, прыгая в окоп от немецкого грузовика, он бы ее увидел. Вот я и не знаю – ничего. Кажется, я вроде бы успела привыкнуть к этому.
Она подняла взгляд и опять встретила то же молчаливое, выразительное внимание. Он не сказал ничего.
– Только, если честно, кажется, я привыкла с мысли, что он погиб.
Секунду-другую он хранил молчание, потом сказал:
– Теперь я понимаю сказанное вами о том, что можно к чему-то привыкнуть и все же не замечать этого.
– Я так сказала?
– В поезде, нынче утром. Это нечто незавершенное, верно? Нельзя горевать и, полагаю, нельзя чувствовать себя свободной… какая-то дьявольская неопределенность.
Да, кивнула она тогда. И подумала, как странно, что он употребил то же слово, что и Арчи, когда все эти годы никто не произносил его: создавшееся положение как-то никогда не обсуждалось, не говоря уж о том, чтобы оцениваться.
Потом он перегнулся к ней через стол.
– Зоуи! Не согласитесь ли вы потанцевать со мной? – И, не успела она ответить, как он взял ее за руку и произнес: – Тогда пошли.
Много позже в тот вечер он сказал, что ночной клуб – единственное мыслимое для него узаконенное место, где он мог держать ее в объятиях.
Танцевали они не час и не два. Говорили не очень много: с первых же секунд она поняла, что он очень хороший танцор, и отдалась его ведению, а значит, и предугадывала каждое его движение. Она едва ли не позабыла, до чего любила танцы: не танцевала ни с кем еще с тех пор, как Джульетта не родилась. Он был лишь чуточку выше ее: время от времени она ощущала на своем лице его дыхание, – когда взгляды их встречались, он улыбался ей рассеянной, мечтательной улыбкой. Когда оркестр ушел на перерыв, они вернулись к своему столику и выпили шампанского, которое постепенно переставало охлаждаться в ведерке с тающим льдом. На столике – на всех столиках – стояла маленькая лампа под темно-красным абажуром, света ее хватало, чтобы видеть друг друга, зато абажур отсекал его, пряча в тени фигуры людей за другими столиками, это создавало что-то вроде романтического уединения, словно бы они сидели на берегу крохотного островка. В стороне, над танцполом светильники с потолка лили потоки света, постоянно меняя его яркость и цвет, отчего лица танцующих и обнаженные плечи женщин то багровели, то мертвенно бледнели, глаза людей блистали, посверкивали, словно подмигивая, бриллианты с наградами, когда пары оказывались внутри или вне потоков задымленного света.
Вновь заиграла музыка. Она повернулась к нему, готовая подняться, но он, вытянув руку, удержал ее.
– Пришло время мне соблазнить вас, – сказал. – Я не говорил вам, насколько вы прекрасны, потому что вам это, должно быть, известно. Ваше великолепие ослепительно – вы слепите меня, но и к этому ко всему вы, должно быть, привыкли. Я влюблен в вас с одиннадцати часов утра – а это немалый срок. Уже несколько часов, как в ресторане я смог проникнуть за вашу внешность, когда вы рассказывали мне про Руперта. У вас вид такой девочки, которая играет в игры, старается завести мужчин и тем потешить свое тщеславие. Но вы этого не делаете! Я весь вечер ожидал чего-то такого, а вы просто этого не делаете.
– Делала когда-то, – сказала она, сразу же осознав перемену. – Делала. – Она умолкла: воспоминание ворвалось с какой-то ставящей в тупик неистовостью. Когда-то, припомнилось ей, все удовольствие от подобного вечера сводилось к тому, насколько поразила кавалера ее внешность. И если этого частенько недоставало для того, чтобы потешить свое тщеславие, ей приходилось забрасывать крючочки, чтобы выловить более неумеренные комплименты. Мысли об этом ныне вызывали у нее отвращение.
– … так согласны? Я не собирался вот так спрашивать вас об этом, но я просто должен знать.
Она стала было говорить, мол, не знает, мол, в чувствах своих еще не разобралась, влюблена ли она, мол, они только познакомились, но слова рассыпались, лишаясь смысла, по мере того как она их произносила. Она смолкла и просто подала ему свою руку.
Когда она проснулась на следующее утро, было светло, звонил телефон, Джека и след простыл. Ее одолевала сонливость, все тело ломило от стольких танцев и любовных утех. Она обернулась на подушку рядом – там была записка: «Зазвонит телефон – это я. Должен был на работу пойти». Выскочив из постели взять трубку, она увидела, что голая, но он оставил на стуле у телефона домашний халат.
– Не хочется тебя будить, но я подумал, вдруг тебе захочется время узнать.
– И сколько?
– Одиннадцатый час. Слушай. Могу я с тобой у тебя дома общаться?
– Общаться? Это ж очень далеко – Суссекс, я ж тебе говорила.
– По телефону… звонить, как вы выражаетесь.
– Думаю, это затруднительно. Единственный телефон у свекра в кабинете, и он почти всегда в него говорит.
– Тогда сможешь ли ты мне звонить?
– Возможно, смогу. В местном пабе есть телефонная будка, зато там не очень-то уединишься.
– Сможешь следующие выходные провести со мной? Тогда бы мы и придумали, как связь поддерживать. Смогла бы, как думаешь?
– Могла бы попытаться. Мне ж надо будет как-то известить тебя.
– Это мой рабочий номер. Может, придется держаться довольно официально. Я капитан Гринфельдт, на тот случай, если тебе придется позвать меня. Ну не смехота ли? Вести себя, как какой-нибудь шпион или дитя капризное.
– Так ведь приходится.
– Ты в моем домашнем халате? Я его там для тебя повесил.
– Да, в нем, на плечи накинула.
– Прошу тебя, приезжай на выходные. Они у меня нечасто свободные.
– Я очень постараюсь. Что-нибудь придумаю.
– Ты вправду единственная девушка в мире, – сказал он, а потом: – Должен идти.
Таким было начало. Оно стало началом лжи, вымыслов всяких (она выдумала себе старую школьную подругу с тремя детьми, постоянно приглашавшую ее погостить). Дюши смотрела на нее по-доброму и говорила, что, по ее мнению, перемена идет ей на пользу. Это стало началом шифрованных телеграмм, звонков ему на работу, где порой он говорил с ней прямо-таки леденящим тоном, правда, после первого же раза он предупредил, что будет звать ее Джоном, когда в комнате есть еще кто-то. Она писала ему на адрес студии, когда разрывы между встречами делались нестерпимыми, – он ответил всего один раз. Его энергия поражала ее. Работал он, не зная устали, часто отправлялся в командировки на самолетах, посещая американские войска, разбросанные по стране. Когда они виделись, в те редкие выходные, то падали в постель в безрассудном желании друг друга: она поняла, насколько изголодалась и по любви, и по сексу. Потом они мылись, одевались, и он вел ее куда-нибудь: время от времени в театр, но чаще ужинать, а потом – танцевать до трех-четырех часов утра. Обратно в студию, пустую квартирку с фортепиано, низким шатким диваном, столом с двумя стульями и громадным окном на север, которое было постоянно наполовину затемнено, он неспешно раздевал ее, вынимал заколки у нее из волос, ласкал и говорил с ней о том, как следует предаваться любви, пока она с ума по нему не сходила. Она позабыла или, наверное, как думала, никогда и не знала, что уже после, когда тело, кажется, умиротворено, вес его до того поровну распределяется по постели, что оно казалось невесомым, сон подбирался к ней с такой коварной скрытностью, что она засыпала, даже не заметив этого. Пробуждение субботним утром было делом сладострастным: тот, кто просыпался первым, взирал на другого с такой нежной настойчивостью, что нельзя было оставаться бесчувственным к этому. Утехи любви в такие утра имели совсем иное предназначение: они были беззаботны, игривы, полны потаенных нежностей, они чувствовали себя богачами, видя впереди целых два дня вместе, – то было временем самого чистого счастья для нее. Когда осень перешла в зиму, в студии стало очень холодно: в ней была печка, но не было горючего для нее, – он бодро ворчал на отсутствие отопления или душа, имелась маленькая ванна с водонагревателем, неохотно выдававшим небольшие порции горячей воды с непредсказуемыми перерывами. Обедали они из консервных банок, которые он приносил из военторга: тушеная говядина, солонина, индейка – плюс шоколадки. В ясные дни они ходили по всему Лондону, пока он снимал: разбомбленные церкви, разбомбленные дома, брошенные магазины с окнами, заставленными мешками с песком, противовоздушные укрытия, замаскированные позиции зениток, готический домик кэбменов в уголке Гайд-парка, куда, по его словам, кэбмены приходили поиграть на деньги – в этом смысле он был кладезем сведений. «Они идут на Уорвик-авеню, если хотят хорошенько поесть, – говорил он, – а сюда приходят поиграть в карты». Он снимал ее: десятки и десятки снимков, а однажды, поскольку она этого хотела, он позволил ей щелкнуть себя. Фото получилось не очень хорошее: рука у нее слегка дрожала, глаза его сощурились от бившего в них солнца, но, когда он его напечатал, она положила карточку в конверт и держала у себя в сумочке. Днем они ходили в киношку (она выучилась так называть это) и смотрели, держась за руки в темноте. По выходным в дневное время он ходил в штатском, но по вечерам надевал форму. Постепенно она перевезла в студию из-за города одежду. Утро по воскресеньям они проводили в постели, читая газеты, а он варил кофе, который, похоже, тоже мог доставать. Но по воскресеньям появлялась тень расставания, и это, казалось, постоянно приводило к взвинченности. Он мог впасть в мрачное настроение, когда делался очень тих, соглашался со всем, что она говорила, но, казалось, отстранялся от нее. Однажды произошла ссора: речь шла о ее дочери. Он хотел, чтобы она взяла Джульетту с собой и они провели выходные вместе, она возражала.
– Она слишком большая. Станет рассказывать о тебе, а мне ее не остановить.
– И что в том было бы ужасного?
– Было бы затруднительно, по-моему. Я не могу рассказать им о тебе. Они будут в шоке.
– Им не понравится то, что ты любишь еврея? – В первый раз он заговорил о своем происхождении.
– Джек, разумеется, нет. Не в том дело.
Он ничего не сказал. Они прогуливались у Серпентина. В тот воскресный день стоял студеный холод, и вдруг он бросился на железную лавочку на берегу.
– Присаживайся – мне нужно прояснить это. Можешь честно мне сказать, что будь я каким-нибудь британцем… ну, там, лорд, или граф, или кто тут у вас еще есть… ты не пригласила бы меня к себе домой познакомиться с твоим семейством? До сих пор? Мы знаем друг друга уже почти три месяца, а ты ни разу этого не предложила.
– Это никак не связано с твоим происхождением. Это оттого, что я замужем за Рупертом.
– Я думал, что ты любишь меня.
– Так и есть. Это потому, что я люблю тебя. Они бы поняли это сразу, и… и неужели ты не понимаешь?.. Они бы решили, что я предаю его. Они бы решили, что мне следовало бы ждать, на тот случай, если Руперт действительно вернется.
– Понимаю. И если он вернется, то это для нас конец, так? Ты стараешься держать открытыми все возможности…
– А ты не стараешься понять меня…
– Я боюсь понять. Либо это так, и выбор для тебя связан с тем, чтобы утвердиться в жизни высокородного класса, в большом загородном доме, со всеми этими слугами, а не связываться с каким-то середнячком евреем, кто не владеет ничем, кроме классной камеры, – либо у тебя уже заранее заготовлен какой-то иной вариант. Выйдешь замуж за своего приятеля, Арчи или как его там, и твое драгоценное семейство такое одобрит. Он ведь наезжает погостить, верно? Ты говорила мне об этом… и о том, что он уже как бы член семейства.
Она дрожала от стужи и от страха: таким она его не видела никогда, таким злым, таким резким, таким неуступчивым и, она это чувствовала, таким неправым.
– Когда, – напомнила она, – в тот первый вечер я рассказал тебе о Руперте, ты, похоже, понял – в точности как оно и было – положение, в каком я нахожусь. Что же изменилось?
Он повернулся, схватил ее за руки и больно стиснул.
– Я скажу тебе, что изменилось. Или что, как я думал, изменилось. Мы полюбили. Так я думал. По-настоящему полюбили. А это значит не просто сейчас, сегодня, это затрагивает жизнь каждого из нас. Так я думал. Я хочу жениться на тебе. Хочу от тебя детей. Хочу жить с тобой, чтобы ты была моею. Мне невыносимо даже представить себе, что кто-то другой касается тебя. Ты не дитя, Зоуи. Ты взрослая женщина – ты в силах делать собственный выбор, и тебе незачем идти по жизни, делая то, чего от тебя ожидают другие. Или неужели ничто из этого для тебя не правдиво? Мне в самом деле нужно это знать.
Она настолько была сбита с толку его злостью и этими обидами, так внезапно и жестоко преподнесенными, до того выбита из колеи нападками, обращенными в будущее, о котором, как сама сознавала, тщательно избегала задумываться, что какое-то время просто смотрела на него, не в силах заговорить.
– Да, я люблю тебя, – выговорила наконец. – Тебе это должно быть отлично известно. И правда то, что я не думала о будущем – вовсе. То не правда, что… – Голос ее задрожал и она попыталась сызнова: – Нет и не было у меня никаких «тайных вариантов», как ты их называешь. Я и вправду тебя люблю. Во всем остальном уверенности у меня нет. Кажется мне, что я жила с тобою на каком-то острове – ни о чем другом я не думала. – Она помолчала, а потом, но едва слышно, произнесла: – Теперь – буду.
Он высвободил ее руки, и она закрыла ладонями лицо, словно бы плакала рядом с чужим человеком. Рыдания рвались из нее, словно бы в ней вдруг прорвало плотину горя, неопределенности всех этих лет и самой что ни на есть простой душевной боли, словно бы один мир пришел к концу, а не было никакого другого, чтобы занять его место. Он обнял ее и держал так, пока она плакала. Под конец он был нежен и ласков (и полон раскаяния), отвел ладони от ее лица, смахивал слезинки кончиками пальцев, целовал ее, просил простить его. Они помирились: прощение давалось легко, однако чистое, без примесей, счастье, какое она успела познать, стало летучим, неопределенным, его настоящее протекало в прошлое, успев заразиться будущим. Ссора раскрыла ей глаза: и на то, как сильно она его любит, и на то, как мало она его знает.
На Рождество она чувствовала себя особенно оторванно, не в силах оставить семейство и зная, что он будет один. «У тебя что, в армии нет друзей, с кем ты мог бы отпраздновать?» – спросила она, и он ответил, друзья есть, но ему не хотелось бы праздновать с ними. «В любом случае, для меня Рождество не так-то много значит». Зато он купил подарок для Джульетты, бирюзовое сердечко на цепочке. Они были вместе на Новый год, и он завалил ее подарками: чулки, черная сумочка на выход, одеколон под названием «Бежевый» от Хэтти Карнеги[52], присланный из Нью-Йорка, букет красных роз, мужской шелковый домашний халат, который, как ей казалось, мог стоить целое состояние, и два романа Скотта Фитцджеральда. Она недели потратила, чтобы сшить ему сорочку: шитье заняло так много времени частью потому, что оказалось, что скроить сорочку поразительно трудно, а частью из-за того, что приходилось работать в большей или меньшей степени тайком от семейства. «Ты сшила ее? – потрясенно спросил он. – Ты в самом деле сама сшила это?» Он был глубоко тронут и сразу надел сорочку.
Этот момент показался ей подходящим, чтобы предложить пойти и навестить Арчи. Себе самой она говорила, что хочет этого, дабы развеять в прах ревность Джека к нему, только было еще и желание показать кому-нибудь своего возлюбленного. Арчи же был надежен и неболтлив, к тому же он был единственным, кто знал о существовании Джека.
И вот в тот день, попозже, они сидели у Арчи в квартире (где прежде она была всего лишь раз, когда переодевалась к своему первому свиданию с Джеком, – казалось, уже годы прошли), и Джек с Арчи поладили просто превосходно. Она не прислушивалась к их беседе, потому как все в ней походило на обычный разговор о войне. Вместо этого она обследовала комнату Арчи: смертной белизны стены, большая картина полуобнаженной женщины, возлежавшей на диване рядом с большой вазой роз, – уродливая фигура, зато колорит чудесный. Вот стол, на котором стоял горшочек с гиацинтами, а еще лампа, сделанная из какой-то старинной черной стеклянной бутылки. Полки по обе стороны камина прогибались под тяжестью книг, один небольшой простенок у двери занимал поточенный жучком дубовый комод, в котором, как сказал он ей, хранились запасные постельные принадлежности. Сверху комод был накрыт куском шелка (пурпурный с зеленым) с вышивкой со стеклярусом на нем. Напротив по обе стороны окна висели грязноватые шторы в широкую красно-кремовую полоску, за ними виднелся балкончик, выходивший на сквер. В тот вечер, когда она переодевалась в свое черное платье, ничего этого она не заметила.
Встреча прервалась, потому что Арчи собирался на ланч в Челси, «очень поздний ланч, поскольку хозяйка испанка, но даже и с ней можно и опоздать».
Он поцеловал ее в щеку, поблагодарил их, что зашли, и тогда она заметила, что Арчи ни разу даже не намекнул на жизнь семейства Казалет или на Хоум-Плейс и вообще ни на что, что могло бы дать Джеку почувствовать себя посторонним.
На улице Джек взял ее под руку и сказал:
– Я рад, что познакомился с ним. Хорошо увидеть хоть что-то от вашей семьи.
– Вообще-то он не из семьи.
– А воспринимается, как будто из. Короче, хорошо, что у тебя есть такой друг.
Новый год пришел мягким, сухим и ярким, дождей, казалось, вовсе не было. Впоследствии она никак не могла вспомнить, когда они впервые завели разговор об этом: о войне они говорили нечасто, однако близкое вторжение во Францию, «второй фронт» постоянно поминались в Хоум-Плейс, в газетах, об этом вели разговоры люди в поезде.
– Когда, по-твоему, это произойдет? – походя спросила она его однажды.
– Скоро, надеюсь. Нам понадобится хорошая погода, впрочем. А здесь, похоже, это понимается как лето. Не волнуйся, милая, пока что этого не случится.
– «Волнуйся»? С чего? Разве ты пойдешь?
– Да, – сказал он.
– Во Францию?
– Милая – да.
– Надолго? – глупо спросила она.
– На столько, сколько это протянется, – ответил он. – Не волнуйся. Я всего лишь журналист – лишь своего рода очевидец. Сражаться я не буду.
– Но тебя же могут… – Ужас сковал ее: она идти не смогла.
– В январе я был в Италии. Снимал высадки.
– Ты никогда не говорил мне!
– Не говорил. Но я вернулся живой и здоровый. Это моя работа. Мы бы никогда не встретились, если бы не она. – Он обнял ее за плечи, слегка встряхнул. – И хватит об этом.
– Но ты же скажешь мне… предупредишь… перед тем как уйти?
Он молчал.
– Джек! Ты же… я прошу!
– Нет, – коротко бросил он. – Не скажу.
Потом он выговорил:
– Мы с тобой поссоримся из-за этого, если не будем осторожны. Так что давай не будем болтать об этом.
Прошло два месяца, потом три, и началось лето. В сельской местности благоухал шиповник, в городе начинал цвети разросшийся на кучах разбомбленного кирпича бражник. Когда поезд проезжал через реку до того, как попасть на вокзал, он, как часто бывало, замедлил ход на мосту, и она смотрела, как серебристые аэростаты внезапно раскачивались в небе, затянутом длинными полосами бегущих облаков, бросавших текучие тени на оловянную реку внизу. Поезд прибыл в шесть вечера, у нее было время успеть на 9-й автобус до Найтсбриджа и попасть в студию раньше его. Был понедельник, день необычный для ее приезда, но все их планы на выходные пошли кувырком: он работал, не считаясь со временем, и часто летал в командировки на южное побережье, – а их выходные две недели назад были прерваны приказом Джеку явиться на службу. Но в этот понедельник она приехала, чтобы на следующий день с утра пораньше пойти к зубному, и, когда он звонил ей на неделе, они договорились, что ночь перед походом к врачу она проведет с ним.
На автобусной остановке выстроилась обычная очередь, и, когда автобус наконец подошел, у севшей впереди пожилой дамы порывом ветра сдуло шляпку, той пришлось выйти, чтобы ловить ее, однако кондуктор ждал. «Мне вас никак без ваших буферов не взять», – пояснял он, и пока она разбирала, что за чушь кондуктор несет, сидящий напротив пожилой толстяк разъяснил: «Это рифмованный сленг: «буферов» – «колпаков». Очень забавно, а?»[53] – и улыбнулся ей, выставив свои глянцевитые искусственные челюсти с абрикосовыми прожилками клея. Затем он перевел взгляд на ее ноги и не отрывал его до самого конца поездки.
В студии пахло пылью. Большое окно не открывалось, она распахнула оконца на кухне и в ванной, чтоб пошел свежий воздух. Джек их никогда не открывал: ему, по его словам, нравились жаркие дома и охлажденные напитки – он никак не мог привыкнуть к отсутствию льда и холодильников. Теперь она открыла окна проветрить помещение. Все было очень опрятно, постель заправлена, никаких грязных от кофе чашек, хотя в небольшой холодной кладовке для мяса стояла наполовину полная бутылка свернувшегося молока. Она приготовила себе чашку слабенького чая. Потом решила принять ванну и переодеться до того, как он придет домой. Домой… это и стало домом, подумала она. Он стал уже не таким пустым со всеми книгами, что он собрал, с одеждой, которую она в нем держала, с парой купленных им плакатов компании «Шелл» – один Теда Макнайта Кауффера, другой – Барнетта Фридмана[54].
Было уже почти половина восьмого, когда она переоделась и, чтобы услышать его еще с лестницы, оставила дверь открытой нараспашку. Попробовала было полистать нью-йоркские журналы, которых ему прислали целую кучу, но понемногу начала беспокоиться. Прождала до восьми часов, а затем попробовала дозвониться по его рабочему номеру. Это была прямая линия, ей не надо было соединяться через коммутатор, однако звонок вызова все звонил и звонил, а ответа не было. Он уже на подходе, уверяла она себя, но уже сама же начинала не верить в это.
Она ждала и ждала, а он не приходил. В половине девятого она налила себе крепкого бурбона с водой, отыскала помятую пачку «Лаки страйкс», что он всегда держал в кармане своего халата, и закурила одну: запах его сигарет действовал успокаивающе. Должно быть, его услали куда-нибудь и он не придет. Небо становилось лиловым, ветер, похоже, стих, хотя было по-прежнему облачно. Сев у окна, она следила, как по капле уходит свет, пока не стало темно. И лишь когда в окошко кухни, где она наливала себе второй бурбон, донесся – очень издалека – звон Биг-Бена у кого-то по радио, ей пришло в голову, что, возможно, это вторжение. Мысль явилась, что так могло быть, что он мог уйти, даже не попрощавшись с нею, ушел невесть насколько навстречу бог знает каким опасностям – на этот счет у нее иллюзий не было. Как могут тысячи людей сойти с кораблей и дойти до берега, где их непременно ждали немцы, не ведая страха потерять жизнь? И что бы он ни говорил про то, что он просто очевидец, если был он там, так и в него стрелять будут, как и в любого другого. Она понимала, что не сможет в одиночку сидеть в студии, ничего не зная. Она пойдет в паб в конце конюшен, купит себе выпивку и спросит про новости: там наверняка кто-нибудь да знает. Она ни разу в своей жизни не заходила в паб одна, и в обычной жизни то было бы суровым испытанием, но ныне отчаяние было слишком велико, чтобы робеть, и, когда в маленьком прокуренном баре все до одного мужики уставились на нее с любопытством, замешенном на неодобрении, с каким встречают женщин, приходящих в такое место без спутника, она, не обращая на них внимания, прошла прямиком к бару, заказала малую порцию виски и, когда расплачивалась, спросила бармена, слышно ли что новенького. Новеньким он бы это не назвал, ответил бармен, ей, понятное дело, известно, что мы вошли в Рим. Король Виктор Эммануил[55], кем бы он ни был, попав домой, отрекся в пользу кого-то, чье имя бармену не запомнилось. «Не скажу, что меня это трогает. Иностранные монархии лично для меня – закрытая книга».
Никаких новостей. Она была готова расцеловать бармена. Проглотила свой виски и ушла. Вернувшись в студию, разделась, закуталась в халат Джека и так легла спать.
И только оказавшись в кресле у зубного с ртом, набитым ватными тампонами, она узнала, что вторжение началось в то утро. Она закрыла глаза, изо всех сил стараясь удержать полившиеся слезы, но не смогла.
– Что вы, что вы, миссис Казалет, больно не будет, я еще даже и не начал. Один укольчик, и вы совсем ничего не почувствуете.
Зима 1944/45 годов
– Ты лежи, лежи. Тебе совершенно незачем вставать. Я просто побреюсь, оденусь – и нет меня.
– Ты не хочешь, чтобы я тебя проводила?
– Лучше не надо. В поезде могут оказаться знакомые.
Он исчез, и она услышала, как полилась вода: квартира была устроена из одной громадной комнаты, и перегородки были очень тонкие. Зазвенел его будильник: было половина шестого – он ни за что не хотел опоздать на поезд. Пошарив рукой, она прихлопнула будильник. «Подожду, пока он уйдет, – подумала, – потом встану, умоюсь, оденусь – и уйду».
Когда он вернулся, полуодетый – на черных носках у больших пальцев были видны дырки, заношенные трусы аж блестели, – она спросила:
– И когда я вновь увижу тебя?
– Боюсь, некоторое время нам не увидеться. Скорее, предстоит пережить чуток сумасшедшей войны. – Он подхватил не очень чистую белую сорочку, сунул руки в рукава и стал застегиваться. – И, полагаю, это чуток зависит от твоего мужа.
– Неужели? Как так?
– Он теперь мой шеф. На несколько следующих месяцев, во всяком случае. Есть в этом определенная ирония, разве нет? Где, черт побери, мой галстук?
– На полу.
Галстуком именовалась засаленная черная тряпица, потертая в том месте, где ее раз за разом завязывали. Он поскреб ее ногтем большого пальца.
– Черт! Похоже, чем-то испачкал. Вот ведь смешно, верно, отчего это пачкотня всегда похожа на яйцо, когда яиц и помину нет? – Он подошел к кровати. – Радость моя! Надеюсь, что всегда такими же вот взглядами дарить меня ты будешь… особенно в присутствии других. – Они часто пускали в ход строки из пьесы, послужившей темой для их первого разговора.
– Что ж, – отозвалась она, стараясь попасть в тон, – тревога неизвестности ужасна, но я надеюсь, что недолго длиться ей.
Он уже надевал мундир, поношенный и потертый, как и все остальное его форменное обмундирование, левую сторону груди украшала внушительная колодка орденских планок. У него был крест за заслуги с розеткой, его пять раз упоминали в официальных сводках. Раскрыв свой обшарпанный плоский чемоданчик, он исчез и вернулся с причиндалами для мытья и бритья в мешочке, который сунул в чемоданчик вместе с тюбиком бриллиантина.
– Твой будильник.
– Отлично. – Тронул себя за верхний карман, извлек оттуда сломанную расческу и прошелся ею по щедро напомаженным волосам. Запах крема она терпеть не могла, но не хотела в том признаваться. Потом он подошел к кровати, присел на краешек, чтобы поцеловать ее. Бреясь, он порезался, она сказала, что у него на скуле капельки крови протянулись изогнутой пунктирной линией.
– Бритье в холодной воде, – пояснил он. – И у моих бритвенных лезвий оно все-таки получилось. – Он положил руки на ее обнаженные плечи, отвел с них ее длинные волосы и воззрился на нее своими красивыми большими умными серыми глазами.
– Было же хорошо, правда? Береги себя.
– Ты…
– Разумеется. Хотелось бы думать после прошлой ночи, что ты заметила это. – Он опять поцеловал ее. Теперь изо рта у него пахло мятой, а не виски. – Боюсь, мне и в самом деле нужно идти и выигрывать войну.
– Выиграй ее, – произнесла она, вдруг почувствовав, что вот-вот заплачет, однако прошло.
– В поезде буду представлять тебя лежащей здесь – вся сладострастная, как творение утонченного Ренуара. Очень прелестно. – Он выпрямился, прошелся рукой по волосам, отправляя их назад, подхватил чемоданчик и ушел.
Она подумывала, что после его ухода, возможно, заплачет, но оказалось, что ей этого не хочется. Просто стало грустно и уныло. Вчера вечером, после того как позвонил Рори, она, воодушевленная, была готова идти встречать его: ее охватила бесшабашная отвага, взбаламученная одной только мыслью о том, что она встретит своего любовника и проведет с ним ночь в какой-то неведомой квартире. Несмотря на старания, она так и не находила удовольствия в утехах любви, однако решила, что это всего лишь еще одно из кучи всякого, что с нею не так: дрянная мать, неблагодарная жена, неудавшаяся актриса, непригодное к домашней жизни бесполезное существо, в какое она, похоже, превратилась за эти два года. Ей самой казалось, что все силы уходят на исполнение старой роли миссис Майкл Хадли, болезни горла (с ним, похоже, становилось все хуже и хуже) и общее поддержание на протяжении всех действий образа счастливой, удачливо замужней молодой женщины. Однако в личном плане – с Майклом – уже целую вечность все шло наперекосяк.
И началось это, как она полагала, вскоре после того дня, когда прозвонил дверной звонок в лондонском доме и она, открыв дверь, увидела за нею очень худого смуглого молодого человека в армейской форме.
– Прошу прощения. Майкл Хадли здесь живет?
– Как сказать, когда в отпуске – живет.
– А когда у него будет отпуск?
– Я не очень уверена…
– А-а, ладно, я подожду, – сказал молодой человек, прошел в дом и положил свой вещмешок на пол. – А вы, должно быть, Луиза Хадли. Я видел в «Таймс» ваше фото со свадьбы. Я за границей был, когда вы поженились, иначе я бы на свадьбу пулей прилетел. – И добавил, обаятельно улыбаясь: – Довольно затасканная аналогия в наши дни, не находите? Послушайте, у вас не найдется чего-нибудь поесть? В поезде я съел что-то вроде пирожка с ядом, надеясь ужиться с ним, но его так и тянет вырваться, не мог бы я чем-нибудь загнать его обратно? Между прочим, я что-то вроде кузена, меня зовут Хьюго Вентворт.
Теперь уже она была в восторге. Провела его на кухню, приготовила ему тост с тушенкой и чай (он пил его чашками). Он тараторил без умолку, способный, казалось, вести три разговора разом, рассказывал ей про свое путешествие из, судя по его описаниям, цитадели католицизма на севере, перемежая свой рассказ насмешками над сводками сообщений с войны и исключительно нелестными замечаниями на свой собственный счет:
– В поездах сейчас либо жарко, как в пекле, либо стужа, как во льдах, вы замечали? Послушайте, а вы и в самом деле душераздирающе прекрасны… полагаю, будь я телом поплотнее, я б ужился с тем пирожком с ядом. – Тут он ужасно смешно раздулся лицом, говоря: – Геринг отделался всего лишь легким несварением. А смешное изображение бычьей головы на банке с тушенкой, правда? То есть меня занимает, как по-вашему, всего ли быка видно на наклейках или всего лишь эту чрезвычайно благонадежную морду? По вас совсем не скажешь, что у вас есть ребенок, должен сказать, видно, он у вас был очень маленький… А есть еще тосты? Хотя, чего бы мне сейчас и впрямь хотелось, так это лобстера. Жизнь в Йоркшире с дорогой мамулей была сплошной длинной лепешкой военного времени, а поскольку до войны она еду никогда не готовила, лепешки напоминали маленькие ручные гранаты. Вы не станете возражать, если я у вас малость поживу, нет? На ночь я могу на полу пристроиться, я прискорбно привык к неудобствам. Не могу высказать вам, до чего я рад, что Майкл на вас женился. Я уж боялся, что он вообще никогда не женится…
– Он написал ваш портрет, верно? Я только сейчас вспомнила.
– Он их несколько написал. Я, когда в Оксфорде был, частенько бывал в Хаттоне. Судья был весьма великолепным крестным. У вас тут есть фортепиано? Мы могли бы пойти и попеть сентиментальные дуэты. Это вас повеселило бы. Знаете, нечто вроде «Истинная любовь владеет моим сердцем, его же сердце у меня» – чистая слащавость, если хотите знать мое мнение.
– Вот не подумала бы, что людям перепадает шанс порасспросить вас как следует.
– Ах! Это все мой латинский темперамент. Моя мама француженка, крошечка черная вдова, естественно, я зову ее «маман». Отец мой, впрочем, был англичанин, какой-то там родственник Судьи. В предыдущей войне ему крепко досталось, и он умер, когда я родился, так что я всегда оставался скороспелым единственным ребенком. А вот вы – нет, верно? Вы из очень большой семьи, мне говорили.
– Нас всего четверо, зато великое множество кузин и кузенов.
– Тогда вы едва ли заметите еще одного, верно? Могу я пойти и взглянуть на вашего малыша?
– Его здесь нет. Он за городом с моим семейством. Это из-за ФАУ-2.
– Что ж, нельзя так нельзя. Вообще-то я от младенцев не без ума. Они почти всегда мокренькие, и вид у них такой удручающий. В толк не возьму, отчего люди так с ними носятся.
– Я с ними не очень-то ношусь, – сказала она и сразу почувствовала, как стала чуть бледнее, сумев выговорить такое.
– В самом деле! Очень и очень интересно. – Он взял ее за руку. – Бедняжка, значит, один-то у вас есть.
Хотя он и болтал (все больше чепуху нес) большую часть времени, она быстро обнаружила, что он очень многое подмечает и не такой уж безалаберный, каким хочет казаться. К тому времени, когда Полли с Клэри вернулись с работы, ее одолевало ощущение, будто она знает его много лет, и надежда, что он будет гостить неделями. Девушкам он полюбился сразу, и после веселого ужина они изображали выпуски киножурнала «Гомон Бритиш Ньюс» с действием и музыкой, но без слов. В этой игре Хьюго не было равных: комментаторы скачек, «Куин Мэри», военные корреспонденты, даже м-р Черчилль, задувающий семьдесят свечей на торте в свой день рождения; когда же он был свободен от этого, то наигрывал какую-то спортивно-героическую музыку на расческе с куском туалетной бумаги.
В первый раз он гостил с неделю, зато потом стал появляться когда вздумается, став одним из семьи и в особенности неутомимым сопровождающим Луизы. Они ходили в «Олд Вик», дававший спектакли в Новом театре, обычно она покупала билеты, у него, похоже, денег не было никогда (во многом потому, думала она после, что он то и дело дарил ей подарки). У него был верный взгляд на добротные вещи в лавках старьевщиков, и однажды он через полгорода пронес на себе антикварный пемброковый стол. «Он стоил девять фунтов и на самом деле вполне красив – получше того жуткого карточного столика, у которого моль проела все зеленое сукно», – сказал он. В другой раз он заявился с прилизанной челкой набок и черными усиками под носом.
– Heil, mein Eva![56]– закричал он, обхватывая ее руками. – Просто мне хотелось посмотреть, что получится. Но народ в автобусе лишь бросал взгляд, а потом, казалось, испуганно смущался и отворачивался. Забавно, я-то думал, женщины визжать будут, а мужчины попытаются меня арестовать. – В этом случае он был одет в гражданское. – Правило номер тысяча семьсот шестьдесят четыре дробь пять девять недвусмысленно гласит: не одевайся как враг, – сказал он.
Когда, еще в первый приезд Хьюго, позвонил Майкл и она рассказала ему, что тот к ним пришел, он, казалось, довольно подчеркнуто сердечно отнесся к этому. «Вот славно-то! Жаль, мы с ним разминемся. Передай ему, чтоб вел себя хорошо, и дай ему все самое лучшее», – вот и все, по сути, что он сказал.
В конце концов они таки пересеклись – на один вечер, – и она заметила, отчетливее, чем прежде, как привычные домашние шутки вяли в присутствии Майкла, сидел ли тот с застывшей добродушной улыбкой на лице или, что еще более неудобно, пытался перещеголять их, – и тогда либо слышался угодливый смех, либо кто-то менял тему разговора. Им с Хьюго было неловко друг с другом: Хьюго пытался поддеть его, а Майкл пренебрежительно осаждал его, а потом шел на мировую. «А ты почему сейчас в Лондоне?» – спросил он Хьюго, который ответил, что у него есть работа в военном министерстве.
– Ты, стало быть, здесь живешь?
– В общем, да, пока работа не кончится. Луиза очень любезно сказала, что мне можно.
Когда в ту ночь они укладывались спать, Майкл заметил:
– Думаю, ты могла бы прежде меня спросить о Хьюго. Он способен быть немного паразитом.
– Извини. Я думала, ты доволен будешь. Во всяком случае, он не ведет себя как паразит, постоянно приносит прелестные вещи. Те бокалы, из которых мы пили за ужином, это он их принес, и ту стеклянную вазу в виде купола с цветами – тоже. Он жутко умеет выбирать вещи и всегда дарит их мне… нам, – поправилась она.
– Что ж, будь осторожна, чтобы он не попытался подцепить тебя.
– Что за дурацкая мысль, – резко ответила она. Тогда она была сердита – и невинна.
Случилось это поближе к Рождеству. У нее разболелось горло – зимой всегда становилось хуже, – и сопровождалось подавленным состоянием, которое все труднее и труднее становилось скрывать.
Однажды вечером Хьюго вернулся с работы раньше и застал ее в слезах. Она старалась смазать себе горло каким-то гадким коричневым снадобьем, от которого было больно, да еще и помазок она сунула слишком глубоко в горло, и ее затошнило. Он нашел ее в ванной комнате над раковиной, всю в горячке и в слезах. Хьюго уложил ее в постель, дал ей попить горячего и аспирин, потом пришел и сел рядом. «Я вам почитаю. Тогда у вас горло от разговоров болеть не будет», – сказал. Он был до того деловит и добр, читал ей до того прекрасно, что она почувствовала себя хоть и больной, но радостной, и уснула спокойным сном.
Когда проснулась, он все еще сидел рядом.
– Сколько времени?
– Колдовской час миновал, – сказал он. – Вы долго и хорошо поспали. – Он померил ей температуру, и она оказалась почти нормальной.
– Вы здесь все это время сидели?
– Большую его часть. Полли принесла мне сэндвич. Я читал. Но я не жульничал и не продолжал читать «Адриана». Читал кое-что другое.
– Хьюго, вы самое доброе существо, какое я только встречала.
– А вы существо, которое я люблю больше всех, кого я только встречал.
Настало полное трепещущее молчание.
Услышанное не было потрясением, признание казалось самым естественным на свете. Оно было тем, что и она чувствовала, и она сказала ему об этом.
Несколько недель после этого сознанием ее владело беззаботное счастье, казавшееся ей совершенно новым. Когда он каждое утро уходил на работу, осознание того, что вечером он вернется, поддерживало ее целый день. Силы вернулись к ней: она украшала дом, она куда больше старалась готовить вкусные ужины (у него был невообразимый аппетит: ел все, что на глаза попадало, и оставался худющим). Случалось, она ездила на велосипеде в центр города пообедать с ним, возвращаясь обратно в гору по Эджвер-роуд, цепляясь ременной петлей за грузовики. По выходным они вдвоем ходили по антикварным лавкам, отбирая что-нибудь для дома, – это напоминало ей, как до войны они с Полли ходили на Черч-стрит. Она и вправду чувствовала, словно вдруг стала гораздо моложе, едва ли и взрослой-то вообще: он был ей братом, ее другом, самой лучшей для нее компанией в мире – она любила его. Однажды она взяла его домой в Суссекс на выходные, где его ждал мгновенный успех. Обычно она каждые две-три недели навещала Себастиана, который уже топал своими ножками и точь-в-точь походил на Майкла. Эти посещения причиняли ей много боли, заставляли испытывать множество волнений и чувствовать себя виноватой. Она понимала: от нее ждут, что она окажется не в состоянии выносить разлуку с сыном, – понимала и то, что на самом деле не было никакой причины, зачем ее надо разлучать. Ей вовсе незачем жить в Лондоне: это Майклу было удобно держать ее там, однако втайне она знала: если бы заявила, что должна быть со своим малышом, он бы на это согласился. Еще это означало бы длительные и постоянные наезды в Хаттон, а на такое она пойти не смогла бы.
В эти недели о любви разговора не было: это само собой разумелось между ними, – но она все же рассказала ему, какой ужас и страх внушает ей враждебность Ци. Он выслушал, сказал, что знал, она не любит женщин, настолько сразу всех, что в том нет даже ничего личного. «И, как я полагаю, после войны у вас будет Майкл, чтобы защитить вас от нее», – закончил он. Увидев же, что она молчит, вдруг выпалил: «Только он не защитит, так? Он делает все, что она пожелает».
Она пристально глянула на него, осознавая ужасную правду:
– Разве? Да, он так и поступает.
– Луиза! Я вас не спрашивал: поклялся, что не спрошу никогда, – но сейчас спрашиваю. Вы его любите?
– Я не знаю, – жалобно протянула она. – Думала, что да, но я не знаю. У меня словно бы все чувства неправильные, а значит, и чувствовать их мне не след. Я пробую обходиться совсем без них, но делается только хуже и хуже. В прошлый раз, когда он приезжал, мне было нестерпимо… – Залившись краской стыда, она не смогла договорить.
Он смотрел на нее с любовью.
– Я как бы знал, – заговорил. – В самом деле – с первого же дня, как увидел вас… – Было что-то от подавленной душевной муки в том, как он произнес это. Откашлялся, прочищая горло, и выговорил: – Что ж, по крайней мере, у вас есть я.
– Разве есть? Или есть? – вскрикнула она и бросилась в его объятия. То был первый раз, когда он поцеловал ее, начал целовать ее и не мог остановиться, они прижались друг к другу, ища утешения, новой уверенности и потом страсти, которая пришла к ней сладостным потрясением, словно все ее тело в первый раз в жизни познавало любовь.
– Так вот что это такое! – произнесла она во время затишья. – Этого хотят оба.
– Бедняжка ты моя. Именно оба.
Но в постель они не легли. Несколько ночей после того, как девушки ложились спать, они встречались в гостиной, укладывались вместе на пол перед камином, сжав друг друга в объятиях, целовались, пока не делалось больно губам, а их самих не изводило желание. Был, однако, некий молчаливый уговор избегать соития, и под конец они босыми, держась за руки, на цыпочках шагали по ступеням наверх, а поднявшись, безмолвно расходились по своим спальням.
На следующей неделе на прогулке он заявил, что дальше так продолжаться не может и единственное, в чем он видит благородный выход из такого положения, это поговорить с Майклом. Поначалу ее эта мысль ошарашила: она наверняка не привела бы ни к чему хорошему, но он был тверд, и постепенно (хотя и возможный исход ее весьма страшил) у нее стало появляться ощущение, что он прав. В конце концов, она была необычайно неправа в том, что думала и что чувствовала, она доверилась ему, к тому же и она тоже чувствовала, что они не смогут и дальше продолжать как сейчас. Она любила его, и он, должно быть, знает лучше нее.
Майкл приехал в отпуск на сорок восемь часов на следующей неделе. Они с Хьюго устроили так, что Луиза будет внизу на кухне готовить обед, пока он будет говорить с Майклом.
Весь тот день, день возвращения Майкла, она пребывала в какой-то нервической эйфории: не могла представить себе, как отреагирует Майкл, и это было страшно, – с другой стороны, пока Хьюго там, она чувствовала, что в конечном счете все должно быть хорошо.
Прошло совсем немного времени, и она услышала, как Майкл сверху зовет ее подняться к ним. Она вошла в гостиную и увидела, что оба мужчины стоят – Хьюго у окна; когда она вошла, он повернулся к ней лицом, и она заметила, что он очень бледен. Майкл стоял у камина, одной рукой опершись о край полки, лицо его пылало; едва он заговорил, как она поняла, что он очень сердит. Сказанное им было неприлично, снисходительно и презрительно. Такой чуши он в жизни не слышал – они ведут себя как испорченные детишки, хотя ему казалось, что уж Хьюго-то достаточно взросл, чтобы соображать получше (Хьюго был на год старше Луизы, ему, стало быть, было двадцать три года). На что он только рассчитывал, выдвигая столь совершенно идиотское предложение?.. – и так далее. Весьма странно, если бы кто-то, сражаясь вдали на войне, которая, чего они, видимо, не заметили, все еще идет, вернувшись, нашел, что его родственник, так много времени проведший с его семьей, набаламутил с его женой, и уж совсем чудовищно то, что та, очевидно, забыла про свое положение…
– Ради бога, – перебил Хьюго, – перестаньте говорить о Луизе, словно ее здесь нет!
Он вообще больше не собирается об этом говорить, отозвался Майкл. Здесь просто не о чем разговаривать. Он должен идти, иначе может опоздать на обед.
– Какой обед? – спросила она, не успев удержать себя.
Обед с мамочкой и Судьей. Ему казалось, он говорил ей: когда мамочка услышала, насколько краток будет его отпуск, то решила приехать на день в Лондон, чтобы повидаться с ним. Теперь, учитывая обстоятельства, ему как-то неловко брать ее с собой. Закончил Майкл тем, что заявил Хьюго: это его дом, и после того, что он ему высказал, он, естественно, ожидает, что Хьюго тотчас же этот дом покинет. «Хочу быть уверен, что к моему возращению тебя здесь не будет. И даже в мыслях не держи хоть когда-либо вновь заявиться сюда».
Когда Майкл ушел, кое-какие последствия того, что они натворили, стали им очевидны. Ему придется уйти, сказал Хьюго. После такого он никак не может оставаться в доме Майкла. Это было бы сверх меры бесчестно. А может, и она уйдет с ним? Нет, сказал он. У него нет денег, чтобы содержать ее, им негде было бы жить, и он привязан к армии. «Я должен посылать деньги крошке черной вдове, – пояснил он. – Я бы тебе не сказал, но ей на жизнь не хватает, а значит, если честно, у меня остаются деньги только на карманные расходы».
Майкл вел себя ужасно, заметила она, в душе ее теплилось убеждение, что их честность должна была бы быть как-то вознаграждена.
– Мы ведь ему правду сказали, – то и дело твердила она. – Или, во всяком случае, ты сказал.
– Правда не всегда приятна для других людей, – ответил он. – К тому же он любит тебя. Нельзя сбрасывать это со счетов.
– Откуда ты узнал, что он меня любит?
– Он не пришел бы в подобное неистовство, если бы не любил.
– Значит, не надо нам было ему говорить, – произнесла она спустя некоторое время.
– О, дорогая, надо. Всякое иное было просто ложью, обманом… жуткой гадостью…
За разговором они спустились на кухню пообедать, но есть ни ей, ни ему не хотелось. Хьюго сказал, что должен все же собраться, и, пока они выискивали повсюду его вещи и разыскивали что-нибудь, во что их сложить, возник вопрос: а куда же, скажите на милость, ему податься. Он об этом не думал, признался Хьюго, подыщет местечко – ей об этом нечего беспокоиться. Но, конечно же, она беспокоилась и подумала, а не мог бы он пойти к дяде Хью. Но если так, то как они объяснят это девчонкам? Слава богу, их в те выходные не было. Когда он уложил вещи, она подумала об Арчи. Хьюго знаком с Арчи, они друг с другом ладили, думала Луиза. «Но я не настолько же его знаю, чтобы пойти и завалиться к нему», – возражал Хьюго. Она устроит, сказала она. Но когда позвонила Арчи, никто не ответил. К тому времени было уже почти три часа, и Хьюго заявил, что ему лучше просто уйти.
– Я всегда могу пойти в турецкие бани. А в понедельник смогу найти кого-нибудь на работе, у кого есть что-нибудь на примете. Тебе в самом деле не стоит об этом беспокоиться.
– Но ты же позвонишь мне сказать, куда ты пойдешь? – спросила она.
– Я позвоню тебе в понедельник вечером, после того как Майкл уедет. Обещаю.
То, что они должны расстаться, уже сказывалось. Вещи его уже в прихожей: они не знали точно, когда Майкл вернется, и Хьюго не хотел идти на риск еще раз быть выставленным вон. Он обнял ее и нежно поцеловал в губы.
– Какая-то дьявольская неразбериха, правда? – произнес он. У нее в глазах стояли слезы.
– Проводить тебя до автобуса?
– Лучше не надо, лучше я с тобой тут попрощаюсь.
– Я тебя так сильно люблю.
– Ты существо, которое я люблю больше всех, кого я только встречал, – сказал он. Он отвел волосы с ее лба и снова поцеловал. – Прощай, милая моя Луиза.
После того как закрылась входная дверь, она расслышала, как звякнула калитка палисадника. Ей не были слышны его затихавшие шаги, и в доме воцарилась тишина. Она поднялась наверх в комнатку, которая была его, бросилась на его кровать и плакала так, что даже горло заболело.
Однако то было лишь началом того времени, что оказалось самым черным в ее жизни.
Когда Майкл вернулся, она безо всяких рассказов поняла, что он все обсудил со своей семьей – с Ци. Теперь им владела холодная решимость школьного учителя. Она поедет с ним в порт, где ему предстояло вступить в командование новым эсминцем. Жить она будет в тамошней гостинице, а он будет ночевать на берегу. Уезжают они в воскресенье днем. И он потребовал от нее всего одного обязательства. Она не будет писать Хьюго или общаться с ним каким-либо иным способом. Совсем. И только так. Она была настолько оглушена такими переменами, что согласилась – и только потом поняла, что, когда Хьюго позвонит в понедельник вечером, ее уже там не будет. Попросила разрешить ей написать всего одно письмо ему и объяснить, что произошло, но Майкл ответил: нет. «Судья разъяснит ему, что к чему, – сказал он. – Совершенно нет необходимости тебе предпринимать что-то в этой связи».
Вот так, всего двадцать четыре часа спустя она уже стояла в мрачном просторном вестибюле у регистрационной стойки гостиницы «Стэйшн» городка Холихед[57], равнодушно ожидая, пока Майкл оформит все бумаги и отыщут ключ от их номера. Потом носильщик провел их в лифт, поднял на третий этаж и повел по широкому темному коридору мимо множества дверей, пока наконец не остановился у одной из них и, повозившись ключом, не отпер ее. Когда он внес чемоданы и получил от Майкла шиллинг, то ушел. Они вновь оказались наедине – больше, чем в поезде, где рядом находились другие люди и было шумно.
– Я оставлю тебя вещи разбирать, – сказал он, помывшись, что прозвучало как поблажка. – Встретимся в ресторане через полчаса.
Дверь с громким щелчком тяжело закрылась за ним. На некоторое время она просто присела на край своей кровати. Гостиница уже воспринималась как тюрьма. От долгого путешествия в тесном, наполненном дымом вагоне у нее ломило голову, в пути она поспала, потому что не спала предыдущую ночь (Майкл настоял, чтобы они пошли ужинать с каким-то морским офицером и его женой). За ужином мужчины говорили о своем о флотском, а жена офицера говорила о детях и о том, как ей, Луизе, повезло жить в гостинице, каждую ночь с мужем, живым и здоровым. Потом они отправились танцевать, убив на это, как ей показалось, много часов. Ей казалось, что она будет рада, что этот нескончаемый, ужасный день кончился, но к тому времени, когда Майкл безмолвно и безразлично, по-быстрому закончил «заниматься с ней любовью» (и почему люди зовут это так? – недоумевала она), она уже не была способна предаться забытью – тому, чего желала весь вечер. Лежала в темноте, недвижимая и без сна: она непрестанно думала о Хьюго с того самого момента, как он ушел, но так получалось, что шок расставания обратил в лед ее сердце, до того парализовал ее мысли, что весь день, весь вечер боль, казалось, отошла, она понимала, что это больно, только она была за пределами слышимости, так сказать. Но рядом со спящим Майклом началась оттепель, началось мучение. Она тосковала по Хьюго, она любила его, она представить себе не могла, как будет идти по жизни без него – это очень походило на всепоглощающую тоску по дому, что владела ею в детстве. «Если бы только я могла быть с ним, – думала она, – мне все другое было бы безразлично». В тот день и в день за ним Майклу как-то удалось заставить ее чувствовать себя виноватой за, как он выразился, ее поведение. В одиночестве ее мучения легко одолели чувство вины. Казалось невероятным и ужасным, что ей слишком поздно довелось познать, что есть любовь.
* * *
Ужин в обеденном зале, где были такие громадные окна и такой высоченный потолок, что в нем никак не могло быть тепло. Они сидели за столиком, на котором стояла одна гвоздика в окружении листьев папоротника, и ели консервированный томатный суп, холодную ветчину с картошкой и маринованной свеклой, на десерт предстояло выбирать между яблочным пирогом и сливовым пудингом. Майкл утверждал, что на завтрак в этой гостинице кормят лучше всего. Зал был наполовину заполнен флотскими и другими, кто, по словам Майкла, ожидает полночного парома. После ужина они прошли и сели в другом громадном зале, где (после длительных периодов ожидания, пока подадут) можно было выпить кофе, чаю или джин с тоником. Они взяли кофе, и Майкл рассказывал про свой новый корабль, а она думала о том, как Хьюго звонит на Гамильтон-террас и выясняет, что ее там нет. Ей удалось оставить записку для Полли с Клэри, в которой она написала, что Майкл неожиданно настоял на ее отъезде вместе с ним в воскресенье, что Хьюго тоже пришлось уйти, но он будет звонить, и, пожалуйста, кто бы из них ни снял трубку, пусть объяснит ему, куда она подевалась, хорошо? Все же лучше, чем ничего: она знала, что Хьюго поймет, что она не хотела уезжать, а если он будет знать, где она, возможно, он напишет ей хотя бы одно письмо, пусть она и не сможет на него ответить.
Она кое-как скоротала вечер, делая вид, будто исполняет роль в довольно утомительной пьесе, и заметила с чем-то вроде подлинного интереса, что Майкл воспринимает ее игру, словно бы это и не игра вовсе. Он считал, что ей так же интересно все, что имело отношение к его кораблю, как и ему самому, а потому, подумала она, был бы весьма удивлен, если бы это нагоняло на нее скуку. К тому времени, когда надо было ложиться спать, он стал куда меньше похож замашками на школьного учителя, в целом стал радушнее и откровеннее. Было исполнено обычное представление в постели, однако вместо изначального отвращения она решила и дальше играть, выяснив при этом, что в таком случае ей вовсе ничего не надо чувствовать. Зато потом, когда она могла позволить себе ощутить одиночество, поскольку он спал, вал тоски по дому, страстной тоски по Хьюго накрыл ее с головой. В ушах у нее звучал его голос, тот, что услышала она в первый день: «Послушайте, а вы и в самом деле душераздирающе прекрасны…», «Чего бы мне сейчас и впрямь хотелось, так это лобстера». Она вспоминала тот день, когда он принес стол и они целый день потратили на то, чтобы вместе отполировать его настоящим пчелиным воском, и тот день, когда он отыскал стеклянный купол с цветами: «Свадебный букет мисс Хэвишем[58], – вскричал он, – мы просто должны это взять!» Его добрую заботу о ней, когда сунула помазок для смазывания горла слишком глубоко, ее затошнило и было до того мучительно… Никто в жизни не был к ней так добр: мама всегда следила, чтобы за нею был должный уход, однако обычно, когда болезнь проходила, наставляла, что, если бы Луиза была менее беззаботна, она бы, возможно, и не подцепила никакой гадости, отец всегда навещал ее, когда болезнь укладывала ее в постель, – и, насколько она помнит, такое внимание никогда не вызвало в ней признательности, ей даже как-то неловко делалось… Зато Хьюго сидел рядом, когда она проснулась ночью, после того как часами читал ей – ту совершенно замечательную книгу о том, как простой человек стал римским папой, очень интересное изложение личной фантазии писателя, как сказал тогда Хьюго, рассказывая ей о странном авторе, назвавшемся Бароном Корво[59]. Он отыскал «Адриана Седьмого» на каком-то книжном развале, он всегда находил книги (среди них никогда не попадались те, о каких она хоть что-нибудь слышала), приносил их домой и читал ей отрывки из них. Потом зазвучало его признание в любви к ней: «Вы существо, которое я люблю больше всех, кого я только встречал», – он произнес это дважды, второй раз в их последние секунды вместе. А потом – «Какая-то дьявольская неразбериха, правда?». До того он никогда не влюблялся, он признался ей в том однажды, когда помогал ей мыть голову. «Мне нравились девушки, и порой я даже думал, что они куда как не просты, но чувства мои к ним были весьма мелкими».
«Ты яблоками пахнешь», – сказала она ему однажды вечером, когда они лежали вместе, и сейчас она вспоминала, как после его ухода бросилась на кровать, на которой она спал, и, уткнувшись в подушку, уловила тот же самый – тонкий запах. Каждую ночь в такие часы она жила с ним и когда наконец засыпала, то держала свою руку, представляя, что это его.
Жуткий и бесцельный порядок проживания в гостинице в полном безделье установился быстро. В последующие недели она выбиралась на одинокие – и обычно под дождем – прогулки, обедала в одиночестве с книгой, иногда (оттого, что, несмотря на безделье, ощущала непреходящую усталость) поднималась в номер и лежала на кровати, плакала, а потом засыпала. До ужина то на одном корабле, то на другом собирались выпить: она неловко спускалась по осклизлым железным лестницам, вделанным в стену дока, на покачивающиеся палубы боевых кораблей, старый переоснащенный эсминец Майкла или на один из стоявших рядом фрегатов. Дальше спускалась по трапам в кают-компании разных размеров, но непременно пахнущие дизельным топливом, сигаретным дымом и влажными мундирами. Потом обратно в гостиницу на ужин, меню которого она очень скоро знала наизусть. Вечерами Майкл рисовал: офицеров-сослуживцев, иногда их жен, если те задерживались на день-другой, и никогда ее. Из ночи в ночь он утверждался в обладании ею, похоже, без особого удовольствия – скорее необходимый ритуал.
Прошел весь январь: Хьюго не написал. По выходным, когда не было выходов в море, Майкл отправлялся пострелять в поместье по соседству. Владелец, с кем они еще в школе учились, ушел на войну, но дал распоряжение своему агенту позаботиться о Майкле, если тому вздумается поохотиться. Она познакомилась с агентом, Артуром Хаммондом, однажды вечером, когда тот привез Майкла после дневной охоты. Это был вежливый, смуглый меланхолик со старомодными обвислыми усами. Луизе он понравился. А тот сказал, что его жена вот-вот родит ребенка, что удивило ее: на вид мужчине было, по меньшей мере, лет пятьдесят. Она сочла это детским представлением, но такого рода мысли посещали ее часто. Последние несколько недель жизни в гостинице с Майклом превратились в проживание ребенка со взрослым (Майкл тоже, судя по всему, переменился, или, наверное, она впервые разглядела его), почти все их поведение и разговоры были невразумительны, а потому занудны: он, казалось, командовал ее жизнью, а она была слишком несчастна, чтобы выражать сомнение или противиться.
Так что, когда однажды вечером он, вернувшись с трудной дневной охоты, сказал, что Артура вызвал в Лондон его работодатель, отпуск которого был чересчур краток, чтобы позволить заехать на Англси, а Артур беспокоится о жене, оставляя ее одну на ночь, и спрашивает, не будет ли Луиза столь ужасно любезна, чтобы побыть с ней, она просто в ответ спросила, считает ли Майкл, что ей следует поехать.
– Да, думаю, следует. Бедный малый весь вне себя от беспокойства. Жена его родила, но, кажется, она себя не очень-то хорошо чувствует.
– Хорошо. Разумеется, я поеду. – Она стала было говорить, что не очень-то много понимает в младенцах, но замолчала.
– О, отлично! Ты давай быстренько наверх, дорогая, собери то, что тебе понадобится на ночь, а ему скажу. Он звонит по телефону соседу ее матери. Если дозвонится, то, как он уверяет, она завтра приедет. Но поторапливайся, потому что ему придется тебя отвезти, а потом обратно ехать, чтобы успеть на поезд.
Спустя десять минут она сидела рядом в Артуром в машине, катившей по темным узким извилистым дорогам.
– Ребенок родился преждевременно, и у нее что-то вроде лихорадки, понимаете. Очень подавлена. Не знаю, что это. Но врач придет завтра. И мама ее приезжает, так что это всего на одну ночь. Вы ужасно добры, должен признаться.
– Я не очень-то много знаю про маленьких детей, – призналась она.
– Я вообще о них ничего не знаю, – сказал он. – Женился довольно поздно. У нее это первый.
– Как ее зовут?
– Мафаня.
Он остановил машину у больших железных ворот, перекрывавших подъезд к дому. Без света фар все скрывалось в кромешной тьме, и Артур, взяв Луизу за руку, провел через калитку и вывел на небольшую веранду. Входная дверь вела прямо в гостиную с горящим камином, поленья в нем почти выгорели, но было светло от небольшой лампы на скамейке. Когда они вошли, из очень больших, высотой почти до потолка, дедушкиных часов послышалось какое-то жужжание, после чего на них пробило положенные четверть часа.
– Она наверху, – сказал Артур.
Луиза пошла за ним по крутой узкой лестнице, которая вышла на квадратную площадку, на которой едва хватало места им обоим. Дверь налево была распахнута, и он вежливо постучал, прежде чем они прошли в спальню, почти вся мебель которой состояла из старинной двуспальной кровати с латунными набалдашниками, освещала комнату другая лампа, стоявшая на полу рядом с кроватью.
– Мафаня, я привез Луизу. Она останется с тобой.
Девушка, лежавшая спиной к двери, резко, беспокойно повернулась к ним лицом.
– Тебе ж было сказано разыскать мою маму! – почти выкрикнула она. Лицо ее пылало, в глазах блестели слезы. Она попыталась сесть, потом опять откинулась на подушку. – Я хочу, чтоб она пришла, я же тебе так и сказала!
Он подошел к кровати и стал гладить ее по спутанным темным волосам.
– Она приедет. Завтра утром она будет здесь. Сегодня вечером Луиза присмотрит за тобой. Ты же помнишь. Я говорил тебе, что должен ехать в Лондон на ночь.
– Повидать своих шишек, – буркнула она. Она смахнула с себя одеяло, бретелька ночнушки спала с ее белого плеча, обнажив одну грудь, округлую и наполненную молоком, виден стал и крохотный малютка, туго закутанный в шаль и лежавший молча и недвижимо рядом с матерью.
Дитя задохнется под одеялом, подумала Луиза, и ей представилось жуткое: оно уже умерло.
Девушка, казалось, впервые заметила Луизу. «Он не берет ничего. Я ему не нужна», – выговорила она, и слезы медленно поползли у нее по лицу.
– Там какое-то лекарство, утром врач оставил. Ей надо принимать его каждые четыре часа. – Он указал на пузырек, стоявший у постели. – Вы посмотрите, чтобы она приняла его? У нее жар, она может и не вспомнить. Мне уже надо идти, – сказал он громче, но жена, похоже, его не слышала. Он склонился, поцеловал ее, но она, сделав еще одно резкое движение, отпрянула от него.
– Возможно, лучше было бы забрать у нее ребенка ненадолго, – проговорил он тихонько. – Но вам виднее, само собой.
С тем он и ушел. Она слышала, как за ним закрылась дверь, а немного погодя завелась машина и отъехала. На какое-то мгновение ее охватила полнейшая паника: и дитя уже мертвое, и мамаша его умом тронулась от горячки и одолевшего ее горя. Она смотрела на Мафаню, которая теребила в руках ночнушку, слегка постанывая, когда беззаботные пальцы торкались ей в груди. «Боже, прошу тебя, дай мне сделать все правильно», – пришло ей на ум. Она обошла кровать и взяла малыша. Тот был меньше Себастиана, даже когда тот только родился, но не был мертв. Его припухлые, почти прозрачные веки дернулись, потом вновь замерли.
– Оуэн, – произнесла Мафаня. – Ему не жить. Я знаю это, – и она принялась с плачем кататься по постели.
– Нет, – твердо выговорила Луиза. – Я дам вам лекарство, и вы хорошенько выспитесь.
– Если я усну, он умрет, – произнесла она голосом, в каком звучала такая душераздирающая уверенность, что Луиза, парализованная жалостью, неожиданно обрела силу.
– Пока вы будете спать, я присмотрю за ним, вот он и не умрет, – выговорила она со всей уверенностью, на какую была способна, давая столь дикое обещание.
Но Мафаня, похоже, приняла это: она кивнула, взгляд ее доверчиво остановился на лице Луизы.
– Есть ложечка для вашего лекарства?
– Я должна принимать его в воде. Ванная комната рядом.
Она оглядела липкий, захватанный пальцами стакан рядом с пузырьком и взяла его в ванную, вымыла и отмерила дозу. «Две чайные ложки, – было написано, – каждые четыре часа». Когда она вернулась, Мафаня пыталась заставить малыша выпить ее молока, но тот отворачивал головку от ее соска и начинал издавать изнуренные, тоненькие, похожие на мяуканье плачи. Луиза осторожно забрала и положила малыша в конец кровати. Он по-прежнему плакал, но чутье ей подсказывало, что прежде всего нужно напоить мать лекарством. Она помогла Мафане сесть, отвела длинные прядки волос от лица и пылающего лба и подала ей стакан. Когда лекарство было выпито, Луиза перевернула горячую подушку, оправила простыни и одеяло.
– Комната Оуэна рядом с ванной, – сказала Мафаня. – Все его вещи там, мы с моей мамой всю одежду ему приготовили, там же чайник есть, если захотите приготовить себе чаю. Но вы же не будете спать, правда? Вы посмотрите за ним?
– Да, конечно же. Я буду бодрствовать, если вы обещаете уснуть.
Когда на лице Мафани мелькнула тень улыбки, Луиза увидела, что она красива.
– Я оставлю воду у постели на тот случай, если у вас жажда появится, – сказал она. Но, когда она зашла в комнату с водой, Мафаня уже спала.
Началась ночь наедине с малышом. Она вскипятила чайник и налила воды в бутылочку с чайной ложкой глюкозы. Потом вылила оставшуюся воду в эмалированную миску и опустила туда бутылочку, накрыв ее салфеткой, чтобы сохранить тепло. Комната Оуэна была крохотной, в ней стояли раскладушка, корзина малыша и столик для пеленания с приготовленными тальком и булавками. Она пощупала, не промок ли малыш, – промок, она уложила его на раскладушку и встала на колени, чтобы перепеленать его. Малыш был до того жалостливо мал, что она боялась причинить ему боль, и он заплакал своим изнуренным плачем, пока она возилась с пеленками. Луиза закрыла дверь и молилась, чтобы Мафаня не услышала его. Она собиралась положить его в корзину, но личико у малыша был таким бледным, а ручки и ножки такими холодными, что она передумала. Сняла свитер и легла на раскладушку, подложив под себя подушку и пальто. Потом раскутала его из шали и взяла его на руки так, чтобы тела их соприкасались. Однако в комнатке было до того холодно, что она почувствовала, что так ребенка не согреет, а значит – с раскладушки вон и обратно в ванную, где, помнится, на глаза попалась грелка. Когда она наполнила ее, завернула в малышовую шаль, а потом еще, боясь обжечь его, в свой свитер. На раскладушке уложила его так, что он оказался между нею и грелкой. Стоило ей угомониться, как настала тишина, каждую четверть часа нарушавшаяся лишь отдаленным боем дедушкиных часов внизу. Она оставила свет, а потому могла следить за малышом: в комнате было очень холодно, и ей был виден пар собственного дыхания. Тогда она села, пристально всматриваясь в крохотное морщинистое личико, стараясь влить в него жизнь, желая ему выжить, и через некоторое время, когда он согрелся и кожу его покрыл слабый румянец, малыш открыл глаза. Мгновение-другое они отстраненно блуждали, но потом успокоились – и вот уже Луиза с ним смотрели друг на друга. Тогда она заговорила с ним: похвалы, ободрение, восхищение его стойкостью, – а он следил за ней с каким-то нешуточным вниманием. Она чувствовала, как двигалось это тельце, как неуверенно упиралась ей в грудную клетку его ножка, как пальчики на его свободной руке расправились и вновь сжались в тугой бутон. Когда он пустился пробовать свой ротик, причмокивая и перебирая губами, она попробовала дать ему подслащенной воды. Сосать он не сосал, даже соску в рот не взял, зато, когда она выдавливала воду ему в ротик, он ловил капельки, хотя вкус их вызывал шквал недовольства: малыш вопил, личико его сморщивалось в сердитые рожицы. Попил он очень мало: даже унции не выпил, – но и это было уже кое-что. После этого, когда он снова разжимал кулачок, она давала ему свой палец и была вознаграждена его мгновенной хваткой, ослабевавшей только тогда, когда малыш засыпал.
Так и повелось в ту ночь: она прислушивалась к бою часов внизу – два часа, три, четыре. Раз она встала, чтобы убедиться, что Мафаня все еще спит, но она несла его на руках с собой, а в другой раз она вскипятила еще чайник, сменила в грелке воду и подогрела его бутылочку. Еще два раза он снизошел и выпил еще по несколько капель (просыпаясь, он все время смотрел на нее), но больше всего он спал.
Чем дольше длилась ночь, тем труднее и труднее было не уснуть, но она набралась решимости, а помогло и осознание того, как быстро он стал холодным, так что в любом случае она не осмеливалась ложиться, хотя спина ее болела от сидения в одном положении. Но главным было ее растущее убеждение, что жизнь маленького болезненно хрупка, что ему необходимо не только одно тепло ее тела и уход, но и ее неизбывная решимость, что он должен жить: к тому времени она любила его.
Вскоре после семи часов она услышала, как Мафаня встала, пошла в ванную, а потом встала в дверном проеме, спрашивая о ребенке. «О, он прекрасно выглядит! – воскликнула она. – Я так выспалась благодаря вам. Смертельно хочу чашку чая. Я спущусь вниз и приготовлю».
– Вы отправляйтесь обратно в постель и примите лекарство. Потом я принесу вам малыша и сама приготовлю чай.
– Слушаюсь.
Он спал, когда она укутывала его в шаль: ей хотелось, чтобы он проснулся и они могли опять смотреть друг на друга, но он не проснулся. Она отнесла его и устроила у матери. «Она его мать», – сказала она себе, спускаясь вниз приготовить чай. Было по-прежнему темно, и ей было слышно, как дождь хлестал по маленьким островерхим готическим окнам.
В восемь часов прикатила на велосипеде местная медсестра. Луиза спустилась вниз на стук в дверь и застала ее за тем, как она высвобождалась из дождевика-накидки и капюшона.
– Льет как из ведра, погодка, – сказала медсестра. Говорила она так, будто английский не был ее родным языком. – Доктор Джоунз просил меня приехать как можно раньше. Послеродовая горячка, сказал он, вот что это. Наверх, она там? Не беспокойтесь, я найду дорогу.
Вот и все, вообще-то. Она приняла благодарности и предложенный велосипед, чтобы вернуться. Когда же наклонилась к малышу поцеловать его, сестра попросила не будить его, потому она целовать и не стала. «Я так вам признательна», – сказала Мафаня, но и она стала стеснительной в присутствии медсестры.
«Пустяки», – уверила ее Луиза.
Однако, продираясь сквозь дождь на велосипеде домой, укутав голову шарфом, который быстро промок насквозь, она, даром что голова шла кругом от изнеможения, в то же время ощущала и какой-то душевный подъем. В памяти запечатлелся взгляд малыша, в котором проглядывали доверие и достоинство, и образ этот не отпускал ее все пять изнуряющих миль. «Я еще увижу его, – подумалось. – Все равно же придется отвозить велосипед обратно». Потом ей пришло в голову, что никогда она не чувствовала ничего подобного к Себастиану, однако мысль была болезненной, а она слишком усталой, чтобы разбираться с ней.
Она думала сразу же лечь в постель, но запах завтрака остановил ее, и она поняла, что сильно изголодалась. Поужинать прошлым вечером не довелось, вспомнила она.
В обеденном зале завтракал командир одного из МТК из эскадры Майкла со своей женой, которая, появляясь примерно раз в месяц, всегда носила чопорные платья с отложным воротничком. Луизе она никогда не нравилась.
– Силы небесные! – обратилась она к Луизе через весь зал. – У вас такой вид, будто вы бродили где-то на ночь глядя! А я все гадала, с чего это ваш муж завтракал один-одинешенек.
– Он просил передать вам, что ему нужно было успеть на раннее совещание, – сказал ее муж.
– А-а. Спасибо. – Она перекинула мокрое пальто через спинку свободного стула и намазала маргарином кусок оставленного Майклом тоста. Тост больше походил на кожу, чем на хлеб, вкус у маргарина был ужасный, но она до того хотела есть, что едва ли замечала это.
– Так где же вы были? Или нам сказать об этом нельзя?
Удержавшись от того, чтобы придумать какую-нибудь дикую историю о ночных танцульках и кутеже, Луиза ответила, что оставалась у подруги, которая только-только родила ребенка. Это заставило умолкнуть Барбару, пробурчавшую что-то в том смысле, что она уж никак и не думала, будто младенцы так Луизе по душе.
Покончив с завтраком (куда вошло все, что значилось в меню), Луиза пошла наверх, собираясь принять горячую ванну, а потом поспать. Но на кровати лежала записка Майкла: «Дорогая, надеюсь, все прошло хорошо. Вернусь к ужину. Привет – Майкл». Его уверенность в том, что и от нее может быть какая-то польза, грела душу, пока она стаскивала с себя намокшую одежду. У Майкла был толстенный домашний халат, и она решила надеть его, пока вода в ванну льется, а то уж ее дрожь пробирать стала. Даже руки замерзли. Она сунула их в карманы и нащупала письмо. Вынула и узнала почерк Ци. Ей было известно, что Майкл часто пишет ей, но ее письма приходили прямо ему на корабль, и она их ни разу не видела. Разобрало любопытство.
В письме после подробного разбора его военных действий на море и известий о людях, едва ей известных, стояла подпись: «Всегда с любовью, как тебе известно, миленький мой. Мамочка». Но был и еще один листочек.
Только что получила твое послание от 10-го и подумала, что тебе будет небезынтересно узнать, что Хьюго отправлен в свою часть в Германию, так что он надежно убран с пути. Очень надеюсь, миленький, что воспримешь это с облегчением, ведь, невзирая на то, что Пит вырвал у него обещание не общаться с Луизой никоим образом, ты, должно быть, чувствуешь, что ни ему, ни ей полностью доверять нельзя, Пит был ошеломлен, когда узнал, что он таки написал ей, наплевав на обещание. Как же удачно, что ты смог перехватить письмо. Разумеется, по-моему, ты был вправе поступить так – вся эта история, должно быть, чересчур мучила тебя, как, признаться, и меня, поскольку любая из твоих тревог, милый мой, становится и моей. Еще раз – люблю и благословляю. Мамочка.
Этот листочек она прочла дважды, но и вторичное прочтение не уняло вызванного письмом смятения чувств. Мука оттого, что он уехал из страны, а она об этом даже не знала, страх оттого, что его убьют, облегчение оттого, что ослушался семейного запрета и все-таки написал ей, мучительное нетерпение отыскать и прочесть посланное им письмо, и при всем при том – ярость в отношении этого жуткого тайного сговора. Она принялась искать письмо в ящиках его комода, в карманах одежды, висевшей в гардеробе, – но не нашла его. Мелькнула мысль, что Майкл уничтожил его, но эта мысль была для нее невыносима. Письмо ей нужно было так сильно, что оно просто должно было существовать… где-то. Когда уже и помыслить было нельзя, где еще искать, она бросилась на кровать и плакала до тех пор, пока не осталось слез, и изнеможение, как туманом, укутало ее.
Проснувшись, она увидела стоявшего у кровати Майкла, говорившего ей, что пора ужинать. «Ты, должно быть, немало часов проспала», – сказал он.
Таким было начало их первой и самой ужасной ссоры. Она прочла письмо его матери, сообщила она.
Ей не следовало бы этого делать.
Почему это? Она же читает чужие письма.
Молчание.
Она узнала про Хьюго. Ей нужно письмо от него.
Это невозможно. Он его уничтожил.
После того как прочитал, предположила она.
Нет. Это было бы бесчестно. Он просто уничтожил его. В конце концов, было обещание дано.
Она дала обещание не писать, она не обещала не получать письмо. Всего-то одно-единственное письмо, с мольбой просила она. (Она никогда не получала от него ни одного письма, это было бы хоть чем-то, что можно хранить, – хоть какое-то утешение, а иначе никакого не будет.)
Гораздо лучше порвать полностью. Так она скорее справится с этим.
Откуда он взял, что она хочет справиться с этим? Она любит его. Все эти недели ему, похоже, и в голову не приходило, что она любит его.
И что, как она считает, он должен при этом чувствовать? Она любила его – вполне достаточно, чтобы выйти за него замуж и родить их ребенка. Или она это всерьез не воспринимала? Эти недели и для него не были легкими. Он старался сделать скидку: понимал, что она еще очень молода. Брак трудное дело, когда одному из супругов приходится так подолгу не быть дома. Про Хьюго она забудет, однако это случится гораздо скорее, если она хоть какое-то усилие сделает и не станет так легко поддаваться всему.
Он действительно уничтожил письмо?
Да бога ради – да! Он не лжец – ей наверняка известно об этом?
Он не лжец, сказала она, но он и не говорит правду.
Это уж как-то слишком умно, он не понимает, что она хотела этим сказать.
Этим она хотела сказать, что он ей попросту не рассказывает ни о чем.
О чем это?
Она не станет утруждать себя перечислением.
Молчание.
Она взглянула на него, словно никогда прежде не видела.
«Я никогда не прощу тебе того, что ты уничтожил мое письмо».
Та ссора, как и все наихудшие ссоры, на том не кончилась, или, коли на то пошло, в любой конкретный момент после: Луизе стало ясно, что холодная неприязнь, с какой она сказала, что никогда не простит его, ударила по нему больнее, чем любые мольбы или попытка объяснить, как важно для нее это. Он относился к ней как к ребенку (плохо себя поведшему) и наказывал ее за провинность, не вникая ни в какие причины или чувства, которые могли бы такое поведение вызвать. Она подумала тогда, что даже то, что он ночь за ночью укладывался с нею в постель, было неким видом наказания, раз он, похоже, сам тоже не испытывал при этом удовольствия. Она отказалась пойти с ним ужинать, а когда он вернулся к ней намного позже вечером, сделала вид, что спит.
На следующее утро она проснулась с головной болью, очень больным горлом и легкой горячкой, после этого на несколько дней последствие ссоры маскировалось ее болезнью и его стараниями по уходу за ней, когда он не был на службе. Он привел врача, который прописал обычную жуткую мазь для смазывания горла, еще аспирин и запретил пить много жидкости. Еще он сообщил, что миндалины сильно поражены и, по его мнению, их надо удалить. Майкл приносил ей цветы и книги. «Я ведь вправду люблю тебя, ты же знаешь», – говорил он. Еще он предложил, что на время, пока она чувствует себя паршиво и, наверное, весьма заразна, ему лучше ночевать на корабле. Так что три дня постель была полностью в ее распоряжении, даром что чувствовала она себя до того ужасно, что дни и ночи пролетали в каком-то подобии бесконечной полосы времени, когда она была либо без сознания, либо лежала в оцепенении, думая о Хьюго: где он теперь, когда она снова увидит его, скучает ли он по ней, любит ли все еще ее? А что хорошего могло быть, даже если и любит? Она замужем за Майклом, у нее ребенок, так что по-настоящему-то ничего уже не изменить. Большую часть времени она была настолько слаба, что и не думала ни о чем таком, а когда плакала, так то из-за того, что нет у нее его письма – словно бы не ожидала больше увидеть его.
Майкл приезжал перед ужином каждый вечер, сообщая ей разные новости. «Союзники берут Берлин в кольцо», «Я звонил в Хоум-Плейс, и твоя мама сказала, что у Себастиана еще два зуба прорезались, а новая няня просто бесподобна. Просила передать тебе привет и надеется, что скоро ты опять будешь здорова, дорогая».
На четвертый вечер он предложил встать и пойти на ужин.
«Я пригласил нового старпома с корабля Мартина присоединиться к нам. Тебе пойдет на пользу, дорогая, побыть немного в компании. Сразу же после можешь опять забираться в постель».
Вот так она впервые и встретилась с Рори. Они вели долгий разговор об Оскаре Уайльде, и он сразу ей понравился.
1945 год
За год (или чуть больше), что они прожили в доме Луизы, она сумела сделать свою комнатку в мансарде более или менее такой, какой ей хотелось. Она избавилась от бумажных обоев с их облачками и пришпиленными чайками и выкрасила стены в густой зеленый цвет. Потом окрасила мебель белой краской. В итоге получилось нечто воздушное, приятное своей свежестью для глаз, хотя летом в комнатке под самой крышей с единственным ромбовидным готическим окошком все равно было довольно душно: спать приходилось с открытой дверью, чтобы было хоть какое-то движение воздуха. Зимой, разумеется, все наоборот: комнатка становилась самой холодной в доме (не считая спальни Клэри, точно такой же комнатки рядом). Поискать старый восточный ковер и повесить его на одной из длинных стен, чтоб стало потеплее, посоветовал ей Хьюго, и она отправилась на большой рынок, где в конце концов нашла то, что нужно: основа ковра местами потерлась, но узор в оранжевых, розовых и коричневых тонах был великолепен. После этого она продолжала отыскивать всякие вещи и изменять комнату, пока та не стала как раз такой, какой задумывалась. Хьюго был ужасно умелым в том, чтобы придать любой вещи красивый вид, он даже, похоже, у Луизы пробудил интерес, потому как убранство гостиной сделалось куда менее обезличенным. Хьюго же помог ей приладить на другой стене простую полку, на которую она смогла выставить свои подсвечники из делфтского фаянса и другие вещицы из фарфора, приобретенные ею за много лет. «Полагаю, ты влюблена в него», – заявила Клэри с заметным осуждением, когда пришла посмотреть на полку.
«Нет. В том-то все и дело. Он просто один из нас. Нет тут никакой беспокоящей чепухи».
Она намекала на смущающее обыкновение, с каким знакомые мужчины, похоже, влюблялись в нее. За последний год она должна была (или чувствовала, что должна была) трижды поменять место работы, дабы избежать ежедневного общения с людьми, уверявшими ее в нетленной любви. Начинали они всегда с просьбы позволить им пригласить ее куда-нибудь, и – до сих пор – их намеренно обыденный тон обманывал ее. Даже если ей и не особенно-то хотелось, она никак не могла заставить себя сказать «нет». Первый вечер, или обед, или прогулка, или поход в кино, или что угодно еще обычно проходили пристойно: мужчины много рассказывали о себе и заканчивали уверениями, какое удовольствие для них говорить с нею. Однако на третий раз (или даже, как было однажды, на второй) погода менялась: громыхали подавленные чувства, пока не разражались ливнем мужских признаний. А главное, после этого приходилось сносить расспросы Клэри. «Поскольку совершенно никто не делает предложений мне, ты должна мне рассказывать. Во всех романах есть сцены признания – мне в самом деле нужны все сведения, до каких я могу добраться».
Отказать Клэри она могла не больше, чем кому угодно другому, вот и пересказывала терпеливо признания, предложения, последующую якобы погибель жизни воздыхателя…
– Честное слово, Полл, ты прям опасность какая-то. Я знаю, ты такой быть не желаешь, но ведь, получается, ты такая и есть. Этого не может быть просто потому, что ты такая ужасная красавица, должна быть в твоей натуре какая-то жуткая слабина.
– Понимаю, что должна быть. Но в этом столько беспокойства. А иногда и скуки чуток.
– Скуки не было бы, если бы ты их тоже любила.
Не успев остановить себя, она выпалила:
– Этого я никогда не сделаю.
– Ну тогда… а почему бы тебе не выдумать кого-то, с кем ты помолвлена? Могла бы носить на левом пальце свое кольцо с изумрудом – как сигнал.
– Думаешь, получится?
– Если не иметь в виду полных скотов, то да. А даже ты должна суметь различить их.
– Э, нет, – вздохнула она печально. – Я понятия не имею, как их различать. Тогда ты мне придумай кого-нибудь. – Она знала, что Клэри обожает такое.
– Хорошо. Значит, так, ему лет двадцать пять, у него чудесные густые вьющиеся волосы, он вполне художественная натура, он спортивен, ловок в играх и безумно влюблен в тебя с первого же раза, как увидел… ах да, как Данте, он впервые увидел тебя, когда тебе было девять лет (это подтверждает, как сильно он влюблен), а когда тебе было восемнадцать, он попросил у твоего отца твоей руки, и, естественно, с тех пор ты и помолвлена.
– А точно я уже не вышла бы замуж, а?
– Точно – потому что война. Отец твой сказал, что ты должна дождаться конца войны. Как тебе такое?
– Мне все равно, ловок ли он в играх, – для меня в этом нет никакой разницы.
– Но ты не против, чтоб он был художественной натурой?
– Нет, не против. Не хотелось бы, чтоб у него были светлые вьющиеся волосы. У мужчин я предпочитаю темные волосы.
– А я и не говорила вовсе, что он светловолосый.
– Значит, мне не нравятся завитушки. И, думаю, он должен быть старше.
– Тогда – тридцать.
– Еще старше.
– Сколько ж ему?
– Где-то около сорока, я бы подумала.
– Не будь такой глупой, Полл. Ты никак не можешь быть помолвлена с сорокалетним!
– Не понимаю, почему? Мистер Рочестер. Мистер Найтли[60], – привела она примеры.
– Джейн с Эммой обе были старше тебя. Ты совершенно испортила моего героя. Ничего похожего. Понять не могу, зачем ты вообще меня попросила.
– Ну, он же все равно художник.
– Я совсем не говорила художник! Я сказала, натура художественная. Ты начинаешь делать его таким, что он на Арчи похож!
– Конечно же, ничего подобного!
– Сорок, темноволос, неспортивен, художник. Похоже, вылитый он.
– Ладно, толку ведь нет, если и похож, верно? То есть это же все выдумка.
– По-моему, толк есть. – Она подумала немного и прибавила: – Арчи это могло бы не понравиться.
Она не ответила. Ей вдруг очень-очень захотелось остаться одной, что было трудно, поскольку они обе готовили особый ужин в честь вернувшейся с Англси Луизы. Она закончила нарезать яблоки и выложила их в форму для пирога, для которого Клэри творила тесто, потому что умела это лучше всех. Потом она вспомнила, что Клэри всегда трогало, когда ее советам не следовали в точности.
– О-кей, – сказала. – Наверное, ты права. Итак, ему двадцать пять, с вьющимися волосами, я знаю его целую вечность, и он всегда был влюблен в меня.
– А ты в него. Иначе он был бы таким же, как и они.
– И я в него. А как его зовут?
– Генри Аскот, – объявила Клэри, которая вновь пребывала в хорошем настроении.
Вернулась Луиза. «На вид она бледна и выглядит как-то старше», – подумала Полли. О своей жизни на острове рассказывала немного: разве что про скуку в гостиницах, про то, что делать было нечего. Впрочем, она рада, что вернулась. Намеревалась попробовать устроиться на работу на Би-би-си, читать поэзию или еще что, а теперь, когда ФАУ-2, похоже, притихли, она думала взять Себастиана с няней обратно к себе. Иначе, по ее словам, она его совсем знать не будет.
И только когда все разошлись спать, Полли осталась одна, а к тому времени ее уже охватила нервная боязнь, как бы наблюдение за нею не выявило того, что она таила в себе. Уже много месяцев, почти сразу же после переезда в дом Луизы, она жила тайной двойной жизнью: одна – со своим семейством и людьми, с кем она встречалась и работала, и другая, вмещавшая одну лишь ее – и его. Эта вторая жизнь едва ли была жизнью, поскольку не было в ней целостности, больше она напоминала прокручивание в мыслях избранных отрывков из фильма – снова и снова. Началось это как воспоминание о том, что действительно происходило в жизни, например, как он в первый раз пригласил ее поужинать с ним одну, без Клэри. «Когда вы вместе, мне ни одну из вас не удается понять», – сказал он тогда. Очень скоро она выбросила из памяти «ни одну из». Потом как он советовал ей поступить в художественную школу. «У вас талант, – говорил он. – Я недостаточно знаю, чтобы понимать, куда это заведет вас, но если вы не поступите и не узнаете об этом больше, то и вы тоже не поймете. Я не хочу, чтобы вы растрачивали себя попусту». Первый раз, когда она рассказала ему про то, как м-р Фэйерберн с ее работы сделал ей предложение. «Что ж, Полл, вы несказанно красивы и привлекательны, так что должны ожидать чего-то подобного». – «У других, похоже, с этим не так-то много бед», – отозвалась она – с нажимом. «Что ж, другие не так красивы, как вы». Но эту похвалу она сама выудила, и радости от нее было меньше, чем от похвал непрошеных.
Потом однажды (это было после того, как Клэри взяла у нее шелковую блузку, а потом заляпала ее приправой к салату) она пожаловалась ему на то, как Клэри то и дело берет у нее вещи поносить, а после портит их, «особенно если она проводит вечер с вами», – заметила она, на что он издал фыркающий смешок и сказал, что Клэри считает его своего рода заменой отца, оттого и хочет выглядеть при нем как можно лучше. «Тогда как вы, поскольку у вас есть превосходный собственный отец, вы можете считать меня просто кем-то вроде доброго дядюшки, таким, с кем не очень-то надо церемониться».
После этого она оставила чистые воспоминания и принялась сочинять.
Фантазии, начавшись нерешительно (а что почувствуешь, если он ее обнимет? Если скажет, как жаждет видеться с нею почаще? Если спросит, не будет ли она возражать починить ему рубашку?), постепенно делались смелее, но их сдерживало, как выяснилось, все растущее несоответствие между тем, что она думала о нем, когда его не было рядом, и тем, что происходило на самом деле, когда он был. Так, после одного исключительно романтического вечера с ним, каким она наслаждалась в своей зелено-белой спальне, где он признался ей, что думает о ней все время, когда ее с ним нет, он поцеловал ее (они уже дошли до обмена поцелуями), а потом они ввязались в роскошно безнадежный спор о том, что их разделяло (она не уверена, что, но что-то должно было быть, путь истинной любви вовсе не бывает гладким), было весьма трудно ждать его у станции «Тоттенхэм-Корт-роуд» и – после веселого чмоканья в щечку – отвечать на его расспросы о всем семействе и слушать, как он, быстро хромая впереди нее по ветреной улице, поторапливал: «Полл, поторопитесь, или мы пропустим анонсы». Иногда она сама чувствовала, как краснеет тогда, когда из-за того, что имело отношение к нему, краснеть было нечего. В последний раз, когда они виделись, он только и говорил, как американцы потопили самый большой боевой корабль Японии, а когда она спросила его, что в этом такого важного, он ответил, что, как только война в Европе закончится, все переместится на Тихий океан. «Во всяком случае, военный флот. Смахивает на то, что Ямамото теснит Королеву в шахматной партии».
– Вы же ведь не поедете, правда?
– Я с большой охотой, но – сомневаюсь. Не говорите этого Клэри. Мне не хотелось бы расстраивать ее без толку. (Тогда ей это не понравилось, позже она превратила это в: «Знаю, что могу доверить вам тайну, вы единственный человек, кому я доверяю».)
Потом он сказал: «Вы б по мне скучали, Полл?»
(Когда она оставалась одна, это менялось на: «Мысль уехать мне невыносима, мне будет так недоставать вас». Она засыпала в его объятиях.)
То, что им говорилось о войне, беспокоило ее. Воистину люди вокруг говорили о том, когда она кончится, только она не думала об этом просто в смысле Европы, и мысль, что война будет продолжаться, только где-то за тысячи миль, глубоко удручала ее. Война, как теперь ей казалось, шла чуть не всю ее жизнь: трудно было четко вспомнить, как что было до нее, виделся только веселый хоровод чудесных летних месяцев в Хоум-Плейс, когда и кот ее был жив, и Уиллс еще не родился. Чувства Клэри были во многом такими же.
«Хотя порой я думаю, а так ли уж отличались бы наши жизни, если б не было войны. То, чем мы занимаемся, я имею в виду, нам не по чувствам. Полагаю, ты, возможно, создана была, чтобы стать дебютанткой, и тогда для тебя было бы отличие, но я, видимо, имела бы ту же работу, что и сейчас, и занималась бы писательством». С недавних пор Клэри работала секретарем у литературного агента, который вместе с женой управлялся с очень небольшой фирмой, и работа эта ей очень нравилась. «Они, по правде, относятся ко мне как ко взрослой, – рассказывала она после первой недели. – Он пацифист, а она вегетарианка, но, если не считать жутких ореховых котлет, которые она дает нам в ланч, иногда это ужасающе интересно. Жаль, что ты никак не найдешь того, что тебе по-настоящему было бы по душе».
– Сообразить не могу, что бы это могло быть, – правдиво отвечала она. – Я хочу сказать, что если просто писать на машинке письма, отвечать на телефонные звонки да организовывать прием людей, то во многом все равно, кто они такие. – Сама она работала сейчас у врача на Харли-стрит, сидела в темной каморке с высоким потолком, поддельными картинами голландцев и копией обеденного стола, заваленного очень старыми журналами.
– А ты совсем уверена, что не хочешь стать художницей?
– Абсолютно. Я лишь пишу ужасно милые старательные картины, которые понадобились бы людям, которым не нравится живопись.
– Ой, Полл, право слово, остерегись. Нет – угодишь в западню брака. Посмотри на Луизу.
Они обе умолкли. Вскоре после возвращения Луизы они обсуждали это и пришли к не очень-то радостным выводам. Клэри заявила, что Луиза подавлена. Полли сказала, что, по ее мнению, Луиза на самом деле несчастна. Обе они сошлись на том, что с Майклом не очень-то легко разговаривать. «Он просто рассказывает тебе о том, чем сам все время занимается, а Луиза, должно быть, все это уже успела узнать».
– По-моему, для большинства женщин брак очень вреден, – сказала Клэри.
– Это кто тебе сказал?
– Ноэль. – Ноэль был ее работодателем.
– Сам-то он женат, – напомнила Полли.
– Только чтобы уберечь свою жену от призыва в армию. То было продуманно взрослое соглашение. В обычном смысле его пример тут никак не подходит.
– А ты не думаешь, – осторожно начала Полли, – что она, может, чуточку влюбилась в Хьюго? И такая грустная была, когда ему так неожиданно пришлось уйти, что ей больше невыносимо было оставаться здесь?
– Я думаю, тут все как раз наоборот. По-моему, Хьюго влюбился в нее, а поскольку положение в целом было безнадежным, она решила уехать и быть вместе с Майклом, а уж тогда он не захотел оставаться здесь.
– С чего ты считаешь, что все шло именно по такому кругу?
– С того, как вел себя Хьюго, когда позвонил сюда по телефону в первый же вечер, как вернулся из Родового Гнезда. Когда я сказала ему, что она уехала, он говорил так, будто ошеломлен был.
– Записку ему она оставила.
– Разумеется, – кивнула Клэри. – Полагаю, на самом деле вся история могла быть еще ужаснее, и они оба влюбились друг в друга. Такое, должно быть, довольно часто происходит, потому как вполне хватает писателей, написавших о том в своих романах. Жаль, ее нельзя расспросить.
– Ради всего святого, не вздумай!
– Не говори глупостей. Только все это доказывает, что брак дело чрезвычайно хитрое, и тебе, Полл, надо быть особенно осторожной.
– Полагаю, если найти того, кто нужен, все будет в порядке.
– Это если. И потом, можно найти их, а ты им будешь не нужна. И потом, мужчины ищут женщин гораздо моложе.
– Мы и есть женщины, что гораздо моложе…
– Это мы сейчас…
– Наверное, было бы делом, – выговорила Полли как могла небрежно, – выйти замуж за человека намного старше, пока сама молодая.
– Луиза так и сделала, – напомнила Клэри.
Это заставило Полли умолкнуть.
В последнее время она стала замечать, что Клэри намного легче удается заставить ее замолчать: это как-то было связано с тем, что она перестала поверять ей сокровенное, – нельзя, так ей чувства подсказывали, хотя полной уверенности, почему нельзя, у нее не было. Хотя и не было ясного представления, как именно не одобрит Клэри: насмешкой, обидой, недоверием даже, – не было у нее ощущения, что она сможет вытерпеть что угодно из этого. Рассказать Клэри едва ли не значило бы все разрушить и, что ничуть не лучше, не позволило бы в реальной жизни смотреть ему в глаза. А если уж Клэри не расскажешь, значит, и никому другому не рассказать. Вот только такое утаивание породило у нее своего рода примиренческое отношение к Клэри, что как-то, она чувствовала, ослабляло связи между ними.
Потом одним утром в пятницу посреди апреля, когда Луиза все еще лежала в постели, а они с Клэри сонно поджаривали тосты для завтрака на кухне, зазвонил телефон.
– Сходи наверх, ответь. Я за тостами пригляжу, – попросила.
– Спорим, это Луизу! – крикнула Клэри сверху.
– Пятница тринадцатого, – возвестила она, ввернувшись. – Кто б сомневался.
– А что такое?
– Зоуи просит меня приехать посидеть с Джули. Ей нужно в Лондон, присмотреть за детьми ее подруги, поскольку подруга заболела или что-то там еще.
– Эллен не может справиться?
– Очевидно, у Уиллса всю неделю уши болят, она плохо спала и из сил выбилась. А меня Ноэль в субботу вечером берет с собой на читку жутко интересной пьесы в стихах, которую написал один коммунист. Он ужасно рассердится: просто терпеть не может, когда приходится менять его планы.
– А не могла бы Зоуи привезти Джули в Лондон, а наша няня помогла бы присмотреть за ней?
– Они с Луизой едут в Хаттон. Нынче ее ежемесячные выходные там. О, все это так надоело. Меня не каждый день приглашают на читку пьесы коммуниста.
– Хочешь, я с тобой поеду?
– Благодарю покорно, но нет. В конце концов, ты в прошлые выходные ездила.
Так оно и было: через неделю она навещала своего отца и Уиллса.
– О-кей, – сказала, – только у меня есть предложение. А что, если Анна? – Они уже успели побывать и поужинать в новой квартире Анны. Клэри сказала, что Полли придется сходить одной, и ее такая перспектива слегка волновала.
Анна Хейсиг была той леди, кто ненадолго стал их однокашницей в путманской школе. В конце концов они заговорили с ней, и выяснилось, что она дружелюбна и, похоже, была рада (как радуются забаве) с ними общаться. Помимо того, что Анна была иностранкой (что само по себе захватывало: никаких других иностранцев они не знали) и оставалась загадочной. Родом она была из Вены, но какое-то время жила и на Востоке, в Малайзии, где вышла замуж, – и опять, похоже, ненадолго. У них сложилось впечатление, что в ее жизни происходило много всякого, но ничто не длилось очень долго. Их восхищала ее внешность: обличье всклокоченного благородства, ее голос, тембр которого менялся с ласкающей, почти озорной доверительности, когда она рассказывала им какую-нибудь невероятную историю, на глубокий, почти глумливый баритон, когда она отрицала, что ее истории просто невероятны. «О, да-с!» – восклицала она в добродушном нетерпении в ответ на их недоверие. («Анна, наверняка все эти женщины не стали бы проделывать весь путь от Голландии до самого Куала-Лумпура, чтобы выйти замуж за первого, кто их выберет!» Однако: о, да-с!) Похоже, ей доставляло удовольствие их шокировать.
– Вы, должно быть, были очень красивы в молодости, – сказала ей как-то Клэри.
– Я была умопомрачительна, – ответила Анна. – Могла окрутить любого, кто был мне по нраву. Я была очень, очень испорченной. – И она улыбалась своим чувственным воспоминаниям.
– Так и кажется, будто все по-настоящему захватывающая тайна, – пожаловалась Клэри, когда они возвращались домой с одного из вечеров у Анны.
Она училась печатать на машинке, чтобы писать книгу. Деньги нужны, объясняла она, поскольку у нее, по сути, их совсем не было. Несмотря на это, она, похоже, снимала, или ей предлагали почти что даром, квартиру за квартирой, поразительно хорошо одевалась, следуя собственному своему стилю. Иногда она заходила на Гамильтон-террас, порой они приходили к ней, где их ждала необычная для них еда: простокваша, маринованные огурчики, странные колбаски и почти черного цвета хлеб.
Однажды Полли устроила так, что они взяли с собой Анну поужинать с отцом в его клубе, однако вечер успеха не имел. Ее отец был безукоризненно вежлив, задавал Анне чопорные вопросы, на которые та отвечала и высокопарно, и загадочно, так что разговор застревал в мелких тупичках. Позже отец назвал Анну необычной, а она его типичным: приговоры, положившие конец всякому дальнейшему общению.
– Короче, – подвела итог Клэри, – их просто нельзя представить супругами. Социалисты и консерваторы не сочетаются браком друг с другом… только представь, какие были бы перепалки всякий раз, когда они раскрывали газету. Оба они слишком стары для перемен – во всем, бедняги. Когда Ноэль женился на Фенелле, ей просто пришлось переметнуться к консерваторам, иначе он бы этого не сделал.
В тот субботний вечер, когда Полли была у Анны одна, она решилась проверить, не сможет ли разобраться в таких вопросах, в каких не смогла бы разбираться в присутствии Клэри.
Она принесла букетик нарциссов и несколько шоколадок: Анна обожала, когда ей дарили цветы и сладости, и однажды попотчевала их сказкой о том, как их дом до того был переполнен букетами, которые приносили ухажеры после каждого танца, что им с матерью пришлось извозчика нанять, чтобы отвезти цветы в местную больницу. «О, да-с! – уверяла она. – Их были десятки и десятки: лилии, розы, гвоздики, гардении, фиалки – все цветы, какие только представить можно».
– Клэри не смогла прийти, – сказала Полли, поднимаясь вслед за Анной по ступеням домика при конюшнях.
– Вот как!
– Она обещала позвонить и сказать вам.
– Меня почти весь день дома не было.
На полу был расстелен большой кусок мешковины, а рядом с ним кучей набросаны клубки шерсти и обрезки материи.
– Я создаю одну из своих известных картин, – пояснила Анна.
– Можно я помогу? Я вполне прилично умею шить.
– Если хотите, можете связать мне кусок дюймов в четыре-пять. Это будет вспаханное поле.
Анна вручила ей моток толстой крапчатой шерсти и пару очень больших спиц.
У нее был патефон, который надо было заводить, чтобы слушать пластинки, пока хозяйка готовила ужин.
– Малера здесь не понимают как следует, – сказала она. – Вы, наверное, даже не знаете, что это за пьеса.
Позже вечером Полли заговорила о том, о чем хотела расспросить. Надо ли, если речь идет о деле очень серьезном, делиться с кем-то, если ты обычно всегда им доверялась, а в этом случае не смогла, потому как боялась услышать их суждения?
Анна суть ухватила сразу:
– То, чем хочется поделиться, имеет к ним отношение?
– Нет… вообще-то нет. Это касается кого-то другого.
– Этот кто-то другой знает?
– Нет-нет, не знает. Я вполне уверена, – прибавила она.
– Тогда почему бы не поделиться с ним?
– Я не смогу этого сделать. – Она чувствовала, как ее обдает жаром при одной только мысли о таком.
После недолгого молчания Анна закурила сигарету и спокойно сказала:
– Когда я влюблялась в кого-нибудь, то всегда говорила им об этом. Успех всегда был ошеломляющий.
– Правда?
– Правда. О, да-с! Они много раз боялись говорить мне… их разум будто от груза кирпичей освобождался. Полли, вам не надо так по-английски подходить к любви.
Было еще немало сказано в том же духе, напичканного рядом историй, подтверждавших ее мнение. Однако Анна ничего не выведывала и не пыталась хитростью добиться от нее признаний, за что Полли была ей признательна, а эта признательность придавала весомости мнению Анны. В тот вечер она шагала домой от Суисс-Коттедж, исполненная нервной решимости.
Поначалу, казалось, все складывалось в ее пользу. Утром она позвонила ему, он был дома и был свободен: сам предложил устроить пикник на двоих на берегу реки – «Только захватите теплую одежду, Полл, возможно, будет холодно».
Они обсудили, что каждый принесет с собой на пикник, и уговорились встретиться на вокзале Паддингтон. Она одевалась с тщанием: темно-зеленые полотняные брюки, купленные на распродаже в «Симпсонс», синий с голубым свитер и белая блузка под ним на случай, если жарко станет, и короткое пальто с капюшоном. Утро было ясным и солнечным с белыми облачками на небе – идеальный день, подумала она, для такого рода вылазки.
Он ждал ее у билетной кассы. На нем был старый темно-синий свитер под горло, серые фланелевые брюки и чрезвычайно старый твидовый пиджак, в руках он держал громадную плетеную корзинку, которую распирало от всякой снеди.
– Я захватил с собой кое-что, так что мы можем порисовать, если будет охота, – сказал он.
В поезде по пути до Мейденхеда они обменялись новостями о семействе, а он, как обычно, подтрунивал над нею за неосведомленность о том, что происходит на войне. Знает ли она, к примеру, хотя бы, что Рузвельт умер?
– Разумеется, знаю. – Об этом извещали все афиши вечерних газет еще два дня назад, однако пришлось признать, что они с Клэри в разговорах даже не упомянули об этом.
– Так кто будет следующим президентом?
– Мистер Трумен. Однако больше о нем я ничего не знаю.
– Не думаю, что в этом вы одиноки. Рузвельту же здорово не повезло – пройти через все, связанное со «вторым фронтом» и всем прочим, а потом упустить всю радость победы буквально в шаге от нее.
– Разве победа так близка?
– Теперь очень близка, Полл. Зато много времени понадобится, чтобы вернуться к нормальной жизни.
– Мне кажется, я и вправду совсем не знаю, на что это будет похоже.
– Возможно, это лучше, чем иметь об этом кучу непреложных представлений.
– В любом случае собственная жизнь никогда не кажется нормальной, верно?
– Разве нет?
– Нормальные жизни, – сказала она, – это то, что есть у других. Хотя, скорее всего, если спросить их, то они скажут, что нет.
– Вы имеете в виду, как один из тех ужасных зануд, с кем всегда случается нечто невероятное?
– Они занудны, потому что с таким занудством относятся к этому. Есть люди, – (Хьюго пришел ей на ум), – способные так рассказывать о том, как потеряли мыло в ванне, что вам и в голову не придет их останавливать. Дядя Руперт был таким.
– Короче, – произнес он после короткого печального молчания, вызванного ее последней репликой, – вы приравниваете нормальность к удовольствию?
– Не знаю. А что?
– Потому как если приравниваете, то это вполне может быть следствием того, что из-за войны вам недоставало удовольствий. В таком случае, милая девочка, вас ожидает целая череда упоительных сюрпризов.
Она зарделась, представив себе упоительное, и улыбнулась про себя мысли, что оно окажется сюрпризом.
Когда они прошли от станции до речки и выбрали лодку с плоским дном, управлять которой надо было шестом («наверняка надо с собой заодно и весла взять, я шестом много не натолкаю»), то поплыли вверх по реке. Арчи сказал, что он поработает шестом, пока нога не устанет.
– Предлагаю просто плыть, пока не найдем действительно красивое местечко, где мы можем пикник устроить и порисовать. – Со всем этим она согласилась.
Они отыскали превосходное место, небольшой поросший травой выступ с ивами, свисающими своей свежезеленой листвой до самой зеленовато-коричневой воды.
Они почти покончили с обедом, когда она навела разговор на то, чем он будет заниматься после войны. Он рассказывал про Невилла, уже третий семестр учившегося в Стоув, и говорил, до чего же это интересно, когда меньше чем за год человек смог перемениться настолько, что ныне, похоже, ему нравится заниматься сразу столь многим.
– Интересы он перебирает довольно быстро, – заметила она. – Я знаю, что Клэри это беспокоит. Она боится, что к двадцати годам он перепробует все и ничего больше не останется. Когда он приезжал на первые выходные, он играл на трубе. Играть ему хотелось все время, и Дюши пришлось отправить его заниматься этим на сквош-корт. Теперь – фортепиано, однако играет он только на слух, музыкальной грамоте не учится. И он без ума от зданий и сооружений. И говорит, что хочет быть актером в свободное от путешествий время. А в последние выходные привез с собой приятеля, который только и думает, что о Бахе, а Невилл меж тем заинтересовался ночными бабочками, так они весь день исполняли Баха, а вечером занялись бабочками. Лидия очень обижена. С тех пор как у него произошла ломка голоса, он едва ее замечает.
– Они опять сойдутся, когда он станет чуть постарше. И хорошо, что он пробует себя в столь многом. По-моему, это означает, что к тому времени, когда ему исполнится двадцать, он будет знать, чем ему нужно заняться.
Повисла пауза, а потом она произнесла:
– Он очень вас любит. Это он Клэри сказал. На случай, если вы не знали.
Он снова наполнил их стаканы сидром. И вот, подавая ей стакан, легко выговорил:
– Что ж, я как бы заступил на место его отца.
Закурив сигарету, он откинулся на потертые бархатные подушки. Они оказались напротив друг друга, а между ними – остатки их пикника.
– А как вы намерены распорядиться своей жизнью?
– Уверенности у меня нет. Скорее, в этом смысле все у меня перепуталось.
– Ну, вам не стоит тревожиться, моя прелестная Полл. Прискачет сэр Тот-Самый и унесет вас на белом коне.
– Ой ли? Откуда вам знать?
– Полностью я не знаю. Да и вы, может, не хотите просто выйти замуж. Возможно, вам хочется самой заняться чем-нибудь. Пока не объявится мистер Тот-Самый.
Сердце у нее сильно забилось. Она села. Чувство было такое: сейчас или никогда.
– Вообще-то я была бы совсем не против выйти замуж.
– Ага! И уже выбрали счастливчика?
– Да. – Она устремила взгляд куда-то вправо от макушки на его голове. – Это вы. Единственный, за кого я с удовольствием вышла бы замуж, это вы. – Стремясь предупредить любой ответ, она заговорила быстро: – Я, честное слово, много думала над этим. Я совершенно серьезна. Понимаю, я чуть моложе вас, но люди разного возраста все же женятся, и, я уверена, получается все хорошо. Я всего на двадцать лет моложе, а к тому времени, когда мне будет сорок, вам будет шестьдесят, это ничего не будет значить – сущий пустяк. Но я и не подумаю выходить ни за кого другого, а вы меня достаточно хорошо знаете, и вы сами говорили, что внешность моя вам нравится. Я умею готовить и не стану возражать, если это окажется Франция или где бы вы ни жили… я не стану возражать ни против чего… – Потом она уже не знала, что еще сказать, и заставила себя взглянуть на него.
Он не смеялся, и это было уже кое-что. Но по тому, как он поднял и поцеловал ее руку, она поняла: положение безвыходное.
– Ах, Полл, – произнес он. – Такой комплимент. За всю мою жизнь мне не доставалось такого возвышенного и серьезного комплимента. И я не собираюсь прятаться за всей этой чушью про то, что я слишком стар для вас, пусть даже в чем-то это и правда. Я привязан к вам очень сильно, считаю вас своим надежным другом, но вы не моя любовь, а ужас в том, что если этого нет, то и у всего в целом нет ни единого шанса.
– И вы не считаете, что когда-нибудь вы смогли бы?
Он покачал головой.
– Это то, о чем знаешь, понимаете.
– Да.
– Полл, милая. У вас впереди целая жизнь.
– Как раз об этом я и думала, – ответила она: звучало безысходно, но она так не сказала.
– Полагаю, вы считаете, что мне не надо было говорить вам, – выговорила, помолчав.
– Я так совсем не считаю. А считаю я, что с вашей стороны это было крайне смело.
– И все же это ничего не меняет, так?
– Что ж, по крайней мере, вы хотели что-то узнать – и вы спросили.
«И перенеслась из надежды в отчаянье», – подумала она, но опять не произнесла этого. Она не представляла, как прожить оставшуюся жизнь без него, не представляла, как вести себя с ним теперь – в западне этой тошнотворной плоскодонки за мили и мили ото всего на свете.
Спас ее внезапный ливень. Небо постепенно серело, и (как теперь ей казалось, уже часы прошли) они все гадали, пойдет ли дождь. Теперь она могла занять себя тем, что надо убрать остатки обеда, влезть в пальто с капюшоном, отвязать от ивы державший лодку конец, пока Арчи управлялся с шестом. Все равно оба промокли насквозь, пока добирались до лодочного причала. Вышло солнце, но скорее покрасоваться, нежели погреть, и Арчи потянуло в паб за виски, чтобы согреться, однако пабы были закрыты. Ничего не оставалось делать, как возвращаться на станцию и ждать поезда.
Стоя на платформе, она предупредила:
– Я никому не говорила… то, что вам сказала. Даже Клэри.
– У меня и в мыслях не было рассказывать Клэри… или кому бы то ни было, – был ответ.
Они были одни в купе медлительного воскресного поезда, останавливавшегося на каждой станции. Он говорил с ней о ее рисунках, о живописи вообще, о жизни на Гамильтон-террас, о чем угодно, кроме того, что она ему доверила или какие чувства это в ней вызвало. Чувства подсказывали ей, что он старается подкрепить в ней достоинство, и ей это не нравилось: понуждало самой что-то делать, чтобы справиться.
– Вот чем я, наверное, займусь, – сказала она, – после войны: найду кого-то, кто возводит здания, и стану создавать в них интерьеры. Я говорю не о просто раскраске или выборе обоев, я имею в виду внутреннюю архитектуру: двери и полы, камины… – Но тут она заметила, что начинает плакать, притворилась, что чихнула и отвернулась к вагонному окну. – Ну вот! Я точно простудилась, – сказала.
На Паддингтон он спросил, что бы ей хотелось сделать, и она ответила, что собиралась просто поехать домой. «Там кто-то есть?» – спросил он, и она уверила, что да, наверняка кто-нибудь есть.
На самом же деле она надеялась, что дома не будет никого, но, как оказалось, напрасно. Увидела пальто Луизы, брошенное в прихожей на столик, и тут же услышала, как та рыдает наверху. «Майкла убили», – мелькнула мысль, и Полли побежала вверх по лестнице.
Нашла Луизу лежащей на кровати вниз лицом в свободной комнатке.
Поначалу Луиза слова выговорить не могла – то ли от горя, то ли от ярости, она так и не поняла…
– С языка сорвалось! – прорвалось сквозь всхлипывания. – Кто-то пришел на обед и просто произнес это… этаким голосом, какая, мол, жалость… никакого предупреждения! А они все знали, а мне говорить и не думали. Она должна была знать, каким потрясением… Не могла я оставаться после этого! Взяла вышла из-за стола, а потом побежала. О-о! Полли! Как мне вынести это! И ведь, казалось бы, под самый конец войны! – И новый приступ рыданий овладел ею.
Полли присела на краешек кровати и робко коснулась ладонью руки Луизы. Та в конце концов затихла, повернулась, села, сцепив руки на коленках.
– Это было десять дней назад, – выговорила. – В «Таймс» писали, говорят, только она знала, что я не знаю.
– Ты о ком говоришь? – спросила Полли как могла мягче.
– Ци! Она меня ненавидит за это.
Полли теперь поняла: не Майкл.
– Ты говоришь о Хьюго?
Луиза вздрогнула от его имени, как от удара.
– Я так любила его! Всем сердцем. А теперь мне предстоит всю остальную жизнь прожить без него. Совсем не представляю, как такое удастся. – Она подняла взгляд. – О, Полл! В тебе столько утешения… поплачь со мной!
Апрель – май 1945 года
Тонбридж вернулся, забрав миссис Руперт со станции, в милое ему время второго завтрака с той, кого он для себя называл «моя суженая». На обратном пути из Баттла он пытался занять внимание миссис Руперт несколькими интересными замечаниями, но та к ним интереса, похоже, не проявила. Он упомянул о кончине американского президента и об освобождении союзниками Вены – не то чтобы стоило ожидать, что это вызовет интерес у британского народа, потому он добавил, что, по его хорошо обдуманному мнению, война уже не продлится очень долго, однако миссис Руперт ни о чем об этом в разговор с ним не вступала. В последнее время вид у нее был очень бледный (изможденный, уточнила Мейбл, когда они обсуждали это), и у него появилось сомнение, уж не в расстроенных ли она чувствах, но, естественно, от замечаний на сей счет он воздержался.
Короче, когда он отнес ее чемодан в дом и поставил машину в гараж, то прошел через задний двор к черному ходу и через кухню в помещение прислуги, однако, хотя там стоял поднос с шотландскими лепешками, двумя кусочками имбирного кекса и полным сливок миниатюрным кувшинчиком в форме весельчака с кружкой пива и трубкой в руках, самой ее не было. Это было забавно, поскольку ее не было и на кухне, когда он там проходил.
Он пошел обратно на кухню, где Лиззи, засучив рукава, мыла в раковине раннюю зелень к столу. Она была из тех девушек, кто, стоит с ними заговорить, сразу заводятся, а потом уже и не разобрать, о чем они трещат. Она не знала, где миссис Криппс. Это раздражало, поскольку он хотел ей сообщить нечто очень важное и сберегал это до подходящего момента умиротворения и горячего чая, которым они вместе наслаждались по утрам. Он вернулся в комнату прислуги и сел ждать ее на свой привычный стул.
У миссис Криппс утро протекало очень необычно. Д-р Карр, пришедший с еженедельным визитом к бедняге мисс Барлоу наверху, зашел к ней взглянуть на ее ноги. В последнее время они ужасно донимали ее болью, а тут дело прямо до точки дошло после одного из утренних совещаний с мисс Рейчел, поскольку миссис Казалет Старшая немного недомогала. Она стояла, как всегда стояла при миссис Старшей, пока обсуждалось меню на день (не то чтобы нынче очень большой выбор был, но Мадам всегда делала заказ: есть и такие вещи, как требования и нормы), так вот стояла она, как обычно, – переносила нагрузку с ног, опираясь локтем о спинку кухонного стула. Но вот в то утро, когда она переступила, чтобы дать другой ноге отдохнуть, спинка стула подалась, раскололась до пола – и она повалилась вместе с ней. Было до того больно, что она, не сумев сдержаться, взвизгнула от боли, а потом поначалу не могла с пола подняться и совсем надломилась. Она заплакала – прямо на глазах мисс Рейчел, которая оказалась такой заботливой, какой, в общем-то, всегда была. Она помогла ей подняться, провела в комнату прислуги, убедила сесть и поднять ноги повыше, велела Лиззи приготовить чаю, и как раз тогда, когда ноги ее оказались на подставке с подушкой, мисс Рейчел и обратила на них внимание. Ее стыдом обожгло, что кто-то увидит их, как она только рада-то была, что Фрэнку надо было на все утро машину в мастерскую везти и его при этом никак не могло быть.
Короче, развязкой стало то, что мисс Рейчел известила д-ра Карра, чтобы он заглянул к ним, а сама меж тем съездила в Баттл и купила ей тугие эластичные чулки, которые стали великим подспорьем. Д-р Карр осматривал ее в ее же собственной спальне, поскольку она пожаловалась мисс Рейчел, что в помещение прислуги в любую минуту могут войти мужчины, а это было бы нехорошо. Д-р Карр заметил, что ей следовало бы прийти к нему пораньше, что ей на самом деле нужна операция. Поначалу-то ее это не сильно обеспокоило, потому как она лишь значилась в списках и думать не думала, что операции делают. Но потом за дело взялась мисс Рейчел и заявила, что заплатит за операцию, вот тут она по-настоящему и испугалась, потому что за всю жизнь единственный раз была в больнице, когда умирал отец. И потом д-р Карр спросил, сколько ей лет, и, говоря ему: в июне будет пятьдесят шесть, – она вдруг извелась от стыда и угрызений совести, ведь Фрэнку она совсем не такое говорила. Когда он спросил, сказала, что ей сорок два, так того и держалась. Он ей поверил, конечно же, хотя она и утверждала, будто больше чем на десять лет моложе, чем на самом деле. Естественно, врачу она солгать не могла, однако, говоря правду ему, она вдруг почувствовала, насколько неправильно скрывать ее от Фрэнка. Она боялась, что, узнав, он не захочет на ней жениться, – даже не была уверена, предвидит ли он детей, но когда сказала, что ей сорок два, то он заметил: «Стало быть, такое впечатление, что не будет у нас бед младенческих», – сам весь раскраснелся, когда произносил это, и они заговорили о другом. Положим, она может операцию сделать в больнице и умереть, только она сначала хотела бы замуж выйти, да и не хотелось ей умирать с ложью перед мужем на устах. Так что придется признаться ему.
Он ожидал ее в помещении для прислуги – гадая, по его словам, куда это она запропастилась. Потом, только она собралась признаться, как Лиззи принесла чай, потом, пока она чашки расставила да чай разливала, он достал из кармана коричневый пакет и сказал, что это письмо от адвокатов, сообщающее, что он получил «постановление на глазок»[61], что бы это ни значило. Должно быть, как-то связано с получением развода, но не окончательно, о боже, нет. После «постановления на глазок» приходится ждать того, что юристы называют «абсолютной нормой». Вот тогда – кончено. Только это, по его словам, может неделями тянуться…
Она уже рот открывала, чтобы признаться, но опять ее прервал, достав маленькую коробочку, нажал кнопочку на крышке, которая подскочила, открыв кольцо с двумя, по виду, бриллиантами, не большими, само собой, такого от бриллиантов нельзя ждать, по обе стороны небольшого темного камня.
– Рубины и бриллианты, – сообщил он, – и золото в девять карат[62].
Это было настоящее обручальное кольцо, у нее дыхание перехватило, но, когда он попытался надеть его ей на палец, кольцо оказалось слишком мало и никак не шло дальше второй фаланги. «Я отдам его растянуть», – пообещал Фрэнк, но было видно, что он расстроен.
– Оно на самом деле прелестно, – сказала она. – Фрэнк, ну зачем ты? Обручальные кольца, они для леди.
– А ты и есть леди, – произнес он, – какую я хоть когда видел.
Может, оно на мизинец подойдет, предположила она, только на время, но и этого не получилось. Она попросила не убирать кольцо и, желая рассмотреть, положила его на ладонь, любуясь сверканием бриллиантиков, если их правильно поднести к свету.
– Так они, значит, настоящие? – спросила: у нее и в мыслях не было, что такое возможно, но он подтвердил, мол, конечно, настоящие.
– Должно быть, дорогущие.
– Скажем, они не очень… дешевые, – произнес он тоном, в котором звучало согласие.
Она была в восторге. Не было в ее жизни ничего более ценного, чем это кольцо, до чего она хотя бы рукой касалась, а он поехал и купил его для нее.
– О, Фрэнк! – воскликнула она. – О, Фрэнк! – В глазах у нее стояли слезы, она часто и резко зашмыгала носом. – Как же я рада! Бесконечно рада. Правда-правда! – И тогда она призналась – быстро, пока он был на гребне ее признательности.
Похоже, он вовсе не был удручен.
– Я знал, если честно, – сказал. – Я имею в виду, что тебе, может, и не совсем столько лет, сколько ты говорила. Ни единая уважающая себя леди не назовет джентльмену свой точный возраст. – Он взглянул на нее своими скорбными карими глазами, которые в данный момент были не так скорбны, как обычно, и едва не светились от удовольствия проявленной щедростью. – Для меня ты всегда будешь молодой.
Он взял кольцо и положил его обратно в коробочку со словами:
– Это лишь небольшой Знак моего Почтения.
* * *
У нее было столько хлопот с тем, чтобы вырваться в Лондон по его срочному вызову, а Джек провел с ней всего лишь субботнюю ночь и уехал очень рано утром в воскресенье, чтобы лететь в Германию. В том не было ничего нового: такое случалось более или менее регулярно вот уже почти год, с самого «дня Д»[63]. Он почти все время находился за границей, возвращаясь всего на ночку или порой дня на два-три, обычно не имея особой возможности предупредить о том заблаговременно, как и в этот раз, когда он позвонил буквально в пятницу днем и спросил, не сможет ли она приехать вечером. Невзирая на то, что через все эти последние месяцы он прошел невредимым, она не могла избавиться от тревоги или хоть как-то умалить своего беспокойства за него, так что каждое расставание приносило с собой своего рода обоюдоострую душевную боль. Встречи их были по-прежнему насыщены радостным возбуждением, и в первые несколько часов они были способны целиком погрузиться друг в друга: весь мир, война, казалось, едва ли существовали, однако каким-то образом всегда происходило что-то (зачастую мелочь), что разрывало их магический круг и возвращало к жуткой, треплющей нервы действительности. Зимой после вторжения иногда это были ФАУ-2. Даже когда ракеты падали за мили поодаль, невозможно было не обращать внимания на взрыв: от него трясло хуже, чем от любой бомбы, хотя Зоуи и не приходилось очень уж часто попадать под бомбежки. Отношения с Джеком свели ее лицом к лицу с войной, как ничто другое, если не считать исчезновения Руперта, что случилось настолько давно, что успело стать страницей печальной истории. Порой, случалось, Джек говорил: «Мне надо на службу позвонить», – и, слушая, как он разговаривал с неизвестными людьми, которых сам зачастую явно хорошо знал, но которых она не встречала никогда, убеждалась, что девять десятых его жизни ей просто неведомы.
Понемногу она узнавала о нем больше. Однажды, через несколько недель после вторжения, он привез ей коробку с набором изысканного шелкового нижнего белья с вышивкой: нижняя рубашка, нижняя юбка и панталоны – все из бледно-бирюзового шелка с отделкой из кремовых кружев, ничего похожего она не видела с довоенных времен. «Магазины их прятали, – рассказал он. – Держали до самого нашего прихода». Зато позже, тогда же, когда они ужинали и она спросила его про Париж, про то, весело ли было идти туда, он ответил: нет, это было совсем не весело.
Он нарезал мясо в тарелке перед тем, как есть его вилкой, почувствовал ее внимание к себе и поднял взгляд, и на какой-то миг она увидела, как застыло полнейшее отчаяние в его глазах, в этих двух черных бездонных колодцах. Исчезло это настолько быстро, что она подумала, уж не привиделось ли. Губы его тронула улыбка, он взял свой бокал и выпил. «Не обращай внимания, – сказал. – С этим я ничего не мог поделать».
В постели, когда стемнело, она обвила его рукой.
– Что произошло в Париже? Мне на самом деле нужно знать.
Джек ничего не сказал, зато как раз тогда, когда она стала думать, что спрашивать не стоило бы, он заговорил:
– Мой лучший друг в Нью-Йорке… он был польским евреем… просил меня, если я когда-нибудь попаду в Париж, то должен буду разыскать его родителей, живших там с тридцать восьмого года. Они отправили его в Америку, потому что у него был там дядя, но сестра его осталась с родителями. Он записал мне адрес, и я хранил его, хотя и не знал, доведется ли когда им воспользоваться. Так вот, я отправился на его улицу, к дому, в котором он когда-то жил, а их там не было. Стал расспрашивать и выяснил, что их за несколько месяцев до вторжения отправили в лагерь. Всех троих. Однажды ночью их забрали, и с тех пор никто о них ничего не слышал.
– Но, если их отправили в лагерь в Германию, у тебя еще будет возможность отыскать их, ведь так? Мы ведь почти взяли Берлин.
Вот странно: она не могла вспомнить, что он сказал в ответ, но на следующий день он замкнулся, впал в то самое мрачное настроение, когда его лучше было не трогать. Она этого настроения не понимала, и это вызывало в ней смутный страх.
В их разговорах настала пора молчаливой цензуры: однажды она попробовала разузнать про его жизнь в браке, но он лишь сказал: «Ей хотелось, чтобы я ее в бараний рог скрутил, все сам решал, а ей приказывал… нет, поправка, ей хотелось, чтобы тиран был богатый, и мне это приелось. Друг из друга мы извлекли самое худшее. Этого хватит?» И после этого Элани (так ее звали) он больше не упоминал никогда. Они никогда не заводили речь о Руперте, хотя он постоянно расспрашивал ее про Джульетту. Они обсуждали друг с другом собственное свое краткое прошлое, но никогда, с тех пор как гуляли по берегу Серпентина, не говорили о будущем. Они говорили о книгах, какие он давал ей читать, о просмотренных фильмах, обсуждали их персонажей, словно бы речь шла об их общих друзьях, которых иначе у них не было. Постель стала самым безопасным местом. В ней не было никакой цензуры: раскованность усиливала удовольствие, и малейшее открытие в чувственности любого из них доставляло дополнительную радость. Секс – это не столько раздеть, сколько проникнуть в тело другого, сказала она ему однажды ночью.
Второе Рождество врозь. «О, как же жаль, что не смогла пригласить тебя домой», – сказала она и испугалась, а вдруг он возьмет да скажет, мол, чего ж не пригласила? Но он не сказал. Он все равно по работе будет, сказал, занят «отправкой фотографии парней во время Рождества их родным на родине».
После этого они не виделись почти месяц. И после этого их время вместе сделалось более редким, а паузы в нем растягивались все больше. Так что, невзирая на жутко позднее уведомление, она сумела упросить Клэри приехать посидеть с Джули, сама же утром в субботу, как можно раньше, помчалась в Лондон, и они провели вместе день и ночь. Он не говорил ей, что уезжает в воскресенье утром, до тех пор, пока они в первый раз не отдались утехам любви.
– Прости, – сказал, – но мне придется уехать.
– Куда? Куда ты едешь?
– Куда-то восточнее Бремена. Местечко называется Бельзен[64].
На самом деле какая разница, куда он отправляется, плакала она, главное, что он вообще уезжает. Почему он ей не сказал?
Точно он и сам не знал: в последнюю минуту он заменил кого-то, воспользовавшись связями, он оттянул отправку, чтобы выкроить день и увидеться с нею. Он вернется. Война почти закончена, и в любом случае он вернется.
Он уехал в пять утра, чтобы успеть на самолет. Без него эта квартира была ей противна. Она встала, убралась везде и задумалась, чем можно бы заняться. Так рано поехать обратно в Суссекс она не могла (ее возвращения ожидали в понедельник). Потом она вдруг вспомнила про Арчи и позвонила ему, но ответа не было. Это было ужасно: не было никого, ни единого человека, к кому она могла бы зайти и проведать. День она провела, бродя по улицам, как когда-то они с Джеком гуляли, съела спагетти в итальянском ресторанчике, куда они когда-то ходили вместе, после чего вернулась в квартиру, где прилегла на кровать почитать, но почти сразу уснула.
Когда проснулась, было почти семь часов. Вставать уже, похоже, особого смысла не было, поскольку идти ей было некуда. Ее тянуло к кому-нибудь, с кем можно было поговорить о Джеке, и она стала набирать номер Арчи, но потом передумала. Он был лучшим другом Руперта, в конце концов. Она встала поискать чего-нибудь поесть. Нашлось полпачки печенья и порошковый апельсиновый сок, который Джек пил по утрам. Она сделала себе стакан сока, поела печенья и опять пошла на кровать, на которой пролежала без сна несколько часов, бередя себя мыслями о том, где он, в безопасном ли находится месте и когда вернется.
Рано утром она позвонила в Хоум-Плейс сообщить, что выезжает ранним поездом, и попросила, чтобы Тонбридж встретил ее.
В ту неделю о нем не было ни слуху ни духу, и потом в следующую пятницу он позвонил (в обеденное время, слава всем святым, потому как, значит, Брига тогда в кабинете не было). Трубку взяла Рейчел. Она не сказала, кто звонил, но Зоуи как-то догадалась, что это Джек.
– Извини, что в обед звоню. Хочу спросить, не могла бы ты сбежать сегодня на ночь?
– О, Джек! Ну почему ты не можешь предупреждать меня заранее? Я только что согласилась приглядеть за детьми, чтобы няня могла отдохнуть на выходные.
– Не нужно на выходные. Только на сегодня. – Последовала пауза, потом он сказал: – Мне бы действительно хотелось повидаться с тобой.
– Ты так это усложняешь. Ты же знаешь, что я хочу приехать. Но, увы, не могу. В самом деле не могу.
– О’кей. Тогда так тому и быть.
Раздался щелчок, и она поняла, что он повесил трубку. Она позвонила ему на работу, но ей сказали, что его там нет, уже несколько дней не было. Она позвонила на квартиру, там никто не ответил. Она вернулась в столовую и сделала вид, что довершает обед.
Весь день, когда после дневного сна детей она водила их в магазин в Уотлингтоне и обратно, ее только что не тошнило от волнения. Теперь уже, если он смог попросить, она бы бросила все и просто-напросто села бы на ближайший поезд… пешком прошла бы до следующей станции, если понадобилось бы. Отчего это вдруг он трубку бросил? Ничего подобного она за ним не замечала. Только и говорил он странно: как будто знал что-то или скрывал что-то, сердившее его, – про нее? О боже! Отчего он взял и трубку бросил?
– Мы хотим обратно по полям идти, – объявил Уиллс. Они дошли до ворот, за которыми пролегала дорога, идущая по полю, где начиналась земля Родового Гнезда.
– Нет, сегодня мы пойдем по дороге.
– Почему мы должны? Почему, мамочка? Что в этом будет хорошего?
– Мы хотим обратно пойти к полю с автобусным деревом.
Имелась в виду поваленная сосна, где места пассажиров были на ветвях, кто-то один правил, держась за торчавший корень как за руль, а другой не без опаски расхаживал по стволу, раздавая билеты (дубовые листья).
– Клэри в прошлые выходные нам разрешила, – сообщил Роли.
– Да, и она играла с нами. А не стояла просто так, как Эллен, толкуя про чистые руки и еду.
– Взрослые, – презрительно хмыкнул Уиллс. – А я вот им быть не собираюсь, они такие зануды.
– Когда тебе сто лет стукнет, ты будешь ужасным старым ребенком.
Один из мальчишек уже стал забираться на ворота. Ей оставалось либо уступить, либо осадить их.
– И буду. Самым старым ребенком в мире. Люди будут за много миль приходить посмотреть на меня. Я буду совсем невелик ростом, зато весь в морщинах и в очках. А еще с белой бородой.
– Значит, ты карликом будешь, – сказал Роли.
– Нет, не буду. Я их терпеть не могу. Ненавижу их красные колпаки.
Она уступила. Так тогда показалось легче.
– Можете десять минут поиграть в автобус на сосне, – сказала она, когда они пробирались сквозь высокую мокрую ярко-зеленую траву.
– Десять минут! Десять часов – нам вот сколько надо.
– Десять дней.
– Десять недель.
– Десять сотен лет, – произнесла Джульетта, опережая рост всякого дальнейшего счета.
Она глянула на свою красавицу дочь, одетую в твидовое пальтишко, которое несколько лет назад стало мало Лидии, черные резиновые сапожки и алый берет, бывший на то время ее любимым предметом одежды, и впервые мысль, что через какой-то неведомый промежуток времени они могут вместе оказаться в Америке, задержалась у нее в сознании. Это казалось таким необычайным, и все же – что еще могло случиться? «Придет день, и в памяти я буду возвращаться к этому дому и этому семейству, как к далеким-далеким вехам, так, как сейчас вспоминается Руперт». Потом она подумала о семействе, особенно о Дюши, о том, как полностью они приняли ее, сделали одной из них, о том, как место это, некогда бывшее для нее скучной деревней, сделалось ее домом, каким не было ни одно из мест, где она жила со своей бедной матерью. Ее она тоже покинет… И вот любопытно, хотя она вынесла еще три поездки на остров Уайт после той, на обратном пути которой встретила Джека («Даже не смей заговаривать с любым незнакомым мужчиной, какого можешь встретить в поезде», – повелел он ей, провожая в первый раз после того, как они стали любовниками), что это казалось тяжким, потому как она понимала, это будет тяжело для ее матери, тогда как уехать отсюда для нее было бы тяжелее, чем для любого из семейства. Она свозит Джека и познакомит его со своей матерью – ради самой мамы. И, разумеется, они вернутся в Англию, чтобы навестить ее.
– Далеко ли вам ехать, мадам?
– В Америку, – произнесла она, не думая.
– В Америку? Америку? Мы туда не едем, мадам. Мы едем в Гастингс, и потом мы едем в Бексхилл. Если пожелаете, можете поехать в оба из них. – В руку ей сунули влажный дубовый лист.
Когда до нее дошло, что каждый по очереди должен побыть водителем, кондуктором и просто пассажиром, она заявила, что пора пить чай. Водителем тогда была Джульетта, сказавшая, что так не честно, она не так долго вела автобус, как остальные двое, но остальные двое, чья водительская очередь уже прошла, приняли сторону Зоуи и чаепития.
– А вот и нет, – грубо заявили они Джульетте, – для своего возраста ты вела вполне достаточно.
Чаепитие началось как раз, когда они вернулись. Проходило оно в холле, где стоял длинный покрытый скатертью стол, в том конце которого, где стояли чайники, восседала Дюши. Справа от нее сидел Джек.
– А вот и она, – произнесла Дюши, когда они с детьми вошли, сбрасывая с себя пальто и сапоги, чтобы приняться за чай. – Капитан Гринфельдт навестил нас, дорогая. Твоя подруга, Маргарет, сказала ему, где мы находимся, и, проезжая мимо, он решил заехать. Правда, это мило? – И встретив прямой и проницательный взгляд свекрови, Зоуи поняла: Дюши знает.
Джек встал, когда она вошла.
– Просто заехал накоротке, – сказал он. – Надеюсь, вы не против.
– Разумеется, нет. – Рот у нее пересох, она села (скорее рухнула) на стул, оказавшись за столом напротив Джека.
– Если б вы были настоящим американцем, то бегом бросились бы вокруг стола придвинуть даме стул. В кино они так и делают. Но мы здесь такого не делаем. Наверное, вы знали об этом.
– Мамочка, у меня носки в сапогах остались, можно я чай босая попью?
– Он американец, – сказал Уиллс. – Это по его форме видно. – Ему было восемь лет, и он очень любил играть в солдатики.
– Не говори о присутствующих, называя их «он», – наставительно заметила Рейчел. Она наливала молоко в кружки.
– Это ваша дочь? – Он, конечно же, знал, что это так.
– Да.
Джульетта перебралась на соседний стул и теперь, не мигая, пристально уставилась на Джека.
– Капитан Гринфельдт рассказывал нам, что он только что вернулся из Германии, – сказала Дюши, передавая Зоуи чашку чая.
Она вдруг вспомнила, как он говорил про «местечко под названием Бельзен», о котором в последние десять дней так много и с таким ужасом сообщалось в новостях.
– Вы фотографировали в бельзенском лагере?
– Так точно.
– О, – вырвалось у Вилли, – должно быть, это просто ужасающе. Бедные, бедные узники!
– Мне думается, – произнесла Дюши, – наверное, pas devant les enfants.
– Не в присутствии детей, – перевела Лидия. – Мы все уже вечность назад знали это.
– Тонбридж сказал, – заговори Уиллс, частенько ссылавшийся на шофера, – что это лагерь смерти. Только он сказал, что в нем в основном евреи. Кто такие евреи?
Джек подал голос:
– Я еврей.
Уиллс серьезно посмотрел на него и сказал:
– Но по виду вы же ничем не отличаетесь. Не понимаю, как можно было различать.
Лидия, которая газет не читала и с Тонбриджем не беседовала, теперь поинтересовалась:
– Ты хочешь сказать, что это лагерь для убивания людей? А что со всеми их детьми случается?
Вилли ледяным властным тоном произнесла:
– Лидия, будь так добра, отведи всех троих детей в детскую. Немедленно!
И Лидия, с одного взгляда на лицо матери, послушно сделала то, о чем ее попросили, дети с удивительной кротостью последовали за ней. Напряжение в помещении спало – но не очень. Вилли предложила Джеку сигарету, и, пока он свою закуривал и ей дал прикурить, Зоуи, заметившая наконец-то, что так стиснула в ладонях резьбу на своем стуле, что едва кожу не сорвала, бросила на Джека немой взгляд, словно умоляя его сделать так, чтобы они смогли удрать.
Заговорила Дюши:
– Зоуи, вы не проводите капитана Гринфельдта в маленькую столовую побыть немного в тиши и спокойствии?
* * *
– Твоя дочь очень на тебя похожа.
В малой столовой вокруг раскладного столика стояли четыре стула. Он сел на один из них. Теперь она могла рассмотреть его – и была потрясена. Ей хотелось броситься к ему в объятия, сказать, как жалеет, что сразу же не согласилась приехать в Лондон, но вместо этого она опустилась на стул напротив него. Он достал из кармана пачку сигарет и прикурил одну от еще не погасшей сигареты, данной ему Вилли. Она заметила, как дрожали у него руки.
– И все это там на глазах детей было, – выговорил он. – Они играли вокруг громадного рва… восемьдесят ярдов в длину и тридцать футов в ширину… на четыре фута[65], наполненного телами их матерей, бабушек, тетушек – голых скелетов, сваленных в кучу друг на друга.
Она оторопела, снова уставилась на него, силясь представить себе эту картину.
– Хочешь, я вернусь с тобой в Лондон?
Он покачал головой.
– Мне завтра рано утром обратно. Не стоит.
– Обратно в этот лагерь?
– Нет, в другой. Бухенвальд. Там наши войска. Я уже был раз, но придется еще раз. – Он затушил сигарету.
– Но ведь, когда ты звонил из Лондона, – сказала она, – тогда же ты хотел, чтобы я приехала.
– А-а, ладно. Вдруг захотелось увидеть тебя. Потом подумал, хорошо бы повидать тебя дома – в кругу семьи, – перед тем как уеду.
– Когда ты вернешься?
Он пожал плечами. Потом попытался улыбнуться.
– Твоя свекровь – истая леди, сплошная любезность. Ты в хороших руках. – Он закурил еще одну сигарету. – И все же спасибо, что предложила проводить.
Что-то в его мрачной вежливости пугало ее. Ища чего-нибудь, чем можно было бы утешить их обоих, она сказала:
– Но ведь теперь с теми несчастными узниками будет все в порядке, да? То есть они теперь в безопасности, за ними присмотрят и накормят.
– Некоторых. В Бельзене ежедневно хоронят шестьсот умерших. А в Бухенвальде, говорят, умрут более двух тысяч человек, слишком далеко зашло. И, знаешь, это не единственные лагеря. До всех мы еще не дошли, но и там будет то же самое. И миллионы уже умерли.
Утешить, похоже, было нечем.
Он глянул на часы и поднялся.
– Такси за мной сейчас придет. Я не должен опоздать на поезд. Рад, что увидел Джульетту наконец.
– Тебя и вправду долго не будет?
– Ну да. Лучше рассчитывать на это.
Она уже стояла, повернувшись к нему лицом, между ним и дверью.
– Джек, ты же не сердишься на меня, нет?
– С чего это ты придумала?
Ей захотелось закричать: «Со всего!» – но всего-то и выговорила:
– Ты не поцеловал меня. Даже не притронулся.
В первый раз его черные, мрачные глаза по-ста- рому смягчились: он шагнул к ней, положил руки ей на плечи.
– На тебя я не сержусь, – сказал. Нежно поцеловал в губы. – Я как-то порядком отдалился от любви. Тебе придется вынести это во мне.
– Вынесу! Обязательно! Но она ведь вернется, правда?
По-прежнему держа ее за плечи, он слегка оттолкнул ее от себя.
– Непременно. Попрощайся со всеми за меня, пожалуйста. И поблагодари – за все. Не плачь. – То был скорее приказ, нежели просьба. – Я фуражку свою в холле оставил.
– Я принесу. – Она не желала вмешательства других. Но холл был пуст, фуражка лежала на столе. Когда она вернулась с нею, он уже успел подойти к входной двери с другой стороны и открыть ее. Взял фуражку, надел ее.
– Я рад, что приехал. – Двумя пальцами коснулся ее щеки. – Береги себя и… Джули, так ты ее зовешь? – Наклонился и поцеловал щеку, которой только что касался, – губы его были так же холодны, как и пальцы. Повернувшись кругом, очень быстро пошагал от нее к воротам и пропал из виду. Она стояла, прислушиваясь к тому, как завелся двигатель такси, как хлопнула дверца, а потом как ехала машина по дорожке, пока ее совсем не стало слышно.
* * *
Вилли, оказавшаяся в городе на день и на ночь, обедала с Джессикой в маленьком домике в Челси, который та снимала в Парадайз-Уолк. Теперь они снова стали лучшими подружками, поскольку уже всем стало известно, что Лоренс (больше они не называли его Лоренцо) бросил свою жену и живет с молодой оперной певицей. У них даже состоялся осторожно сочувственный разговор о несчастной Мерседес и о том, что с ней станется, в котором обе пришли к нелегкому выводу, что, пусть она и невероятно несчастна, но, наверное, без него ей лучше. (Разумеется, Вилли считала, что Джессике неизвестно про тот злосчастный вечер.)
Был понедельник. Утро Вилли провела на Лансдоун-роуд и извинилась, что приехала неприбранной.
– Известия до того хороши, что ты там задерживаться не станешь, так? – говорила Джессика, провожая ее в крохотную ванную.
– Эдвард считает, что дом для нас стал велик, после того как Луиза вышла замуж, а Тедди, так сказать, стал на ноги. Мне будет очень грустно. – Она сняла часы и засучивала рукава. – Я такая грязная, что, честно говоря, следовало бы ванну принять.
– Дорогая, мойся, если хочешь. Обед может подождать – всего-то что-то вроде пирога.
– Я просто умоюсь.
– Какой же миленький домик! – воскликнула она, сходя по лестнице опять в гостиную.
– Скорее это кукольный дом, но меня он устраивает великолепно. Так легко содержать. Всего и нужна ежедневная приходящая прислуга.
– Раймонд видел его?
– Еще нет. Похоже, ему все труднее и труднее вырываться. Но он до того обожает быть важным, к тому же, похоже, у него в Оксфорде друзья завелись, и, разумеется, на выходные я езжу во Френшем помочь Норе.
– Как там дела идут?
– Очень здорово, по-моему. Его, мне показалось, не так-то легко узнать, зато она, похоже, отдает всю себя. Боюсь, довольно слабый джин попался. Мои запасы кончились, а в здешних магазинах строго – любому по бутылке в месяц. – Она взяла свой джин и села с ним во второе кресло.
– Известия и впрямь хороши, верно? – сказала Вилли. – Мы будем в Берлине со дня на день.
– Если не считать этих ужасных, жутких лагерей. Я просто поверить не могла! Это непотребно!
– Кажется невероятным, что это могло бы продолжаться, а люди бы и знать не знали.
– Не сомневаюсь, что они знали. Немцы мне всегда были отвратительны.
– Но папочка так славно проводил там время, когда был студентом. Помнишь, он говорил, как это было чудесно? Даже в самом маленьком провинциальном городке устраивались свои концерты.
– Я согласна с мистером Черчиллем. Словами этот ужас не выразить.
– Согласна.
Ни та, ни другая не знали, что еще можно сказать про лагеря, и настала краткая пауза, пока Вилли курила, а Джессика разглядывала ее. Постарела она: волосы уже почти белые, кожа обветренная и сухая, серовато-синие вены на тыльной стороне рук вздулись еще больше, шея – как у старухи. «Всего на год старше меня, – думала Джессика, – всего сорок девять, а выглядит на самом деле еще старше. Война ее не пощадила, тогда как для меня она отмерила время, когда у меня вдруг стало больше денег и куда меньше домашних дел». И, разумеется, связь с Лоренцо (про себя она его по-прежнему так звала), пусть даже он повел себя под конец как шалопай, пока она длилась, доставляла удовольствие. Короче, ее вполне жуть брала при мысли о мире с Раймондом, кому едва ли не все время нужны были обычная еда и отсутствие дел. Живя одна, она редко готовила: даже сидевший сейчас в духовке пирог был куплен, – и, когда Джуди приезжала домой на каникулы, она либо останавливалась у школьных подруг, либо во Френшеме. Нора была полностью занята, а Кристоферу, похоже, нравилось его существование, смахивающее на отшельничество. Анджела… Вот она-то и была причиной, почему понадобилось звать Вилли на обед, получить возможность провентилировать свои чувства к Анджеле. Однако она ждала, когда они усядутся за столик, накрытый к обеду в дальнем углу комнаты.
Начала она с расспросов о Луизе, которая, по словам Вилли, похоже, разболелась. Д-р Боллатер, к кому Вилли заставила ее пойти, настоятельно рекомендовал ей удалить миндалины, в общем-то, на этой неделе она собиралась лечь в больницу. Тедди в Аризоне завершил подготовку как летчик-истребитель, но его задержали там, слава всем святым: «Если повезет, ему побывать на войне не придется, а Лидия…» И тут, поняв по выражению лица сестры, что ее прямо-таки распирает от желания поделиться чем-то, она остановилась и сказала:
– Давай, Джесс. Что стряслось? На лице у тебя прямо-таки трагедия написана.
– Я ее чувствую. Мне действительно нужен твой совет. Я просто не знаю, что делать!
– Что такое, дорогая? Разумеется, я помогу, чем только смогу.
– Дело в Анджеле. На прошлой неделе она позвонила и сообщила мне, что собирается выйти замуж.
– Ну знаешь, дорогая, разве это не вполне…
– Подожди! Он американец!
– Что ж, по мне, так это совершенно…
– И он почти на двадцать лет старше ее и был уже женат. У него есть дочь, почти ровесница Анджеле, которая бьет чечетку! А когда я спросила, чем он занимался в мирное время, она сказала, что он работал психиатром!
– Ты с ним знакома?
– На прошлой неделе она привела его сюда выпить по рюмочке. Забавный квадратный коротышка с лицом мопса или боксера и очень волосатый. Он зовет ее «голуба».
– Ты имеешь в виду, как будто она немка?
– Нет, сокращенно от голубушка. А она зовет его Эрлом[66].
– Почему, он что, граф?
– Такое у него имя! Эрл К. Блэк. Она хочет стать миссис Эрл К. Блэк. Второй.
Ее расстройство было до того оперным и так сильно напомнило Вилли их мать, что та едва не расхохоталась.
– Дорогая! Тебе не кажется, что ты чуточку зашорена предрассудками? (Снобизмом, хотелось ей сказать.) Анджела любит его?
– Говорит, что да, – ответила Джессика так, будто не очень-то верила, что это правда.
– Так что же, не понимаю, что тебя тревожит. То есть, разумеется, будет грустно, что она окажется так далеко, но ты съездишь и навестишь ее. Тебя всегда тревожило, что она вообще не выйдет замуж. Ну понимаешь, как у Луизы получилось.
– О, но, Вилли, ты же понимаешь, что я имею в виду! Она была такой хорошенькой девочкой, и, должна признаться, я возлагала надежды на ее, как зовет наша мамуля, «удачное замужество». А тут, похоже, такая страшная потеря. Мамуля бы в ужас пришла!
– Дорогая, не нам выбирать, за кого выходят наши дети, а мамуля попросту в ужас приходила от обоих наших с тобой мужей, разве не помнишь? По-моему, тебе следует перестать волноваться и порадоваться за Анджелу. Когда это предстоит?
– Она хочет, чтоб прямо сейчас, но он хочет подождать и посмотреть, не пошлют ли его, когда война кончится, на Тихий океан прикончить японцев.
– Что ж, кажется, весьма разумно с его стороны. – И в таком духе она продолжала до тех пор, пока Джессика, похоже, не исчерпала все возражения. Про себя же подумала, что Джессике стоило бы возблагодарить то, как счастливо сложились для нее звезды. Ходили про Анджелу слухи (Эдвард говорил, что один его приятель-летчик буквально подцепил ее в баре, но, увидев дядю Эдварда, девица быстренько ударилась в бега). Ясно было, что жизнь она вела довольно беспутную, и, хотя Вилли, естественно, и в мыслях не держала рассказывать о том Джессике, все ж, давая совет, принимала во внимание и это, а потому судила жестче, чем могла бы при иных обстоятельствах.
– Уверена, все образуется отлично, – сказала она, оставшись после обеда, чтобы пройтись по магазинам, прежде чем встретиться с Эдвардом в клубе за ужином. – Спасибо тебе за прелестный обед. Будь на связи. И, пожалуйста, смотри на светлую сторону того, что связано с Анджелой, дорогая.
Была у нее причина с некоторой горечью вспомнить об этом последнем увещевании, когда они встретились с Эдвардом в кофейном зале, чтобы выпить перед ужином. Она сразу же поняла, что что-то произошло, что есть у него для нее какое-то недоброе известие, и на один жуткий миг подумала, что, возможно, Тедди…
– Я о Тедди, – сказал Эдвард. – Нет-нет, с ним все вполне хорошо… о, дорогая, извини. Вовсе не хотел тебя пугать. Однако он прислал вот это. – Он достал пришедшее авиапочтой письмо и протянул его. – Сделай глоток джина, прежде чем читать его, – посоветовал.
Дорогие мама и папа!
Пишу вполне серьезное письмо и очень надеюсь, что оно не станет для вас ударом, но я встретил чудеснейшую девушку, и мы хотим пожениться. Ее зовут Бернадин Хевенс, и ей пришлось отказаться от своей карьеры в Голливуде, чтобы выйти замуж за какого-то мужлана, но тот довольно скоро бросил ее с двумя детьми, и ей очень нелегко приходилось до того, как мы встретились. Она по-настоящему чудесный человек, очень забавная и веселая, но еще и внутренне чрезвычайно глубокая и серьезная личность. Она вам понравится, когда вы ее увидите. Дело в том, что из-за моего возраста мне необходимо ваше разрешение на брак. Она хотела, чтоб я написал вам сразу же, как только мы обручились, что произошло, когда мы во второй раз встретились, но я чувствовал, что это может обернуться для вас слишком сильным ударом. Она чудеснейшее существо, какое я только встречал в жизни. Честно говорю, я вовсе не думал о женитьбе, пока ее не встретил, а потом – бац! Я просто влюбился в нее, а она в меня. Жизнь ее по-настоящему печальна, ведь ее отец оставил ее мать, когда она была совсем маленькой, и мать отправила ее жить с теткой, поскольку не могла обременять себя. Но Бернадин самым чудесным образом вынесла все и говорит, что не держит ни на кого зла. Она написала бы вам, но говорит, что не очень-то мастерица письма писать.
Дело в том, что на самом деле мы уже поженились на прошлой неделе, только Бернадин не может получить паспорт, пока мы снова не поженимся с вашим разрешением. Ну не удивительно ли? Если бы меня не попросили остаться, чтобы помочь в обучении других летчиков, я бы ее не встретил. Она работает в нашей столовой, но приступила всего месяц назад, так что я мог бы вернуться в Англию, и мы никогда бы не встретились. Нас дрожь пробирает при мысли об этом, но, как она говорит, встреча наша была нам непременно Предназначена… Понимаете, что я хочу сказать про нее? Она в самом деле страшно думающая и глубокая – не такой верхогляд, как я. Очень надеюсь, что вы отнесетесь с понимаем и быстро ответите мне.
Ваш любящий сын – Тедди.
– Боже правый!
– Я понимаю. – Глаза у него походили на голубые мраморные шарики, и она понимала, что он очень сердит. – Куда его командир смотрит, скажите, бога ради? Это должно быть его обязанностью – дать разрешение.
– Полагаю, он, может, даже и не знает. Они могли просто сбежать куда-нибудь. В Америке же намного легче вступить в брак, верно? То есть люди в кино знай себе будят мировых судей или заключают брак в гостиных. О, Тедди! Как ты мог устроить такое!
– Совершенно безответственный. Вполне взрослый, чтобы соображать получше.
– Спорить готова, это все девчонка. Это она затащила его в западню. Ясно, что она старше его.
– Интересно, на сколько старше?
– Он не пишет, сколько лет детям.
– Почти уверен, он распространялся про Хоум-Плейс и про дом в Лондоне, и она считает, что у нее в руках чертовски богатая добыча. Что ж… скоро она узнает. И не покажется ей забавой жить на его жалованье, а когда война кончится и он вернется в компанию, то придется ему наравне со всеми лямку тянуть.
Пока он говорил, она перечитывала письмо.
– Он влюблен по уши. Но и при этом умудрился так о ней написать, что ужас берет.
– Уверен, что она ужасна. Предположим, мы попросту откажемся дать разрешение.
– В октябре ему исполнится двадцать один. Ему останется только подождать до той поры.
Он щелкнул пальцами, подзывая официанта.
– Два больших мартини, Джордж, пожалуйста. Действительно больших.
За ужином она спросила:
– Ты это имел в виду, когда сказал утром, что хочешь поговорить со мной?
– Что? А-а… да… да, об этом.
– В голову не приходит, что помешало тебе сообщить мне об этом по телефону.
– Ну как же. Хотел, чтобы ты письмо увидела. К тому же это только весь день тебе испортило бы. Между прочим, как Джессика?
– Вот уж действительно смешно получается. Она беспокоилась из-за того, что Анджела выходит за американца, а я уговаривала ее видеть во всем светлую сторону. Поделом мне. Думается, я бы предпочла породниться с Эрлом К. Блэком, чем с Бернадин Хевенс.
– Господь праведный! Это так его зовут? Какая жалость, что нам нельзя свести их в пару.
– Меж тем, дорогой, она, возможно, очень мила. По именам не судят.
– Мы не по именам судим. Я сужу по тому факту, что, хотя она и старше… видимо, намного старше… но выходит за мальчика у его родителей за спиной. В лучшем случае она похитительница детей. В худшем – золотодобытчица. А может, и то и другое, – мрачно закончил он.
– Невероятно, правда? Нам на самом деле неизвестен ни один из американцев. Во всяком случае, мне неизвестен. Возможно, тебе известны. – Тут она подумала о капитане Гринфельдте, которого нашла весьма приятным для первого знакомства, но решила не упоминать его.
За кофе он вернулся к вопросу о продаже дома. Как он считал, ей следовало бы приехать на несколько дней в Лондон и начать подыскивать что-нибудь поменьше и поудобнее.
– Мы сможем складировать мебель на Причале и выставить дом на продажу.
– Хорошо, я приеду. – Почему-то вся эта затея вселяла в нее какой-то смутный страх, но она этого не сказала. – И вовсе, – заговорила она, наливая им по второй чашке кофе, – и вовсе дело не в том, что она американка. Дело в том, что он женится на первой же попавшейся девчонке.
– Забавно, что ты это говоришь. Я просто думаю, какое множество родителей сидят сейчас за кофе в Америке, читая письма от своих двадцатилетних сыновей, где говорится, что те влюбились в Гризельду Уикхэм-Пейнсуик-Уикхэм или Куинни Блоггз и просто с нетерпением ждут, когда смогут представить их своим семьям. Уверен, мы не одни такие, если в этом есть хоть какое-то утешение.
Она улыбнулась ему. Нечасто он пускался в такие полеты воображения: сказанное им во многом напоминало то, что когда-то звучало из уст милого Руперта…
– Так вот. Где примерно ты намерена поискать?
– Поискать?
– Себе дом. Время для покупки было бы удобное, хотя нам потребовался бы чертовски надежный оценщик… думаю, по меньшей мере треть домов в Лондоне понесли что-то вроде ущерба от войны.
– Эдвард, я вообще не понимаю, зачем нам переезжать. Дом на Лэнсдаун-роуд вовсе не так велик. Лидия могла бы жить в комнате Луизы, а Роли с няней… мне придется найти ее… могут расположиться на верхнем этаже с прислугой. А комнату Тедди можно держать про запас.
Однако он был настойчив, и в конце концов она уступила, а потом подошел приятель Эдварда и предложил им выпить за то, что Гитлер застрелился – вокруг такого рода известия в иных обстоятельствах они вели бы разговоры целый вечер.
* * *
В воскресенье вечером Майкл отвез Луизу в больницу, перед тем как сесть на поезд обратно в Портсмут. Это значило, что она останется там одна несколько раньше, чем изначально намечалось, но ему хотелось убедиться, что она в больнице, и он обязан был успеть на поезд.
– Пойдем куда-нибудь пообедаем? – сказал он ей в то утро.
– Как хочешь. – Особой радости она не выказала, однако, с другой стороны, в последнее время, похоже, ее вообще ничего не радовало. Мамочка написала два невероятно длинных письма о том, как Луиза посреди недели убежала из Хаттона, и в обоих утверждала, что, разумеется, она и понятия не имела, что Луизе неизвестно о смерти Хьюго, и он был уверен, что мамочка не сказала бы этого, если бы то была неправда, хотя Луиза заметила: «Она ненавидит меня и отлично знала, что я не знала».
– Если бы я знала, я вообще туда не поехала бы, – добавила она, но он списал все это на истерику со стороны Луизы. Конечно, это опечалило ее: смерть кого угодно, как известно, печалит. Его самого это опечалило – неким замысловатым образом. Если честно, стоило ему подумать о Хьюго, а это случалось чаще, чем ему того хотелось бы, потому что пробуждало множество противоречивых чувств, в которые он не хотел углубляться, на него накатывали прилив ревности, печаль, тоска по безмятежному времени в своей жизни до войны, когда Хьюго приезжал к ним на каникулы, оставаясь на недели, и мамочка относилась к нему как ко второму сыну, поощряя их к тому, чтобы они все делали вместе. Они играли в теннис, охотились, отправлялись в походы по горам и на лодке по озеру, и с него, с Хьюго, он написал один из лучших портретов в жизни. И мамочка была такая прелесть – ни во что не вмешивалась, только каждую неделю у нее обедали разные дочери ее друзей, а некоторые и выходные проводили, и в семье шутили о том, какие они все без исключения отчаянно невзрачные и скучные. Это здорово отвратило его от девушек, но мамочка по всегдашней своей доброте говорила, что бедняжек этих нужно пожалеть. Она называла их с Хьюго древними греками. И была очень добра к матери Хьюго, довольно регулярно посылала той деньги, чем сильно тронула Хьюго: он тоже мать свою обожал. Короче, он чуточку влюбился в Хьюго и очень долго никому в том не признавался, но в конце концов это вышло наружу. У Хьюго не было того же чувства, что и у него, что порой казалось ужасным, и они едва не поссорились. Конечно, мамочка знала: она, казалось, знала обо всем, что его касалось. «О, дорогой, какое же подлое невезение», – сказала она тогда: взгляды ее были изумительно широки, большинство матерей были бы взвинчены до крайности, но мамочка была не такая. После того Хьюго какое-то время совсем не приезжал в Хаттон, но тогда, когда он нашел Ровену и чуточку влюбился в нее, он совсем не возражал против приездов Хьюго. Но вот Хьюго вполз в его дом и соблазнил его жену – по-настоящему грязное дело. И у нее не будет еще одного ребенка, хотя мамочка говорила, что, по совести, должна бы – сына и брата для Себастиана. Только в последнее время с Луизой стало трудно в постели, все время говорит, что не хочет и что она устала. Он думал, что это, наверное, потому, что ей, бедняжке, больное горло всю жизнь отравляет. После операции он позаботится, чтобы она хорошо отдохнула, – возможно, думал, острова Силли ей вполне подойдут. Морской воздух и спокойствие, если бы еще и подруга Стелла смогла побыть с нею. Ему так хотелось, чтобы она вновь была здорова и счастлива.
Меж тем были у него и свои сложности. Скорее всего, ему предложат взять под команду один из эсминцев недавней постройки, чтобы идти на Тихий океан, – его эта мысль очень воодушевляла. Это стало бы триумфальным завершением его карьеры на военно-морском флоте. Немногие флотские офицеры из запаса достигали таких высот. Однако мамочка, сказавшая, что очень много думала об этом (и, конечно, обсуждавшая это с Судьей), сказала, что сейчас для него удобный момент посвятить себя политике. Как только война завершится, состоятся выборы, и мамочка говорит, что премьер предпочитает набирать кандидатов из военных, и очевидно, что, успев составить себе кое-какое имя, он вполне может рассчитывать на то, чтобы пройти в парламент. У него особой уверенности в том, что хочется стать членом парламента, не было, но почему бы чуточку и не потешиться, не посмотреть, что из этого выйдет? Он поделился всем этим с Луизой за ужином, который был какой-то жутью, поскольку большинство ресторанов в воскресенье по вечерам были закрыты. Но они отправились в «Савой».
– Если бы ты на флоте остался, то как надолго ушел бы? – спросила она.
– Дорогая, я не знаю. Пока японцы не сдадутся. Сейчас у нас там дела идут вполне прилично, Рангун взяли и все такое, но, если прикинуть, может занять года полтора или около того.
– А если ты пойдешь в политику?
– Я уйду с флота, мы купим хороший дом в Лондоне, и, если повезет, ты станешь женой парламентария.
– А-а.
– Что скажешь?
– Мне казалось, ты хотел быть художником.
– Дорогая, живопись я никогда не брошу. Но, как тебе известно, я из парней обыкновенных, кому хочется оставить по себе память и в чем-то другом.
– Я не знаю. Тебе решать. В конце концов, это твоя жизнь.
– Это жизнь нас обоих, – поправил он, желая, чтобы это уже утвердилось в ее сознании. – Первое, что необходимо, это чтобы ты снова стала здорова.
В поезде ее лицо вспоминалось ему до мельчайших подробностей, хотя (довольно забавно) он не мог нарисовать ее по памяти. Но он знал, как круто загибаются в ее веках ресницы над глазами (но заодно и то, как отличаются эти глаза один от другого), как подбираются ее скулы прямо к верхней кромке ушей, что делает ее лицо заостренным, как под острым углом расходятся у нее брови, становясь похожими на легкие навесы над глазами, как спадают у нее волосы с вдовьего мыска, который, к ее огорчению, у нее чуть сдвинут в сторону, но, как успокаивал он ее, это имело бы значение, только если б ей случилось жить в шестнадцатом веке, как закусывала она нижнюю губу, когда задумывалась, и, самое главное, какой необычайный контраст составляло ее лицо, если смотреть на него в фас, с ее же профилем, на котором царил крупный, похожий на клюв нос. Лицо в фас не давало представления о размерах носа (свои профили она терпеть не могла), но тем интереснее было рисовать ее в три четверти. Ему нравилась ее внешность, и, хотя она и оказалась созданием более сложным, нежели он считал поначалу, он был доволен, что женился на ней.
То, что он оставил ее в больнице, Луиза восприняла довольно нервно. В прошлый раз, когда он поступил так, все вокруг были ужасными, что было ничуть не лучше, чем сами боли. Но эта больница оказалась совсем не такой. Ее провели в пустую комнатку, где не было ничего, кроме высокой кровати, подставки для мытья, маленького столика рядом с нею, стула и небольшого гардероба для одежды. Ей предложили раздеться и лечь в постель. После этого к ней наведались друг за другом разные люди: санитарка – померить у нее температуру и давление, анестезиолог, спросивший, есть ли у нее искусственные зубы, и, наконец, медсестра, бывшая одновременно грозной и ободряющей.
– Извините, что приходится вечером поморить вас голодом, – сказала она. – Но мистер Фаркер оперирует в восемь утра. Чего бы мне от вас сейчас хотелось, так это того, чтобы хорошенько выспались ночью. Если вам что-нибудь понадобится – звоните в колокольчик.
– Операция займет много времени?
– О нет. Все очень быстро. После нее горло у вас будут побаливать, но это скоро пройдет.
Когда медсестра ушла, Луиза лежала и вслушивалась в отдаленное уличное движение на Тоттенхем-Корт-роуд. Она больше не нервничала. Здешние сестры выглядели добрыми и расторопными, а что до операции, то она ее не заботила. Ее, судя по ощущениям, не очень-то заботило даже то, если она умрет от нее. С того самого дня, когда она узнала о смерти Хьюго, она чувствовала, что слегка сошла с ума: словно бы попросту невозможно было отвечать за себя самое, – так что, если очень дорогой врач убил бы ее по ошибке, она просто освободилась бы от бесконечных усилий притворяться кем-то, у кого имеются интересы, мнения и чувства. Притворство у нее получалось весьма здорово, оно же в конечном счете было актерской игрой, тем, что становилось ее второю натурой, и уже особого смысла не имело, но это требовало усилий, а потому она постоянно ощущала усталость.
Она так и не простила Майклу уничтоженного письма Хьюго, но по мере того, как текли недели в гостинице «Стэйшн», она успела убедиться, что он, Майкл, не имеет абсолютно никакого понятия, что это значило для нее, он, хотя и совершил этот ужасный поступок, вовсе не понимал, насколько тот был ужасен, что в какой-то мере часть вины с него снимало… и позволило ей понять, что ее возмущение неразумно. Но когда она поняла, что больше не увидит Хьюго никогда, что никогда уже не будет еще одного письма от него, тогда, замкнутая в своем горе, она разъярилась на Майкла, приписывая свершившееся зло его недостойному поступку. Открыто ничего этого она не выказывала: то была ее тайная жизнь, он же не рассказывал ей ничего – он не рассказал ей про Хьюго, яснее ясного, что он таки видел ту газету, пусть и не в день, когда та вышла. Ее уже тошнило от его попыток всячески оправдать Ци, и, когда однажды он принялся уверять ее, что сожалеет, что не рассказал ей про Хьюго, она оборвала его, заявив, что не желает никогда в жизни говорить с ним о Хьюго. И в Хаттон больше она тоже не поедет, прибавила Луиза. Он воспринял ее осуждение с поразительной кротостью, однако в постели продолжал вести себя так, словно все было по-прежнему.
Когда она узнала, что Хьюго мертв, после первых ужасных дней (когда Полли с Клэри обе были по-настоящему добры к ней, Полли вот в тот первый вечер проплакала едва ли не столько же, сколько и она сама), то вышла из этого бессердечной, словно бы в прямом смысле слова утратила свое сердце. От этого для нее одно казалось очень похожим на другое: она не в силах была оценить что-либо более значимое, чем занимательный вечер или флиртующие с ней мужчины. А потому, когда в один прекрасный день в ее доме появился получивший увольнительную Рори и ясно дал понять, как сильно он жаждал ее с самой их первой встречи после ее болезни, она без зазрения совести легла с ним в постель. Выяснилось к тому же, что если по-настоящему не заботиться ни о чем, кроме разве что легкого удовлетворения от того, что тебя обожают и тебе уделяют внимание, то ведешь себя лучше на постельной стороне жизни, как она выражалась. Рори же еще и тем привлекал, что ничего не знал про Хьюго, если вообще хоть что-то знал про нее. Еще он, похоже, не замечал, что она играет. Несколько месяцев она изображала из себя кого-то, у кого восхитительный роман с лихим, смелым молодым человеком, который, без сомнения, забавлял ее. Они не могли встречаться часто (и обычно встречи не были долгими), а потом, вскоре после ночи, проведенной ею в квартире его приятеля, она встретила в клубе Художественного театра девушку, которая спросила, верно ли то, что Луиза знакома с Рори Андерсоном.
– Я только потому спросила, что девушка, с кем мы вместе снимаем квартиру, без ума от него. Он берет ее с собой в Шотландию в отпуск. У меня такое ощущение, что он слегка бабник, а она – так серьезно. Вы как думаете?
Тем все и кончилось. Он ей даже не написал, но ей, если честно, было все равно. Тщеславие ее было покороблено, но по ощущению было трудно понять, чем ей следовало тщеславиться. «Даже любовника удержать не можешь», – сказала она себе насмешливым, искушенным тоном, каким с недавних пор вела внутренний диалог.
Утром ей сделали укол, и вскоре она ощутила чудесную беззаботность и еще больше безответственности. К тому времени, когда ее привезли в операционную и усадили в какое-то кресло с откидной спинкой, ее охватывало ощущение, словно она идет на вечеринку.
М-р Фаркер склонился над ней: низ лица у него был скрыт повязкой, зато взгляд его был полон веселого добродушия. Еще анестезия – она почувствовала, как ее уносит куда-то… едва могла различать лицо над собой, а потом было одно ужасное мгновение пронзительной опаленной боли… и потом ничего.
Когда она пришла в себя, то опять была в постели, а горло у нее болело так сильно, что ей очень захотелось вновь вернуться в беспамятство. Вечером навестить ее пришли Полли с Клэри, принесли «Дневник незначительного лица»[67] и гроздь винограда.
– Это прелестная книжица, которую можно читать, лежа на спине, – сказала Клэри. Они же и сообщили, что был подписан мир[68]. – Его подписал Эйзенхауэр. Должна сказать, что, по-моему, это должен был бы сделать мистер Черчилль, – сказала Клэри. – Короче, немцы сдались – безоговорочно.
– Ну, так ничего другого им и не оставалось, – заметила Полли. – И завтра будет празднование Победы. Народ на улицах ужасно веселится и радуется – словно у каждого день рождения.
– Бедная Луиза, тебе жутко не повезло оказаться в больнице.
Поскольку Луиза действительно не могла много говорить, девушки не задержались надолго, но пообещали прийти послезавтра.
– Ах да. Звонили некие люди по фамилии Хаммонд, хотели прийти навестить тебя, сказали, что придут завтра и надеются, что ты будешь достаточно здорова, чтобы повидаться с ними.
– Хаммонд? – прошептала она, а потом вспомнила и агента, и Мафаню, и малютку. Она почти позабыла о них, потому как мать Мафани увезла ее и малыша с собой на следующий же день, и больше она их не видела. Интересно, подумала, почему им захотелось повидаться с ней.
– Слушай, если тебе будет совсем скверно, то, уверена, они поймут.
После того как девушки ушли, зашла медсестра и сообщила, что звонил капитан второго ранга Хадли, справлялся о ее самочувствии и передал ей привет.
– Я его уведомила, что самочувствие у вас очень хорошее. На ужин вам можно немного желе или мороженого.
Вновь оставшись одна, отставив чтение, она чувствовала, что ее лихорадит, а еще одолевает ужасное уныние. Много лет конец войны был тем, к чему стремились как ко времени, когда все будет лучше и вообще чудесно. Теперь же ближайшая перспектива виделась ей в двух самых жутких вариантах: или она станет женой парламентария (ей это представлялось как сидение в жестких креслах на занимавших многие часы встречах, где велись разговоры о шахтах и добыче полезных ископаемых, или как бесконечные чопорные чаепития с незнакомыми людьми), или ей придется жить одной в доме с Себастианом и няней, дожидаясь, пока Майкл вернется с японской войны… Теперь она понимала, что не хочет ни того, ни другого. В первый раз она, не дрогнув, рассматривала устрашающую возможность не быть замужем за Майклом… Она неподходящая для него жена – нет, это слабо выражено, она вообще в жены никому не подходит… Она его не любила: он, казалось, одновременно и слишком стар, и слишком молод для нее, а его отношения с матерью, как выяснилось, вызывают у нее лишь презрение и страх. Наверное, она не способна любить… только тут внутри что-то отдавалось такой болью, что Луиза отрешилась от всех дальнейших суждений. В чем-то где-то она, похоже, поступила не так, превратила в путаницу и слова, которые теперь нельзя взять обратно, и поступки, которых уже не переделать…
На следующий день после обеда (мороженое) приехали Хаммонды. Приведшая их в палату санитарка сказала, что принесет еще один стул и вазу для букета розовых тюльпанов, который Мафаня положила на кровать. Выглядела она очень красиво в коричневом платье с камеей на белом воротничке, а ее волосы (Луиза помнила, как были они в беспорядке разбросаны по подушке) теперь были собраны в аккуратный узел на голове.
– Мы на пару дней приехали в Лондон и решили непременно повидать вас, – сказал он. Звали его Артур, но был он настолько старше Мафани, что мысленно Луиза называла его мистером Хаммондом. – Мафаня никогда не была в Лондоне. А я всегда обещал ей, что приедем сюда. Вот уж точно, выбрали для этого самое подходящее время. Ужасно обидно для вас слечь на День Победы в Европе.
Мафаня казалась очень смущенной, хотя улыбалась всякий раз, встречаясь взглядом с Луизой.
М-р Хаммонд спросил про Майкла, а потом про ее сына. Потом заговорила Мафаня:
– А я и не знала, что у вас есть ребенок. Неудивительно, что вы так хорошо управились с Оуэном.
– Как он? Он с вами?
– С ним все прекрасно. Он у моей мамы – всего на эти несколько дней.
Муж ее добавил:
– Мафаня так сожалела, что не увиделась с вами еще раз, но мать увезла ее с малышом домой под свой присмотр, вот и не получилось. Но она хотела отблагодарить вас. – Он помолчал и взглянул на жену, которая вспыхнула, а потом неожиданно взяла Луизу за руку.
– Я и вправду благодарна вам. Вы были так добры ко мне. А врач сказал, что вы и спасли Оуэну жизнь. Он мне после рассказал, насколько плох был малыш. Никакими словами не смогу выразить, как я благодарна вам за это.
Вскоре они поднялись.
– Вижу, как утомляют вас разговоры, – сказал м-р Хаммонд. – Мы вас никогда не забудем.
– Ни за что, это правда. Очень рады, что нам удалось повидать вас. – Мафаня вновь взяла Луизу за руку. – Я так признательна вам, – сказала она, – за вашу доброту.
Когда они ушли, она лежала, не сводя глаз с двух стульев. Если кому и быть признательной, так это ей, ведь, если бы они не пришли и не сказали этого, она так без конца и чувствовала бы себя совершенно бесполезной.
* * *
Удостоверившись, что Клэри надежно укрыта в постели и спит, Арчи, хромая от боли, вновь вернулся в гостиную и снял туфли. Он взял Клэри посмотреть на праздничные торжества возле Букингемского дворца, Полли ушла со своим отцом. «Не понимаю, почему нам нельзя пойти всем вместе, – недоумевала Клэри, – но Полли не захотела».
«Вам придется обойтись только мною», – ответил он, а она заметила: «Обойтись тут не подходит. Вы не из тех, кем обходятся, Арчи, куда скорее из тех, на ком люди прежде всего останавливают свой выбор». Такое замечание, да еще и из ее уст, доставило ему непомерное удовольствие.
Он выключил верхний свет. Затем налил себе виски и решил выпить у себя на балконе, где стояли два стула. Можно было усесться на один, а на другой положить ноги. Он совершенно выбился из сил, неудивительно, в общем-то, при том, сколько миль они отмахали за этот вечер. До самого Дворца, а потом в конце концов обратно. А перед этим… Так или иначе, но он оставался на ногах с самой пятницы, которая уже представлялась очень и очень далекой. Утром в пятницу он был на работе, где все вокруг гудело сообщениями и неминуемой сдаче немцев в Голландии, Дании и Северной Германии, когда Рен, приносившая ему почту, вошла еще с одним письмом.
– А это только что доставили с посыльным, – сказала она. Конверт как конверт, внутри было что-то еще – деньги или ключ, подумал он, вскрывая его. Прежде чем читать письмо, которое было написано карандашом, он взглянул на подпись. Джек Гринфельдт. Гринфельдт? Ах да, американец, молодой человек Зоуи. Она как-то привела его к нему домой выпить по рюмочке, такой угрюмый, мрачноватый малый, но он ему понравился. Предмет, завернутый в бумажку, оказался ключом. «О господи, – мелькнуло в голове, когда он разворачивал его, – ставлю на то, что конец видится таким: он упархивает обратно домой к жене и детям и не решается сам сказать ей об этом.
В начале письма стояло: Дахау, 2 мая.
Потом Арчи прочел письмо. Оно было весьма коротким, и он прочел его дважды.
Прошу извинить за то, что беспокою вас [так оно начиналось], но сообразить не могу, кого бы еще попросить. Несколько раз пробовал написать Зоуи, но так и не сумел никаких слов подобрать, чтобы рассказать ей.
Короче, к тому времени, когда вы получите это, я буду мертв. У меня еще тут работы дня на два, снимки надо сделать, потом, во вторник утром, я отправлю пленку и это письмо самолетом, а потом вернусь сюда и пущу себе пулю в голову. Она спросит вас, зачем. Скажите ей, что я не смог бы жить после того, на что насмотрелся в последние две недели, – не могу оказаться выжившим в том, что было – буквально – всеобщим уничтожением. Я бы обезумел, умом тронулся, если бы не оказался с ними вместе. Они – это те, кто составляет, кто составлял мой народ. Я был бы не в силах доставить ей счастье… никак, после дней здесь, в Бухенвальде и в Бельзене. Ключ – это от студии, которую я снимал, возможно, она захочет забрать оттуда какие-то вещи. За квартиру заплачено до конца этого месяца, и, возможно, вас не затруднит вернуть ключ агенту, его контора на Слоан-стрит, «Честертоны», насколько помню. Передайте ей, что я любил ее и благодарю ее за это… а черт… скажите ей, что сами сочтете лучшим. Я знаю, что вы поможете ей пережить это… а может, и этот муж ее вернется?
И после этого стояла подпись.
Прочитав письмо во второй раз, Арчи машинально сложил его и вложил обратно в конверт. Письмо его ошеломило – что означало, что поначалу чувств совсем не было никаких. Первое время на войне ему приходилось сталкиваться с ситуациями, когда можно было потерять собственную жизнь, но мысль самому себя лишить ее была настолько чужда ему, что он был совершенно не способен представить, в каком состоянии должен быть разум, чтобы решиться на такое. Потом он стал размышлять: предположим, он написал письмо, а потом, когда в лагерь вернулся, передумал или кто-то вовремя оказался рядом и переубедил его? Рассказать Зоуи такое – само по себе дело безрадостное, но рассказать ей, а после обнаружить, что это не было правдой, было бы куда хуже. А было ли бы? Наверное, ему следует попробовать и выяснить. Он извлек письмо из конверта и еще раз прочел его. На этот раз оно вызвало неприязнь, уважение и, наконец, жалость (в равных долях): какая потрясающая напрасная жертва и какой при том эгоизм… какое мужество хладнокровно проделать такое… бедный парень, чего же только должен был он насмотреться, наслушаться и пережить, что толкнуло его на такой поступок… но он в нем уже не сомневался. Он взял телефонную трубку и попросил соединить его…
Он попросил к телефону Дюши и после препирательств с Бригом, который то ли не узнал его, то ли не мог понять, кому это, черт побери, понадобилось говорить с его женой («какой-то малый, похоже, хочет поговорить с тобой о чем-то»), услышал ее. Спросил, нельзя ли будет ему приехать к ним на выходные? Ему всегда рады, ответила она, если ему не важно, в какой комнате спать. Он спросил, будет ли Зоуи дома, и она ответила, что да. Потом она спросила самым выдержанным тоном, едет ли он с плохими вестями? Не о Руперте, ответил он. Пауза, а потом она произнесла: «Ах». И добавила, что если он поедет поездом четыре двадцать, то, возможно, встретится с девочками.
Он так и сделал. Возможности поговорить с Зоуи наедине он дождался только после ужина. Привел ее в малую столовую, усадил. Она сидела, выпрямив спину и положив руки на стол: Арчи заметил, что ее пробирает дрожь.
– Что случилось? Это – Руперт?
– Нет. Это Джек.
– Джек? Откуда вы знаете… это?
– Он прислал мне письмо.
Она недоуменно глянула на него.
– Он умер.
Какое-то время она невидяще смотрела на него, словно бы не услышала, потом произнесла:
– Он прислал вам письмо… сообщить, что он умер?
У него внезапно пересохло во рту. Целый день он вымучивал, что он должен ей рассказать – сколько и как. «Скажите ей, что сами сочтете лучшим», – написал Джек. Когда он закончил мыть руки перед ужином, выровнял расческой волосы перед небольшим зеркалом и разглядел на своем лице следы слабости от нерешительности и возможных уверток, то вдруг понял: годится только правда. Вот он и рассказал ей – как мог бережно, только в самом рассказе не было ничего бережного.
Она сидела неподвижно, выпрямившись и молча, пока он не произнес:
– Он просил передать вам, что любил вас и благодарит вас за это.
Тут на лице ее появилось и пропало выражение нестерпимой боли. Она сглотнула, а потом спросила, можно ли ей посмотреть на письмо, и он отдал его ей, сказав, что пойдет возьмет им обоим выпить чего-нибудь, а потом вернется.
На столике в холле стоял поднос с двумя стаканами и графинчиками с виски и водой. Благословляя Дюши, он выждал пять минут, давая Зоуи время прийти в себя. Когда он вернулся, она сидела в том же положении, в каком он ее и оставил, письмо лежало на столе – она, вопреки его ожиданиям, не плакала. Он налил виски и поставил стакан у ее руки.
– Понимаю, какое это ужаснейшее потрясение, – сказал он, – но у меня было ощущение, что следует сказать вам правду.
– Да. Благодарю. Забавно, что я как бы знала… не о том, что такое случится, а то, что это, так или иначе, конец. Две недели назад он приехал сюда… безо всякого предупреждения… и после чая мы сидели в этой самой комнате. А потом он уехал, и мне подумалось, что больше я его не увижу никогда.
Он вложил стакан ей в руку.
– Бедный мой Джек, – произнесла она и расплакалась.
Много позже она сказала:
– Я полагаю, вы считаете, что с моей стороны это было очень дурно… так сорваться… завести… любовную связь.
И он сказал, мол, нет, он так не считал, думал, что это весьма объяснимо.
Но она сразу ответила:
– Объяснимо, но не похвально. Только я не верю, что Руперт вернется. Если б этому суждено было случиться, то уже случилось бы.
Позже сказала:
– По-моему, он приезжал сюда убедиться, что со мной будет все в порядке.
– Это свидетельствует о любви, – заметил Арчи.
– Да, точно, правда? – Она еще чуточку поплакала, а потом спросила, почему, как он считает, Джек сделал это.
И он отвечал медленно, не особо подбирая слова, но пытаясь вообразить себя на месте Джека:
– По-видимому, он считал, что это единственное, что он способен дать тем людям… показать, что он любил их и заботился…
– Свою собственную жизнь?
– Большего отдать нельзя.
Когда поздно ночью они расходились, дом был погружен во тьму и молчание.
* * *
Было уже половина третьего, уже больше двух часов прошло, как официально закончилась война. С улиц все еще доносились отзвуки веселья, неподалеку, у ближайшего паба, люди пели, улюлюкали, смеялись. Он поднялся со стульев и вернулся в гостиную. Нога ныла и, как грустно предположил, отныне и довеку ныть будет всякий раз, когда он перестарается. Сколько же народу (в основном дети) приезжало к нему погостить в последние месяцы, что пришлось отказаться от кушетки как от временной кровати и купить себе диван. Он разделся, взял из ванной свою пижаму и лег спать.
Сон не шел долго. Душа Арчи была переполнена признаниями, доверенными ему семейством, – и всякий раз исходя из того, что он тоже член этого семейства или успел стать им, а на самом-то деле оттого, что он им не был и никогда всецело не станет. Он был кем угодно – от источника неявного воздействия на события до всеобщего хранилища. Вот, к примеру, Хью. Хью попросил съездить с ним в Баттл забрать несколько ящиков пива. Едва они оказались в машине, как он признался, что поездка всего-навсего предлог, а Арчи оставалось только уповать на то, что разговор пойдет не о Полли. Однако речь пошла об Эдварде. Отношения их складывались совсем не по-доброму, главной причиной чего, по мнению Хью, было то, что Эдвард знал, как сильно брат не одобряет происходившее. Арчи давно уже понял, что у Эдварда есть связи на стороне, и порой время от времени праздно гадал, догадывался ли об этом еще кто-нибудь в семействе.
– Он всегда был чуточку ходок, – сказал Хью. – Но на этот раз дело серьезнее. Вы член семейства, а потому я знаю, что могу довериться вам. Дело в том, что у него ребенок от этой женщины. И, несмотря на уверения покончить со всем этим, он этого не сделал. А теперь ведет разговоры о продаже своего дома в Лондоне, с тем чтобы купить поменьше. Так вот, складывая два и два, могу сказать: мне совсем не нравится то, что получается.
Зачем, продолжал Хью, продавать абсолютно хороший дом, который, как ему известно, Вилли обожает, только для того, чтобы купить домик поменьше, если у Эдварда нет намерения жить в нем самому? Вот это-то его и беспокоит. Выяснилось, что он, Хью, хотел, чтобы он, Арчи, поговорил с Эдвардом. «Мне лучше больше не пытаться, старина. Он попросту срывается с цепи, и обстановка в конторе становится тягостнее. Но, я подумал, возможно, вам удалось бы…»
Арчи ответил, что подумает, только, по его разумению, что бы он ни сказал, это мало что изменить сможет.
Потом, когда они забрали ящики с пивом, заказанные Бригом для прислуги на празднование мира, когда тот наступит, и они возвращались на машине домой под дождем, Хью неожиданно спросил:
– Что с Полли происходит, как по-вашему?
– Вы что имеете в виду?
– Знаете, она, похоже, в каком-то странном настроении. Я уж подумывал, не влюбилась ли она часом в кого-нибудь.
Арчи выждал: он обещал Полли молчать, и молчание его ей обеспечено, сколько бы лжи за этим ни потянулось.
– Я спросил ее, что стряслось, и она ответила, что ничего, – таким голосом, какой у нее всегда в ходу, когда что-то случается. Если я прав, то все идет совсем не очень здорово, а матери, чтобы поговорить, с нею рядом нет, Сиб бы чудесно с нею поладила. Я думал, что, может, она с вами поделится. Или вы смогли бы спросить ее.
– Лучше нет, – сказал Арчи.
– А-а, ладно. Я желаю ей счастья больше всего другого, это ужасно – быть рядом и чувствовать себя таким беспомощным. – Когда они уже поворачивали на дорожку к дому, Хью сказал: – Надеюсь, это не чертов доктор, у кого она работает. Я хочу сказать, что он, для начала, иностранец, а потом намного старше и почти наверняка женат. Или, если нет, наверняка должен бы жениться. Просто решил спросить. Я знаю, что вас она любит.
– Что?! – Арчи был поражен.
– Старина, дорогой мой, мы все вас любим. Вы же член семейства. В некотором роде.
Он совсем представить не мог, чего бы такого мог сказать Эдварду, чтобы хоть в малейшей степени повлиять на него. Лучше держаться от этого в стороне.
В обеденное время Зоуи не было видно. У нее сильно болит голова, сообщила Дюши. После же обеда она, взяв Арчи под руку, предложила ему пойти с нею взглянуть на ее сад камней.
– На самом деле я хотела поблагодарить вас за то, что вы сообщили бедной Зоуи печальную весть, – сказала она. – Разумеется, я об этом человеке знала… все эти поездки в Лондон вдруг. Она так молода и так много натерпелась. Мне казалось, что надо было что-то делать с ее положением.
– Вы хотите сказать…
– Я хочу сказать, ей нельзя продолжать бесконечно оставаться ни вдовой, ни женой. Естественно, здесь ей будет уготован дом столько времени, сколько ей потребуется… – Дюши умолкла, приостановилась и, повернувшись, взглянула прямо на него. – Или вы верите, – выговорила она нетвердо и таким голосом, который остро напомнил ему голос Рейчел, когда ту что-то трогало, – или вы верите, что он еще может к нам вернуться?
Он взглянул на нее, не в силах произнести то, что она жаждала услышать. Взгляд ее был тверд.
– Нет ничего на свете, чего я желала бы больше, – выговорила она. – Только мне так повезло в ту войну, когда оба его брата вернулись…
Он пообещал выяснить все, что необходимо сделать или что уже обнаружено.
Было и кое-что, что слегка разбавило мрачные мысли. После чая Лидия ухватила его за пуговицу:
– Арчи, у меня к вам чрезвычайно серьезный вопрос. Сущий пустяк на самом деле – для вас, я имею в виду, что-то предпринять, – зато для меня это вполне может стать вопросом жизни или смерти.
– Что на сей раз?
– Вы так говорите, словно я вас с утра до ночи о чем-то прошу. Тут суть в том, не могли бы вы объяснить моим родителям, что им абсолютно необходимо отправить меня в хорошую школу? Я думала про ту, куда Джуди ходит вообще-то.
Я понимаю, что Джуди ужасная, но не считаю, что это вина школы. Ее обучают интересным играм, вроде лакросса и хоккея, и у них бальные танцы бывают, а на каждое Рождество пьесу ставят. А еще Джуди без ума от географички, которая просто чудо… мне известно, что ее мама убеждала ее, что это просто период такой, только у меня-то нет шанса пройти через него, потому что, признаться, нельзя чувствовать что-либо подобное к мисс Миллимент.
– Почему вы сами-то их не попросите?
– Просила, и папа лишь отослал меня поговорить с мамой, а она твердит свое обычное «мы посмотрим», что означает, мы не будем ни за что и никогда. Вы могли бы им сказать, что неприятно поражены моим невежеством, – добавила Лидия.
– Мог бы. Но разве я поражен?
– Еще я всерьез прошлась по «Кто есть Кто»… это вроде телефонного справочника, только там полно знаменитостей, о каких никто не слышал… и там всегда говорится «получил (или получила) образование в» – и название школы.
– Вы намерены стать знаменитой?
– Не хотелось бы этого исключать. О, Арчи, прошу, поговорите с ними: вы теперь свой в нашем семействе – они вас послушают… – Ну и так далее.
И затем… и отнюдь не с легким сердцем… Клэри. Сегодня вечером, который они провели вместе, начиная с ужина в киприотском ресторанчике рядом с Пикадилли, который она обожала, потому что в нем всегда были бараньи отбивные, такие маленькие шарики, запеченные в меду, для пудинга и густой сладкий кофе. Они встретились в ресторанчике, и она прибыла туда неожиданно щеголеватая, в черной юбке и мужской рубашке без воротника, в темно-красных сандалиях и с уложенными блестящими волосами.
– Они еще, боюсь, влажные, – сказала она, когда он поцеловал ее. – Я подумала, что надо бы помыть их на благо мира, а времени просушить не было.
– Мне нравится ваша рубашка.
– Зоуи дала мне ее в выходные. Воротник и манжеты все износились, так что отцу они без пользы были бы, но если рукава закатать, то незаметно.
– Вы выглядите очень приятно. Привлекательно.
– Правда? Впрочем, с Полли мне не сравниться. У нее новое платье, желтое… такой цвет лимонных корок… с ее-то волосами смотрится – супер. Она пошла в Клуб реформ с дядей Хью. – Она посмотрела на него испытующе и отвернулась, когда взгляды их встретились. Он предложил ей выпить, и она попросила: только чтоб не джин с лаймом, ладно?
– Знаю, только его, похоже, и пьют девушки, только я его всегда терпеть не могла, вот и решила поменять.
– На что?
– Вы что бы посоветовали? У виски вкус резины, если вас мое мнение интересует, а единственный раз, когда я водку выпила, меня будто током ударило, а что еще есть, я не знаю. Ой, знаю. Я бы выпила темного коричневого хереса. Он мне и вправду нравится.
– Вы сегодня работали?
– А как же! Ноэль вовсе не считает, что сегодня какой-то особый день. Они даже не празднуют. Вечер проводят, читая вслух друг другу кого-то по имени Гэ эЛ Менкен[69]. Очень зрелый способ отметить мир, как считаете?
– Еще и чуточку скучноватый, на мой вкус.
– На мой тоже. Мы в самом деле пойдем к Букингемскому дворцу и будем жать, когда выйдут король с королевой? Они выйдут, как по-вашему?
– Думаю, вполне могут выйти. Такие ночи должны запоминаться.
Однако, пока они отужинали (как ему показалось, они сделали это достаточно рано), собравшаяся толпа была до того тесна, что им вечность потребовалась, чтобы подобраться поближе к дворцу, хотя все вокруг были настроены очень благодушно и мало-помалу все ж удавалось протискиваться поближе. Золотистые звездочки дождем сыпались из ракет, взрывавшихся в шафраново-лиловом небе, весь дворец был залит светом, вокруг памятника королеве Виктории люди водили веселый парный хоровод, пели песни, притоптывали ногами, а подальше, у ограждения, народ кричал, скандируя, вызывая короля. Людей были тысячи, настолько в самом деле много, и стояли они так плотно, что им весь вечер приходилось держаться за руки, чтобы их не оттеснили друг от друга, и порой им приходилось переходить на крик, чтобы друг друга слышать, порой же они просто пели то же, что пели все вокруг: «Земля надежды и славы»[70], «Боже, храни короля»[71], какие-то веселые танцевальные мелодии. Когда они увидели стоявшее на балконе и приветственно машущее королевское семейство, он решил, что для одного дня этого вполне достаточно, но ей хотелось подождать, пока они снова выйдут, Клэри была такая восторженная, что у Арчи духу не хватило отказать ей. В конце концов, много позже, чем стемнело, на балкон снова вышли король с королевой, но уже без принцесс. «Полагаю, их, бедняжек, спать отправили», – хмыкнула Клэри. И после этого согласилась, что им пора отправляться домой.
– Вам лучше со мной вернуться, – сказал он тогда. – Я ближе живу, чем вы, а такси нам не найти.
На углу Гайд-парка он сказал, что ему нужно чуточку посидеть, а потому они зашли немного в парк, что тянулся до Найтсбриджа, нашли свободную скамейку, и он закурил. И вот тут-то она и сказала ему, что знает про Полли.
– Всплыло все оттого, что я никак понять не могла, почему нам все троим нельзя было провести этот вечер вместе. Бедняжка Полл, она заставила меня пообещать, что я не стану смеяться. Будто я стала бы смеяться над тем, что так серьезно для нее. Хорошо, что она мне рассказала, а то я уже давно понимала, что что-то шло не так, а сегодня напомнила ей, что мы заключили договор – вечность назад – рассказывать друг другу все важное. И конечно же, когда она это вспомнила, то вынуждена была рассказать мне. Забавно, правда? Знаешь, что есть нечто совершенно смехотворное, но если видишь, что кому-то другому от этого совсем не смешно, то почти кажется, что и впрямь смеяться нечему.
– Вас это так насмешило?
– Ну-у. Ну, не то чтобы кому-то не стоило бы влюбляться в вас, только им бы быть поближе к вам по возрасту, разве не так?
Он открыл было рот, чтобы много чего высказать, но опять закрыл его.
– Полагаю, вам я кажусь невероятно древним.
– Нет, не невероятно, совсем нет. По сути, с тех пор, как я впервые вас увидела, вы, похоже, совсем не постарели.
– И на том спасибо.
Им друг друга не было видно, поскольку уже стемнело, а ближайший уличный фонарь светил где-то в метрах поодаль. После короткого молчания она произнесла:
– Простите.
– За что?
– За что, не знаю, но чувствую, что обидела вас. Я и в самом деле сказала Полл, что считаю, что вы не из тех, кто женится.
– Серьезно?
– Ну, мол, вот он вы – ни на ком не женатый. Это я для того, чтобы помочь ей одолеть это. Одолеет, конечно, только она в это не верит. Люди же одолевают, ведь так?
– Одолевают то, что любят?
– Если это безнадежно.
– Ах да, мне стоило бы думать, что обычно так и бывает. Я искренне сожалею о том, что с Полли произошло. Вы же знаете, я так к ней привязан.
– Она знает, но говорит, что это не та привязанность… Я это понимаю. Понимаю, что жгучий антагонизм может стать лучшим началом.
Некоторое время спустя произнесла:
– А у вас хрипящий смех, Арчи.
Он же бросил бездумно:
– А вы – да.
– Да, что?
– Повзрослели за время, что я вас знаю.
– А-а! – тут же воскликнула она. – Понимаю, что вас гложет. Вас гложет то, что я намекаю, будто вы старый. А я только то и имела в виду, что вы куда как стары для Полли.
Им, пожалуй, предложил он, лучше опять начать ковылять домой.
Когда наконец они добрались, ей захотелось выпить какао, а потому он велел ей укладываться в постель, а какао он ей принесет.
Она сидела в его постели в его пижамной рубашке, и лицо у нее было такое, будто его оттирали водой с мылом.
– Я воспользовалась вашей зубной пастой и своим пальцем. Думаю, вы возражать не стали бы.
Он вручил ей кружку и присел на край кровати – снять нагрузку на ноги.
– Знаете, что мне это напоминает?
– Конечно же, нет. Что?
– Когда я была совсем маленькой… ну, лет тринадцать… у Невилла случился приступ астмы, потому что, по его словам, я его разбудила, потому как мне дурной сон снился, и он ушел к Эллен. Вот. Пришел папа с кружкой горячего молока, а я не хотела пить из-за пенки, так он вынул ее и съел у меня на глазах. То было свидетельство любви, правда?
Он глянул на сморщившуюся поверхность жидкости в кружке, потянулся двумя пальцами, вытащил пенку и съел ее.
– Вот, – сказал. – Вы по-прежнему любимы.
– Не обезьянничайте, – выпалила она, но глаза ее так и лучились душевным теплом и радостью. Она выпила немного какао и отставила кружку в сторонку на тумбочку.
– Мне с вами кое о чем поговорить бы надо, – заговорила она медленно, словно бы не вполне была уверена, о чем именно, – кое о чем про папу. Ну, обсудить, понимаете? – Она согнула ноги в коленках и обхватила их руками: держит себя в руках, подумал он, чувствуя, как в нем поднимается волнение.
– Хорошо, – произнес он, придавая голосу оттенок веселости и спокойствия.
– Вам незачем волноваться, Арчи. Тут такое дело. – Клэри глубоко вздохнула и быстро-быстро выговорила: – После вторжения в прошлом году, понимаете, я думала, что он обязательно вернется, то есть немцев-то уже не будет, чтоб помешать ему. А потом, когда он не вернулся, я думала, что он, наверное, работу получил, с войной связанную… не знаю, какую, но какую-нибудь… и это значило, что ему придется задержаться до того, как мир настанет. Теперь он уже настал. И вот я о чем подумала. Может, будет лучше установить какой-то день, и, если он к тому дню не вернется, мне придется понять, что он не придет никогда. Думала я над этим долго, и, когда на прошлые выходные Зоуи попыталась отдать мне все его рубашки, я взяла только те, что были по-настоящему поношенными, потому как взять остальные – это было бы как смириться. Вот я придумала: если я заключу что-то вроде уговора с вами и назначу день, то это было бы разумно. – На слове «разумно» глаза ее наполнились слезами. Клэри откашлялась. – Я подумала, чтоб этот день легко запомнился нам обоим, путь это будет ровно через год. Как вам?
Он кивнул и сказал:
– Идея хорошая.
– Странно. Я ведь ужас как помнила о нем ради себя. Потому как я очень сильно тосковала по нему. Только, похоже, обернулось это во что-то другое. Да, я, конечно же, тоскую по нему, только я помню больше ради него, потому как хочу, чтоб была у него хорошая жизнь и вся целиком… чтоб не прервалась. Это вовсе не значит, что я не люблю его по-прежнему.
– Я знаю. Знаю, что любите. По-моему, – говорил он, явно с трудом подбирая слова, – именно это происходит, когда взрослеешь, и любовь твоя взрослеет с тобой.
– Более взрослая, хотите сказать?
– Более зрелая, – ответил он, улыбаясь ее любимому словечку. – Я знавал немало взрослых, которые отнюдь не отличались зрелостью.
– Правда? – Он видел, с каким наслаждением впитывала она это новое и явно приятное представление.
Теперь вспомнилось, как, когда он предложил расстаться и поспать, она произнесла: «В конце концов, милый Арчи, у меня всегда есть вы», – и повернулась к нему лицом, подняв его для поцелуя на сон грядущий… как девочка, кому и до тринадцати еще далеко.
Нога ныла. Наверное, он стареет: так ли это? Война окончилась, теперь он мог бы вернуться к солнцу, во Францию, к живописи: вернется ли? Он так долго, как, очевидно, и все остальные, думал о конце войны как о начале какой-то новой и чудесной жизни или, по крайней мере, как о возобновлении той, старой и удобной. Теперь же он раздумывал, окажется ли она такой для большинства людей. Он думал над тем, что Хью поведал об Эдварде, и пытался представить себе, как Вилли справится с тем, что осталась одна, если такое произойдет. Он думал о том, что Дюши придется оставить любимый ею садик, если они вновь станут жить в Лондоне, а ведь дом этот наверняка окажется чересчур большим для них, как только все отпрыски вновь разъедутся по своим собственным домам. Он думал, как Зоуи примиряется со смертью и мужа, и любимого: стойкость ее его трогала, – но потом он подумал, что все они из рода смелых, и Дюши с ее стоическим принятием утраты Руперта, и Бриг с его доблестной решимостью не поддаваться слепоте, и Полли с ее мужеством признаться ему в любви и воспринять его отказ… и, наконец, Клэри, спящая в соседней комнате, чья любовь, не гасимая ни временем, ни разумом, преобразовалась из надобности и фантазии в нечто более чистое и долговечное, что, в свою очередь, способно лишь внушить восторг и любовь.
Лежа в темноте, он заключил уговор с самим собой. Если Руперт не объявится, он обязуется, насколько это только возможно, занять его место. Если же, однако, Руперт вернется, он, возможно, пустится совсем в иную сторону.
* * *
Он отказался от предлагавшегося ему места в двух тесных каютах внизу и теперь сидел на носовой палубе спиной к рулевой рубке, защищавшей его от попутного ветра. Было темно, когда они отходили от Гернси, что было к лучшему, поскольку никаких документов у него не было, а так легко оказалось проскользнуть на борт вместе с моряком, с кем они закорешились. «Держи только голову вниз и делай, что я тебе говорю», – предупредил тот. Кореш спрятал его внизу, пока лодка не вышла в море (а была она прилично набита): он сидел на банке, покрытой тяжелым сырым одеялом, в кромешной темноте каюты, провонявшей дизтопливом, сырой промасленной шерстью и английскими сигаретами. Они отплыли в четыре утра, и, когда порядком отошли от гавани, кореш его постучал в дверь и сказал, что все чисто. Приятно было выйти на свежий просоленный воздух и смотреть, как желтый огонек в доме начальника порта мигает и угасает, уходя все дальше и дальше. Примерно через час один из матросов принес толстые белые кружки чая с молоком и сахаром – он чая не пил почти пять лет. Когда сказал об этом, все заулыбались: они относились к нему со своего рода покровительственной защитой с тех самых пор, как он сказал про Дюнкерк (он не был уверен, поверили ли они ему, жалели ли, или считали, что он сумасшедший). Море по их курсу вздымалось сильными, но не крутыми волнами, и небольшая посудина, пыхтя и качаясь, двигалась вперед. Вскоре стало светать, он впал в какое-то оцепенение: едва ли глаза смыкал с тех пор, как ушел, а было это уже тридцать шесть часов назад, от слабости у него кожа зудела. В полдень его разбудили пообедать: что-то тушеное с обилием горохового пюре и толстый ломоть довольно серого хлеба. Небо было пасмурным, хотя вдали пятна моря урывками сияли в лучах отдаленного солнца. Он опять уснул и проснулся далеко за полдень, когда солнце пряталось за водянистой дымкой, а ветер крепчал. Его накрыли штормовкой, и он понял, что шел дождь – волосы намокли. Его мучил зверский голод, и он был признателен еще за одну кружку чая и громадный сэндвич с каким-то консервированным мясом. Дали ему и пачку «Уэйтс», чтоб покурил. Следили, как он первую сигарету закуривал, а потом один матрос сказал: «Море ему нипочем. Иначе б с одной спички не запалил». После этого его оставили в покое, за что он был признателен. Ему казалось, что хотел он подумать, представить себе, как вернется, в будущее немного заглянуть, но, похоже, думать не было сил, а воображение умышленно рисовало ему то лицо Зоуи при его возвращении, то ее лицо, когда он уходил от нее: она лежала на высокой старинной резной кровати на четырех квадратных подушках, упрятанных в грубый белый хлопок, ее длинные темные волосы расчесаны после родов, а рядом с нею туго спеленатый ребенок. Она попыталась улыбнуться ему, стоявшему в дверях, и это усилие до того остро напомнило ему о Изобел, когда та умирала после рождения Невилла, что он вернулся, чтобы еще раз и в последний раз заключить ее в объятия. Это она, поцеловав его, нежно оттолкнула от себя, отправив в будущее, куда он и отправился. Слово свое она держала: не старалась его удерживать – ей просто хотелось, чтобы он посмотрел на ребенка. Уйти было нелегко, а вернуться, невзирая на все западни счастливых окончаний, значило бы воссоединиться с теми немногими людьми, кого он любил, из которых некоторые наверняка ему уже как бы и незнакомы. Клэри, скажем, ведь ей девятнадцать будет? Нет, почти двадцать. Молодая женщина – очень далека от той маленькой девочки, которая так пылко нуждалась в нем. И Невилл, он, поди, уже в школе учится, голос ломку претерпел, может, и астма с возрастом прошла. А Зоуи… вот она какой окажется? Ждала ли она его все эти годы или кому-то другому уступила? Ему нечего ожидать слишком многого: и тут он припомнил, что именно так всегда говорил себе про нее. Она все так же прекрасна, в этом он не сомневался, только он научился различать красоту и в ином. Живы ли окажутся его родители? Хватит ли у него духу вернуться к бизнесу с древесиной: к дому в Лондоне, званым ужинам, деловым развлечениям, семейным выходным, отпускам за границей время от времени, – хватит ли духу отказаться от мысли о живописи во второй раз в жизни? Она отыскала ему кое-какие материалы, чем рисовать можно было, а один раз – коробочку акварельных красок, которыми он пользовался до тех пор, пока ничего не осталось. В те первые годы, когда она постоянно прятала его и они не могли ни выйти, ни уйти далеко, ни заговорить ни с кем, он сошел бы с ума, если бы не был в состоянии рисовать.
Однако во всех этих случайных рассуждениях он неизменно – и с величайшим волнением – возвращался именно к Зоуи, потому как, понял он, то было частью возвращения домой, которое потребует от него больше всего, и еще это было частью, где он опасался того, что сумеет дать меньше всего. Есть, разумеется, и еще один ребенок, мальчик или девочка, при том, что все прошло хорошо, чего не было в последний для нее раз, думал он, чувствуя колющую боль вины. До чего ж странно, что, когда тот ребенок умер, он не предался такому горю, какое, чувствовал, должно было бы овладеть им, только, с другой стороны, и она горю не предавалась. Тогда-то он и осознал, какого невероятного труда стоит ему любить ее: что бы он ни делал, как бы, казалось, ни был неправ с нею, это вызывало в ней не более чем мимолетные вспышки раздражения… Материнство досталось ей нелегко, подумал он тогда, вероятно, она вообще не создана для детей. Потом, когда она понесла второго ребенка, то вела себя совсем иначе – восторженно, приметы беременности, на которые она так много жаловалась прежде, легко сносились во второй раз. Но он так и не узнал, чем дело кончилось, и, когда он посылал с Пипиттом ей с Клэри весточки (и, разумеется, он и знать не знал, получили ли они их), он не осмелился упомянуть о малютке на тот случай, что она ее потеряла.
Уже не было солнца, ветерок улегся, все море и небо скрывались в сумеречной тьме, падал дождь, легкий как морось, и он накинул штормовку. Кто-то из команды прошел мимо него на нос выбросить за борт ведро картофельных очисток – ветер, то, что от него осталось, по-прежнему был у них по курсу. «Полагаю, официально я все еще на военном флоте числюсь», – подумал он и задумался, сколько времени у него займет перестать числиться. Потом стал гадать, а не сочли ли его (в последние месяцев десять) за дезертира – мысль сбивала с толку. Только ведь не с флота он дезертировал в эти месяцы, а от Зоуи. И теперь, когда лодка уносила его все дальше и дальше от нее, именно ей суждено быть оставленной – навсегда. Он не мог думать о ней без таких ощущений утраты и тоски, что понимал: он не должен думать о ней совсем, а потому вновь сбежал в сон, или, скорее, в порывы сна.
На рассвете его разбудили брызги с волн: ветер развернулся на северо-восток, зато море, это живое олово под лучами восходящего солнца, было спокойней, его поверхность мерно вздымалась, лишь изредка ударяя волной в правый борт.
Ему принесли кружку какао и сообщили, что вскоре покажется земля. Он закурил последнюю сигарету и стал высматривать ее. Низкая гряда облаков на горизонте, что, казалось, отделяла море от неба, растворилась в бледный мазок тумана. Он следил, как туман сгущался в полоски коричневато-зеленого над меловой белизной утесов, а потом небольшие кубики и ряды темного проявлялись вдруг в здания, которые становились все бледнее и бледнее с восходом солнца, пока все не стало напоминать очень отдаленные декорации на сцене. От такой долгой неподвижности и сырости дождя и брызг его судорога свела. Он продолжал вглядываться, а сердце его было холодным, как пепел после огня, намеренно загашенного. Возможно ли такое, думал он, – заново возжечь то, что представляется неодолимым? Но если хоть что-то знаешь о любви, если, полагал он, таится она в тебе, то – должно быть возможным. Он поднес ко рту кружку. Боже! Как же ненавидел он пенки на горячем молоке! Он взял ее пальцами и затем, не ведая почему, съел, прежде чем выпить кружку до дна. «Так или иначе, – подумал он, – я должен отыскать ее в себе, чтобы было с чего начать».
1
Элен Беатрикс Поттер (1886–1943) – английская детская писательница и художник. На русский язык переведены ее книги «Ухти-Тухти» (1958), сказки про кролика Питера (1994–2013), поросенка Робинзона (1995), мышонка Джонни (2009) и многие другие. – Здесь и далее прим. переводчика.
2
В Евангелии от Иоанна сказано: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет; и всякий верующий в Меня не умрет вовек» (11:25–26).
3
Карточная игра, известная также под названиями «концентрация», «память», «пары».
4
Смоляной настой с добавлением алоэ, применяемый для лечения раздражений кожи и для ингаляций.
5
Слова из монолога Гамлета: «неведомая страна, из чьих пределов не возвращается ни один странник». (У. Шекспир. «Гамлет», акт III, сцена 1).
6
Прощальные слова Горацио («Гамлет», акт V, сцена 2).
7
Сидней Картон – главный герой романа Чарльза Диккенса «Сказка о двух городах».
8
Мятный ликер (фр.).
9
В течение 1941 года немецкие и итальянские войска после многочисленных бомбардировок и артобстрелов пытались штурмовать остров Мальта, но безрезультатно. 15 апреля 1942 г. король Георг VI наградил народ Мальты Георгиевским крестом в знак признательности за героизм.
10
Чуть больше половинки сантиметра.
11
«Недурно, малышка, недурно» (фр.).
12
«Ангостура» – крепкая пахучая настойка красно-коричневого цвета, содержащая 45 % спирта.
13
Гарри Ллойд Гопкинс (1890–1946) – американский государственный и политический деятель, ближайший соратник президента Ф. Д. Рузвельта.
14
Французский коньячный ликер.
15
Сэр Мэтью Смит (1879–1959) – британский живописец, ученик Анри Матисса, последователь фовизма, мастер ню, натюрморта и пейзажа. Воевал на Первой мировой войне, был ранен. В 1949 году был награжден командорским орденом Британской империи, в 1954 году посвящен в рыцари.
16
В сен-назерском порту были построены укрытия для немецких подводных лодок, но при всех нещадных бомбежках города эти укрытия выдержали: за всю войну ни одна лодка в них не пострадала.
17
Сэр Харолд Малколм Уоттс Сарджент (1985–1967) – британский дирижер, органист и педагог.
18
На курсах обучают скорописи Питмана – одной из систем стенографии для английского языка, созданной сэром Айзеком Питманом (1813–1897).
19
Транскрипция хоральной прелюдии И. С. Баха для дуэта фортепиано создана пианисткой Майрой Хесс.
20
Христианская благотворительная организация, оказывающая помощь экипажам торговых и (во время войны) военных судов.
21
Томас Гейнсборо (1727–1788) – английский живописец, график, портретист и пейзажист.
22
Имеется в виду генерал Монтгомери, армия которого в октябре – ноябре 1942 года в сражении под Эль-Аламейном нанесла поражение германо-итальянским войскам, окончательно переломив ход боевых действий в Северной Африке в пользу союзников. Монтгомери был возведен в рыцарское достоинство, ему было присвоено звание полного генерала.
23
Джон Бойнтон Пристли (1894–1984) – английский романист, эссеист, драматург и театральный режиссер.
24
Крупный концертно-театральный комплекс с залом более чем на 2000 мест.
25
Традиционная (не только для Англии) семейная игра на праздновании Нового года. Играющие пишут, что они обещают сделать в наступившем году. Записки складываются (можно в шапку или коробку из-под торта), а потом зачитываются по выбору ведущего. Остальные стараются угадать, кому принадлежат обещания, и комментируют их. Порой получается не только занятно, но и занимательно, а то и поучительно: зачастую игра раскрывает характер семейных отношений.
26
Эсмеральда Сесили Кортнайдж (1893–1980) – известная британская (родилась в Австралии) комическая актриса и певица, активно участвовала в программе по поддержанию духа войск во время Второй мировой войны; кавалерственная дама ордена Британской империи. Сценка с салфетками (1933 г.) по стилю и исполнению сродни интермедии М. Жванецкого в исполнении Р. Карцева о «больших раках вчера, но по пять, и сегодня по три, но маленьких».
27
Сэр Гоф Хьюберт – командовавший в Первую мировую войну (Западный фронт) Пятой британской армией с октября 1916 по март 1918 г.
28
Уида – псевдоним английской писательницы Марии Луизы Рамэ (1839–1908), автора сентиментально-приключенческих романов («Мотыльки» один из них). Псевдоним воспроизводит «младенческое произношение» имени Луиза.
29
Уильям Генри Беверидж (1879–1963) – английский экономист и государственный деятель, сторонник фабианства и государственного регулирования экономики. В 1942 г. представил парламенту доклад с планом достижения «полной занятости», предполагавший ряд мер по борьбе с безработицей, в том числе организацию общественных работ, установление полного контроля над внешней торговлей, обязательное государственное страхование, а также создание министерства социальной службы (План Бевериджа). В 1946 г. лейбористское правительство воплотило многие из рекомендаций плана в нормативных акты.
30
Кристофер Вуд (1901–1930) – английский художник яркой творческой судьбы, проживший короткую, трагически оборвавшуюся жизнь (погиб под колесами поезда в 29 лет). Практически самоучка, он вдохновлялся работами Сезанна, Ван Гога, Гогена, Матисса, Руссо, а также Пабло Пикассо и Жана Кокто, с которыми был знаком лично. Посмертная выставка работ Вуда в 1938 году прошла в галерее «Редферн» в Лондоне и оказалась очень популярной, ее посетило более 50 000 человек.
31
Во время Второй мировой на острове Мэн располагались лагеря для интернированных, где содержались проживавшие в Великобритании граждане стран-противников, в том числе и беженцы. Туда же на время войны были отправлены члены профашистских и крайне правых политических партий.
32
«Конец вечера» (фр.).
33
В Угловом Доме в то время помещался популярный ресторан «Лайонз». В начале 1980-х его восстановили как лондонскую достопримечательность.
34
Выражение, вошедшее в английской язык в конце XIX в. после шутки, ставшей расхожей: епископ прислал приходскому священнику на Пасху тухлое яйцо, а тот заявил прихожанам, что «часть яйца оказалась превосходной».
35
Менее 2,5 километра.
36
Семейство домоправительницы из романа Ч. Диккенса «Дэвид Копперфильд»; о нем в 1935 г. был снят кинофильм.
37
Около 3062 граммов.
38
Анри Жюльен Феликс Руссо (1844–1910) – примыкавший к импрессионистам французский художник-самоучка, один из самых известных представителей наивного искусства, или примитивизма.
39
На разных картах мира и региона (в зависимости от издателя) этот пролив именуется Ла-Маншем или Английским каналом.
40
Город-сад неподалеку от Лондона, не имеющий выхода к морю.
41
Намек на описание Жаком жизни как пьесы: «А последний акт, конец всей этой странной, сложной пьесы – второе детство, полузабытье: без глаз, без чувств, без вкуса, без всего» (У. Шекспир «Как вам это нравится», акт 2, сцена 7). – Перев. Т. Щепкиной-Куперник.
42
«Дживс энд Хоукс» – старинный английский бренд мужской одежды и аксессуаров, ныне принадлежащий китайской корпорации.
43
Пристанище (фр.).
44
Сэр Освальд Эрнальд Мосли (1896–1980) – британский политик, основатель Британского союза фашистов. После прихода к власти в Великобритании У. Черчилля (1940) политической активности БСФ был положен конец. В мае – июне 1940 года Освальд Мосли вместе с большинством руководителей БСФ был арестован, а в июле вся фашистская организация была объявлена вне закона. В ноябре 1943 года по ходатайству влиятельных друзей Мосли бывший вождь БСФ был по состоянию здоровья освобожден из заключения.
45
«Мешок гвоздей» – частный клуб-ресторан с живой музыкой, особо облюбованный для встреч музыкантами.
46
Бронислав Губерман (1882–1947) – польский скрипач-виртуоз еврейского происхождения, основатель Палестинского филармонического оркестра, благодаря которому убежище от «третьего рейха» нашли около тысячи европейских евреев.
47
Лесопарк на севере Лондона, частью которого является и Долина здоровья.
48
«Бульдог Драммонд» – серия детективно-приключенческих романов Г. К. Макнейла (1888–1937), писавшего под псевдонимом «Сапер». Публиковалась в период с 1920 по 1954 год.
49
«Энтони-Неудачник» («Энтони Эдверс») – роман Херви Аллена (1889–1949), экранизация которого (1936) принесла фильму четыре премии «Оскар».
50
Стэн Лорел (1890–1965) и Оливер Харди (1892–1957) – дуэт комиков, снявшихся в 106 кинофильмах (1921–1951), которые были в прокате в десятках стран. Были включены журналом «Entertainment Weekly» в «плеяду звезд», список 45 величайших кинозвезд всех времен (1936).
51
Аллюзия на библейское высказывание: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Ветхий Завет, Книга Екклесиаста, или проповедника, 11:1).
52
Генриэтта Хелен Каненгайзер (1889–1956) под именем Хэтти Карнеги стала «американской Шанель», во многом определявшей моду в США, созданная ею компания просуществовала до 1980 г.
53
Игра слов: в 1930-е годы в английском языке обозначением шляпы стало усеченное выражение, означавшее на сленге женскую грудь.
54
Эдвард Макнайт Кауффер (1890–1954) – американский художник и графический дизайнер, проживший большую часть своей жизни в Соединенном Королевстве. Автор множества плакатов, был также известен как живописец, иллюстратор книг и театральный художник. Барнетт Фридман (1901–1958) – известный британский художник, сценограф, книжный иллюстратор, шрифтовик и литограф.
55
Виктор Эммануил III (1869–1947) – третий король единой Италии нового времени (1900), император Эфиопии (с 9 мая 1936-го по 5 мая 1941-го, формально сохранял титул до 8 сентября 1943-го), король Албании (с 16 апреля 1939-го по 8 сентября 1943-го). В 1943 г. отказался от эфиопского и албанского титулов и с этого времени поддерживал союзников. 9 мая 1946 г. Виктор Эммануил III отрекся от престола в пользу уже фактически руководившего Италией сына Умберто II, который носил корону только месяц и был низложен по итогам конституционного референдума.
56
Хайль (да здравствует), моя Ева! (нем.)
57
Городок в Северном Уэльсе на небольшом острове Холи-Айленд, что лежит к западу от острова Англси и отделен от него узким проливом.
58
Персонаж романа Ч. Диккенса «Большие надежды».
59
Фредерик Уильям Рольф (1860–1913), известный под псевдонимом Барон Корво, – английский поэт, прозаик, переводчик. Одно из самых известных его произведений – роман «Адриан Седьмой» (1904).
60
Мистер Рочестер – персонаж романа Ш. Бронте «Джейн Эйр». Мистер Найтли – персонаж романа Дж. Остин «Эмма».
61
Речь идет (с привлечением англо-латинской игры слов) о судебном постановлении о разводе (юристы именуют его правилом «если»), которое по английским законам вступает в силу при соблюдении каких-либо условий через шесть недель.
62
Самая низкая проба золота, 375-я, по-нашему.
63
В данном случае дата высадки союзных войск в Нормандии 6 июня 1944 года. Вообще на языке военных (англоязычных) – день начала какой-либо операции (аналог русскоязычному «время Ч»).
64
В миле от германской деревни Бельзен и в нескольких километрах от города Берген находился нацистский концентрационный лагерь Берген-Бельзен. В июле 1941 г. в него поступило около 20 тысяч военнопленных из СССР, к весне 1942 г. 18 тысяч из них скончались от голода, холода и болезней (выжило лишь 2097 человек). В апреле 1943 г. лагерь для военнопленных был закрыт и преобразован в концлагерь для временного содержания тех узников, которые владели иностранными паспортами и которых можно было обменять на пленных германских подданных, находившихся в лагерях союзников. В лагере не было газовых камер. Но за 1943–1945 гг. здесь умерло около 50 тысяч заключенных, свыше 35 тысяч из них – от тифа за несколько месяцев до освобождения лагеря. Оставшиеся в живых были освобождены 15 апреля 1945 г. 11-й дивизией Британских вооруженных сил (комендатура и охрана лагеря сдались без боя). В течение двух недель после освобождения умерло 9000 человек, а к концу мая – еще 4000. В конечном итоге лагерь был сожжен, чтобы остановить распространение эпидемии.
65
Соответственно больше 73, 9 и 1,2 метра.
66
Эрл – титул высшей аристократии англосаксонской Британии в XI в. В результате нормандского завоевания англосаксонская знать была ликвидирована, однако титул эрла сохранился и стал использоваться в Англии вместо континентального титула «граф». Сохранилось и старинное имя Эрл.
67
Комический роман (The Diary of a Nobody), написанный братьями Джорджем (1847–1912) и Уиндоном (1854–1919) Гроссмитами в 1892 г. В русском переводе (Елены Суриц) вышел в 2007 г.
68
О том, чем завершилась война с нацистской Германией, кто и когда действительно подписал акт о безоговорочной капитуляции германских войск, сказано слишком много, чтобы обращать внимание на очередное свидетельство далеко не безобидной «неосведомленности» европейцев.
69
Генри Луис Менкен (1880–1956) – журналист, эссеист, сатирик, автор многотомного исследования «Американский язык». Прозванный «Балтиморским мудрецом» (Sage of Baltimore) и являясь сторонником научного прогресса, особенно критически был настроен к антиинтеллектуализму, фанатизму, популизму, фундаменталистскому христианству. Откровенный поклонник немецкого философа Ницше, он не был сторонником представительной демократии.
70
Патриотическая песня, считающаяся гимном Англии.
71
Гимн Великобритании.