Книга: Время прибытия

Время прибытия
Перечитать старые письма или перебрать свой пыльный архив – лучший способ вспомнить достоверное прошлое и полнее понять его. Листая желтые страницы былого, ты словно возвращаешься в знакомый музей, где бывал в простодушном детстве, в доверчивой юности, когда еще не прочитал тома исследователей и не пережил бурные увлечения теориями, легко и до основания объясняющими наш мир. И вот теперь, стоя перед витриной с сияющими доспехами, ты уже не восхищаешься, как в отрочестве, блеском ратной брони, а по-взрослому грустишь о том, что даже дамасская сталь не способна уберечь от смерти хрупкую человеческую жизнь. Ее ничто не способно уберечь! Так случилось и со мной, когда я в канун 60-летия открыл коробки с давними моими рукописями, куда не заглядывал четверть века. Открыл, нашел свои стихотворные черновики, строгие редакционные отказы, первые сочувственные рецензии и вспомнил, как я был поэтом. Но вспомнил как-то иначе, по-другому, совсем по-другому…
Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжем… Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера таятся обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла… Он кожей чувствует, что иной крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок…
Написаны горы сочинений о пророческих способностях поэтов, об их умении предугадывать ход истории. Это действительно так, и пророческий дар объясняется, по-моему, именно особенным чувством живого слова. Ведь все события совершаются прежде в языке, в слове, а лишь потом в реальности. Советская цивилизация была разгромлена тогда, когда мы пустили в нашу речь такие словечки, как «совок», «коммуняки», «тоталитаризм»… Не случайно было широко подхвачено придуманное мной словечко «апофегей». Оно отразило то межеумочное состояние общества, когда по-прежнему жить не хотят, а как надо – никто не знает, кроме либеральных ведунов – извечных двоечников нашей истории.
А в 92-м, как только появились в языке «прихватизация», «демокрады» и прочее, – стало ясно: вестернизация России, если и не отменяется, то откладывается надолго. Помню, как, прочитав в «Труде» мой неологизм «соросята», мне позвонили из Фонда Сороса и предложили в обмен на лояльность вояж по американским университетам. Я, конечно, отказался с гордостью человека, только что закончившего штопку последних штанов. Но какова оперативность! Понимают мировые закулисники цену точному слову. Поэт благодаря особому дару улавливает языковую подготовку исторических сломов намного раньше остальных. «И гад морских подводный ход» – сказано Пушкиным именно об этом, а не о миграциях косяков атлантической сельди.
Поэт может молчать, но по тому, как загораются его глаза при удачном чьем-то слове, сразу понимаешь – кто он таков. Помню, в 86-м году я был с творческой, так сказать, миссией в Сирии и встречался с тамошними литераторами. В мою задачу входило проинформировать сирийскую писательскую общественность о том, как организовано литературное дело в тогдашнем СССР, а организовано оно было, если оставить за скобками мягкий, но твердый идеологический контроль, отлично. Мой рассказ о писательской жизни Страны Советов арабы слушали с неподвижными лицами, мерно перебирая четки. Некоторое оживление вызвали лишь сведения о тиражах толстых литературных журналов. Когда я сообщил, что тираж «Юности» – три с половиной миллиона, они глянули на меня так, точно хотели сказать: «Хоть ты и гость, уважаемый, но врать все равно нехорошо…» В заключение переводчик Олег Бавыкин попросил меня прочитать хотя бы одно мое стихотворение. Я пожал плечами, посмотрел на эту невозмутимую бедуинскую аудиторию и продекламировал:
Война уже потеряна из вида.
И генералы – нефронтовики,
А все ж у мира, как у инвалида,
Болит ладонь потерянной руки…
Бавыкин перевел, как умел, – и вдруг эти равнодушные люди пустыни закивали, зацокали языками, заулыбались, запереглядывались, как заправские московские стихотворцы, оценившие удачную метафору коллеги за пивом в ЦДЛ. И я понял, что нахожусь среди поэтов. Мне даже показалось (стихотворцы тщеславны!), будто в гортанном клекоте мелькнуло словечко «гениально». Дело в том, что внутрицеховая оценочная шкала русских поэтов имеет только две отметки – «гениально» и «г. но». (Подробнее об этом в моем романе «Козленок в молоке».) От встречи осталось еще одно любопытное впечатление: в непривычных лицах арабских писателей угадывались до боли знакомые черты насельников московского литературного общежития. «Смотри – Евтушенко!» – шепнул мне переводчик, кивая на худого нервного араба со сдвинутым набекрень игалем, в самом деле удивительно похожего на нашего громкого поэта, умеющего ссориться с властью с неизменной выгодой для себя. «А вон – Михалков…» И точно! Только Звезды Героя Труда на соубе не хватало. Вероятно, в любом литературном сообществе в силу внутренних законов всегда есть неизбежные вакансии, которые замещаются людьми со схожими данными, в том числе и внешними. Возможно, в будущем, когда мы познакомимся с марсианским поэтом, прибывшим в составе инопланетной делегации, кто-нибудь всплеснет руками: «Батюшки, ну вылитый Юрий Кузнецов!»
В разные эпохи стихи востребованы по-разному. Иногда поэзия выдвигается на роль самого активного и знаменитого вида искусства. Так было перед Октябрьской революцией и после нее. Слава Маяковского и Есенина общеизвестна. Евтушенко, Ахмадулина, Вознесенский десятилетия жили на проценты с того успеха, который обрушился на них в 60-е годы, когда послушать стихи собирались на стадионах и в ответ на удачную метафору ревели покруче, чем теперь ревут, восторгаясь искусно забитым голом. Лариса Васильева рассказывала, как почитатели поэзии на руках выносили ее после вечера в Политехническом. Кстати, благодаря кадрам, вошедшим в удивительный фильм М. Хуциева «Застава Ильича», можно вообразить, будто именно показанные в фильме поэты (те же Евтушенко, Вознесенский, Ахмадулина, Окуджава) и были в ту пору исключительными фаворитами читателей. Это не так. Столь же бурно воспринимались стихи и некоторых других поэтов, а самые восторженные аплодисменты вызвали те, что прочитал Сергей Поликарпов, которого долго не отпускали со сцены. Почему Хуциев не включил самое яркое выступление в свой фильм? Могу предположить: для него – птенца интернационального гнезда – эти стихи показались слишком русскими, или, как выражались, посконными. Поликарпова такая несправедливость буквально сломила, исказив отчасти его литературную судьбу, он не стал, как и многие его достойные сверстники, героем текущей истории Поэзии. Правда, есть еще итоговая история Поэзии. Подождем…
Вероятно, в человеческом обществе случаются периоды обостренного восприятия стихотворного слова, как бывают периоды религиозной экзальтации или повышенной воинственности. С чем это связано – с солнечной активностью, со сменой культурного кода, с очередным извивом этногенеза? Бог знает… Но наступают времена, когда поэзия уходит из сферы духовных приоритетов, дробится и сжимается до крошечных кухонных парнасиков. Поэзия переходит, как сказали бы врачи, в латентное состояние, в каковом она, кстати, и находится сейчас. Борясь с равнодушием общества, поэты придумывают разные «завлекалочки»: иногда талантливые, как у «куртуазных маньеристов», иногда убогие, похожие на срежиссированные эпилептические припадки, как у Пригова. Снижается и уровень версификации. Сложение стихов уже не напоминает резьбу по благородному дереву, а скорее – торопливую лепку из пластилина. Но к тому, что не требует мастерства, траты времени и душевных сил, и отношение соответствующее: крошечные залы заполнены не фанатами поэзии, а подругами и собутыльниками стихотворцев, которые даже не помнят наизусть своих опусов, читают их с листа, путаясь и словно стесняясь. Уверяю вас, если поэт по-настоящему оттачивал стихотворение, он запомнит его на всю жизнь, как солдат номер полевой почты.
Однако, по моим наблюдениям, процент людей с поэтическим мироощущением постоянен, как число, допустим, левшей или гомосексуалистов. Своим присутствием, даже незаметным, они играют какую-то не до конца еще понятую роль в жизни человеческого сообщества. А может быть, поэзия – вообще какая-то «высокая болезнь» человеческого духа или языка? Не случайно с самых отдаленных времен поэтов считали собеседниками богов, людьми, которым, как и жрецам, доступна небесная изнанка мира. Они слышат, как «звезда с звездою говорит». Не исключено, что поэзия – своего рода компьютерный вирус, занесенный в искусственный интеллект киборгов – наших предков – и приведший в конечном счете к возникновению у слепленных из праха тварей того, что мы называем душой. Впрочем, кажется, в юности я перечитал Брэдбери и Стругацких…
Сказать, что поэзия – тайна, это примерно то же самое, как если сказать, что любовь – это любовь. Не могу объяснить, почему всякий раз у меня выступают на теле мурашки, когда повторяю, скажем, такие строчки Владимира Соколова:
На влажные планки ограды
Упав, золотые шары
Снопом намокают, не рады
Началу осенней поры…
Кто знает, может, поэзия – это самый совершенный на сегодняшний день способ консервации энергии мысли и чувств, способ, сохраняющий не только результат, но и сам процесс творчества. В этом я убедился, составляя этот том и перебирая свой архив. Иные пожелтевшие черновики я взял в руки без малого через сорок лет. И что? Я отчетливо вспомнил все свои тогдашние мысли, чувства и ассоциации, породившие ту или иную строку, вспомнил давно забытых людей, их лица, голоса. Более того, мне удалось вернуться в то самое творческое состояние, ощутив юношеские муки от того, что метафора не лезет в размер, а сравнение напоминает бант на пояснице провинциальной кокетки. Вот такая кибернетика! Но даже если ты не поэт и читаешь чужие стихи, на подсознательном уровне все равно воспринимаешь не только итог, но и проживаешь сладостно-мучительный процесс сочинительства, творившийся в чужой душе. Так, наслаждаясь лирикой Пушкина, ты оказываешься, фигурально говоря, в его постели. Нет, не подумайте плохо! Как известно, гений предпочитал творить, лежа на ложе…
В поэзии, как и в алкоголизме, самое главное – вовремя завязать.
Поэтов-долгожителей не так уж много. Назову хотя бы Фета, Тютчева, Случевского, моего любимого Соколова. Откройте того же Пушкина и посмотрите по оглавлению, как год от года сужалась его поэтическая река… Именно Пушкин дает нам, собратьям своим меньшим, наиболее разумный пример перехода к иным жанрам, когда поэтическая энергия истаивает. Проза, критика, драматургия, журналистика, исторические разыскания… Это нормально. Ненормально, если человек, лишившийся поэтической энергии, продолжает складывать в рифму – благо рука набита. В советские времена, когда поэты неплохо зарабатывали, это было просто бедствием, но бедствием вполне объяснимым. Вообразите, вы долго, лет десять, осваивали технику стихописания. Да-да, стихосложению, как и музыке, нужно учиться, пройти через гаммы, сольфеджио. После того, как появился опыт и за рифмой не надо гоняться с мухобойкой, приходит время пробиваться в печать, добиваться известности, выгораживать свой садово-ягодный участок на Парнасе, тесном, как московское кладбище. Наконец вы пробились, добились, выгородились, вдохнули озон славы, а фонтанчик поэтического вдохновения взял да иссяк… Как? А как высыхает колодец? Еще вчера в нем даже в полдень отражались звезды, а сегодня только сухое дно с ржавыми ведрами, потерянными водоносами…
Кстати, самое время сказать несколько слов о вдохновении. Сегодня почти доказано, что за этой сладостной душевной смутой стоят заурядные биохимические процессы в организме, как стоят они за страхом, вожделением, унынием… Даже выделено особое вещество – пептиды. Не исключаю, что скоро наука предложит людям, страдающим иссякновением вдохновения, какие-нибудь стихоносные пилюли, как она подарила охладелым сладострастникам «Виагру». Я даже могу присоветовать несколько названий для таких таблеточек – «Стиховит», «Пегасил», «Лермонтин», «Байроновский аспирин»… Возможно, скоро такие препараты можно будет покупать в аптеках, но пока еще поэтам – как это было в течение многих столетий – самим приходится изыскивать способы подстегнуть уходящее вдохновение. Серьезная проблема. Обратите внимание, у каждого поэта множество стихов о том, как он пишет или пытается писать. На профессиональном языке это называется «стихи о стихах». Особенно много их у начинающих. Весь ранний Пастернак – одна сплошная мука творчества. Кстати, разбирая давние черновики, я убедился, что тоже в юности писал в основном про то, как трудно мне пишется. Прямо какие-то рыдательные песни раба со стихотворной плантации. В одной, как раньше выражались, пиесе я сравниваю свои творческие муки и тернии на пути к мастерству с горем ребенка, обладающего простым грифелем и мечтающего о коробке цветных карандашей.
Сегодня я совсем большой
И бьюсь над строчкой каждой.
И вновь с простым карандашом
И разноцветных жажду…
По качеству еле добытых неточных рифм и плохо сколоченному синтаксису чуткий читатель сразу догадается, что автору в ту пору до мастерства было, как неандертальцу до цветных фломастеров. Но дорогу осилит идущий.
Конечно, вдохновению чрезвычайно способствует любовь, особенно несчастная. Как заметил, кажется, А. Кушнер, «у счастливой любви не бывает стихов, а несчастная их не считает». Видимо, огромная энергия, выделяемая нам природой на продолжение рода и, увы, не востребованная избранницей, пометавшись по организму, выливается в горькие поэтические строки. Например, вот в такие, ахматовские:
Будь же проклят! Ни стоном, ни взглядом
Окаянной души не коснусь,
Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь
И ночей наших пламенным чадом:
Я к тебе никогда не вернусь!
Или вот в такие, извините, мои:
Пусть будет так —
уж коли так случилось.
Не обещай! Пожалуйста, иди!
Не полюбился. Ну, не получилось…
Все лучшее, конечно, впереди.
Такой урок запомню я навеки.
В чужие сани, очевидно, влез.
А ты давай – вытаптывай побеги,
Где мог подняться соловьиный лес!
Особо следует поговорить о роли алкоголя в поэзии. Сказать, что поэты пьют по совсем иной причине, нежели все остальные граждане, значит слукавить. Любое живое существо имеет к алкоголю имманентное влечение – и у моего знакомого был кот-пьяница, скончавшийся от цирроза. Однако в состоянии опьянения ничего путного написать невозможно, хотя в постпортвейной эйфории порой возникает ощущение, что ты наконец-то добрался мыслью до незримых шестеренок бытия и поймал те нетленные идеи, те вечные слова, которые Платон называл, кажется, эйдосами. Иной раз, прежде чем рухнуть в постель, хватает сил нацарапать эти озарения на бумаге. Наутро, морщась и разбирая нетрезвые каракули, только удивляешься, как такая густопсовая банальщина могла показаться тебе вчера гениальным открытием!
Вечером Богу сопатку утру,
Но поутру…
Тем не менее поэты заметили и взяли на вооружение одно любопытное последствие алкогольной эйфории. После мощного удара по организму, в состоянии похмелья происходит некоторое смещение сознания, мир воспринимается иначе, обостреннее: он странен, многозначен и обнажен. Душе вдруг становятся внятны какие-то связи и приметы, на которые в трезвой повседневности не обращаешь внимания. Замечено, что пик творческой активности у поэтов приходится на период после запоя. О эти послезапойные поэты! Сколько я их перевидал… Рубашка свежайшая, костюм, сильно пострадавший во время моральных и телесных падений, тщательно отутюжен. Острый запах одеколона. Лицо просветленное, а взгляд грустно-всепонимающий. И стихи, стихи, стихи… Жаль только, что запои становятся год от года все длиннее, а вдохновенные просветления все короче.
Сергей Есенин, знавший в этом толк, очень точно написал:
То ль как рощу в сентябрь
Осыпает мозги алкоголь…
Как и многие мои поэтические сверстники, я выпивки не избегал. В моих стихах вы без труда отыщете ту удивленную оторопь, которая накатывает утром, когда ужас от количества опорожненных бутылок сливается с тревожащей новизной знакомой тополиной ветки, скребущейся о стекло. Кстати, свою первую литературную премию я получил благодаря пьяной драке. Честное слово! Дело было в 1980 году в Кутаиси на фестивале братских литератур. Нахлебавшись молодого вина, я высказал ехидное замечание о стихах кубанского поэта Юрия Гречко и немедленно получил аргументированное возражение в челюсть. Когда мы, рыча, катались по полу под одобрительные крики собратьев по перу, в номер внезапно вошли писательские и комсомольские начальники. «Кто дерется?» – «Поляков и Гречко» – «Из-за чего?» – «Из-за рифмы» – «Ого!» На следующий день обсуждали мой цикл «Непережитое». Кто-то заметил: «Горячий парень! И стихи вроде ничего. Надо поддержать!» Так я стал лауреатом премии имени Маяковского.
Но шутки в сторону! Сколько талантливых людей осыпали мозги гораздо раньше, чем реализовали свои возможности! Среди них и Рубцов, и Шевченко… Но Бог им судья – сделали они тоже достаточно. Особая статья – поэты, всю жизнь регулировавшие вдохновение алкоголем, а потом резко завязавшие. Они энергичны, четки и неутомимо скучны. Наверное, именно о них когда-то написал поэт-фронтовик Александр Балин, давно умерший:
Деревянным маслом смазанный,
Он живет насквозь доказанный,
Деловой, как телеграф…
Впрочем, я, кажется, увлекся алкогольным фактором мировой поэзии. Вернемся к вдохновению. Итак, вас только-только начали хорошо издавать – а к пятидесятилетию даже готовится избранное, обычно эдак в двадцать пять листов. Для непосвященных сообщу: поэтический лист – это 700 строк. За строчку при советской власти платили в среднем 1 рубль 50 копеек. Теперь умножьте – и вы получите чуть ли не двадцать пять тысяч рублей. По советским временам – сумма огромная. Деньги, согласитесь, тоже стимул, если не для вдохновения, то хотя бы для работоспособности. Идешь, бывало, по длинному коридору Переделкинского дома творчества, а из-за обитых дерматином дверей доносится клекот пишущих машинок. Сочиняют стихи, как уголь рубят…
Помню такой вот случай. Издательство «Советский писатель». День выплаты гонораров за сборник «День поэзии». Длинная праздничная очередь в кассу, ведь так щедро платили разве что за книжки в Политиздате о пламенных революционерах, которые с удовольствием писали все будущие диссиденты. Вдруг появляется в долгополой шубе Андрей Вознесенский, растерянный, как схимник, угодивший из кельи на торжище. Он беспомощно озирается, пытаясь понять, куда занесла его нелегкая. «Андрей Андреевич, – весело кричат из очереди. – Вы чего ищете-то?» «Я? Э-э… тут где-то, кажется, сегодня… выдают…» – бормочет он, явно избегая свинцового слова «деньги». «За «День поэзии»?» – уточняют ожидальцы. «Да… кажется… не помню…» «Это здесь. Идите сюда! Он здесь уже стоял!» – великодушно лжет кто-то, почти достигший дароносного окошка. Вознесенский смущенно, с интеллигентнейшими извинениями протискивается, снимает норковую шапку с потной головы и просовывается в амбразуру кассы. «Вы за что получаете, Андрей Андреевич?» – спрашивает бухгалтерша, исполненная значительности, как и все люди при деньгах. «Я?.. Не помню… Кажется, за поэму… или нет…» – Лицо поэта обретает выражение трогательной беспомощности ребенка, забывшего стишок ко дню рождения мамы. «Ага, вот нашла! За поэму. Получите и распишитесь. Одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек…» Очередь затихает, уважительно оценивая грандиозный гонорар мэтра. Несколько мгновений в тишине слышно только нарастающее сопение классика, и вдруг раздается его обиженный вопль: «Как это так – одна тысяча двести сорок четыре рубля пятьдесят восемь копеек? – Лицо поэта становится сосредоточенным, как у снайпера. – Это что же выходит, по рубль пятьдесят за строчку? А мне обещали по рубль семьдесят пять, как лауреату Госпремии! Директор на месте?» «На месте. Следующий!»
Сейчас времена другие – за стихи почти не платят. Но гальванизация собственного поэтического трупа имеет сегодня иные мотивации: гранты, премии, лекционные турне за рубеж… Есть масса мест, где можно заработать и подхарчиться, но при условии, что ты сочиняешь стихи, – любые. Хоть на уровне дебила, впервые узнавшего, что «стоять-бежать» – это рифма. Очень похоже на пафосные тусовки, куда пускают только в смокингах. Фейсконтролю не важно, купил ты смокинг у Армани или взял напрокат за копейки изнуренный молью костюмчик. Главное, чтобы бабочка была, где положено. Вот и приходится соответствовать. Кстати, по своей эстетической природе модный ныне концептуализм очень близок к так называемым «паровозам» советской поэзии.
Объяснюсь: «паровозами» называли стихи, написанные с явно идеологическими целями и, как правило, по социальному заказу. Даже хорошему лирику необходимо было иметь хотя бы несколько «паровозов» – они как бы втягивали на страницы весь остальной лирический состав. Впрочем, были и гениальные «паровозы». Есть такое стихотворение «Коммунисты, вперед!». Его сочинил к какому-то из партийных съездов Александр Межиров, уехавший в начале 90-х в Америку, там умерший, но похороненный в Переделкине. Поэт прочел его делегатам, срубил свой гешефт и вроде бы все – забыли. Я тоже писал к съезду комсомола стихи. Кто их помнит? Ан, нет… «Коммунисты вперед!» остались. Более того, это одно из самых мощных стихотворений в русской поэзии XX века. Читая межировские строки, понимаешь, почему «красная идея» победила фашизм и преобразила «избяную Русь»:
Есть в военном уставе такие слова,
На которые только в тяжелом бою,
Да и то не всегда
Получает права
Командир, поднимающий роту свою…
Так вот, лишившись лирической энергии, в прежние времена уходили в рифмованную идеологию. Сколько таких рифмующих солдат партии я насмотрелся в молодости. Прочитав утром передовицу «Правды», они вечером несли в редакцию стихи, где было все, кроме поэзии. Сегодня, лишившись того же самого (а природа творчества от социальной системы не меняется), поэт уходит в интертекстуальное пересмешничество или конструирование смыслов, точно так же не имеющие ничего общего с подлинным творчеством. Когда человек уже не может писать просто про любовь или просто про ненависть, он начинает писать про свою любовь или ненависть к коммунизму, России или, скажем, к демократии и Америке. С точки зрения Политики, он, может быть, очень нужный человек, с точки зрения Поэзии, – просто зомби…
Сочинять стихи я начал в школе, классе в восьмом. Уже и не помню, о чем были мои первые строчки. Впрочем, это легко вычислить, так как особым разнообразием тематики начинающие поэты не отличаются. Как правило, с большим или меньшим успехом стартуют в трех направлениях, пытаясь выразить самые сильные свои чувства. Прежде всего это, конечно, любовь и все состояния души, ей сопутствующие, – восхищение, надежда, тоска, отчаянье, ревность, вожделение… Кто хоть раз пытался высказать трепет сердца в поэтических строчках, тот знает, как это испепеляюще трудно. Такое ощущение, словно пытаешься сработать античную камею с помощью отбойного молотка. Хочется сказать про любимого человека нечто особенное, небывалое – и юный, удрученный заурядностью повседневных слов поэт начинает выражаться метафорически. А это не просто.
С коварством метафоры я столкнулся рано. Классе в пятом мне очень нравилась девочка по имени Шура Казаковцева. В особый трепет меня приводили ее глаза – большие, карие. И вот как-то на уроке пения я решил поведать о своих чувствах. Набрался храбрости и шепнул ей на ушко: «Знаешь… А у тебя глаза, как шарики с Казанки…» Ответом мне был взор, полный негодования. Объяснюсь: мы, мальчишки, таскали с товарной станции Казанской железной дороги, проходившей недалеко от нашей школы, стеклянные шарики диаметром сантиметра три. Шарики были двух цветов – зеленого и медово-янтарного. Очень красивые!
Каково было назначение этих шариков, до сих пор не знаю, скорее всего что-то оборонное… Но наряду с марками, этикетками и прочей мальчишеской важной чепухой они являлись стихийной валютой моего детства. Наверное, именно тогда, окаченный ледяным взглядом Шуры, я понял, что для глубокого поэтического сравнения одного внешнего сходства маловато. Кому же понравится, если твои глаза уподобляют каким-то там стекляшкам с «Казанки»?..
Другая обычная тема для начинающего поэта – восторг перед красотами природы. Знакомая ситуация: бывалый до циничности гражданин, оказавшись, например, на берегу дымящегося утреннего озера или взглянув на звездное небо, чувствует вдруг некое поэтическое шевеление в душе и сокрушается: «Эх, ну почему я не сочиняю стихи?» Но если обычный человек просто чувствует шевеление, то начинающий поэт хочет выразить это шевеление словами. Я тоже пытался. Одна из моих первых попыток выглядела следующим образом:
Словно обломок «империала», —
Сломанного на пари,
В небе луна застряла
И горит…
А согласитесь: не так уж плохо – сравнить ущербную луну с половинкой золотой монеты, сломанной кем-то неведомым и могучим… Но остановиться на достигнутом было никак нельзя, и меня повело дальше:
Горит, бросая потоки нежности
В пустоту…
Скоро, скоро цветы неизбежности
Зацветут…
«Какие цветы, какой неизбежности?» – спросите вы. А черт их разберет… Наверное, начитался символистов. Вообще поначалу поэт как бы плутает среди чужих образов, интонаций, ритмов. Иногда так всю жизнь и плутает, а после смерти получает обидное прозвище «эпигон», хотя именно эпигоны живут легче и веселее настоящих поэтов. Они, как шкодливые шакалята, поедают остатки не ими заваленного буйвола. Но это метафора… В жизни эпигоны, напротив, чрезвычайно значительны, любят заседать в президиумах, они увешаны премиями до пят, обласканы критикой, которая, кстати, всегда путает эпигонство с классичностью, а новаторство с шутовством. Среди современных сочинителей тоже есть эталонные эпигоны, например, Амелин, от которого, начиная с псевдонима, вторичностью разит, как нафталином из бабушкиного сундука.
В литературе остаются, конечно, только настоящие писатели. А вот в истории литературы эпигонов пруд пруди. Зайдите в Камергерский переулок и посмотрите сначала на тщедушного бронзового Чехова, а потом на монументального Николая Асеева, суровым орлом смотрящего с большой мемориальной доски. Теперь вообразите, что Москву, как Помпею, чем-то, не дай бог, засыпало. Через тысячу лет потомки раскопали Камергерский переулок и наткнулись на эти два мемориальных осколка великой некогда литературы, чьи тексты давно утрачены. Кого потомки сразу же вообразят главным русским писателем? Ну, конечно же, Асеева. Чеховское изваяние они скорее всего примут за надгробие какого-то литературного неудачника…
И наконец, третий источник вдохновения – патриотизм. Да-да, я не оговорился. Даже сегодня, когда любовь к Отечеству служит объектом насмешек и издевательств телевизионных хохмачей, это исконное чувство живет, притаясь, в душах большинства людей. Нелюбовь к своему Отечеству – вид нравственного заболевания, причем страсть к сочинительству – одно из осложнений, сопутствующих этому серьезному недугу. Классическая история такой болезни – творчество Дмитрия Быкова. Литераторы его направления испытывают к стране обитания примерно те же чувства, что пассажир, севший не в тот поезд и в ужасе узнавший, что ехать теперь придется до конечной станции, а ему – в обратную сторону…
Патриотизм – чувство древнее, уходящее корнями в детство человечества. Вот архантропа рано утром разбудила назойливая летучая мышь. Он открыл глаза, потянулся, оглядел родную пещеру, похрапывающих во сне соплеменников, мосластые останки вчерашнего ужина и – сердце его наполнилось необъяснимой теплотой, а бессловесные пока еще мысли сложились в восторженные образы, которые на наш современный язык можно было бы перевести так:
Широка, тепла моя пещера!
Много в ней друзей, костей и шкур…
Шутка…
Когда в начале 80-х на радио я вел поэтический клуб «Березка», мне приходили тысячи писем от начинающих поэтов со всех уголков необъятной нашей страны. В этих письмах были самые разные стихи, на самые разные темы, но больше всего – стихов о любви к Родине. Многие, увы, напоминали рифмованные передовицы газеты «Правда», и в ту пору меня это страшно раздражало. Но теперь, поумнев и пережив разгром страны, я думаю о том, что государственная пропаганда, навязывающая гражданам любовь к своей стране, это – при всех издержках – все-таки гораздо естественнее, нежели агитпроп, воспитывающий в людях неприязнь к собственной Державе. Дорогие молодые поэты, пишите стихи о любви к Родине! Не стесняйтесь своего чувства! Это нормально и даже необходимо. И пусть вас не смущает раздражение тех, кто едет в чуждом поезде. Они вам не попутчики…
Путь советского юноши, заболевшего стихами, был предрешен. И путь этот лежал через литературные объединения, которых в ту пору было несметное множество. Без преувеличения вся страна была покрыта густой сетью этих самых объединений. Они организовывались при заводских многотиражках, домах культуры, горкомах комсомола, писательских организациях. Их двери были гостеприимно распахнуты и для поседелого графомана, и для желторотого гения. Я и сам вел как-то литературный кружок при маргариновом заводе, где молоденькие фасовщицы смущенно показывали мне такие вирши:
Ты меня целовал и в кусты поволок,
А в кино пригласить почему-то не мог!
Однако в литобъединение начинающий поэт попадал не сразу. Сначала он должен был убедиться в том, что литературный мир жесток и несправедлив. Как только у юного сочинителя скапливалось несколько, по его мнению, законченных стихотворений, он всеми правдами и неправдами находил доступ к пишущей машинке. Да, доступ! Это сейчас на каждом шагу компьютеры да принтеры, а вот в 1970 году я ехал через всю Москву к моей тете Вале, служившей секретарем-машинисткой в Главторфе, и она, отрываясь на бесконечные звонки и вызовы начальства, печатала мои первые стихи на казенной пишущей машинке. Помню, друг моей литературной молодости Игорь Селезнев, претендовавший на роль лидера поколения и закончивший умопомешательством, познакомил меня с юным поэтом Олегом Хлебниковым, впервые приехавшим из Ижевска в Москву. Он был в отчаянье, ибо привезенные отпечатанные экземпляры мгновенно кончились, а множество столичных редакций остались не охваченными. Я выслушал жалобы провинциала и повел его к тете Вале с той гордостью, с какой сегодня ведут поиздержавшегося друга к родственнику-банкиру.
Первой моей собственной машинкой стал списанный с баланса маргаринового завода, где работала моя мама, реликтовый «Рейнметалл». Его огромная каретка возвращалась по окончании строки на место с таким грохотом и мощью, что вполне могла бы использоваться в качестве стенобитного агрегата. Но это случилось позже…
Итак, вы молодой поэт, впервые держащий в руках собственные стихи, отпечатанные на машинке. Пока ваши строчки, черканные-перечерканные в творческих муках, таятся в тетрадочке, все это остается вашим личным, интимным делом. Теперь же, когда четверостишия выстроились на бумаге, как парадные полки на Красной площади, вы вдруг осознаете, что просто не имеете никакого права и дальше скрывать от общества плоды ваших первых вдохновений! Вы чувствуете себя почти профессионалом, вкладываете стихи в конверты и отправляете сразу в несколько адресов – в «Литературную газету», «Юность» или «Новый мир»… Письма, конечно, должны быть заказными, и, заплатив деньги, вы еще несколько минут стоите у окошечка, наблюдая, не забудет ли почтовая девушка положить ваш конверт в нужную кучку. А то ведь не дойдет заказное до адресата – и та же редакция «Нового мира» не будет через неделю потрясена открытием нового ярчайшего таланта.
В том, что редакция будет потрясена, вы ни минуты не сомневаетесь. И не потому, что глупы или не образованны. Я встречал докторов наук и высокоумных людей, пишущих совершенно несусветную чушь. Например, своей беспомощностью меня потрясли стихи академика-филолога В. Иванова, да и С. Аверинцев, прямо скажем, дальше каботажного плавания в море поэзии не углублялся. И дело не в уме или образованности. В принципе, а в период становления особенно, поэт вообще не может оценить написанный им текст, он оценивает лишь тот упоительный замысел, то «приближение звука», которое подвигло к сочинительству. И, перечитывая готовые строчки, автор не в состоянии оценить результат.
Приведу пример. Вечер у друзей. В углу сидит скромная милая девушка с печальным взором. Вы приглашаете ее на танец. Она встает, кладет вам руку на плечо, и вы кружитесь, кружитесь, кружитесь в фантастически красивом танце, ваши тела вздрагивают от случайных соприкосновений, а аромат ее волос пьянит вас сильней вина… Вы еще долго потом вспоминаете тот вечер! Затем ваш друг приносит кассету – он, оказывается, тайком записал все это на видеокамеру. Вы вставляете кассету в магнитофон – и о, ужас! Развязный лысеющий гражданин с животиком неуклюже подваливает к юной деве, потом долго топчется, наступая бедняжке на ноги, а она, страдалица, все время норовит отвернуть свой тонкий носик в сторону. Ну конечно, перед ангажементом на танец вы для храбрости маханули рюмаху, закусив ее селедочкой с луком…
– И это – я?! – в ужасе восклицаете вы.
Да, это – вы!
Полагаю, растолковывать нехитрую аллегорию нет необходимости. Добавлю: никакой поэт никогда не может оценить свои стихи совершенно объективно. Я с этим часто сталкивался в редакторской или составительской работе. «Старик, делаем антологию, неси пять лучших стихотворений! Лучших. Понял?» – «Понял». И он действительно понял и будет сидеть полночи, мучиться и отбирать, отбирать и мучиться… В результате принесет пять худших или вообще никаких стихотворений. И в этом смысле прав Пастернак, обмолвившийся:
Но пораженье от победы
Ты сам не должен отличать…
В противном случае вместо головокружительных пиков поэтических побед мы бы имели утомительное горное плато.
Но вернемся к отправленным письмам. Через неделю вы начинаете нервно заглядывать в почтовый ящик. Странно! По вашему твердому убеждению, потрясенный «Новый мир» должен откликнуться немедленно. Но где же ответ? Его нет. Нет через месяц. Нет и через полгода. Вы жалуетесь кому-то из опытных знакомых, и тот радостно объясняет, что ждете вы совершенно напрасно, ибо в журналах работают исключительно злодеи и завистники (это отчасти верно), и они никогда ваши стихи не напечатают. Из зависти к таланту. Такое объяснение немного успокаивает, но как-то ночью вы просыпаетесь от страшного подозрения, а наутро бежите в библиотеку читать «Юность» и «Новый мир». Так и есть! Какой-то опубликованный поэт имярек пишет, что «у лета крылья махаона», а у вас было:
Вокруг ошалевшее лето
На крыльях стрекозьих парит…
Обокрали!
Как тут не вспомнить изумительное стихотворение в прозе Тургенева про поэта Юлия, укравшего строчки Юния, и тем прославившегося! Но вот через год, уже потеряв всякую надежду, вы лениво лезете в ящик за утренней газетой и обнаруживаете большой конверт с логотипом «Нового мира», а там все ваши стихи, исчерканные красным карандашом, и короткая рецензия, смысл которой обычно один и тот же: хорошо, что вы сочиняете стихи, а не пьете горькую, но вам еще много нужно над собой работать. «…Вот, например, у вас написано:
И нюхая букет еще вначале,
Ты думала, Инесса, о конце…
О каком именно конце думала Инесса? И не кажется ли автору, что следует осторожнее пользоваться великим и могучим!..» «Мерзавец! – возмущаетесь вы. – Неужели он не понимает, что речь идет о трагической предопределенности любви!»
Все он, мерзавец, доложу я вам, понимает, но с концом вы и в самом деле погорячились. Далее, в рецензии вам непременно сообщат, что «возьми» и «позови» не рифма, а «любовь» и «вновь» рифма, но за нее в приличном литературном обществе могут просто набить морду. Мало того, у вас непременно отыщут строчки с так называемыми неприличными «зияниями». Например:
Когда ж опали наши розы,
Вас укачал полночный поезд…
В заключение рецензии непременный совет: «А идите-ка вы, юноша, в ближайшее литературное объединение!» И подпись, допустим, литературный консультант, например, Шилобреев.
– Как Шилобреев! – восклицаете вы. – Да я же читал его стихи. Он же графоман! Он сам не умеет писать… Мафия…
Обычно на первой, зубодробительной, рецензии ломается добрая половина начинающих, отсеивается, уходит в иную, бесстиховую жизнь. Но другая половина, превозмогая обиду, не отказывается от мечты и выясняет адрес ближайшего литературного объединения.
Я оказался во второй половине.
Все это я описываю со знанием дела, ибо в свое время получал очень похожие рецензии. Особенно запомнился мне своей зубодробительностью ответ, кажется, из «Студенческого меридиана», подписанный Владимиром Шленским – автором замечательной песни «Ах, необыкновенное танго послевоенное!». Впоследствии мы подружились и поддерживали отношения до самой его внезапной смерти в середине 80-х. Он был благороден, занимая деньги, никогда не брал больше пяти рублей (стоимость бутылки водки с плавленым сырком), объясняя: «Все равно не отдам!» Однажды, выпив в ЦДЛ, я мстительно напомнил о его уничижительной рецензии. Он пожал плечами, мол, не помню, знаешь, сколько у меня вас было! Это называлось работать «на заруб». Заведующий отделом поэзии вываливал внештатному рецензенту кипу подборок и говорил коротко: «На заруб». За каждый «заруб» рецензент получал, кажется, десятку и ходил, что называется, по локоть в крови начинающих поэтов. Но, с другой стороны, на десятку в те времена можно было погулять в ресторане.
Как правило, рецензенты даже не вчитывались в тексты, выискивали орлиным взором несколько «ляпов», благо их хватало, и рубили сплеча. Впрочем, бывали исключения. Например, поэт Илья Фаликов в довольно сдержанной рецензии на мою рукопись где-то в середине 70-х обмолвился, что, по его мнению, Поляков скоро перейдет на прозу. Вчитался…
Сегодня со всей прямотой могу сказать: рецензенты зарубили мои первые стихи справедливо – это было беспомощное ученичество, хотя какие-то строчки отмечались как удачные. Например, у меня имелся длинный-предлинный рифмованный диалог поэта с самим собой о том, зачем он, дескать, пишет стихи. Начинался диалог так:
– Зачем вы пишете стихи?
Вы что же думаете, строки
Умеют исцелять пороки
И даже исправлять грехи?
Зачем вы пишете стихи?..
Вообще любимое занятие начинающего поэта, как сказано выше, поразмышлять о тайнах творчества, в которых он ни черта еще не смыслит. «Стихи о стихах» – бич юных поэтов, за что их корят рецензенты и наставники. Мой диалог поэта с самим собой тоже был подвергнут решительной критике, некоторое снисхождение заслужили лишь первая и последняя строфы:
– Ну хоть один от ваших виршей
Стал добродетельней и выше?
Скажите прямо, не тая!
– Один? Конечно! Это – я.
Их-то я и оставил. Пожалуй, это единственное из моих юношеских стихотворений, которое я включил в первый и последующие сборники. Но вернемся к судьбе молодого поэта, ошарашенного первыми рецензиями на его стихи.
Переболев обидой, я внял совету и отправился в литературную студию при Московской писательской организации и горкоме ВЛКСМ. Кстати, устроиться туда было не просто, но я еще в школе был комсомольским активистом и завел кое-какие связи в верхах. А поэтам, как инвалидам, начальники помогают охотно. Располагалась студия почему-то в Доме политпросвещения на улице Володарского, ныне Гончарной. Семинары там вели крупнейшие тогдашние поэты, прозаики, драматурги, критики, переводчики: Евгений Винокуров, Борис Слуцкий, Алексей Арбузов, Юрий Трифонов, Александр Рекемчук… Даже студенты Литинститута бегали к нам «обсуждаться», считая, что у нас семинары посильнее.
Я попал в семинар Вадима Витальевича Сикорского – поэта, может быть, и не крупного, но чрезвычайно профессионального и образованного. Он был из литературной семьи, дружил с сыном Марины Цветаевой Муром, пропавшим на войне. Ему же судьба назначила вынимать в Елабуге из петли великую Марину. Сикорский был высок, плечист и с орлиным интересом поглядывал на юных поэтесс. Будучи опытным бильярдистом, он часто с гордостью говорил нам: «Я первый кий Союза писателей!» – причем слово «кий» произносил с неким не совсем бильярдным оттенком. Женат он был неоднократно.
В нашем семинаре собралось десятка два начинающих поэтов и поэтесс, не считая нескольких обязательных в таком месте рифмующих шизофреников. Кто-то так потом и сгинул безо всякого литературного результата, но многие стали настоящими профессионалами. Иных уже нет в живых. Признанный лидер нашего семинара Ефим Зубков, автор песни про пароход детства, повесился в 1976 году в собственном туалете. Его строчку про женские ноги, прорастающие в весенней толпе, отметил Вознесенский. Замечательный и явно недооцененный поэт Евгений Блажеевский, любимец Сикорского, умер в конце 90-х. Один за другим ушли уже в новом веке – Александр Щуплов, Игорь Селезнев, Юрий Чехонадский… Активно трудятся на различных литературных нивах Александр Буравский, Наталья Сидорина, Владимир Вишневский… Это все наш семинар! Поколение…
Кстати, я учился в ту пору на литфаке Областного пединститута имени Крупской. На одного парня приходилась дюжина девушек, будущих учительниц. Ностальгически вспоминая те времена, я лишь изумляюсь, что за все годы обучения так и не завел на курсе ни одного романа. Давно замечено: коренные обитатели прибрежных курортов редко купаются…
Из шестерых моих однокурсников трое стали известными литераторами. Ну, про меня вдумчивый читатель и сам, очевидно, догадался. Назову также Александра Трапезникова, отличного прозаика, сочинявшего в ту пору странный сюрреалистический роман про говорящие рога. А еще нельзя не упомянуть Тимура Запоева, который известен ныне любителям поэзии как поэт-концептуалист Тимур Кибиров. Помню, он всюду ходил с томиком Блока из Библиотеки всемирной литературы и сочинял что-то грустно-символическое, но в общении с товарищами был чрезвычайно ехиден. Когда, много лет спустя, я узнал, что он сменил свою изумительную, Богом данную фамилию на рахат-лукумный псевдоним, то был поражен. Ведь тот же Николай Глазков, из которого по сути и вышел весь наш отечественный «концептуализм», отдал бы половину своей печени за фамилию «Запоев». Всю печень, конечно, не отдал бы, так как был человеком серьезно пьющим. Кстати, поэт-сатирик Владимир Вишневский учился на нашем же факультете, но курсом старше и сочинял вполне лирические стихи под Рождественского, например, про мальчика, подающего во время футбольного матча мячи. На самом деле он, разумеется, имел в виду себя, начинающего поэта, который еще всем покажет. И показал!
Есть такое выражение в театре «Актер Актерыч». Так называют человека, который всем своим видом старается подчеркнуть свою причастность к сцене, говорит утробным голосом, а ходит наподобие тени отца Гамлета. Вишневский вел себя как заправский Поэт Поэтыч. В разгар студенческой пирушки он мог вдруг погрустнеть, уйти в уголок, достать хорошенький блокнотик, сувенирную авторучку и, ощупывая взыскующим взором пустоту перед собой, заняться сочинением стихов. «Володя, рюмку пропустишь!» – звал кто-то неосторожный. Но на него сразу шикали: «Т-с! Человек стихи пишет. Не видишь, что ли?» Я всегда царапал набежавшие строки на клочках бумаги, терял, горевал об утратах и завидовал, глядя на Володин блокнотик. После института мы довольно долго поддерживали отношения. Но как и большинство юмористов, обсмеивающих все, что шевелится и даже умерло, Вишневский не переносит остроты в свой адрес. Как-то представляя его на большом вечере в ЦДЛ, я сказал: «Чехов утверждал, что краткость – сестра таланта. Выступает брат таланта – Владимир Вишневский!» Я-то имел в виду его стихи в одну строчку, вроде «Давно я не лежал в Колонном зале». Но он понял по-своему, обиделся – и наши пути разошлись.
Но если в Вишневском тогда невозможно было угадать будущего смехача корпоративов, то я в ту пору как раз отдавал предпочтение пародиям и стихотворному юмору:
Теперь дома особенные строят:
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют
И как «звезда с звездою говорит»…
Роясь в своем архиве, я отыскал дюжину пародий, показавшихся мне достойными, чтобы опубликовать их спустя сорок лет в этом томе. Кажется, они стали смешнее, чем в момент написания. Так бывает… Кстати, подражание, переходящее в пародирование, – обычный путь стихотворного ученичества. Ибо, смеясь, с прошлым расстается не только общество. Смеясь, пародируя, ерничая, молодой поэт расстается со школярством, с зависимостью от литературных авторитетов, осваивает чужую стилистику, учится замечать дурновкусие у других, а потом и у себя. Некрасов писал: «И скучно и грустно, и некого в карты надуть…» Дурачился. Но ведь он еще написал и «Русских женщин», и «Кому на Руси жить хорошо»… Если бы мне кто-нибудь тогда, в студенческие годы, предсказал, что игра со знаменитыми цитатами лет через двадцать станет основным содержанием поэзии и будет называться «постмодернистской интертекстуальностью», я бы просто рассмеялся. Молодая литературная компания всегда живет пересмешничеством, розыгрышами, дурачествами, буриме, эпиграммами, но делать из этого профессию, объявлять эстетической школой – нелепость. Точно так же утренние ежедневные пробежки для растряски живота можно объявить большим спортом. Объявили. И что?
В начале минувшего столетия поэзия была полноправным участником и даже организатором грандиозного цивилизационного слома русской революции, изменившей мир. В лучшую или в худшую сторону – другой вопрос. В конце XX века не менее грандиозный катаклизм поэзия (не вся, конечно, но тем не менее) прохихикала и пробалагурила. Неисповедимы пути Слова! Можно, конечно, упрекать поэтов. Но с другой стороны: а если «иронизм» – на самом деле не что иное, как неосознанная ими самими реакция на чуждость, ненужность этого катаклизма нашей российской государственности и культуре? Или же, наоборот, «иронизм» – тот страшный грибок, который стремительно размягчает, сжирает несущие конструкции общественного устройства. Не знаю… Думаю. Но люди, особенно бурно потешавшиеся в начале 90-х, лично мне не симпатичны…
Однако вернемся в Дом политпросвещения на улице Володарского.
Главный смысл семинара состоял в том, чтобы научить нас даже не писать, а понимать стихи. А чужие стихи понять и оценить гораздо проще, чем свои. Владимир Николаевич Соколов как-то раз очень точно заметил: «Свой стиль у поэта появляется не тогда, когда он понимает, как должен писать, а тогда, когда он понимает, как писать не должен». Оказавшись в кругу себе подобных, сознаешь: несмотря на всю свою высокоталантливую исключительность, ты совершаешь те же самые ошибки, что и остальные сочиняющие граждане. А обнаружив двусмысленные «концы» в строчках товарища по перу, начинаешь иначе воспринимать собственные сочинения.
Занятия семинара проходили так. Назначался «виновник торжества». Допустим, выбор падал на тебя. Заранее размножив свои стихи с помощью дружественной машинистки, ты раздавал подборки товарищам по семинару, а первый экземпляр вручал, разумеется, руководителю. И трепетно ждал своей очереди… Ты уже знал, чем заканчивались такие обсуждения для других, но верил: с тобой все будет иначе! Семинар просто содрогнется от открытия небывалого таланта, на руках тебя качать, наверное, не будут, но все-таки…
И вот наступает день «Ч». С утра меня трясет и лихорадит, или, как выражается нынешняя молодежь, плющит и колбасит. Домашние встревожены: «Юра, что случилось?» Я отшучиваюсь. Ну как, в самом деле, признаться, что ты ждешь и отчаянно трусишь предстоящего семинарского обсуждения, предназначенного стать твоим звездным часом?! В последний раз, запершись в туалете, я, профессионально завывая, репетирую чтение лучших моих стихов. Таких, например:
Мелким дождиком неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Одинокие грозди рябины
Исступленно зацеловал он…
Ну разве это не гениально? Все будет хорошо.
– Кто у нас сегодня? – спрашивает Сикорский, окидывая зал взором усталого патологоанатома.
И вот я на трибуне. Да, забыл сказать: мы занимались в конференц-зале, где имелась роскошная могучая трибуна, очевидно, для политических просветителей с их нудными докладами. В креслах – коллеги по литературному цеху. Одни смотрят ободряюще, мол, держись, старик! Это соратники и друзья. Другие поглядывают с чувством явного эстетического превосходства. Это литературные недоброжелатели и соперники. Все как в большой словесности! А откуда-то из самого уголочка шлет взоры, полные нежности и восхищения, некая милая девушка. Это – моя девушка.
Она знает все мои стихи наизусть, восхищается ими еще больше, чем я сам, и пришла сюда, чтобы разделить мой триумф.
– Ну-с, начнем! – объявляет Сикорский.
Я ощущаю во всем теле праздничную невесомость и начинаю. Сикорский внимательно слушает, что-то помечая на полях рукописи, а иногда после какой-нибудь особо удачной, на мой взгляд, метафоры отрывается и смотрит на меня с картинным удивлением, словно я безбилетник, предъявивший ему, контролеру, вместо билета бланк анализа мочи. (О, этот взгляд я запомнил навсегда!) По количеству таких «изумлений», если понаблюдать из зала, можно предугадать результаты обсуждения, а точнее – показательной порки.
Странное чувство испытываешь, выходя читать стихи залу. Еще минуту назад ты был абсолютно уверен в своей гениальности, но, увидев устремленные на тебя глаза слушателей, вдруг осознаешь, что ты, идиот, совершенно напрасно вознамерился морочить людей своей рифмованной белибердой. Освищут, зашикают – и поделом. Нет, еще хуже: отреагируют мертвым, ледяным молчанием. Впервые я читал стихи публике на каком-то студенческом празднике в переполненном актовом зале МОПИ имени Крупской. Это были пародии. Я сочинил «Мартовский триптих», пытаясь представить, как могли бы написать про весенних кошек Асадов, Евтушенко и Вознесенский – в те годы популярные до невменяемости. За несколько минут до выхода я решил еще раз проверить себя и шепотом прочитал пародии какому-то слонявшемуся за кулисами старшекурснику.
– Чепуха! – констатировал он, выслушав.
Тут меня объявили, я побрел на сцену, как на казнь, и зачем-то начал декламировать… Зал смеялся и долго мне аплодировал.
– Здорово! – похвалил тот же старшекурсник, поймав меня, окрыленного, за кулисами.
Счастье публичного признания можно, наверное, сравнить только с восторгом обладания прекрасной женщиной, еще недавно недоступной, а вот теперь нежно и покорно трепещущей в твоих объятьях…
Но вернемся в Дом политпросвещения. Я заканчиваю чтение стихов и на ватных ногах возвращаюсь в зал, друзья ободряюще пожимают мне руки, литературные недруги иронически усмехаются, а взор девушки обещает мне все, о чем только может мечтать молодой поэт.
– Ну-с, – предлагает Сикорский, – прошу высказываться. Кто у нас первый оппонент?
– Я! – с тихой улыбкой расчленителя-извращенца встает и идет к трибуне один из моих лютых литературных недругов.
И начинается Великое Избиение Поэтического Младенца. Никто лучше собратьев по перу не видит твоих огрехов и никто не умеет так чудовищно их громить. Все у меня не так: и ритм, и рифма, и настроение, а моими сравнениями и метафорами не стихи инструментовать, а забивать сваи в вечную мерзлоту.
– Ну что это такое: «Мелким дождиком неистребимым обернувшись, как целлофаном, одинокие грозди рябины исступленно зацеловал он»?!
– Почему, например, целлофаном, а не полиэтиленом? – вопрошает оппонент.
Зал хихикает. Я скрежещу зубами, ибо гордился рифмой «целлофаном – зацеловал он». Это удар ниже пояса. Общеизвестно, что ради рифмы в стихи не то что целлофан – тринитротолуол притащишь… Вот сволочь!
– Почему у тебя дождик «неистребимый», а грозди «одинокие»? Это не точно. Эпитеты случайные.
– Не случайные! – вскакиваю я со своего места.
– Случайные!
– Почему?
– Потому. Ходасевича надо читать! – бьет он наотмашь.
Полузапрещенного в то время Ходасевича я, конечно, не читал, о чем, наивный осел, как-то признался товарищам в курилке. Ему, гаду, хорошо: у него папа в АПН служит и наверняка таскает в дом весь «тамиздат». А мне, отпрыску рабочего семейства, где взять?
– «Исступленно зацеловал он» сказано не по-русски, – продолжает избиение так называемый оппонент. – Можно исступленно целовать. Исступленно зацеловать нельзя.
– Можно! – снова вскакиваю я.
– Нельзя.
– Можно!!
– Нельзя…
Все смотрят на Сикорского.
– Нежелательно, – вздохнув, отвечает он.
– Но все эти «огрехи» – ерунда… замахивается для смертельного завершающего удара оппонент. – Тебе просто не о чем писать. Какие-то пейзажики и прочая мура. В стихах нет судьбы. У тебя в жизни не было настоящей трагедии. Вот если бы твоя любимая женщина попала под трамвай…
В глазах моей девушки, жмущейся в углу, ужас. Под трамвай ей явно не хочется, даже ради моей поэтической судьбы.
– А у тебя была трагедия? – окончательно вскакиваю я.
– Была, – отвечает мой гонитель с той горделивой поспешностью, которая не оставляет сомнений в том, что и у него никакой трагедии пока в жизни не было. Разве что отец из загранкомандировки джинсы не привез.
«Ничего, – подбадриваю себя я. – Сейчас за меня заступятся…»
Но друзья, на поддержку которых я рассчитываю, вяло пытаются возражать и от растерянности хвалят какие-то мои совершенно необязательные строчки, нажимая на то, что молодой талант, даже если он и не совсем еще талант, заслуживает бережного к себе отношения. Тем более что обсуждаемый поэт, то есть я, – отличный товарищ, хороший человек и даже комсомольский активист. В глазах моей девушки появляется то выражение, какое обычно бывает при виде собачонки, раздавленной уличным транспортом. Сикорский все больше хмурится. И я с ужасом понимаю: моя жизнь, во всяком случае литературная, не удалась. Личная жизнь, кстати, тоже под угрозой…
Наконец товарищи по перу сказали все, что про меня думают, довершив черное дело, начатое «расчленителем». Теперь все смотрят на Вадима Сикорского. Надо заметить, он был в своих разборах объективен, хотя и строг до чрезвычайности. Не ругал он только явных графоманов – щадя этих чаще всего нездоровых людей, приносивших на обсуждения бесконечные стихотворные поздравления друзьям к праздникам и дням рождения.
– М-да, – вздыхает Сикорский, обегая глазами симпатичных девушек в зале. – А почему вы не прочитали «Февраль»?
– Какой февраль?
– Ну вот, у вас в подборке:
Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин.
На поворотах
Трамваи старчески скрипят…
– Оно мне не удалось! – гордо объявляю я.
– Да, стихи неровные… «Ворчанье шин» – плохо. Ворчать на вас будет жена (короткий взгляд на мою девушку). «Старчески скрипят» – тоже плохо – «штамп». У вас вообще какой-то штамповочный цех! «Лежит, подошвами примят» – неуклюже… Хотя имеет право на существование. А вот «снег цвета довоенных фото» – хорошо. Даже очень хорошо!
Работайте над собой! Кого обсуждаем в следующую пятницу?
– Меня… – жалобно сообщает мой главный погромщик.
И в моей душе расцветает чертополох возмездия…
Вадим Витальевич прожил долго и скончался два года назад. Я написал некролог для «Литературной газеты». Вот он с некоторыми сокращениями:
«Умер Вадим Витальевич Сикорский. На 91-м году жизни. Один из могикан некогда многочисленного и могучего племени советских поэтов, точнее поэтов советской эпохи. Он дебютировал с книгой «Лирика» в 1958 году, уже зрелым человеком, а по меркам нынешних скороспелых дебютов – и вовсе «стариком». Его стихи были лаконичны, афористичны, сдержаны, почти лишены примет неизбежной тогда политической лояльности, что выгодно отличало их от многословия эстрадной поэзии, изнывавшей от этой самой лояльности.
В предисловии к «Избранному» в 1983-м году он писал: «Главным в поэте я всегда считал уникальную способность оказаться наедине с миром, со вселенной, со звездами, с самим собой. Умение взлететь ввысь сквозь любые учрежденческие потолки, сквозь стены и этажи увеселительных заведений, сквозь тяжелые железобетонные стены любых подвалов». Сикорский был всегда сосредоточен на странностях любви, на вечных и проклятых вопросах:
Ничто не вечно – ни звезды свечение,
ни пенье птиц, ни блеск луча в ручье, —
ничто не вечно. Смерть не исключение:
Не может вечным быть небытие.
После 91-го, когда в поэзии воцарился концептуальный цирк, Сикорский ушел в тень, его публикации стали редкостью, он сел за большой роман, главу из которого «ЛГ» напечатала несколько лет назад. До последнего времени он оставался бодр, в его крепком стариковстве явно угадывался некогда полный страстей, красивый, сильный мужчина, овладевший не одной женской привязанностью, чувствовавший себя без любви, «как скульптор без глины». Сам он с присущей ему самоиронией как-то назвал себя в стихах «атлетическим повесой». И мне хочется, вопреки строгому жанру эпитафии, процитировать мое самое любимое стихотворение ушедшего поэта «Встреча», по-моему, замечательное:
Опасность была не уменьшена
Ни светом, ни тем, что – народ…
Почти нереальная женщина
Навстречу спокойно идет.
Из облака солнцем точенная?
На лбу – неземного печать?
Нет, мысль, на слова обреченная,
Об этом должна промолчать.
Решусь объясниться лишь косвенно:
Всю мудрость налаженных дней,
Как нечто никчемное, косное,
Забыв, я пошел бы за ней.
Устроенность жизни, направленность,
Всех помыслов, все, чем я жив,
Я сжег, если б ей не понравилось,
К ногам ее пепел сложив.
Такая мне богом обещана.
Потупясь – себя отстраня,
Смертельно опасная женщина,
Прошла, не коснувшись меня.
Прощайте, Вадим Витальевич! В судьбе человека, посвятившего себя стихам, много горечи, но есть и одна привилегия: его ждет не только вечная жизнь за гробом, но и неведомая судьба в параллельных мирах высказанного поэтического слова».
Но тогда, в 74-м, он еще жив и бодр, с опаской принимает из дрожащих рук следующего «виновника торжества» подборку стихов и заинтересованным взором провожает мою девушку, неотразимую в своей юной взволнованности. После обсуждения мы, как водится, пьем в скверике обязательный портвейн. Друзья, отводя глаза, объясняют, мол, все дело в том, что я плохо читал свои стихи, что у Сикорского какие-то неприятности в «Новом мире», что наши литературные враги просто сволочи и пишут еще хуже, чем я…
– Ой, извини!
Потом, проводив девушку домой, я еду к себе на станцию «Лосиноостровская» в полночной электричке. Спасительный наркоз портвейна неумолимо выветривается, и леденящая оторопь непоправимого диагноза убивает сердце. Диагноз состоит из двух слов: «Я бездарен»…
Кто не писал стихов, никогда не поймет это состояние. Ты вдруг осознаешь, что вожделенный, прекрасный мир, где гениальные метафоры прыгают, как райские птицы, с одной стихотворной ветки на другую, для тебя закрыт навеки. Никогда, никогда, никогда ты не войдешь в этот поэтический эдем, не хлопнешь по плечу задумавшегося над строкой великого собрата и не спросишь: «Ну как, брат Пушкин?»…
После того, первого обсуждения я два дня пролежал на кровати, отвернувшись к стенке, не подходил к телефону и отказывался от пищи. Мои родители, не имевшие к литературе никакого отношения, шепотом жалели о том, что их сын связался с этими чертовыми стихами. Впрочем, девушка по имени Наташа, несмотря на случившийся на ее глазах унизительный разгром, во мне не разочаровалась и вскоре стала моей женой, каковой и остается по сей день. Явление, надо сказать, довольно редкое в нашем многобрачном литературном мире.
Обычно после таких зубодробительных обсуждений отсеивалась примерно половина начинающих поэтов. Но у тех, кто выдержал, пережил, поднялся, – в душе совершался какой-то рывок, прорыв на некий иной уровень. Много позже я понял, что скачкообразное развитие литературного дара у пишущего человека случается именно в дни отчаянья и презрения к себе, а не в дни озарений и всеобщего признания. Мне трудно объяснить, почему так происходит… Одно могу сказать уверенно: графоманы никогда не мучаются сомнениями и в отчаянье не жгут написанное. Они с усталым удовольствием потирают поясницу, встав от поэмы, написанной в том ясном душевном состоянии, которое напоминает отлаженное пищеварение.
Я пережил. Перемучился. И пошел. Дальше в литературу. Вскоре Сикорского попросили дать в газету «Московский комсомолец» стихи семинаристов. Он рекомендовал гордость нашего семинара Игоря Селезнева, а также Валерия Капралова и меня, выбрав стихотворение «Февраль». Это случилось в марте 1974 года.
О первая публикация! Она незабываема, как первая женщина! Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно – ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи – и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядышком с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином в надежде, что он в этот миг упивается именно моими стихами.
Но граждане читали в основном про спорт…
Если ты пережил Великое Избиение Поэтического Младенца и не получил пожизненное отвращение к сочинительству, у тебя появлялся шанс стать настоящим стихотворцем. Я сознательно не употребляю слово «поэт», ибо это уже совершенно иная шкала измерений. Стихотворец – профессия, поэт – миссия. Впрочем, в быту эти слова частенько путают. Я, например, еще застал время, когда, заполняя анкету, в графе «профессия», нисколько не смущаясь, писали – «поэт». А в графе «место работы» – «Союз писателей». Стихами в ту пору можно было заработать на жизнь, особенно если ты занимался переводами с языков народов СССР. Точнее, не с языков, а с подстрочников. Это была настоящая индустрия, кормившая толпы столичных стихачей. Жизнь одного из таких переводчиков описана в моем рассказе «Пророк». Я только едва соприкоснулся с этим родом деятельности. Помню, однажды мучился над подстрочником молодого казанского поэта, никак не мог подобрать рифму и, чтобы выкрутиться, приписал ему метафору, которой у него не было – про «девушку, что плавит лед пучком льняных волос». Вскоре получил восторженное письмо автора, звавшего меня и впредь не ограничиваться поверхностным прочтением подстрочника, а черпать образы из глубин первоисточника! Я уклонился…
Но многие не уклонялись – и случались казусы. Однажды известного среднеазиатского поэта, автора десятка книг на русском языке, выдвинули на Госпремию. Выдвинули, скорее, не за творчество, а за высокий пост. И вдруг выяснилось, что стихов на родном языке у него попросту нет – одни подстрочники, да и те, как оказалось, писал не он, а его секретарь. Вышел скандал. Но с другой стороны, в том, что крупному чиновнику хотелось прослыть именно поэтом, а не, допустим, экономистом, тоже был особый знак времени…
Но я снова отвлекся. Итак, следующий этап становления молодого поэта – врастание в редакционно-издательскую жизнь. Отчасти начинающий стихотворец уже сталкивался с этим странным миром, когда отправлял в редакцию первые свои стихи. Но это, так сказать, разведка боем, в котором он и получил первые литературные раны. Теперь же этот мир нужно было взять штурмом!
Когда впервые приходишь со стихами в издательство или журнал, на тебя смотрят как на нахала, среди ночи разбудившего весь дом да еще нагло попросившего напиться и переночевать. От тебя хотят отбояриться. Кому, спрашивается, нужна лишняя головная боль в виде твоей пухлой рукописи? Свое первое посещение издательства я запомнил очень хорошо. Это походило на спортивный поединок.
– Может быть, вам, молодой человек, лучше сначала показать стихи в каком-нибудь литобъединении? – дежурно посоветовал мне сотрудник редакции и снова углубился в рукопись, по-моему, свою собственную. На нем был кожаный пиджак, что свидетельствовало о его успехах на творческом поприще.
– Я занимаюсь в объединении при горкоме, – неуверенно ответил я.
– Это хорошо, – отозвался он с той интонацией, с какой обычно говорят «очень жаль».
1:0 в мою пользу. Я протянул папку со стихами.
– А знаете, ведь мы берем стихи только у тех, кто уже печатался! – он явно не торопился принять мою рукопись.
– Я печатался. В «Московском комсомольце».
– Ах, вот оно что… – на его лице мелькнула ревнивая тень: в МК пробиться было не так-то легко.
2:0 в мою пользу. Папка у него на столе, и он с неудовольствием развязывает тесемки.
– Ну, давайте посмотрим… А это еще что такое? У вас «слепые» экземпляры, а мы принимаем первые, в крайнем случае – вторые.
– А у меня только первое стихотворение «слепое», остальные нормальные. «Слепое» я могу забрать. Но оно про комсомол…
– Про комсомол? Серьезно? Ладно, оставьте…
3:0 в мою пользу. Матч выигран!
Рукопись принята и зарегистрирована. Теперь он от меня так просто не отвяжется. Будут, конечно, разгромные внутренние рецензии, требования доработок. Я стану вновь и вновь приходить к нему, приносить варианты, выслушивать критику, сначала чудовищную, позже – товарищескую. Однажды, к какому-нибудь празднику, я прихвачу с собой бутылочку коньяка, он достанет закуску, мы выпьем. Он разоткровенничается и поведает про то, что выпустил недавно третью книжку стихов, а подлая критика его в упор не видит. Ему уже за сорок, а на творческих вечерах его продолжают объявлять «молодым поэтом». Он-то думал, покупка кожаного пиджака с огромной переплатой что-то изменит в его жизни. Оказалось, нет…
– У меня скоро внуки будут, а я все еще «молодой»… – горько вздохнет он. – Пушкина-то в тридцать семь уже… ну, понял…
– А Лермонтова, того и вообще в двадцать семь… – вздохну я, вспомнив о недавно отпразднованном своем двадцатипятилетии.
Года через два мы станем друзьями, и однажды совершенно буднично, мимоходом он скажет:
– Беги, Юра, в магазин! Сегодня тебя вставили в «темплан»…
А если твоя фамилия появилась даже в самом отдаленном «темплане» издательства – значит, ты не зря ходишь по этой земле, бормоча себе под нос стихотворную невнятицу. По моим наблюдениям, встречаются два основных типа заведующих отделом поэзии – суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Молодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая невостребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться.
А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и, не дай бог, называет вас «миленьким» или «лапочкой» – можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда… Таким был Натан Злотников в «Юности». Прорваться сквозь его мертвую защиту можно было только с помощью главного редактора Андрея Дементьева, налетавшего в журнал словно добрый ураган и ставящий все на свои места.
В те годы существовала система, которую образно называли «взаимным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служащих, допустим, в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь. Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего – устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше – родственные. Правда, были возможны и другие способы проникновения в вожделенный круг. Один хромой молодой поэт, например, завел подружку в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В долгу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Я был поражен, обнаружив их даже в сборнике «Шедевры русской поэзии последней четверти XX века». Как же долго люди могут хранить признательность за качественный головной убор! Кстати, исчезновение в нашем Отечестве дефицита меховых изделий этот поэт не пережил, исчезнув из литературы навсегда. Другой поэт, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже возникал таким образом на страницах. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого театрального ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил…
Тогда, конечно, казалось, что все это взаимное опыление, все эти мерзости окололитературного приспособленчества – органическое порождение «проклятого совка». Но сейчас, окидывая мысленным взглядом литературные просторы постсоветского Отечества, я снова убеждаюсь в том, что закон взаимного опыления не только не исчез, а окреп, разветвился и даже приобрел глумливую рыночную откровенность. И если в 70-е годы вхождение в литературу человеку без связей облегчала, как, скажем, мне, активная общественная работа, то с конца 80-х молодым поэтам помогало уже участие в андеграунде или даже диссидентство. В сущности, та же общественная работа, только с иным идеологическим знаком. Сколько неудачливых поэтов плакали по ночам, кляли себя за то, что не догадались, как Бродский, заблаговременно попасть под суд по статье «тунеядство» или, на худой конец, хотя бы запастись парочкой приводов в милицию, дабы воспользоваться репутацией борца с советской властью. С особым умилением я теперь слушаю по телевизору страшные рассказы рок-поэта Андрея Макаревича про то, как советская власть едва не сгноила его талант. О том, что «Машина времени» работала в основном на государственном горючем и комсомольской смазке, он как-то сказать забывает. Да и кому это теперь интересно?
Об организационно-бытовых хитростях, позволяющих побыстрей вскарабкаться на Парнас, можно говорить бесконечно. Но никого еще ни услуги, оказанные власти, ни борьба с ней, ни женитьба на дочке классика, ни срочная сексуальная переориентация, ни что-либо иное не сделали поэтом. Человека, даже чрезвычайно удачливого и предприимчивого, поэтом, извините за трюизм, могут сделать только стихи…
До армии, куда я отправился после окончания института, мне удавалось печататься только в «Московском комсомольце», где работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:
В Орехово-Борисово
Не встретишь черта лысого.
Зато там есть Аронов,
Поэт для миллионов,
Кружок его дружков,
Дружок его Кружков…
Летом 1976 года вышла моя первая большая подборка стихов в «Московском комсомольце». Ее, как модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции и взялся устроить, ссылаясь на тесное знакомство с классиком, напутственное слово начинающему автору, то есть мне. К выполнению обещания он приступил немедленно, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливого москвича Юрия Полякова…» «А разве так можно?» – робко спросил я. «Да, так нельзя… – согласился Влодов. – Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: «Днями мне в руки попалась…» Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова и сообщил, что тот попал после запоя в больницу. Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». Набравшись наглости, я позвонил, попросил, и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему понравился. Но собираясь к нему, я робел и для храбрости захватил с собой двух друзей-медиков, а они бутыль казенного спирта, настоянного на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, она отругала мужа и разогнала пьяные посиделки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью – сочинить предисловие молодому дарованию, никто не смог: спирта было слишком много. Несмотря на этот конфуз, Владимир Николаевич дал потом предисловие и к моей первой книжке. Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта, и я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял…
Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы…
В армии, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался.
Давно замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, подозреваю, прежде всего потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по ведомству «советского патриотизма». Агитпроп, чуя надвигающийся кризис, жаждал от поэтов патриотического пафоса. Но что-то случилось, любовь к родине вышла из моды, обида на Отечество или презрение к нему становились признаком хорошего тона, продвинутости, как голодание по Брегу или воспитание детей по Споку. Кстати, я уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного студента недугом – насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непременный атрибут посвященности, вроде нынешней серьги в ухе гея. Из армии я вернулся другим. Помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Да, после института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы:
…подобреть душой,
Душой понять однажды утром сизым,
Что пишут слово «Родина» с большой
Не по орфографическим капризам…
Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя, почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о губительности болезненной неприязни к Отечеству, кстати, отчасти внушенной. Теперь, когда разработана теория «сетевых войн», это стало очевидным. «Злость» в отношении своей страны, заразив миллионы, ведет к глобальным катастрофам. Поэтическая логика подсказала мне, тогда еще совсем юному и неискушенному человеку, это странное и очень верное словосочетание – «подобреть душой».
После больших подборок, вышедших в 1977 году в «Юности», «Студенческом меридиане», «Молодой гвардии», я попал на Московское совещание молодых литераторов. Впрочем, это еще ничего не значило – в совещании участвовали десятки, даже сотни молодых. Где они теперь все? Бог весть… Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Была и такая, хотя средний возраст членов СП СССР в ту пору составлял примерно 67 лет. Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некоторый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в буфете ЦДЛ не буянил… Кстати, «комсомольский след» в моей литературной биографии с ехидством припоминают до сих пор. А вот об участии одного молодого поэта в групповом изнасиловании, которое шумно обсуждали в те годы, давным-давно позабыли. Странно, если задуматься…
Вскоре я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливого, но непредсказуемого и неуправляемого, как «КамАЗ» со сломанной рулевой тягой. Потом ему на смену пришел Сергей Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помогший мне в годы литературного становления. Останься я работать в школе или в том же райкоме комсомола, конечно, моя первая книжка вышла бы гораздо позже. А так, спасибо комсомолу, – на закрытии VII Всесоюзного совещания мне вручили издательский договор. В 1980 году в «Молодой гвардии» в знаменитой серии «Молодые голоса» вышел мой первый сборник стихов «Время прибытия». Тонюсенькая брошюрка на тетрадных скрепках. Тридцать страниц. Сорок два стихотворения.
Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда – в период жесткой регламентации печатной продукции – ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тетрадки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из борсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары…
Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький – 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там свой сборничек среди круп, спичек и банок консервов. Перебирал на полке книги и нашел рядом со сборником Анатолия Передреева мое «Время прибытия»… Да, стихи тогда еще читали, и я даже получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже следило за поэтическим процессом. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходивший мизерным по тем временам тиражом – две тысячи экземпляров, в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совсем невинные:
Синее небо средь желтых берез,
Тонкий виток паутинки,
Алая память негаснущих роз,
Лето и стынь в поединке…
И никогда я к тебе не вернусь,
Не повторюсь, отгорю я
В жизни твоей. Так зеленую грусть
Солнце палит поцелуем.
Если бы в детстве во мне не погас
Редкостный дар непрощенья,
Душу свою я б не мучил сейчас —
Цель, недостойную мщенья.
Если б тот редкостный дар не погас!..
И вдруг Юдахина вызвали в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаянье. Оказалось, невинная чуевская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается: «Сталин в сердце». Вопросы есть? Скандал как-то замяли, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:
– Акростихи есть?
– Нет! – твердо отвечали мы, сотрудники, наученные горьким опытом.
Уверен, то же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего Отечества… А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. Да и в самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?
Кстати, неприятная история с цензурой была и у меня. В 1981-м в издательстве «Современник» готовилась моя вторая книга «Разговор с другом», куда я включил стихи о человеке, которого в 1941-м расстреляли за невыполнение «неправильного» приказа:
…Тут справедливости не требуй:
Война – не время рассуждать.
Не выполнить приказ нелепый
Страшнее, чем его отдать.
Но стоя у стены сарая,
Куда карать нас привели,
Я твердо знал, что умираю
Как честный сын своей земли…
Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом, а книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось, что серьезно сказалось на размере гонорара. Меня тоже вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Друзья-поэты подходили и поздравляли. Не каждого поэта цензура отмечает своим синим карандашом. Но соратники еще не знали, что в моем столе лежат уже написанные «Сто дней до приказа». Да, бодаться с советской идеологией становилось делом модным и, как показало время, перспективным… Об этом я думаю, проходя мимо чудовищного памятника виолончелисту Ростроповичу. Между тем памятника великому композитору Свиридову в Москве нет как нет. За что? Он же не бегал с автоматом по Москве в 91-м!
Я где-то читал, что великий физиолог Павлов даже из собственной кончины устроил научный эксперимент: диктовал свои предсмертные ощущения, а ученики тщательно записывали.
– Холодеют ноги… – говорил Павлов.
«Холодеют ноги», – записывали ученики.
– Умираю… – шептал Павлов.
«Умирает», – записывали ученики.
Будучи по образованию филологом и даже защитив кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии, я тоже имею некоторую склонность к научным наблюдениям и несколько раз пытался на собственном опыте проанализировать закономерности умирания поэта. Ведь все у меня шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна за другой поэтические книжки – всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На литературных вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьезно. Я был несомненным баловнем успеха. Для сравнения: за свои повести и романы (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне удалось сделать несравненно больше, нежели в поэзии) я на сегодняшний день получил поощрений куда как меньше… Исключение составляет повесть «ЧП районного масштаба». Но премия Ленинского комсомола, присужденная за эту вещь, относится скорее к политике, нежели к литературе.
Кроме того, стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но что еще серьезнее – подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая была организация! Могла тебя откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок Отечества – хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию… Выступив перед читателями, ты должен был отметить в месткоме особую путевку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов «соцкультбыта». Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к местному партийному начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы. Не могу сказать, что, к примеру, председатель колхоза, увидав в своем кабинете столичного поэта, подпрыгивал от радости.
– Сколько нужно организовать выступлений? – хмуро спрашивал он.
– Десять, – скромно отвечал я.
– Десять? Они там с ума сошли! У меня же уборочная! И дороги развезло… На тракторе тащить надо! Нет, вы поймите правильно, товарищ поэт, стихи мы здесь любим. Я вот «Василия Теркина» уважаю. Но ведь уборочная…
– Я понимаю.
– Что же делать? Что? – Председатель нервно мерил кабинет шагами.
И он и я прекрасно знали, что нужно делать, но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо для нарушения финансовой дисциплины требовалось единодушие, переходящее в сговор.
– Послушайте! – вдруг, словно пораженный неожиданной мыслью, восклицал председатель. – Давайте так… Вы выступаете в центральной усадьбе – в бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путевках я вам штампы поставлю. Из любви к литературе. Идет?
– Вообще-то не положено, – розовея от радости, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подразделения колхоза мне тоже не очень-то хотелось.
– Сам знаю: не положено, – почти уже просил меня председатель. – Но ведь уборочная и дороги развезло…
– Ну ладно… – поколебавшись для вида, соглашался я. – Мы тоже в Москве понимаем. Уборочная… Закрома родины…
– Ну и прекрасно! – широко улыбался председатель и наклонялся к селектору. – Дуся? Гони вместо обеда бухгалтерию в актовый зал. Поэт из Москвы приехал… Как фамилия?
– Поляков, – подсказывал я.
– Куликов. Очень известный поэт!
Справедливости ради надо сказать, что встречи, организованные таким вот необычным способом, проходили всегда очень тепло. Читал я любовную лирику, и меня, как правило, долго не отпускали, кроме обеденного перерыва прихватывая еще рабочее время. Я повторял на «бис» понравившиеся людям строчки:
И если мы любовь уже не ценим
За красоту, как небо и цветы,
Попробуем беречь хотя бы в целях
Охраны окружающей среды…
Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не сопереживают им, значит, делаешь что-то не то. Поверьте, я не заигрываю с «рядовым читателем», просто утверждаю: стихи, оставляющие эмоционально-равнодушными «нефилологическую» публику, – не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллектуальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы… Но поэзия – это то, от чего загораются глаза и холодеет под ложечкой у грустной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залетного стихотворца. Советская эпоха дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии. Увы, и те, и другие уходят, исчезают – незаметно, но неумолимо. Хотя иногда их еще можно встретить в самом неожиданном месте…
В 2005 году мы с Евгением Евтушенко дожидались своей очереди к начальнику земельного комитета Ленинского района Московской области. В эту уважаемую организацию нас привели переделкинские заморочки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то писателей – дачный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Александрович буквально страдал оттого, что никто из просителей, уткнувшихся в бумаги, не узнает и не замечает его, всенародного. Отчаявшись, он наклонился к девушке, строчившей рядом заявление, и спросил с интимной игривостью:
– Голубушка, назовите мне выдающегося русского поэта, родившегося на станции Зима!
Она нехотя оторвалась от писанины, глянула на пожилого приставалу, как на расконвоированного сумасшедшего, и сурово попросила не отвлекать ее от дела глупыми вопросами. Автор «Братской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся ко мне. На его лице был ужас человека, заглянувшего в мертвецкую.
– Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в год?! – воскликнул он с геморроидальным отчаяньем. – Эта страна мертва! Духовная пустыня! Конец… Понимаете?
Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, и промолчал. Мне-то было понятно совсем другое: не может русский поэт безнаказанно оставить по собственному желанию Родину в самые сложные времена, пятнадцать лет жить в Америке, а потом обижаться на свое Отечество за невнимание…
– Нет! Никогда ноги моей больше здесь не будет! – покончил счеты с неблагодарной страной Евтушенко, померк и отвернулся к окну.
В этот момент начальственная дверь отворилась, и оттуда вышла немолодая женщина с подписанной бумажкой в благодарных руках. Она, думая о чем-то своем, может, о побелке и купоросе, машинально окинула нас занятым взглядом и вдруг вскрикнула, потрясенная:
– Нет… Не может быть… Евгений Александрович, это вы?
– Я… – сознался, оживая, Евтушенко.
– Можно я вас потрогаю!
– Можно!
Получив разрешение, она бросилась ему на шею с почти чувственным стоном, крепко обняла, оторвалась, отстранилась, вглядываясь в любимые черты, и прочитала наизусть «Любимая, спи!». Потом снова жарко обняла:
– Вы… Вы просто не знаете, кто вы для нас! Господи, теперь и умереть можно… – всплакнула и сквозь слезы прочитала «Хотят ли русские войны…».
Они еще долго обнимались, вспоминая вечера в Политехническом, родную Сибирь… Когда же поклонница наконец ушла, вся в счастливых слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, произнес:
– Нет, Юра, с этой страной еще не все кончено! У России есть шанс!
…Но вернемся к моей поэтической судьбе. Можно сказать, на взлете я вдруг перестал быть поэтом. Но, не сразу… Это похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию и любовь отвечают в нас какие-то очень схожие пептиды. Сегодня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты щиколотки. Конечно, ничего страшного, а все-таки… Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, просто громко. Но все же… Еще через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь, конечно, досаду, но впервые с легким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее… Наконец, во время плотского слияния, которое еще недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятья как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе… Далее расставание с женщиной – вопрос времени и порядочности.
Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, еще способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита – можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних, настоящих, отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот – они стали мукой для души и отрадой для разума, изощренного в рифмах и тропах. Тебе становится ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать настоящие стихи, как невозможно заставить себя любить постылую женщину. Можно старательно изображать эту любовь, плодить детей, выполнять семейные обязанности… Но любить?! Любить нелюбимую – пытка.
Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о чем не жалею. К тому же на дне души самого завалящего прозаика всегда отыщутся обломки поэта. Надеюсь, читатели моих повестей и романов это заметили…
Такими словами в 2001 году я закончил мои заметки про то, как был поэтом, и поместил их в первую книгу четырехтомного собрания сочинений. Прошло много лет. Я стал осторожнее относиться к хлестким, эффектным, но не совсем достоверным фразам. Надо сознаться, став прозаиком, я все-таки не раз обращался к стихам. Нет, в то особое состояние, когда весь мир – лишь повод для точного сравнения или метафоры, окатывающей, как шайка ледяной воды, вернуться мне не удавалось. Но я тосковал по временам, когда удачная аллитерация, рожденная в трамвайной скуке, оправдывала прожитый день. Не случайно в моих драматических и прозаических сочинениях среди персонажей часто встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» спившийся пиит Федя Строчков читает мое юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, синяки, крапива…», в свое время ценимое соратниками. Герой романа «Замыслил я побег…» Башмаков посещает литературное объединение, очень похожее на то, в которое ходил я сам. А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной частью романной ткани. Кто-то из критиков даже упрекнул меня в том, что я не соорудил из вязниковской учительницы Ангелины Грешко лихую литературную мистификацию, вроде легендарной Черубины де Габриак. Ну чем не новое направление, скажем, «неоархаизм»:
Готический камин огнем ярится.
Доспехи наспех свалены в углу.
Голубоглазый странствующий рыцарь
В мой замок постучал и зван к столу…
Но я ответил критику, что любые мистификации бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, по сути, и есть сплошная горластая мистификация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять не только для героев моей прозы. В начале 90-х, взбешенный тем, что происходило в Отечестве, я разразился политическими эпиграммами, частично опубликованными в оппозиционной прессе. Меня в те годы потряс сарказм глумливой Истории, которая творит тектонические перемены в обществе с помощью ничтожных и смехотворных людей.
Знать, мы прогневили всевышнего.
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего,
А выполз какой-то Немцов…
Впрочем, если читатель полагает, будто теперь, попав в «кремлевский писательский пул», я доволен всем, что происходит в Отечестве, он глубоко ошибается. Писатель не имеет права быть в оппозиции к государственности, а вот в оппозиции к власти он обязан быть по природе выбранной профессии. Порукой тому мои «Стансы» (2011):
Как же ты, страна, такою стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы
Да зубастый офисный планктон.
Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?
Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где Пожарский? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!..
Конечно, случались у меня и лирические рецидивы, правда, краткие, не такие жаркие и плодотворные, как прежде. Для лирики необходимо особое состояние, которое можно сравнить с отпускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по себе в весеннем парке. А вот на лавочке – милая девушка с книгой, явно ей не интересной. Подсяду-ка, а вдруг… Из этого «вдруг» и получаются стихи. Но когда ты тащишь в одной руке баул новой пьесы, в другой у тебя чемодан-эпопея с оторванной ручкой, а за спиной – пудовый рюкзак «Литературной газеты» – тогда тебе, болезному, не до девушек. Даже если на парковой лавочке раскинется призывно обнаженная юница, ты вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем, все и всегда свою творческую бесплодность объясняют занятостью, и никто – размягчением таланта.
Но иногда именно погруженность в трудоемкие жанры вдруг толкает былого поэта к стихам. Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня действует древний китаец, я для достоверности погрузился в классическую поэзию Поднебесной и внезапно разразился странным циклом «Не в рифму»:
Мелькнула женщина за облетевшей сливой.
Звук флейты яшмовой затих на берегу.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен…
И вот что любопытно: последняя строчка дала название моему новому роману «Любовь в эпоху перемен». Стихи помогли прозе. Так что все еще может случиться. Бывших поэтов, как и бывших разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, к старости многие, даже вроде бы совсем списанные на прозаический берег стихотворцы переживают творческий ренессанс, поражая читателей удивительными вещами, вроде «Последней любви» почитаемого мной Николая Заболоцкого, которому в отличие от Бродского памятник так и не поставили. Возможно, и со мной случится нечто подобное. Кто знает? Подождем. Во всяком случае, встречать старость с надеждой куда приятней, чем с валидолом.
(1980)
Мальчик видит,
как заходит солнце,
Сверстники растут,
седеет мать,
Знает: это временем зовется.
Все так просто! Что здесь понимать?
Позже он поймет,
он убедится:
В мире нет энергии сильней
Той,
что в ходе времени таится!
…И душа работает над ней.
Ломают старую школу —
маленькую восьмилетку.
В новой идут уроки —
здесь тарахтит мотор.
Дым от сгоревшего хлама,
неуловимый и едкий,
Еле заметно колеблет
маленький школьный двор.
Сторож ворочает пепел
кончиком сломанной ветки,
Щурясь от горького дыма
и утирая глаза.
Дружно взлетают искры —
маленькие отметки:
Двойки, пятерки, тройки
сыплются в небеса.
Она кричала о войне,
О переломном сорок третьем…
Я замер – показалось мне,
Что до сих пор война на свете!
Она кричала о врагах,
О наших танках,
О голоде и о станках,
О спекулянтах,
О том, что вот она верна,
И про «овчарок».
В ее глазах была война —
Свечной оплавленный огарок.
Закон ей в этом не мешал,
Она еще кричала что-то.
Вокруг был мир, кругом лежал
Снег цвета довоенных фото.
Моим родителям
А мой отец не побывал на фронте.
Сказал майор,
взглянув на пацана:
– Вот через год,
когда вы… подрастете… —
А через год
закончилась война.
А через год
уже цеха гудели.
И мой отец не пожалел трудов,
Чтоб на российском,
выдюжевшем теле
Белели шрамы новых городов.
Но мирные заботы уравняли
Хлебнувших
и не видевших огня,
И в нашем общежитии
в медали
Своих отцов
играла ребятня.
На слезные расспросы
про награды
Отец читал мне что-то из газет.
– Не приведи!
Но если будет надо,
Заслужим,
а пока медалей нет! —
Я горевал.
А в переулке сонном
Азартно гомонил ребячий бой,
Но веяло
покоем, миром,
словно
Невыдохшейся майскою листвой.
И мне,
над кашей бдевшему уныло
(Пока не съем —
к ребятам не пойду!),
Все реже,
реже мама говорила:
– Эх, нам в войну
такую бы еду! —
…Тянулись дни,
и годы пролетали,
И каждый очень много умещал.
И я забыл,
взрослея,
про медали,
Да и отец уже не обещал.
Но каждый раз,
услышав медный голос
(Наверно, доля наша такова!),
Отец встает.
Но речь опять про космос
За холодящим —
«ГОВОРИТ МОСКВА…».
Что за погода, черт возьми!
Апрелем пахнет воздух.
Весны смешенье и зимы
В непостижимых дозах.
Капель о тротуар стучит,
А завтра стужа будет.
И бабушка моя ворчит:
«Вот ноне так и люди…»
* * *
…Я маленький и бесконечно рад,
Гоняя льдышку по проезжей части.
Я счастлив тем, что пахнет снегопад
Таким душистым, неизбывным счастьем.
…Я взрослый, загрустивший человек.
Шагаю, отягчен служебным долгом,
И чувствую, как детством пахнет снег,
Пусть этот запах будет долгим-долгим.
* * *
И каждый взрослый шаг
Меняет что-то в детстве:
Все так же и не так
В неизменимом действе,
Содеяв невпопад
Не подлость – глупость просто,
Гляжу туда, назад,
Где я пониже ростом,
Где возникает вдруг
Один мальчишка скверный,
Плохой, неверный друг…
Такой ли уж неверный?
Дразнилки, ссоры, синяки, крапива.
Весна. Соседний двор. Идет война.
А в том дворе, убийственно красива,
Была в ту пору девочка одна.
Я жил, учебник не приоткрывая.
Ремень отцовский потерял покой.
Была граница – это мостовая,
Я вдоль бродил, но дальше ни ногой.
Пришла метель на смену летней пыли.
Велись слезопролитные бои,
А во дворе у нас девчонки были,
Конечно, не такие, но свои.
В руках синица, и мало-помалу
Любовь пропала, где-то… к февралю.
И девочка-красавица пропала —
Квартиру, видно, дали журавлю!
Смешно сказать, через дорогу жили.
Я был труслив, она была горда.
Что нынче для меня дворы чужие?
Но есть пока чужие города…
Года летят и тянутся минуты.
Ворочаясь бессонно до утра,
Я часто вспоминаю почему-то
Ту девочку с соседнего двора…
Полюбить, словно высунуть голову
Из окошка летящего поезда:
Ветер город сдувает за городом
И косою проходится по лесу.
Но вдыхать этот воздух стремительный
Для души необычно и боязно…
Одинаково ль время прибытия
У любви и ревущего поезда?
Уже про отправление сказали,
Уже зажгли вдали зеленый глаз,
А мы с тобой стояли на вокзале,
Не понимая, что в последний раз,
И говорили… Что мы говорили,
Транжиря на слова остатки сил!
Друг друга мы – увы – недолюбили.
По крайней мере, я недолюбил.
И потому ты очень много значишь
В моей судьбе.
Когда мне тяжело,
Ты говоришь: «Все быть могло иначе!»
А я молчу: «И вправду ведь могло…»
Пускай с другой все сложится счастливей,
Но горько на душе, как ни ершись:
На каждую любовь (так справедливей!)
Отдельная должна даваться жизнь.
Сначала я забуду звуки голоса,
Ее привычку теребить кольцо.
Потом – глаза,
походку,
руки,
волосы,
Улыбку…
Всю ее —
в конце концов.
Лишь силуэт,
сначала невещественный,
Пребудет все желанней и ясней…
Пройдут года.
И никакая женщина
Не сможет никогда сравниться с ней!
Обноски отцовы,
Затертый мешок вещевой.
Последнее слово
С улыбкой: «Останусь живой!»
А все-таки горько —
Стремительно, в шесть без пяти,
Бог знает насколько
Из теплого дома уйти.
Уйти спозаранку
И знать, что иначе нельзя,
Кусочек «гражданки»
С собою в мешке унося.
Мы ведаем смала
Про долг свой и Родину-мать.
Мой долг для начала —
С колонною в ногу шагать.
…Взвод ногу пружинисто взводит
Удар глуховато-тяжел.
И мысли внезапно приходят
О совершенно чужом —
Ведь каждый за собранным взглядом
Безмерное что-то таит.
И думы шагающих рядом
П е р е к р ы в а ю т твои!
Стреляют пулеметы холостыми,
А грозный взрыв – ненастоящий взрыв.
Мы под огнем,
Но все придут живыми,
Ни капли крови так и не пролив.
Мы смело лезем прямо в гущу дыма,
Где выстрелы «противника» слышны.
…А может быть, мы все неуязвимы
За тех,
что не пришли домой с войны?!
Как я хотел вернуться в «до войны» –
Предупредить, кого убить должны.
Сегодня я один за всех в ответе.
День до войны.
Как этот день хорош!
И знаю я один
на белом свете,
Что завтра белым свет не назовешь!
Что я могу
перед такой бедою?!
Могу – кричать, в парадные стучась.
– Спешите, люди, запастись едою
И завтрашнее сделайте сейчас!
Наверно, можно многое исправить,
Страну набатом загодя подняв!
Кто не умеет, научитесь плавать —
Ведь до Берлина столько переправ!
Внезапности не будет.
Это – много.
Но завтра ваш отец, любимый, муж
Уйдет в четырехлетнюю дорогу,
Длиною в двадцать миллионов душ.
И вот еще:
враг мощен и неистов… —
Но хмыкнет паренек
лет двадцати:
– Мы закидаем шапками фашистов,
Не дав границу даже перейти!.. —
А я про двадцать миллионов шапок,
Про все,
что завтра грянет,
промолчу.
Я так скажу:
– Фашист кичлив, но шаток —
Одна потеха русскому плечу…
Она не выдержала и смеется,
В его плечо шутливо упершись.
…Он через месяц станет добровольцем,
Его подхватит фронтовая жизнь.
Нахмурясь, чтобы не расхохотаться,
Он купчик обвенчавшийся. Точь-в-точь!
…Ей голодать, известий дожидаться,
Мечтать о нем, работать день и ночь.
Своей забаве безмятежно рады,
Они не могут заглянуть вперед.
…Он не вернется из-под Сталинграда.
Она в эвакуации умрет.
А если б знали, что судьба им прочит,
На что войною каждый обречен?!
…Она так заразительно хохочет,
Через мгновенье засмеется он.
Душа, как судорогой сведена,
Когда я думаю о тех солдатах наших,
Двадцать второго,
на рассвете,
павших
И даже не узнавших,
что – в о й н а!
И если есть какой-то мир иной,
Где тем погибшим суждено собраться,
Стоят они там смутною толпой
И вопрошают:
– Что случилось, братцы?!
* * *
Порой война теряется из вида:
Уже комдивы – нефронтовики.
И все ж у мира, как у инвалида,
Болит ладонь потерянной руки.
Значкам, погонам, лычкам
Отныне вышел срок.
И надо ж – по привычке
Рука под козырек
Взлетает…
Я ж вернулся!
Я в штатском. Что за вздор?
– Бывает! – улыбнулся
Молоденький майор.
Пора тревог полночных —
Армейская страда!
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».
Мне снится сон! Уже в который раз:
Осенняя листва в морозной пыли,
Приспело увольнение в запас,
Друзья ушли,
а про меня забыли!
Наверно, писарь – батальонный бог —
Меня не внес в какой-то главный список.
А «дембель» близок, бесконечно близок,
Как тот, из поговорки, локоток.
Я вновь шагаю по скрипучим лужам
На ужин
строевым, плечо к плечу,
Смеется старшина: «Еще послужим!
А? Поляков?!»
Киваю и молчу…
Была разлука из неодолимых,
Когда в былое верится едва,
Но я нежданно в письмах торопливых
Вдруг для своей любви нашел слова.
Рукой заледенелой на привале
Царапал: «Здравствуй…» – и валился спать,
Но там, где слезы раньше подступали,
Слова вдруг научились проступать.
Три письма затерялись в пути.
Три тоски. Три страданья. Три воя.
Три нечеловечьих почти
Не услышаны были тобою.
Я писал, что терпеть не смогу
Эти непоправимые боли.
Три письма, как следы на снегу
В белом-белом, нетронутом поле.
А в четвертом спокойно и зло,
А в четвертом легко и устало
Я тебе сообщал: «Тяжело…»
Самым первым четвертое стало.
И когда обрывается свет,
Тяжесть кажется неодолимой,
Ставлю адрес, которого нет,
А потом уже имя любимой.
Такого можно не понять годами,
Но вдруг коснуться в озаренье лба!
Та женщина
с упрямыми глазами,
Как говорили встарь, —
моя судьба!
Ее улыбка – от печалей средство,
Ее слова – они хмельней вина!
Вот жизнь моя:
сначала было детство,
За детством – юность,
а потом – она!
Конечно, счастье – это тоже тяжесть,
И потому чуть сгорбленный стою.
Не умер бы я, с ней не повстречавшись,
И жизнь бы прожил.
Только не свою!
Любовь рождается,
взрослеет,
умирает.
Есть у любви дитя —
любовь детей.
И каждый каждым шагом попирает
Невидимые скопища костей:
За сотни лет,
за сонмы поколений
Шел пласт на пласт,
на ряд ложился ряд.
И нижние уже окаменели,
Став углем, разжигающим закат.
Когда-нибудь, уверенно шагая
По трепетной весенней мостовой,
Почувствую,
что грудью раздвигаю
Я самый верхний,
самый свежий слой.
И если мы любовь уже не ценим
За красоту, как небо и цветы,
Попробуем беречь хотя бы в целях
Охраны
окружающей
среды…
Роща качает листвою,
Делая нам знак:
Видно, у нас с тобою
Что-то не так,
Что-то не так!
Наши тела, порывы,
Помыслы и слова
Все быть должно красиво,
Как дерева,
Как дерева!
Те, что шумят над нами,
Воздух струя густой
На обделенных корнями,
На обойденных листвой.
Портрет молодой женщины
Обычай светский нетерпимо строг:
Какое б горе сердце ни сжимало,
Будь мраморной,
дабы никто не смог
Понять, как ты, красавица, устала.
Взирай сквозь паутинку на холсте
Так,
чтобы не поведать поневоле
Мужчинам – о сокрытой наготе,
А женщинам – о потаенной боли.
Будь существом недостижимых сфер.
Пусть очи твои сравнивают с бездной…
А в них всего лишь
статный офицер,
Такой желанный и такой бесчестный!
…Но что мне до услужливой молвы,
Когда твой взгляд смиряет в сердце смуту.
А тот жуир – в запаснике.
Увы!
Он зрителям не нужен почему-то.
Гуляют двое, обнявшись, по скверу.
И все глядят на них, разинув рты:
Он Квазимодо, а она Венера…
За что ж такому столько красоты?
Но кто судья душе, ее глубинам?!
И понимают, паре глядя вслед:
Когда влюблен, весь белый свет в любимом.
А разве не прекрасен белый свет?
Небо словно тяжелые своды,
А со сводов сочится вода.
Вот сюда в баснословные годы
Не смогла дотянуться орда.
Не домчалась кровавая туча.
И врагу, и соседу назло
Град остался живым и могучим —
Так в ту пору немногим везло.
Время годы, как волны, катило.
Город рос, куполами блистал,
Красоты набирался и силы —
Чуть столицей российской не стал.
Но чего-то ему недостало:
Иль казна оказалась слаба,
Может, просто была не судьба,
То ли крови за Русь пролил мало…
Простое платье и лицо простое.
Цвет беглых глаз как будто голубой.
Она нехороша.
Некрасотою
Всех женщин с несложившейся судьбой.
Струятся дни, ее обиды студят.
Их описать – всего одна строка.
А вон они, обугленные судьбы,
Рядами с пола и до потолка!
Да есть ли хоть одно движенье духа,
Которое б художник не постиг?
Еще немного – и она старуха.
Об этом тоже очень много книг.
Они на все, они на все ответят,
Над прошлым с нею будут причитать…
Зачем же так несчастно жить на свете,
Когда про это можно прочитать?
«…Когда-нибудь потомки все исправят:
Сорвут оковы и растопчут кнут,
И юношей замученных восславят —
Убийц, почивших в бозе, проклянут!
И будут, верю я, в грядущем веке
Чисты и зорки взгляды у людей:
Вспомянется несчастный Кюхельбекер,
Осмеян будет мерзостный Фаддей.
О новый век! Он будет безупречен.
На все ответит острый ум людской:
Зачем мы ждали гибельной картечи
И почему нас предал Трубецкой?
Как шахматы, без гнева и без пыла —
Всех нас расставят хладные умы…
Когда бы так же на Сенатской было,
Господь свидетель, победили б мы!»
Всему черед. И мщение настало.
Свет, словно снег, спускается с небес.
Сейчас они сойдутся по сигналу —
И не успеет выстрелить Дантес…
Не зря ж поэт мечтал служить гусаром!
И у барьера Пушкин не впервой!
Он подведет черту обидам старым —
За всех француз ответит головой.
Он им покажет – этой светской дряни, —
Как жжет сердца губительный свинец.
И д'Аршиак склонится к страшной ране
И, содрогнувшись, выдохнет: «Конец!»
Потом… Монарший гнев, чреда гонений,
Смятенье в сердце, ропот за спиной,
Но главное: он жил бы, русский гений,
Любил, писал…
Пускай такой ценой!
А мы бы знали, понимали с детства,
Что Пушкин прав…
А что бы мыслил он,
Обмолвившийся: «Гений и злодейство —
Две вещи несовместные…»
Я ищу девятнадцатый век
В подворотнях,
Как неярким апрелем припрятанный снег
От лучей посторонних.
Старый дом. В нем уже не зажжется окно:
Новоселье – поминки.
Мне шагать через век – от Бородино
До Ходынки.
Есть в модерне какой-то предсмертный надлом…
Переулки кривые.
Революция за поворотом. Потом
Сороковые.
Где-то рядом автомобили трубят
И дрожит мостовая.
Мне в глаза ударяет высокий Арбат.
Я глаза закрываю.
В заводском общежитии
жили крикливо и тесно,
Но зато как-то просто
и, я бы сказал, налегке.
Это был особняк,
очень дряхлый и неинтересный:
Старина ничего
не оставила в особняке.
Разве только сквозняк,
вероятно из старорежимных,
В коридорной системе
никак разобраться не мог,
Он выискивал запахи
давних времен
и кружил их…
А еще были в доме
паркет и лепной потолок,
Украшавшие прежде
чудесную бальную залу,
Что, к несчастью, была,
как жилищный вопрос, велика.
И ее поделили
так, чтоб каждой семье выпадало
Понемногу паркета старинного и потолка.
А потом все забылось.
Жильцы и не подозревали
Среди дымной стряпни,
беготни,
подметанья полов,
Что живут так обычно,
так непритязательно в зале,
Где давался, быть может,
один из последних балов.
Это выяснил я!
И, ужасно взволнованный этим,
Отложил на потом
все другие ребячьи дела,
И в течение дня,
до чертей надоевши соседям,
Разузнал, что за чудо
пропавшая зала была!
…В эту ночь мне приснился
какой-то блестящий военный,
На кого-то похожий
(но только лица нет на нем),
Он метался по комнате,
бился в фанерные стены,
И его эполеты
горели недобрым огнем.
А в потерянной зале,
за тонкой стеною невидим,
Замечательный бал:
звуки музыки, светская речь.
И несчастный военный,
на волю отчаявшись выйти,
Принимается саблей
преграду фанерную сечь.
Только стены стояли,
хотя от ударов трещали…
– Мальчик! Где же здесь выход?
(Сует мне в карманы рубли.)
Ах, княжна, так нельзя!
Пощадите!
Вы мне обещали:
Ведь мазурка моя!
Вы смеялись…
О, как вы могли?! —
Но ни слова в ответ.
Или он не расслышал ответа
Среди звуков мазурки.
Внезапно кончается бал.
Поцелуи, прощанья.
– Такому-то князю – карету! —
И со стоном «уехала!»
Странный военный пропал.
…Поутру я проснулся
в глубокой, недетской печали.
Чем-то вкусным тянуло
(наверное, был выходной).
В коридоре ходили.
Друзья за окошком кричали.
Мама нежно пытала,
что нынче такое со мной.
(на полях учебника истории)
Клинки со свистом резали эпоху.
Стояло завтра на повестке дня.
Кроился мир на «хорошо» и «плохо»,
Чтоб самым лучшим наделить меня.
И веря в Маркса, как недавно в бога,
Красноармейцы брали города.
Опять тревога, но совсем немного
До счастья и свободного труда.
Отряд уходит: песня глуше, глуше…
Отбитый город в кумаче хорош!
Горели души и чадили души.
А души, их атакой не возьмешь.
А им, во зле приученным влачиться,
Им, за добро встававшим с топором,
Пришла пора учиться и учиться,
Учиться жить и царствовать добром.
Старичок бредет по новой улице
(Все дома равны, как на подбор),
Под ноги глядит себе – любуется:
Старый парк, особняки, собор.
Следом я иду,
сосредоточенно
Думая про ту, что всех милей.
Замечаю: домик скособоченный,
Несколько старинных тополей.
А за нами – мальчуган,
уверенно
Едущий на папе в детский сад,
Видит, как шумит большое дерево,
Срубленное год тому назад.
Отец и дед рыбачили вдвоем.
Был (час езды от Курского вокзала)
Известный лишь немногим водоем,
В котором потрясающе клевало.
И наступал счастливейший из дней
И я стоял дозорным при уловах,
И до смерти боялся окуней,
Огромных, неестественно лиловых.
Когда мы наш улов несли домой,
Прохожие с расспросами совались.
А дед с отцом рядили меж собой
О рыбинах, которые сорвались.
О! Были удивительно вкусны
Уловы те. От памяти немею…
А после про рыбалку снились сны
Такие,
что куда Хемингуэю!
Но так бывало только раз в году,
В конце весны.
От мая и до мая
Я ждал, не понимая, что расту,
Как до сих пор еще не понимаю.
…И по чему судить, что мы растем?
По счету дней, иль памяти былого,
Иль по тому, что умер водоем,
А дед уже не принесет улова?
Читая сказки – мучась, холодея,
Желая зла кощеям и ягам,
Я удивлялся, что и чародеи
Неравнодушны все-таки к деньгам!
А ведь у колдунов свои законы,
Им ведом всемогущества секрет:
Взмахнут рукою – прилетят драконы,
Шепнут – и грянет ливень из монет.
У магов на цепях томятся смерчи,
А их чертоги только снятся нам.
Но, видимо, платить по-человечьи
Приходится порой и колдунам…
По духу, по плоти, по сути —
Во всем, что природой дано,
Они очень добрые – л ю д и
И очень сердечные,
но
Их много,
их много на свете,
Их море – людей!
Оттого
Им трудно бывает заметить.
Заметить тебя,
одного…
Раз в год, в преддверье холодов,
Отводят воду из прудов.
И вот открыта память дна,
Душа пруда обнажена!
Дно вычистят. И лишь тогда
Сюда опять придет вода.
Младенческую память дна
Укроет мутная волна.
…А я бы не прожил и дня,
Когда б хоть раз вот так меня!
Очень хочется петь о России,
Будто светлая тягость во мне!
Много пели, но можно красивей.
Как весомы слова в тишине!
Вот и я начинаю: «Россия…»
Но едва первый звук раздался,
Обступают
иные по силе
Голоса. Голоса. Голоса.
И они горячее и выше
И, наверно, звучат искони.
Я меж ними свой голос не слышу
Ни к чему он,
когда есть они!
Я замолк и уже не посмею…
Здесь важнее молчание,
ведь
В этом случае слушать честнее
И весомее, нежели петь…
Я разбираю прожитую жизнь.
Чужой судьбы распутываю нити:
Вот здесь он посмелее окажись —
И все могло совсем иначе выйти.
И все б сложилось ярче и стройней,
Не увлекись он целями пустыми,
Не познакомься в одночасье с ней
И не рассорься ненароком с ними.
Здесь помешал какой-нибудь пустяк,
Там средь друзей запрятавшийся недруг.
А это вот задумано не так.
А это вот исполнено не эдак.
Чужая жизнь! Какая суета!
Как скроено и сшито неумело!
А жизнь моя, она не прожита
И потому логична до предела.
(1981)
Апрельские снега…
Апрельские метели
Опять леса накрыл тяжелый снегопад.
И это —
после птичьих трелей и капели,
Как будто времена попятились назад.
Но я везуч!
И здесь мне подфартило тоже.
И я возврат зимы
приветствовать готов:
Когда-нибудь скажу,
судьбу свою итожа,
Что весен было
больше, чем годов!
Не обожженные сороковыми,
Сердцами вросшие в тишину,
Конечно,
мы смотрим глазами
другими
На вашу большую войну.
Мы знаем по сбивчивым,
трудным рассказам
О горьком победном пути,
Поэтому должен хотя бы наш разум
Дорогой страданья пройти.
И мы разобраться
обязаны сами
В той боли,
что мир перенес…
Конечно,
мы смотрим другими глазами,
Такими же,
полными слез.
Мой переулок! Ты уже не тот:
Иные зданья, запахи и звуки…
И только маргариновый завод
Дымит, как будто не было разлуки.
И достают ветвями провода
Деревья, что мы с другом посадили…
Ну вот и воротился я туда,
Куда вернуться я уже не в силе.
Ну вот и оглядел свой старый дом,
Где так легко дружилось и мечталось,
Ну вот и убедил себя,
что в нем
Уж ничего от детства не осталось…
Спасибо, жизнь, за то, что ты добра!
За новизну, за нужные утраты,
За то, что все вокруг не как вчера…
Так легче понимать,
что нет возврата!
На Родине другие небеса!
Двадцатый век!
Ты этому виною,
Что можно за неполных три часа
Перенестись туда, где все иное!
И обменять российскую метель
На мелкий дождь,
что над землею виснет.
Привычную одежду – на шинель,
А женщину любимую – на письма.
И как-то сразу подобреть душой.
Душой понять
однажды утром сизым,
Что пишут слово «Родина» с большой
Не по орфографическим капризам!
От любви остается
щемящая память о том,
Как по черному лесу
от шумного ливня бежали,
Как смешную зверушку
из снега лепили вдвоем
И любовь,
словно жизнь,
бесконечною воображали,
Как на всех одиноких поглядывали свысока,
Как в счастливое сердце
тихонько вползала
усталость…
А еще от любви
остается такая тоска,
Что уж лучше б совсем
от нее ничего
не осталось!
Черты родной забытой старины
Ищу в строках, написанных когда-то,
Но те черты туманит дым войны
И заслоняют гибельные даты.
Я словно вижу:
род встает на род,
Кичливые друзья куют измены,
Идут полки в бессмысленный поход,
И в прах ложатся вековые стены.
Да был ли ведом пращурам покой?
Да нисходила ль радость к ним на лица?
Конечно, да.
Но матерьял такой
Не вдохновлял усердье летописца.
Старик налил коричневого чая
И, трогая на скатерти узор,
Мой довод слушал,
головой качая:
Добро и зло – у нас был разговор.
Старик был тертый,
много повидавший,
В добре и зле горбом узнавший толк.
Старик был злой,
бесчестье испытавший,
Но твердо говоривший слово «долг»…
А чай дымился облаком горячим,
Туманно оседая на стекле… —
Со злом, сынок, не раз еще поплачем:
Уж больно много добрых на земле!
Лирический цикл
Посвящается светлой памяти моего деда
Младшего лейтенанта Ильи Бурминова, погибшего летом 1941 года
Друг сказал однажды мне
Как-то сухо очень:
«Что ты пишешь о войне?
Ты ж неправомочен!
Ведь когда чернела высь,
Твердь когда алела,
Мы еще не родились —
Так судьба велела.
Как же можно – просто так —
О кровавой доле,
О неистовстве атак,
О смертельной боли?!
Что за странный перегиб?
Ты подумай здраво…»
– Правомочен, кто погиб —
Я пишу без права.
До фронта не доехал он,
Дорогой не прошел победной.
Взлетел на воздух эшелон —
И стал воспоминаньем
дед мой.
Вот он стоит передо мной —
Русоволосый, сероглазый
Солдат,
шагнувший в мир иной,
Так и не выстрелив ни разу…
Война!
Ты очень далека.
Но вечно близок
День Победы!
И в этот день я пью за деда —
За моего фронтовика!
Включаю телевизор:
танки, грохот,
Врага под корень режет пулемет…
А бабушка моя тревожно вздрогнет,
Вязанье сложит,
в кухню перейдет,
На всю квартиру —
крики, рев орудий…
– Куда же ты?
– Да мочи, милый, нет.
– Так это ж – немцев!
– Тоже, внучек, люди…
В борьбе с фашистским зверем пал мой дед!
На фронте не убили никого!
Война резка —
в словах не нужно резкости:
Все миллионы —
все до одного —
Пропали без вести.
Дед летом сорок первого пропал.
А может быть,
ошибся писарь где-то,
Ведь фронтовик безногий уверял:
Мол, в сорок пятом
в Праге
видел деда!
…Сосед приемник за полночь включит,
Сухая половица в доме скрипнет —
И бабушка моя
проснется,
вскрикнет
И успокоится: дед взял на фронт ключи…
На экране – круговерть,
Леденящие моменты,
Но ему не умереть:
Впереди еще пол-ленты!
Нужно милую обнять,
С крутизны фашиста скинуть,
Потому легко понять,
Что герой не может сгинуть.
Эта логика проста.
Но идет на пользу нервам.
В это верит даже та,
Чей герой пал
в сорок первом.
В городе Сланцы в братской могиле похоронен поэт Г. Суворов.
Каждый год издалека в его день рожденья на могилу приезжает женщина с цветами…
Говорят, что она каждый год приезжает сюда,
На могилу солдатскую, в городе этом неблизком,
И положит цветы, и стоит, вспоминая года,
Что лежат непробудно, как мертвые, под обелиском.
Говорят, что покоится тут молодой лейтенант,
Фронтовая любовь, ослепившая сердце когда-то.
Он был весел и смел. Он имел неуемный талант
И к стихам и к войне —
той, что не пощадила солдата.
Летней ночью в округе победно поют соловьи.
Зимней ночью метель дышит с болью, как наша эпоха.
Говорят, ничего нет на свете дороже любви,
А они ее отдали всю – до последнего вздоха.
Она его не позабудет —
На эту память хватит сил.
Она до гроба помнить будет,
Как собирался,
уходил,
Как похоронку получила
И не поверила сперва,
Как сердце к боли приучила,
Нашла утешные слова,
Что, мол, у жизни —
тыща граней,
А нежность —
разве это грех?
Но был погибших всех желанней,
Но павших был достойней всех.
И на года,
что вместе были,
Она взирает снизу ввысь…
А уж ведь как недружно жили:
Война – не то бы разошлись.
Он погиб восемнадцати лет —
Затерялся в кровавых потемках.
Вот его комсомольский билет,
Изрешеченный, в бурых подтеках.
Парень шел, выбивался из сил,
Но о смерти не думал заране
И свои документы носил
Возле сердца, в нагрудном кармане.
Значит, в сердце ударил свинец…
Я стою, словно смерти отведав.
Боже! Сколько пробитых сердец!
Люди! Сколько пробитых билетов!
А ведь мог он вернуться живой,
Если б строчку в Устав дописали:
«Комсомольцам, идущим на бой,
Выдаются билеты из стали…»
Неуемная зависть
мальчишечьи души томила:
Конармейцы галопом
врывались в тревожные сны,
А наутро ребята
судьбу укоряли уныло,
Что явились на свет
только после Гражданской войны.
Но недолго казалась война
романтической сказкой —
На июньской земле
засыпали бойцы под дождем,
И когда они видели
храбрые сны о Гражданской,
Говорили друзьям,
что приснилось им детство и дом…
Этим людям,
всей грудью
хлебнувшим и горя, и гари,
Всем живущим по крови,
по пролитой крови родным, —
Я внимаю с любовью,
за землю мою благодарен,
Но я даже во сне —
никогда —
не завидую им!
Комплект газеты «Правда»
За сорок первый год.
Почины и парады:
«Дадим!»,
«Возьмем!»,
«Вперед!».
Ударники, герои,
Гул строек по стране…
Июнь.
Двадцать второе.
Ни слова о войне.
Уже горит граница,
И кровь течет рекой.
Газетная страница
Еще хранит покой.
Уже легли утраты
На вечные весы.
Война достигнет завтра
Газетной полосы.
Мы выжили.
Мы это
Умели испокон.
Мне свежую газету
Приносит почтальон…
Жил в «европах» профессор.
Когда он встречал человека,
Убежденного в том,
что война разразиться должна,
То сердился, кричал:
«В середине двадцатого века —
Вы поймите – никак
не возможна большая война!
Вы подумайте здраво:
кругом крейсера, самолеты,
Танки, бомбы, снаряды,
тротил – черт возьми! – аммонал…
Ну, какая война?
Люди все-таки не идиоты!»
И об этом профессор
весомый трактат написал.
«Почему будет мир» —
золотятся слова на обложке.
Эта книга в одном
из музеев лежит на виду.
А для справки добавлено:
автор погиб под бомбежкой
В середине столетия —
в сорок четвертом году.
Мальчишки не играют в мир —
Они в войну играют.
Вот восьмилетний командир
Отряд свой собирает.
Ура! Стрекочет автомат,
Бабахают пистоны.
Сурово «пленные» молчат,
А «раненые» – стонут…
Воюют парни от души:
Вот «враг» уже сдается…
А игры тем и хороши,
Что жизнь в них познается!
Уходя из детства, оглянись!
Чистый воздух набери всей грудью.
Как бы дальше ни сложилась жизнь,
Лучше детства ничего не будет.
И не потому, что детворе
Не знакомы взрослые печали, —
Просто лучшей жизненной поре
Определено стоять в начале…
Давайте чаще думать о вчера —
Ведь мы вчера сегодняшними стали.
Из детского забытого двора
Ведут пути в немыслимые дали.
Двор маленький и нам уже в упор.
В таком от дружбы никуда не деться:
Обремененный шпагой «мушкетер»
Бросает вызов рыжему «индейцу».
Уже в игре возможно различить
И неучей, и будущих ученых:
Одна занозы пробует «лечить»,
Другой уже косится на девчонок.
Один всегда шатается без дел,
Второй чуть что – размазывает слезы,
А третий где-то что-то подглядел
И мелом на стене строчит доносы.
Уже есть правдолюбцы и лжецы,
Есть трусы, огражденные отцами,
Есть мальчик, сочиняющий концы
К историям с печальными концами…
И все с опаской смотрят за забор,
Где слышен гул автомобилей грозных,
Где строгий светофор глядит в упор
И где запрещено гулять без взрослых.
И невдомек смышленой детворе,
Что там все те же – радости, напасти
И что на роковой проезжей части
Законы те же, что и во дворе…
Христос ходил по водам, как по суше,
Хоть обладал такой же парой ног.
Мне десять лет – и я Христа не хуже,
Но по воде бы так пройти не смог.
Так значит, я – совсем не всемогущий?
И для меня есть слово «никогда»?!
Не может быть,
Наверное, погуще
Была вода в библейские года…
Найдешь позабытое фото
Впервые за несколько лет,
А в мире прибавилось что-то,
Чего-то давно в мире нет…
На карточке: мамой ведомый,
Я чем-то обижен до слез —
На фоне старинного дома,
В котором родился и рос.
А рядом – чужому неведом,
Но виден и маме, и мне,
Отец мой с новехоньким «ФЭДом»
«Внимание!» крикнул извне…
С тех пор из былого маячит,
От глупой обиды поник,
Нахмуренный худенький мальчик —
Мой девятилетний двойник.
Михаилу Петракову
Я давно не встречался
с друзьями мальчишеских лет.
Вечно занят делами,
ответственными и пустыми.
Но не в этом беда,
в том, что даже стремления нет,
Как бывало, смеяться,
тужить, разговаривать с ними.
Понимаешь, читатель,
все это гораздо грустней,
Чем простая хандра,
раздражение или усталость.
Видно, что-то плохое
в душе происходит моей,
Если к первым товарищам
в ней теплоты не осталось.
Учитель мой, которого недавно
Я слушать был готов с раскрытым ртом.
Остался очень умным, очень славным,
Но говорить стал как-то не о том.
Его слова о прошлом, настоящем
Впивались в ум всего лишь год назад,
Теперь я замечаю, как все чаще
Они в прозрачном воздухе висят.
Учитель мой не видит за рассказом,
Как вьется к потолку словесный пух,
Как сквозняки рассеивают фразу,
Лишь он для новой переводит дух.
Учитель милый смотрит просветленно,
Как много дал он сердцу и уму,
Как просто с ним вскрывать судьбы законы,
Да жить по ним придется самому…
И. А. Осокиной
Воспоминание первое: я – ученик
Учитель по доске стучит мелком,
Через плечо поглядывая строго,
А я смотрю – клокочет за окном
Внеклассный мир —
я жду конца урока.
Есть мир, что виден лишь из окон школ —
Огромный, многоцветный, многошумный.
Звенит звонок —
и все, что ты прошел,
С доски стирает в тишине дежурный…
Воспоминание второе: я – учитель
Я объясняю новый материал
(Контрольную на днях пришлет РОНО!),
Я говорил, а класс внимать устал.
А хмурый Кошкин смотрит за окно.
Я понимаю, знаю по себе, —
Что, может быть, вот именно сейчас
Он первый раз подумал о судьбе,
В душе перешагнув девятый класс,
И невзначай свою судьбу связал
С осенним ветром в городском лесу…
– Ну, Кошкин, повтори, что я сказал!
(Контрольная работа на носу!)
Я прохожего толкнул,
я извинился.
Присмотрелся повнимательней —
и вдруг…
Боже милостивый,
как он изменился,
Школьный мой товарищ,
старый друг!
Он стоит большой, черноволосый,
На себя тогдашнего похож,
Задает веселые вопросы
С присказкой своей:
«Ну ты даешь!»
А в плечах —
какая-то сутулость,
В голосе ребячливом —
надлом…
Друг мой, друг,
вот время и коснулось
Нас испепеляющим крылом.
Неполучившаяся пленка!
А где теперь они —
По неумелости влюбленных
Засвеченные дни?
Лес, обессилевший от охры,
Одними нами жил!
Развел руками друг-фотограф
И пленку отложил.
Тот лист, с шипением погасший,
В холодный пруд упав,
Теперь уже не настоящий.
Мой друг, конечно, прав!
Где выбиравший хвою ветер,
Как шпильки из травы?
Есть правота во всем на свете —
И мы с тобой правы.
Прав некто, засветивший пленку.
Никто не виноват.
На красных фотоснимках кленов
Запечатлен закат…
Мне кажется, я
вырастаю из нашей любви,
Как детской порой
вырастал из ребячьей одежды.
Все, впрочем, сложнее,
но как это ни назови,
Душе не подходят
былые мечты и надежды.
Так что же я медлю?
Так что же тяну эту боль?!
Конечно, привычка…
Но есть радикальные средства!
Да только потом
не вернешься в былую любовь,
Как в детство свое.
… А я так торопился из детства!
Ее, наверно, можно миновать,
Влюбившись сразу
вдумчиво и зрело,
И навсегда утратить
благодать
К ней возвращаться —
к первой, неумелой,
Загадочной, застенчивой, слепой,
Чтоб, испытав,
как счастье убывает,
И вспомнив удалое:
«Есть любовь!»
По-взрослому поправиться: «Бывает».
Нынче дом этот не интересен,
Потому что живущая в нем
Героиня «младенческих песен»
Не живет больше в сердце моем.
Незнакомке вослед просветленно
Погляжу…
Мир волнующе нов!
Это – юность. Начало сезона.
А в Москве – мириады домов!
Тыщи тел, тыщи лиц незнакомых,
Увлеченных своею судьбой.
Ухожу… Знаю, делаю промах,
Что так просто прощаюсь с тобой.
Радость жизни пока еще телом
Ощущаю…
Сомненья – под спуд!
…Светят окна в дому опустелом —
Дом старинный: его не снесут!
Люби, брат, как получится,
Не думая о том,
Что из любви получится
И где твой будет дом.
Коль сразу две понравятся,
Влюбляйся сразу в двух.
Пусть многим не понравится,
Такой свободный дух!
Живи, мой брат, по-своему,
Ведь все, как ни кружись,
Устроит жизнь по-своему —
На то она и жизнь…
Холодный сумрак у истоков лета.
И ветер от усердия осип.
Скрипучий лес.
Мне кажется, планета
Скрипит, вертясь вокруг своей оси.
У горизонта будто бы светает…
А может, небосводу ночь мала.
Ужели звезды кто-нибудь считает?
Все небо, словно крошево стекла.
Стараюсь думать о тебе,
о счастье…
Но все выходит как-то о тепле.
Холодный ветер мысли рвет на части
И клочья злобно гонит по земле.
Как будто на меня погода взъелась!
Пытаюсь тщетно
к ветру стать спиной.
– Стой! Кто идет? —
Нет, показалось…
Зрелость
Приходит не замеченная мной.
Близких залпов доносятся гулы.
Незнакомо строчит пулемет.
Рядом бой!
Но развод караула
В гарнизоне спокойно идет.
Я вернусь в «караулку»,
ладони
Подержу над огнем и засну.
…Очень любят у нас в гарнизоне
Кинофильмы крутить про войну!
С армейским другом, пиво попивая,
Сидеть и разговаривать о том,
Что караулы, почта полевая,
Ученья, – все осталось за бортом.
Теперь в любую пору и погоду
В труде – отчасти, полностью – в гульбе
Подчинены с тобой мы не комвозводу,
Придирчивому,
а самим себе!
Конечно, мы, товарищ, не бесхозны.
На подчиненье выстроен весь мир,
Но ведь начальник, даже самый грозный,
Он все-таки еще не командир!
И если наш покой пребудет прочен,
И если не пойдет разрядка вспять,
Нас по тревоге не поднимут ночью,
Чтобы под полной выкладкой гонять.
Но, помня все солдатские невзгоды,
Грущу я не о грохоте сапог…
А вот бы на «гражданку» мне комвзвода —
Я всюду бы успел, я все бы смог!
Я вспоминаю строевые песни:
Ты можешь быть усталый и больной,
Но если приказали, то хоть тресни,
Скрипи зубами, но шагай и пой
О том, что ты всегда стоишь на страже,
О том, что номер почты полевой
Во сне твоя девчонка помнит даже,
О том, что горд солдатскою судьбой!
И пусть давно уже хожу не в ногу,
И не ношу – почти – защитный цвет,
И даже начинаю понемногу
В поэзии торить свой скромный след,
И пусть меня журналы помещают,
А критики не рвутся запинать, —
Поэту никогда не помешает
Привычка – по команде запевать!
Ты, Держащая море и сушу
Неподвижно тонкой рукой!
Я как-то научился жить без писем,
Сам не пишу, да и не жду уже.
И от работы почты независим,
Живу с приятной легкостью в душе.
Но помню я себя совсем иного:
Пилотка, сапоги, ремень ПэШа…
В плену у почтальона полкового
Была моя солдатская душа.
Я на плацу шагал сквозь мокрый ветер,
Я выполнял команды комполка,
Но правила мной тонкая рука,
Чертившая мой адрес на конверте…
Я уже много лет
собираюсь тебе написать —
Расспросить, как дела,
как устроилась жизнь
и так далее…
Рассказать о себе,
о работе своей…
Но опять
День проходит за днем —
и письмо ты получишь едва ли.
Помнишь красную осень,
от листьев сгорающих дым?
И какой-то щенок
увязался за нами вдогонку…
Он вертелся в ногах,
не давая остаться одним,
Как я злился тогда
на себя и на ту собачонку!
Это очень смешно.
Как бы мы хохотали с тобой,
Если были бы вместе.
Но вместе мы больше не будем.
Все прошло-миновало.
Осталась лишь нежная боль.
Это лучшее чувство —
из всех,
что отпущены людям.
До свиданья, любовь!
Обязательно встретимся снова.
В сердце пусто не будет —
напрасно душой не криви!
В расставании, милая,
нет ничего рокового.
Это – анахронизм:
погибать от несчастной любви.
Переменятся чувства —
и мы переменимся сами.
Так со сменой жильцов
свет иначе мерцает в окне…
Но высокие женщины
с пристальными глазами
До последней черты
будут горестно дороги мне…
– Прости! Ах, как с тобой все сложно!
Взгляни в окно. Да не сердись!
Автобус дребезжит, чем можно,
И мчится, грязь взметая ввысь.
Гляди, чернеет лес за полем.
Он, как огромная толпа,
Которая без общей воли
Нерасторопна и глупа.
Смотри, деревья, что поближе,
Навстречу дальним тем иду,
Те притомились, отстают,
Те догоняют…
И я вижу,
Как бестолково дерева,
В сугробах потеряв дорогу,
Бредут рассеянно, не в ногу,
Идут кто в лес, кто по дрова…
В межсосенной неразберихе
Автобус наш им не догнать.
За нами вслед несутся крики
Скрип сосен, крики подождать…
А мы – быстрей,
а грязь – все выше!
Взлетает прямо до небес…
Что наша ссора! Посмотри же:
В противоречье целый лес!
Мы с ней целовались
в холодных и гулких подъездах,
Пугаясь внезапных
шагов и гремучих замков.
В тетради моей
«икс» всегда пребывал в неизвестных.
И наш математик
ругался: «Не спи, Поляков!»
Мой школьный роман!
Неужели все это случилось?
Чудесное время.
Невинный и нежный пустяк…
А вот у нее —
жизни правильной не получилось:
Хотела, как лучше,
да только случилось не так.
И вот мы опять
с ней идем по-старинному, рядом.
Она – о разводе, о сыне…
И вдруг невпопад:
– Сама виновата…
Да ладно! А помнишь, в десятом?!
– Конечно, все помню…
Наверно, и я виноват…
На доброту,
привычку и уют
Любовь распалась.
И пребудет с нами.
Бегут минуты,
дни мои идут,
Чтобы, собравшись,
сделаться годами.
Настырный дождь ручьями в землю врос.
Фонарь в себя вбирает свет как будто…
Подумать только —
это же всерьез:
Бессонница, мелькнувшая минута,
Невнятный разговор с самим собой,
Навязчивая горечь сигареты…
И это все
я назову судьбой,
Когда наступит время для ответа?!
А может быть,
совсем чуть-чуть труда,
Как в сказке про расколотое блюдце?
Итак,
уют, привычка, доброта!
Уют, привычка…
Вдруг они сольются?..
В темном взгляде – соленое море обид.
На лице – беспросветная тень.
Эта девушка в мерзлом подъезде стоит,
Эта девушка ждет целый день.
Ей – красивой – хватает смиренья и сил.
Сжаты губы в надменную нить —
Не торопится тот,
кто ее разлюбил,
Но должна же она объяснить,
Что нечестно,
с другой не считаясь душой,
Так вот взять и спокойно уйти!
Он поймет и вернется (ведь он не чужой,
У него ведь не камень в груди!).
Я с печальницей гордой совсем не знаком,
Но я все-таки к ней подойду,
Подойду и скажу:
ни мольбой, ни стихом
Не поправить такую беду.
Все напрасно теперь,
если нежность мертва,
А упреки готовь не готовь…
Подойду…
Вдруг она отыскала слова,
Возвращающие любовь?..
Довела любовь до самоволки.
Схоронившись меж густых ракит,
Юный конармеец – комсомолке
О всемирной схватке говорит.
Мол, покуда «контрики» остались,
Не бывать свободному труду!
Вот ведь как подругам объяснялись
Парни в девятнадцатом году!
Мальчик, первой страстью ошарашен,
Жарко шепчет, белякам грозя…
О любви, наверное, можно краше,
Но точней, по-моему, нельзя!
…А все же миром
правят трудолюбы!
У леденящей бездны на краю,
Превозмогая все,
сжимая зубы,
Они работу делают свою,
Они живут,
в одну работу веря,
Сердца до побеленья раскалив.
…Усидчив был Антонио Сальери,
А Вольфганг Моцарт был трудолюбив!
Прошли над землею века,
Как медленные ураганы.
Дошедшие издалека,
Добытые из кургана,
Под ярким музейным стеклом
Лежат с ярлычками названий:
Пробитый в сраженье шелом,
Обрывки обугленной ткани,
Монеты, кинжалы, мечи,
Божки золотые и перстни,
И кажется, что различим
Народ позабытый…
Но песни?..
Что были, как стрелы, остры,
Легки, словно конские гривы,
Горьки, точно стойбищ костры,
И как-то иначе красивы!
Но как?
В погребальной золе
Находят остатки сокровищ,
А песни живут на земле —
Их из-под земли не отроешь…
Мы знаем и веру, и род
Людей, обернувшихся пеплом.
Но что можно знать про народ
Без песен,
которые пел он?
Жил да был богомаз на Руси.
Он бродил по земле без опаски,
Потому что с собою носил
Только кисти да чистые краски.
Он корысти себе не искал
В монастырских богатых заказах,
Просто шел по Руси и писал
Богородиц своих ясноглазых.
Для него выше княжьих наград,
Глубже евангелических истин
Был тоскующей женщины взгляд,
Отверзающийся под кистью.
И решил испытать его Бог,
И послал на невинного кару:
На одной из неезжих дорог
Богомаза схватили татары…
Стал он травами русской земли,
Но легенда осталась в народе,
Что горючие слезы текли
В этот день из очей богородиц.
И монахи попадали ниц,
Прихожане в испуге крестились —
Настоящие слезы катились
По щекам нарисованных лиц!
– Стреляться! Стреляться! – крикнул Кюхля.
Пушкин усмехнулся и тряхнул головой…
Да что вы, в самом деле, братцы?
За несколько язвящих строк
С товарищем своим стреляться,
Собрату целиться в висок!
Да разве можно двум поэтам —
Избранникам российских муз
Вверять коварным пистолетам
Ребячью ссору, блажь, конфуз.
Клокочет Пушкин, но понятно,
Что не поднимется рука:
– Извольте, ежли вам приятно!
И бах – заряд под облака.
А Кюхельбеккер, тот в запале,
Насмешкой дружеской взбешен,
Он мимо выстрелил едва ли.
Случайно промахнулся он.
Потом до смертного порога,
Казня себя за тот картель,
Благодарить он будет бога,
Что пуля не попала в цель.
И будет видеть пред собою,
Что мог принесть тот глупый миг:
Окровавленной головою
К сырой земле Сверчок приник.
Читатель, ты представь попробуй,
Что гения во цвете лет
Сразил свинцом не меднолобый
Кавалергард, а друг-поэт!
Ну, нет, немыслимо такое!
Превозмогая злой угар,
Сама поэзия
рукою
Железной
отвела удар…
– Вот на этой походной кровати
Под шинелькой солдатскою,
встарь,
От монарших и прочих занятий
Утомясь,
почивал государь.
Император считал:
на порфире
Не бывает от крови следа.
Принцип: кто не со мной —
тот в Сибири,
Средь законов был главным тогда!
Впрочем, царь не бежал наслаждений —
Был он первый в стране сердцеед,
Ведь от царственного вожделенья
Польза есть, а спасения нет!
Умер деспот.
Сменилась эпоха.
Но у нас до сих пор говорят:
– Да, конечно, при нем жили плохо!
– Был тираном.
Но спал, как солдат!
В глубине переулка
Особняк из старинных.
Здесь музей листопадов —
Только листья в витринах.
А на каждой витрине
Обозначена дата:
Мол, такие-то листья,
Облетели тогда-то.
Эти желты,
те черны
(Их палило пожаром).
И свои листопады
Ищут люди по залам,
А найдут – замирают,
Как-то сразу грустнея…
Хорошо, что покуда
Нет такого музея!
Как хороши: пылающий восход
Над бархатистой дальней синей кромкой,
Туманный аромат рассветных вод.
И птичий гомон, безмятежно громкий!
Идешь сквозь поле незаметной тропкой
И словно ощущаешь: рожь растет!
Как хороша, возлюбленная, ты,
В прозрачной темноте смеясь глазами…
Мне кажется, что чувство красоты
Мы принесли, того, быть может, сами
Не замечая, из-за той черты,
Где были рожью, влагой, небесами…
Наташа,
погляди на вспышки звездные,
Затеявшие на небе
возню!
Вселенная!
Порядки там серьезные,
Но я тебе сейчас их объясню.
Вселенная.
Наука разделяется,
Когда берется толковать о ней:
Сжимается?
А может, разбегается?
Пульсирует,
как сердце…
Так верней!
Но если это сердце,
то, конечно же,
По временам обязано оно
Тревожно биться
и томиться нежностью,
А это значит —
сердце влюблено!
В кого?
В другое сердце,
но нездешнее,
Чужое,
недоступное еще…
Но то, другое,
может биться сдержанно?
А я уверен:
бьется горячо!
Все это может лишь одним закончиться,
Нельзя же вечность колотиться врозь,
Сердцам влюбленным
встретиться захочется,
Хотя бы мирозданье взорвалось!
Они,
теряя звезды,
на свидание
Помчатся…
Их – поди – останови!..
– Ну хватит, дорогой,
о мироздании,
Пожалуйста,
немного о любви…
От бессонницы есть спасенье…
Под багрово-желтым дождем
По гремучей траве осенней
Мы, как прежде, с тобой идем.
Под ногами – пинцеты хвои.
И багровый лист в небесах.
Мы почти заплутали с тобою
В непроглядных этих лесах,
Но потом отыскали проселок.
Он был палой листвой занесен
И терялся меж синих елок,
Душных, словно полдневный сон…
Но опять на краю сновиденья
Пробегает печаль по лицу.
Значит, нас разлучило уменье
Ориентироваться в лесу…
Я в поезде,
на верхней полке:
Постукивают мимо города,
Деревни,
рощи,
дачные поселки —
Тот мир, где я не буду никогда.
Но почему?
А если налегке,
Вот так, как есть, —
с карманами пустыми —
Взять и остаться в тихом городке,
Давным-давно свое забывшем имя,
Затеять дом,
вещами обрасти,
Узнать соседей, слухи, кривотолки
И… оказаться как-то раз в пути:
Деревни,
рощи,
дачные поселки…
Как взнузданные, дернулись столбы.
Вокзала зданье набежало круто.
Состав у неслучившейся судьбы
Стоит четыре, кажется, минуты.
Мы калечим природу, мы портим слова.
Скажем, раньше «орать» означало —
Засучить у рубах до рамен рукава
И пахать, налегать на орало.
А вот слово «пахать» означало «мести».
«Очагом» звали печку простую,
А теперь «очаги» в медицине в чести
И в политике!
Я протестую!
А виновна – поэтов огромная рать,
Но «очаг» поддается леченью:
Надо меньше лишь в новом значенье —
«орать»,
А «пахать» больше в старом значенье!
Мужчины! Дети Дон Жуана!
То в глубь греха,
то к небу ввысь.
И все им кажется, что рано
Супругою обзавестись.
И рассуждая: «Я ль не парень…»
Мечтают (можно их понять!),
Как сэр Джорж Ноэл Гордон Байрон,
Всех женщин враз поцеловать.
Жизнь холостому неплохая,
Пока лета невелики.
Живут, по женщинам порхая,
Как, извините, мотыльки.
Но час придет – кондратий хватит.
Посмотрят: кудри в седине,
Решат: теперь жены мне хватит…
А хватит ли теперь жене?
Вот в голубой, дрожащей глубине
Бредут два человека по Луне.
Гляжу на потрясающие кадры:
По лунной пыли топают скафандры!
Мне кажется, что я во власти сна,
Но там не бутафория – Луна!
Наутро все об этом зашумели,
Но дни прошли, потом прошли недели,
А где-то среди лета выпал снег —
Заинтересовался человек.
А через год – однажды я уселся
И с полки снял любимого Уэллса,
Раскрыл на случай – и попался мне
Рассказ о первых людях на Луне.
И вновь, как в детстве, были пережиты:
Полет чудесный, странствия, луниты.
Я позабыл о массе взрослых дел
И целый день над книгой просидел.
Фантастика! Когда же это будет,
Чтоб на Луне прогуливались люди?!
Конечно, мир подрос и раздался,
Но все, как мальчик, верит в чудеса.
А сказку автор здорово исполнил!
Большой талант…
И лишь тогда я вспомнил,
Как в телевизионной глубине
Брели два человека по Луне!
Мельчайший дождь.
Усталая трава.
И кажется,
что может длиться годы
Такая,
различимая едва
И тихая, как шепот, непогода.
Ее не замечаешь,
а потом
Уже у сердца вздрагивают воды.
Быть может, и мифический потоп
Был вроде долгой
тихой непогоды…
Лес городской желтизной
чуть заметно окрашен.
Словно не осень,
а некий осенний мираж,
Словно на белом холсте
новостроевских башен
Нестеров пишет пейзаж.
Снег белый. Лес черный.
Все просто и строго.
Но вот уже лес позади!
И в песнях поется,
что жизнь – как дорога,
А значит – конец есть пути.
И значит – мы все
доберемся до дома,
Но каждый —
в свой собственный час.
Мы выйдем из поезда —
все – незнакомо…
Дай бог,
чтобы встретили нас!
Неясная погода на душе.
Тепло и знобко.
Верно, будет ливень.
Невнятный гром – на верхнем этаже
Готовятся к дождю неторопливо:
Таскают воду, молнии куют,
Чеканят град.
Небесная работа
Кипит,
чтоб последождевой уют
Унял усталость, отдалил заботы.
Деревья наклоняются в окне,
И тучи наплывают, небо застя, —
То принимает
(чувствую!)
во мне
Природа осторожное участье…
Особенно счастливые года.
Оплошности, которых не исправить,
Знакомые улыбки, города —
Все это – гераклитова вода,
Из бытия втекающая в память.
Мои враги,
любимые,
друзья,
Которых ни ославить, ни прославить,
У них одна-единая стезя…
И дрогнул поезд, счастье увозя.
Куда?
В далекий город или в память?
И не о том приходится тужить,
Что мировых законов не отставить.
Пускай однажды я не стану жить.
Ну что ж – заботы можно отложить,
Хоть навсегда…
Но память! Как же память?
На градуснике – тридцать восемь
И девять. Скверные дела!
Зима, похожая на осень,
До бюллетеня довела.
Звонят приятели, жалеют.
Смеюсь, переходя на хрип.
Такое время – все болеют.
Да как! А тут всего лишь грипп,
Какой-то вирус вкрался в тело…
Но вот пока лежу без сил,
Чужой мою работу сделал.
Другой любимой позвонил.
Читаю, жду выздоровления,
И тает в сердце, словно дым,
Прекраснейшее заблуждение,
Что в мире я незаменим.
А дни бегут, как будто мимо,
И лихорадкой мучит страх,
Выходит, все мы заменимы
Как в центре, так и на местах.
И это осознав однажды,
Как на земле нам жить с тобой?
Неповторим, единствен каждый,
Но все же заменим любой!
Обидный вывод неизбежен,
И некого на помощь звать.
Об этом лучше думать реже.
Но это надо крепко знать!
Донельзя знакомый,
по-утреннему сердитый
В предчувствии сотен
готовых обрушиться дел,
Застыв с поднесенной
к щеке электрической бритвой,
Он как-то всезнающе
вдруг мне в глаза поглядел.
Ему ли не знать,
что не все у меня,
как хотелось.
Из многих мечтаний
случилась одна чепуха.
Да что говорить:
подводила и совесть,
и смелость,
В сложении жизни,
а значит,
в сложенье стиха.
Да что говорить,
если сделано плохо и мало.
Полжизни прошел,
потому что нельзя не идти…
Мечтал о любви,
как и все, —
об одной, небывалой.
Была и она, —
но по-прежнему пусто в груди.
Такие дела…
Так что нужно скорее добриться,
Ведь нам на работу,
а ехать почти два часа.
Не будем грустить.
Мы всего еще сможем добиться,
Покуда глядим
без утайки
друг другу в глаза.
Не повезло в делах или любви:
На сердце – жгучий лед,
А разум – кругом…
Ты в одиночку душу не трави,
Пойди, поговори об этом с другом.
Скажи ему: «Мне плохо!»
Мы уже
Почти не говорим друзьям об этом,
Как будто, что творится на душе
У ближнего,
известно по газетам.
И мы живем, по-тихому скорбя,
А время дни уносит, нас уносит…
И если здесь не высказать себя,
Там, думаю,
никто уже не спросит…
По дороге в Загорск понимаешь…
По дороге на службу
погрустить успеваешь о смысле
Этой суетной жизни
и даже припомнить, скорбя:
Да, тебе – двадцать пять,
и сомненья почти уж догрызли
Часть души, что зовут
ненавязчиво – «верой в себя».
По дороге на службу
просмотреть успеваешь газеты,
Успеваешь узнать,
как идут у Отчизны дела,
Что предпринял наш недруг,
и что мы ответим на это,
И какая опять
катастрофа в Европе была.
По дороге на службу
понимаешь: любовь на излете.
И какая любовь!
Уж такую не сыщешь нигде…
Впрочем, вот я приехал,
вот я приступаю к работе.
По дороге со службы
я думаю о ерунде…
Сергею Мнацаканяну
Мимо нас просверкивают годы —
Время никогда не устает!
Он придет однажды —
час ухода,
Хоть кричи,
а все-таки придет.
И не будет ничего за краем,
Даже пресловутой смертной тьмы, —
Просто мы,
как лед весной,
растаем,
Но водой не сделаемся мы.
Вот и все…
В одно я верю только:
Силою,
не снившеюся нам,
Воскресят нас,
может быть,
потомки,
Души восстановят по стихам.
Мы увидим мир
непостижимый,
Странный мир, —
где все мечте под стать!
Но ведь как…
Ведь как писать должны мы,
Чтобы из стихов своих восстать?!
(1985)
– Когда она приходит —
зрелость?
Когда еще вовсю спешишь,
Хоть понял:
все, чего хотелось,
Ты ни за что не совершишь,
Когда и сердце не болело,
И нервы вроде хороши,
Но чувствуешь уже,
что тело
Совсем не часть твоей души,
Когда,
не раз душой поранясь,
Поймешь:
помимо наших воль
Любовь приносит боль и радость,
Но чаще —
почему-то – боль!
Люди едут с работы,
усталы, немного сердиты.
Смотрят в окна, зевают,
читают, мечтают тайком.
Восемь долгих часов
ими прожиты и пережиты
Возле жаркой печи,
у руля, за столом, за станком…
Люди едут домой,
к Окружной постепенно редея,
До утра возвращаясь
в нехитрый домашний уют…
Это будничный факт,
но какой же должна быть идея,
Если ради нее
миллионы людей устают?
Если в мире все взаимосвязано
От шуршанья трав до хода лет,
Значит, все, что между нами сказано,
Важно для людей и для планет.
Значит, оттого, что двое досветла
По Москве бродили, обнявшись,
Где-то луг дождя напьется досыта.
На планете мертвой вспыхнет жизнь…
Я расскажу про моего соседа.
Седой солдат.
На танковой броне
В Берлин въезжал он.
Мы вели беседу
За пивом «жигулевским» о войне.
Не о минувшей, – о другой,
что будет
Страшней любого Страшного суда.
И он сказал:
«Бессмысленные люди!
Всем надобен покой,
а им – беда!
Они перед своей Москвой
заслонов
Не ставили.
Знай на чужбине рушь.
За День Победы
двадцать миллионов
Не долларов,
а человечьих душ
Не заплатили.
Там, у них, не знают,
Как воет над младенцем мертвым мать!
Они еще войны не понимают.
И я бы не хотел им объяснять…»
Нет, это не мудрость покуда —
Еще не такие года,
Но должен понять я:
откуда,
Откуда мы все и —
куда?
Пускай пародист затрепещет,
Почуяв двусмысленный ход,
Он этим —
беды не уменьшит
И выхода не найдет.
Живи, хоть смеясь,
хоть стеная,
Пребудет с тобой навсегда
Походная песня земная:
Откуда мы все и —
куда?!.
В лето 6537 мирно бысть…
И вновь разор.
Кровавая стезя
Ведет полки от сечи
к новой сече.
Нагрянет Степь —
целуют крест князья
И снова ссорятся.
И каждый год отмечен
Побоищами.
Мудрость и корысть
Перемешались с верою и злобой…
И вдруг всего лишь строчка:
«…мирно бысть…»
То «лето» обозначено особо!
Ему,
что гостю редкому, —
почет!
…Пусть правнук,
в наши
заглянув глубины —
В двадцатый век,
вторую половину,
Прочтет одно: «Бысть мир…»
Но пусть прочтет.
Но древо жизни ярко зеленеет…
«Это страшно —
помыслить о том,
Что на дереве вечнозеленом
Ты повис беззащитным листком —
И по неумолимым законам
Ветер времени,
крону колебля,
Сбросит лист пожелтелый на землю…»
Так поэты писали вчера.
В мире нашем,
на глупости скором,
Мне страшнее другие ветра —
Что им дерево вывернуть
с корнем!
Дай, судьба, нам
погоду получше!
Или корни – хотя бы – поглубже…
Воспоминания о ночных тревогах
В сапоги задвинув ноги,
Застегнувшись на бегу,
Выстроимся по тревоге
В две шеренги на снегу.
Знаем, что комбат проверит,
Как умеем мы стрелять,
Взглядом недовольным смерит
И пошлет нас
досыпать!
А над нами – звездный трепет,
Тени черные ракит.
Мы-то знаем:
враг не дремлет —
Он, всего скорее, спит!
Главный враг для нас с тобою —
Мартовские холода,
Ведь тревога боевою
Стать не может никогда!
В темень «трассерами» лупим —
Все мишени наповал…
Молодым я был и глупым.
Ни черта не понимал.
Юрию Смирнову
Светилось небо голубое,
Летел над плацом птичий щелк.
На пять минут веденья боя
Предназначался наш артполк,
Чтоб спохватились остальные,
Крича команды на бегу,
Чтоб развернулись основные
И крепко вдарили врагу!
Чтоб с гордостью рапортовали,
Как, множа воинскую честь,
Артиллеристы простояли
Не пять минут,
а целых шесть!
И что противник откатился,
Потери тяжкие неся,
И самолично убедился:
Нас провоцировать нельзя!
Врагу ответа никакого
Другого не было и нет
У нас от копий Куликова —
До баллистических ракет!
…А мы служили, не печалясь,
Мы знали,
как нас дома ждут.
И все-таки предназначались
На пять минут.
На пять минут…
Из армии не всегда приходят домой.
(Бывает всякое на ученьях.)
И вот провожает скорбный конвой.
Свой груз печальный
по назначению.
И вот два сержанта и лейтенант,
Качаются в поезде в такт движению
И обсуждают его талант
К стрельбе по движущейся мишени.
– А как он здорово пел в строю!
– Историю мог рассказать для смеха,
– А после учений за службу свою,
Наверно, и так бы домой поехал…
Лейтенант поеживается – скоро Москва,
Рыданья, вопросы, дрожащие плечи.
Сейчас не война.
Где возьмешь слова,
Чтоб стало легче…
Заряд составлен.
Точная наводка.
Но вот: «Огонь!» —
наушники гремят.
И в гуле приседает «самоходка»,
И где-то в небе шелестит снаряд.
И словно бы порыв густого ветра
Бьет в перепонки,
давит на виски,
А где-то – за четыре километра —
Земля,
вздымаясь,
рвется на куски…
Ложилась пыль на черные погоны.
И струйки дыма из-под ног росли.
Мы частой цепью шли вдоль полигона,
Осколки выбирая из земли,
Распаханной не плугом —
мощью грубой,
Засеянной дождем семян стальных,
Похожих чем-то на драконьи зубы…
Бог ведает, что вырастет из них!
Памяти поэта-офицера Александра Стовбы,
Погибшего при выполнении интернационального долга
Материнский охрипший,
беззвучный вой.
Залп прощальный.
И красный шелк.
Этот мальчик погиб,
выполняя свой
Интернациональный долг.
Что он думал,
в атаку ту поднявшись,
Перед тем, как упал и умолк.
Тьме отдать непочатую,
в общем-то, жизнь —
Интернациональный долг.
Мы не раз вызволяли
народы из тьмы,
За полком посылая полк.
Пол-Европы засеять
своими костьми —
Интернациональный долг!
Вновь не минула чаша.
И сколько же чаш
Мы испили?
Мы в этом толк
Понимаем.
Наверное, это – наш
Интернациональный долг!
…Гид предложил:
– Взгляните вправо! Там
Вы видите руины.
Здесь когда-то
Стояла цитадель.
Не по зубам
Была она любому супостату.
Держалась крепость долгие года,
Бойницы угрожающе зияли,
Но сгинула
почти что без следа.
– Так, значит, вашу крепость взяли?
– Никто не взял.
Усталый враг ушел.
Страна себя почувствовала в силе.
Тогда крестьяне из окрестных сел
Всю крепость на хозяйство растащили.
Угомонились камни наконец
В спокойной кладке дома или хлева.
Вот вам разоруженья образец!
…Теперь всех попрошу взглянуть налево…
На миг зажжется новая звезда.
Однажды приплывут раскаты грома.
И вычеркнут планету
навсегда
Из атласов небесных астрономы.
Но самые глубокие умы
Склонятся над космическою тайной.
Что там произошло
за толщей тьмы,
Что приключилось
с той планетой странной?
С годами станет ясно,
почему
Планета обернулась тучей пыли.
Но не понять вовеки никому,
Что эти дураки не поделили?
Четверо юных поэтов
с кружками зимнего пива,
Сгрудившись над картошкой
в пакетиках слюдяных,
Перебивая друг друга,
прихлебывая
нетерпеливо,
Задиристо выясняли,
кто же из четверых
Лучший поэт эпохи,
лучший поэт на свете,
Чьи же стихи любимым
будут взахлеб читать,
Будут класть под подушку
в третьем тысячелетье —
Лет через двести, триста,
лет через двадцать пять!
Кто же останется? Кто же…
Быстро стемнело в сквере.
Гаркнула тетя Груня,
кружки сдавать веля…
Все мы останемся в мире —
в разной, конечно, мере,
Если Земля останется…
Слышите вы – Земля!
Словно старая детская книжка,
Словно вид надоевший
в окне —
Та проблема,
с которой мальчишка,
Мой сосед,
постучался ко мне.
Я могу объяснить,
если надо,
Детям после шестнадцати лет,
Как узнать по холодному взгляду,
Приглянулся ты ей или нет.
Как влюбить
и влюбиться навеки,
Как уйти,
никого не виня…
Я учителем был,
и коллеги
Перспективным считали меня!
У парнишки все очень обычно.
Я сомненья развею, как дым,
Поделившись непедагогично
Личным опытом передовым.
В ситуацию вникну дотошно,
Чтоб совет оказался верней…
Но не легче любовь
оттого, что
Мы легко рассуждаем о ней!
Рассужденья мои – пустословье.
Кто рассудит,
как быть мне с тобой?
С нашей бесперспективной любовью
И с моей
перспективной судьбой?!
За окном грохочет темнота —
Между «Комсомольскою» и
«Курской»
На меня взглянула неспроста
Девушка
с насмешливостью грустной!
Тяжело быть юным и неловким, —
Сдерживая искренний порыв,
С девушкой
четыре остановки
Рядом ехать, не заговорив!
А с чего начать?
С погоды…
Глупо.
С комплимента?
Где же взять его…
Так вот и молчишь,
касаясь тупо
Локтем, может,
счастья своего.
Но постойте…
Комплимент выходит!..
Мне бы —
фразу вымолвить стройней…
Но постойте!
Девушка выходит,
Двери мягко сходятся за ней.
Мне смешно,
мне холодно,
мне грустно.
Вот платформа поплыла,
скользя.
Я стою,
лицо к дверям приплюснув,
Хоть и прислоняться к ним нельзя…
Его девчонку видели в кино
С тем длинноногим из восьмого «Б».
И вот —
лицо тоской искажено
И все теперь черным-черно в судьбе.
Он жадно ловит сигаретный дым,
Он разочаровался и обмяк.
Его девчонку видели с другим!
Ну, как тут жить?
Как людям верить?
Как?
Твердит отец, что это – ерунда,
А он, мальчишка, нюни распустил.
Мать говорит,
что это не беда,
А полбеды,
– чтоб он ее простил…
А он кусает губы до крови,
А он кричит, что все на свете ложь!
– Ты, паренек, сожмись, переживи!
Ты в жизни все тогда переживешь…
Сумерки сиреневым туманом
Тихо поднимались от земли.
Я был говорливым мальчуганом.
Мы через Сокольники брели.
И не знали,
где бы нам усесться,
Чтобы скрыть ребяческий испуг.
Бог ты мой,
как трепетало сердце
От касанья несмышленых рук.
А потом —
как вспышка золотая,
Точно дождь из раскаленных струй,
Словно…
Я и до сих пор не знаю,
С чем сравнить тот,
первый поцелуй!
Девушка задумалась на лекции,
Оборвав старательный конспект,
А доцент профессорской комплекции
Углубляет избранный аспект,
Горячится, словно мы замешаны
В том,
что в силу классовых причин
Все почти тургеневские женщины
Выше ими избранных мужчин.
А доцента тянет в настоящее,
И его сравнения резки.
Девушка, взволнованно смотрящая
Вдаль куда-то,
нервно трет виски…
– Не бери ты в голову, красавица,
Как теперь студенты говорят!
Наплевать, что ниже,
если нравится,
Если щеки рядом с ним горят.
Может, он о Кафке без понятия,
А словесность – не его предмет,
Но зато крепки его объятия,
Их надежней в целом мире нет.
У любви натура непонятная.
И, пытаясь разобраться в ней,
Я скажу: кто выше
– дело пятое.
Тут куда важнее, кто – нежней!
Еще я ничего не понимаю.
Не понимаю ничего уже.
Но трубку телефона поднимаю
С тревогою и радостью в душе.
Живу я от звонка
до нашей встречи.
Живу от встречи нашей
до звонка.
Как звонок мир!
Как вечер быстротечен!
Как бодро тело!
Как душа легка!
Какое лето!
Вот через заборы
Листва шагнула прямо на крыльцо…
Я слышу мир сквозь наши разговоры
И вижу сквозь лицо!
Твое лицо.
Дождик моет старинные камни.
По беседке гуляет сквозняк.
Стань поближе ко мне.
Ты близка мне.
Невозможно и вымолвить —
как!
В черных лужах вода пузырится.
Воздух пахнет промокшей сосной.
Я-то думал,
что не повторится
Никогда это чудо со мной!
Словно мальчик,
я мучусь и трушу,
Говорю и молчу невпопад…
Как же так
ты вошла в мою душу,
Что не стало дороги назад?!
Почему мы не встретились раньше?
Почему?
Почему?
Почему?!
Ты была бы иною,
вчерашней,
Предназначенной мне
одному!
И в душе бы моей не теснилась
Между долгом
и счастьем борьба,
И в глазах бы твоих не светилась
Та,
чужая,
другая судьба.
Мы с тобой жили розно
и разно —
Обитатели чуждых планет.
Не сложна жизнь,
а многообразна —
В этом, видимо,
весь и секрет.
Невесомой
и сильной рукою
Ты сотри мне печали со лба,
Ведь судьба не бывает другою,
Потому-то она и
судьба!
По арбатским переулкам
будем мы бродить весь вечер,
В темном сквере целоваться
под защитою листвы.
Небосвод высок и вечен,
как Арбат старинный вечен,
Вечны белые колонны
и сторожевые львы,
Но мгновенны эти губы,
эти руки, эти речи…
Это все неповторимо!
Боже, миг останови!
Мы идем по переулку,
Переулку Первой Встречи,
Миновав Проспект Желаний,
напрямик – в Тупик Любви…
Все не так у меня сложилось.
А мечталось ведь о другом!
Завертелась жизнь,
закружилась,
А потом – ни души кругом.
По ночам я в подушку плачу,
По утрам говорю: «Пустяк!»
Но сложись у меня иначе,
Я тебя не любила б так…
Это странное слово – «любимая».
Эта странная нежная боль.
Эта странная жизнь торопливая.
Эта странная встреча с тобой!
Вечер пахнет листвою промокшею.
И вода гулко капает с крыш.
Что ж ты,
сердце мое осторожное,
Нынче неосторожно стучишь?
Не подсказывай! Сам я распутаю,
Где беда,
а где счастье мое.
Не тверди мне, что с каждой минутою
Я теряю, теряю ее…
Мы с тобою нежны и упрямы,
Но придет расставания час —
И на сердце останутся шрамы,
Ощутимые только для нас.
Мы о них позабудем до срока,
И минувшим своим не томясь,
Будем жить.
Но прочна и жестока
Между прошлым и будущим связь.
И однажды,
осенней порою,
Вспомню я твой растерянный взгляд,
И глаза от бессилья закрою,
И почувствую: шрамы болят.
Остается смятая кровать,
Пахнущая нежным
смуглым телом,
Остается право ревновать
И возможность заниматься делом.
Остаются шпильки на полу
Странный взгляд,
на прежний не похожий,
И совет «не ворошить золу»,
И последний поцелуй в прихожей.
Остается снимок,
а еще
В том,
тобой подаренном блокнотце,
Телефон.
И это хорошо.
Плохо только слово «остается»…
Душной кавказской ночью
сон приходит не скоро.
Долго по телу бродит
гул миновавшего дня,
Но только смыкаю веки —
по длинному коридору
Ты навсегда уходишь,
оглядываясь на меня.
И говоришь мне что-то,
но голос все глуше, глуше.
Я вижу, как плачут губы,
как помощи просит взгляд
И как по щеке стекает
черная струйка туши,
Я знаю: ты хочешь вернуться!
Но нет дороги назад.
– Постой! – я кричу. – Куда ты?
И вслед за тобой бросаюсь.
– Вернись! – я кричу. – Куда ты?
И не могу помочь:
К земле прирастают ноги…
Я плачу и просыпаюсь.
Кругом стоит неподвижно
густая южная ночь.
Все так же слышны обрывки
гортанного разговора,
Все так же видна полоска
берегового огня…
Но только смыкаю веки —
по длинному коридору
Ты навсегда уходишь,
оглядываясь на меня…
Милая!
Зачем тебе другой?
Этим за обиду не отплатишь,
Если неуверенной рукой
Ты чужие волосы погладишь.
Милая!
Приму любую месть
За твои глаза,
от слез больные,
Но обиду можно перенесть
Лишь вдвоем.
Зачем нам остальные?
Электричка с истошным звуком
Мчится,
свет впереди неся…
Приучайте сердца к разлукам,
Ведь иначе
прожить нельзя!
Ведь иначе…
А что иначе?
Не изменит привычка нас —
Ты глядишь на меня
не плача, —
Потому что нельзя сейчас,
Потому что,
во встречу веря,
Ты —
еще не простившись —
ждешь,
Потому что сомкнутся двери,
Прогремит по вагонам дрожь,
И столбы побегут проворно,
Замелькают в глазах кусты,
Станет крошечною платформа,
А на ней белой точкой —
ты.
…Закурю.
Возьму себя в руки,
Втиснусь в правильную канву:
«Если жизнь – это вид разлуки,
Значит, я хорошо живу!»
Ты опять заглянула вперед
И губами твердишь неживыми:
– Неужели все это пройдет —
И однажды мы станем чужими?
Неужели однажды, ничуть
Ни лицом, ни душой не печалясь,
Ты отправишься дальше в свой путь,
Словно мы никогда не встречались?
Я же стану расчетливой впредь:
Только так может жизнь получиться…
Это невероятно,
как смерть,
Но все именно так и случится!
– Послушай,
что будет потом,
Когда ты…
полюбишь другую?
Жить в городе этом
пустом,
Как прежде,
одна —
не смогу я!
– Послушай!
Что будет, когда
Нас вовсе не будет на свете?!
А ты жить мечтаешь всегда,
Как малые дети!
– Как дети…
Не нужно объяснений никаких.
Моя любовь —
как терпкий день весенний,
Как звездный свет,
как прозвеневший стих,
Как нелюбовь —
не знает объяснений.
А станут внятны сердцу и уму
Весна,
стихи,
мерцанье звездной пыли,
Пусть остается тайной,
почему
Мы, полюбив,
однажды разлюбили…
Наверное, был я настырно не прав.
И ты объяснилась со мной.
Сказала, вздохнув и плечами пожав:
«Не вечно ничто под Луной!»
На крыши домов опускался закат.
В окошках пылало стекло.
Мамаши домой созывали ребят.
Листву по асфальту мело.
И ты подняла воротник у пальто.
Ну, что ж, получил я сполна!
Печально.
Но много печальнее, что
Не вечна, увы, и Луна…
В доме пахнет безлюдьем,
Хоть все лампы горят.
Мы с тобою не будем
Разбираться,
кто прав, виноват,
Багровея от пыла.
Выяснять,
чья правей правота:
Это все уже было —
Дипломатия, и прямота,
И уходы с возвратом,
И прощенье с улыбкой змеи…
Это страшно, как атом, —
Расщепленье семьи…
Сегодня у меня семейный вид!
Иду —
смотрю по сторонам с опаской:
Я не один,
я с детскою коляской,
В которой,
улыбаясь,
дочка спит.
И все тревоги моего пути
Вам, папы, мамы, хорошо знакомы:
Преодолеть колдобины,
подъемы,
Внимательно дорогу перейти…
Усилие —
подъем внезапно крут.
Усилие —
бригада яму рыла.
Усилие…
А может быть, та сила,
Что
д в и ж у щ е й
в истории зовут?
Круглолица и светловолоса,
Мы с тобою – две капли воды.
Ты – ответ на мои вопросы,
Для чего эти дни и труды.
Голубые глаза поднимаешь,
Смотришь весело и хитро.
Ты пока еще понимаешь,
Что такое – зло и добро.
Только все затуманят годы.
Жизнь пройдет,
как по телу дрожь.
…Ты меня сохранишь от невзгоды
И от счастья убережешь.
А я хочу себе помочь,
А я твержу о том,
Что у тебя, дурак, есть дочь,
Жена и теплый дом.
Допустим,
в доме есть сквозняк,
Но есть ведь и уют,
Который «счастием»,
дурак,
Спокон веков зовут!
– А как же быть
с ночной тоской,
С мечтами об ином?
Решай:
одним дом нужен свой.
Другим —
мечты о нем…
Петру Корякину
Явиться домой
в половине второго,
На кухню скользнуть,
в темноте
Найти в сковородке немного второго,
Оставленного на плите,
Жевать и внимать,
как за стеночкой тонкой
Поскрипывает тишина,
Как встала к проснувшемуся ребенку
Уставшая злиться жена, —
И вдруг загрустить о любви стародавней,
Забытой любви
и о том,
Что вот и пора —
собирать свои камни,
А я уже выстроил
дом.
Все в жизни, наверно, возможно:
Когда-то и я, может быть,
Любить научусь осторожно,
Без боли, без страха любить.
В минуты прощанья и встречи,
Предательство даже открыв,
Я буду спокойно беспечен,
Насмешливо нетороплив.
Смогу и любовь, и утраты
Принять,
безмятежность храня…
И с этой поры
никогда ты
Не сможешь
так мучить меня!
Расходимся сдержанно,
честь по чести,
«Условия» обговорив меж собой.
И завтракаем пока еще вместе,
А все остальное —
давно вразнобой.
Но чтобы сдержанней сердце стучало,
Допустим,
что не было прожитых лет,
Допустим,
разрыв – это наше начало:
– Так, значит, в субботу на Сретенке?
– Нет.
Ю. Батурину
Приходит время горевать —
И, словно сердцу вторя,
Мне вспоминается опять
Мелодия «Love story».
Давно уж фильм забыли тот:
Другие
интересней!
А вот мелодия
живет —
Наверно, что-то есть в ней:
Тот элегический настрой,
Тот холодок по коже,
Который для души порой
И радости дороже…
Так и любовь.
Уйдет – зови,
Уже не отзовется.
И лишь история любви,
Как песня,
остается.
Воспоминания о несчастной любви
Закрываю глаза и чувствую
Душный запах ее волос,
Вспоминаю улыбку грустную,
Нежно-требовательный вопрос:
– Ты меня не разлюбишь?
Правда же?
– Как ты можешь!
Конечно, нет! —
Я носил на свиданья ландыши
(За полтинник – большой букет)
И в кино до конца
выдерживал
Производственные боевики:
Все сеансы в ладонях
удерживал
Две ее тонкоперстных руки.
У подъезда,
уже на прощание,
Мы стояли с ней обнявшись.
Я такие
давал обещания —
Не исполнить за целую жизнь!
Сердце в сладких мучениях корчилось,
А душа была счастьем полна,
Но понятно,
чем все это кончилось:
Разлюбила меня она!
Как смотрел я на мир с отчаяньем
И пойти был на все готов,
Обойду я пока молчанием:
Это —
тема других стихов.
Почему ж мне с улыбкой вспомнилась
Та мальчишеская беда?
Потому что кончилась молодость.
К сожалению,
навсегда…
В переходе метрополитена
В час, когда народ спешит домой,
Два потока встречных непременно
Нас столкнут когда-нибудь с тобой.
Мы под шум толпы о всяком-разном
Поболтаем несколько минут:
– Как на личном фронте?
– Все прекрасно!
– А дела служебные?
– Идут…
– Ты прости…
– Да что ты! Все забыто…
– Ты пойми!
– А кто меня поймет?..
Тут прохожий нас толкнет сердито:
Это, мол, не сквер, а переход!
Я затороплюсь и неуклюже
Телефон попробую узнать,
Неудачно пошучу про мужа,
Попрошу увидеться опять…
Ну а ты,
улыбчиво печалясь
(Хочешь в грусть, а хочешь, в радость верь),
Скажешь:
– Мы удачно повстречались:
Я тебя забыть смогу теперь…
А вот – пожелтелый блокнот
В красивой обложке тисненой.
Страница, другая…
А вот —
И номер ее телефона.
Сомнений на пару минут:
А что там?
А как она встретит?
– Такие у нас не живут, —
Неласковый голос ответит.
Наверно, ошибка?
Опять
Вращается диск:
– Извините…
– Вам что? Сорок раз повторять?
И больше сюда не звоните…
А ты по «09» проверь.
Но девушка медлит с ответом…
И думай, что хочешь теперь,
А можешь —
не думай об этом.
Я теперь о тебе вспоминаю спокойно.
Боль и ревность в душе заменила усталость.
Так, должно быть,
народ вспоминает про войны,
От которых увечных давно не осталось,
Не осталось ни вдов, ни сирот.
Лишь порою
В старой книге найдешь описание сечи
Или, землю на месте сражения роя,
Меч заржавленный сыщешь
да прах человечий.
И представишь,
о давней невзгоде горюя,
Как пробитые стяги взвивались,
привольны…
Что же мы за народ?
О любви говорю я!
А выходит про муки людские —
про войны…
Не могу,
Не могу,
Не могу не писать о войне!
Значит,
память других
ближе собственной памяти мне?
Значит,
беды чужие
утрат моих личных больней?
Не могу объяснить…
Если мог,
не писал бы о ней…
«Фашист – не человек! – сказал майор. —
Взбесившаяся гадина, зверюга…
Нет у него ни братьев, ни сестер,
Нет, ни отца, ни матери, ни друга!
Нет у него жены и нет детей…
И нет души.
Ему лишь крови надо!
И дела нет, товарищи, святей,
Чем раздавить зарвавшегося гада!
Теперь второе. Как пожар тушить,
Когда на дом упала «зажигалка»…
А нам бы в бой – фашистов задушить…
По ним ведь не заплачут. Их не жалко!
Мне душу бередят утраты эти.
Я всех погибших вижу наяву.
Им до смерти хотелось жить на свете,
Как мне сейчас.
Но я-то ведь живу!
Нахмурясь, думает крестьянин
О том, кто уберет поля.
Спортсмен – что будет только ранен.
Старушка – что пойдет пальба.
Хозяин – что его постройка
Возможно, будет сожжена.
Ревнивый муж – о том, насколько
Верна красивая жена.
Поэт – о том, что нынче люду
Не до рифмованных обид…
И все – о том, что живы будут.
Что будет кто-нибудь убит…
У жизни неизменные законы.
Лишь кровью можно
уничтожить зло.
Вовек бы не изгладились окопы,
Когда бы в землю столько не легло!
Мы брали пламя голыми руками.
Грудь разрывали ветру…
Мир казался стозевным,
готовым обрушиться зверем
Эта схватка была им
самою судьбой суждена.
И они ее ждали, готовились…
Мы же не верим,
Если честно сказать,
в то,
что может начаться война.
И мечтой о сражениях
наши сердца не терзались.
Мы, наверное, просто
боялись накликать беду.
А они ее ждали —
и все-таки чуть не сломались
Те железные парни
в том сорок проклятом году.
Без вести пропавшие бои!
Сколько их, неведомых,
в которых
Падали ровесники мои
На войною выжженных просторах.
Ни к чему громоздкие слова.
От убитых не родятся дети.
Утешалась и была права
Крепче всех любившая на свете.
И других —
по-прежнему чиста —
Ласковым одаривала взглядом.
Приходили…
Но не на места
Тех,
ушедших,
а вставали рядом.
Словно перетянуты шнурком
Их места, как на музейном кресле.
Воротился каждый бы в свой дом,
Если бы сейчас они воскресли…
Нет, невозможно это!
Попробуй-ка назови
Хотя б одного поэта,
Который не пел о любви.
Но и в тишайшие годы
Ты не отыщешь мне
Хотя б одного кого-то,
Кто не писал о войне…
Нам никуда от них не деться.
Их век неизмеримо долог.
В подушке каждого младенца
Сидит заржавленный осколок.
Ушедшие, они, конечно, знают,
Как мы живем, наш каждый шаг и час
И думают, и созидают с нами,
А иногда, быть может, и за нас.
Поэтому, наверное, взрослея,
Пронзая толщу невозвратных дней,
С годами человечество мудрее,
В мечтах смелее и в делах сильней.
Рационализаторство природы!
Умы ушедших светят нам из тьмы…
О, как за те четыре страшных года
Непоправимо поумнели мы.
Ни часу я под пулями не прожил.
Мне мирная страна судьбой дана,
Но не могу я без холодной дрожи
Произнести короткое – «война».
Она во мне горит кровавым нервом,
Вдается в душу огненной дугой,
Ведь не обрушься небо в сорок первом —
И я бы нынче был совсем другой.
И как поэты прежде муз просили
Гнать кровь стиха в сплетеньях строчек-жил,
Так павших я прошу о вещей силе
Сказать о том, чего не пережил…
«Счастье существует лишь на проторенных путях (в обыденной жизни)» – цитата из романа Шатобриана «Рене». Пушкин любил это высказывание и часто цитировал.
…А Пушкин не был декабристом:
Уж так сложилось,
что не смог
Избрать
в российском поле чистом
Печальнейшую из дорог.
И не пришелся ко двору он:
Царям свободная хвала,
Которую поэт дарует,
Тогда не надобна была.
Зато святому самовластью
Любви
служил он не за страх,
Но знал,
что обретают счастье
Лишь на обыденных путях,
Но знал и то,
что искра божья,
Не озаряя торный путь,
Всегда ведет по бездорожью.
И в этом – суть. И в этом – суть!
Что видеть мог Наполеон,
Прозревший перед смертным часом,
Когда был словно распылен
На тысячи видений разум?
Когда бесплотною толпой
Клубились отблески былого:
Изгнание, Тулонский бой,
Коронованье, Ватерлоо…
Раскручиваясь все быстрей,
Сливались битвы, страны, лица:
Москва, Египет…
Князь Андрей
Под синевой Аустерлица.
Ты помнишь, мы в Мураново брели
Вслед за бегущей по лазури тучей,
Нисколько не робея той земли,
Где жил поэт российский Федор Тютчев.
Шел дождь из жарких солнечных лучей
Со звонким градом
птичьих песнопений.
Он становился ярче, горячей,
А душный ветер веял все степенней.
До немоты прозрачная река!
Как из другого мира тени рыбьи!
Речной травой обвиты облака,
Плывущие по золотистой зыби!
…И стерлась непонятная черта,
Как будто бы пришел конец разлуке.
И я впервые Тютчева читал,
Сменив слова на запахи и звуки!
Ломают люди старый дом —
Мотор ярится.
Водитель в стену бьет ядром
И матерится!
Умели строить в те года:
Вот это – кладка!
Что здесь механика,
сюда
Нужна взрывчатка!
Прораб по-фронтовому крут —
Не любит споров:
Ведь люди новоселья ждут!
Давай саперов!
Пришли.
Рванули.
Божья мать!
Щебенка – градом…
А можно было не ломать
И строить рядом.
От старинного дома
останутся стены
С напряженными торсами
кариатид.
Дом лесами оденется
и постепенно
Все удобства двадцатого века вместит!
Будут лифты сновать
вверх и вниз неустанно.
Никаких коммуналок!
Одна благодать —
Жить в отдельной квартире,
где в белую ванну
Можно влезть
и о вечности порассуждать.
Словом, все будет,
как полагается,
кроме
Одного нарушенья порядка вещей:
В самом деле,
а как быть с законом о форме,
Содержанию соответствующей?
Рассказ старого скульптора о первом вдохновении
– Ей, богу, такого ответа
Не ожидал никак…
– Контрреволюция – это
Люди в особняках.
Я – молодой, чумазый.
Со мной человек шесть.
Стучимся —
и к носу маузер:
«Кто еще в доме есть?»
Наверх поднимались молча,
Крадучись по пятам,
Рванули:
«А ну, сволочи!»
А там…
Мы на пороге замерли.
Там…
Ослеплены.
Там женщины беломраморные,
Крылатые пацаны!
А эти (числом не меньше.
У них,
так и есть,
штаб!)
С наганами – и за женщин.
Пали, мол, в баб!
– И не стреляли?
– Куда там!
Этот маневр не нов.
По – твердым телам статуй.
По – мягким телам юнкеров.
Грохот, осколки, ругань…
Эти шли до конца!
И Афродите безрукой
Нечем закрыть лица…
Лег по углам грохот.
Утренний свет сер.
Домовладелец охал —
Контрреволюционер!
Он своей пули дождался,
Враг пробудившихся масс…
А я сразу после Гражданской
Подался во ВХУТЕМАС…
Легенда
Был прорицатель сморщен, стар,
В пещеру втиснут.
Был дерзок, молод комиссар —
И вышел диспут.
– Мы революции врагов
Разгоним стаю!
Не будет больше бедняков!
– Я это знаю…
– Мы всех накормим.
Наш набат
Весь мир разбудит!
Жизнь станет краше во сто крат!
– Все так и будет…
– Поднимет чудо-города
Всех звонниц выше
Страна свободного труда!
– Я это вижу…
– Да ты, старик, и впрямь – пророк!
Тогда скажи мне:
Как я умру? Какой мой срок
Отпущен в жизни?
Ты не молчи – я устою!
За дело наше
Готов я смерть принять в бою,
Под пыткой вражьей.
Пусть будет страшен мой конец,
А все же светел!
Не бойся, говори, отец!
Он не ответил.
Золоченые буквы читаю:
«В этом доме работал и жил…»
Здесь он лучшие строчки сложил,
Те, которые я почитаю,
Те, которые чувствую кожей,
И хожу ведь сюда оттого.
Вот и мраморный профиль его.
Знатоки говорят:
непохожий.
Ну и пусть!
Я бы зря не корил
Эти мемориальные доски —
Ведь вон там,
у дворовой березки,
Он стоял, папиросу курил…
Я лбом к стеклу прижимаюсь:
темно в заоконном мире.
На милую Маросейку
ночь опустилась опять.
Уже тишина поселилась
в большой коммунальной квартире,
Все реже шаги в коридоре —
и нужно поэтому спать.
И бабушка стелет постель мне,
шепча непонятно и мудро:
– Вот жизнь-то, прошла-пробежала,
как день, пролетела, кажись…
Что значит «прошла»? – удивляюсь,
ведь завтра опять будет утро.
Что значит – «как день, пролетела»?
Ведь это же целая жизнь!
…А в детстве неминуемая порка
Казалась мне страшней небытия!
Как больно ощущать!
Как помнить горько! —
Что я бессилен
за пределом «я»!
Мой детский ум упорно с этим спорил.
Воздушный замок рос и шел на слом…
Я повзрослел, когда однажды понял,
Что не всесилен и в себе самом…
Седой учитель держит речь
И плачет поневоле —
Традиционный вечер встреч
Сегодня в нашей школе.
Я тихо выйду в коридор —
Тоска по переменам
Во мне осталась до сих пор,
А руки пахнут мелом.
И в сердце радостная дрожь
Начальных дней наследство,
Как будто не во тьму идешь,
А в детство…
Я подчинюсь потребности невнятной.
Я отмахнусь от бесконечных дел,
И я припомню,
за какою партой
Кто из моих товарищей сидел.
Всех рассажу и шумом класс наполню…
Но память вдруг споткнется на бегу:
Я места своего никак не вспомню,
Найти свою же парту не могу…
И. А. Осокиной
Молоденький учитель,
Я у доски страдал,
А ученик-мучитель
Вопросы задавал.
Откинет крышку парты,
Наставит гневный взгляд:
– А вот Некрасов в карты
Горазд был, говорят?
Добро и разум сеял,
А сам!
Да как он мог?
А что Сергей Есенин,
А Александр Блок
Творили в жизни личной!!
Скажите – почему?
…Я непедагогично
Молчал в ответ ему.
Не знал я, как об этом
Сказать ученикам.
Нет! Нелегко поэтам
Жить по своим стихам.
Павлу Гусеву
Я был инструктором райкома,
Райкома ВЛКСМ.
Я был в райкоме словно дома,
Знал всех и был известен всем.
Снимая трубку телефона,
Я мог решить любой вопрос:
Достать молочные бидоны
И провести спортивный кросс.
О, как я убеждал умело,
Старался заглянуть в нутро.
Когда ж не выгорало дело,
Грозился вызвать на бюро!
К полночи доплетясь до дома,
Снопом валился на диван,
Как будто я построил домну
Или собрал подъемный кран.
Оговорюсь на всякий случай:
Я знал проколы и успех.
Да, я инструктор был не лучший,
А все же был не хуже всех!
Как говорится, по другому
Теперь я ведомству служу,
Но в переулок тот, к райкому,
С хорошей грустью захожу.
Здесь все в дыму табачном тонет,
Как прежде, срочных дел – гора.
И, словно взмыленные кони,
Проносятся инструктора.
Мальчишечка звонкоголосый
Кричит, настойчив и ретив:
– Вы не решаете вопросы!
А для чего тогда актив?..
И, трубку положив
сердито,
Он, хмурясь, остужает пыл.
Еще все это не забыто:
И я таким недавно был!
Предполагал успеть повсюду,
А в голосе звенела сталь,
Но я таким уже не буду
– Смешным, напористым…
А жаль.
Природа стирает людские следы,
Как будто прорехи латает:
Пустеют деревни —
дичают сады,
Колодцы травой зарастают.
И, словно обиду на мир затая,
Меж тучами прячется солнце…
А может быть, жизнь,
до кровинки твоя,
Не только тобою живется?
В лесу заплутаешь,
присядешь на пень
И, слушая шорохи, звоны,
Почувствуешь:
ты – лишь узорная тень
Лучами пронизанной кроны…
Март. Ветер.
Я совсем продрог.
Река, замерзшая, прямая,
Течет притоки принимая
Под снегом спрятанных дорог.
Река жива и без воды:
Ее волнуют, морщат, зыбят
Припорошенные следы,
Лыжни,
а с неба сыплет, сыплет…
Мир черно-белый,
смазан, смутен,
Мир снегопадом испещрен,
Мир, словно фильм,
который крутят
С доисторических времен…
…И каким себя умным-разумным ни числи,
Как досаду сомнений в себе ни глуши,
Все равно есть на свете
и чувства, и мысли,
На которые просто не хватит души.
Может, гены не те?
И среда подкачала?
Не дано! И тебя ничего не спасет:
С рук талант не купить.
Не начать жизнь сначала.
Не достичь ослепительных этих высот!
Что ж, смирись и живи.
Есть иные заботы,
Приносящие радость, достаток и честь…
Но, копаясь в земле,
не забудь про высоты —
Те, что не для тебя,
ну а все-таки есть!
Геннадию Игнатову
Дождливый ветер просквозил до дрожи.
Автобус опоздал на целый час.
Чем дальше в жизнь —
тем становлюсь похожей
На вас, мои попутчики,
на вас!
А был когда-то
простодушным богом,
Предполагал весь мир
перевернуть!
Нуждался в малом, рассуждал о многом…
Все так,
должно быть,
начинают путь.
Чем дальше в жизнь,
тем все трудней на деле
По-божьи жить
и думать о святом:
Сначала понял,
что небеспределен,
Что невсесилен —
выяснил потом.
И так живу,
от глупостей опомнясь.
Попутчиками
сдавленный с боков…
Как втиснулись
в окраинный автобус
Полсотни неудавшихся богов?!
Хочу,
чтобы путь мой был долог,
Но каждому —
время свое.
Ах, мой дорогой кардиолог,
Послушайте сердце мое!
Хоть мне далеко до больницы
И с виду я не инвалид,
Но сердце болит и томится,
Томится оно и болит!
– Дышите.
Оденьтесь.
Картина
Болезни понятна:
скорей
Всего, у вас —
тахикардия…
– По-нашему, значит,
хорей! —
Что ж, с веком больным,
суматошным
Ты, сердце, пребудешь в ладах,
Коль бьешься размером двусложным
С ударом
на первых слогах!
Все время спешащий,
беседующий сам с собою,
С тоскою смотрящий
хорошеньким девушкам вслед,
Зашоренный службой,
стреноженный милой семьею —
Таков рядовой современный советский поэт.
Нет! Он, как и был,
выразитель, певец и так дале…
В нем Дантов огонь подугас, но еще не зачах:
Он ищет любовь
в заурядном семейном скандале,
Он душу народа исследует в очередях.
Он пишет о БАМе, о храме,
о старенькой маме,
Про трубопрокатный
и трепетный девичий стан,
Он может всплакнуть
над березкою, ставшей дровами.
Воспеть лесорубов,
перевыполняющих план.
Он пишет в автобусе, в поезде и в самолете,
Использует также
троллейбус, метро и трамвай,
Поэтому эпоса
вы у него не найдете:
Сложил три куплета —
и хватит, приехал, вставай!
Вот так он живет
и прижизненной славы не просит,
Но верит, конечно:
в один из ближайших веков
Прикрепят, быть может,
в автобусе сто сорок восемь
Табличку:
ЗДЕСЬ ЖИЛ И РАБОТАЛ
ПОЭТ ПОЛЯКОВ
(1987)
Я, наверное, в чем-то,
как в юные годы, беспечен.
И пока еще,
к счастью,
тяжелых не ведал потерь,
Но совсем незаметно
я стал понимать,
что не вечен.
И скажу даже больше:
я в этом уверен теперь!
Присмотритесь:
все меньше
на солнечных улицах в мае
Ветеранов войны…
Поглядите:
от года тесней
Городские кладбища…
Я это теперь понимаю
Не умом изощренным,
но грешною плотью своей.
В глупой юности веришь,
что высшею метой отмечен:
Философствуешь,
плачешь,
надеешься…
Ну а сейчас
Я спокоен и тверд.
Потому что, как все мы,
не вечен…
Понимаете,
люди,
как общего много у нас!
Ведущая даст ему слово,
Он встанет,
посмотрит на зал,
Немного помнется и снова
Расскажет,
как белых рубал,
Как мог он с единого маха
Врага развалить до седла.
В душе его не было страха —
В руке его сила была!
Расскажет:
был план генеральский
С рабочих спустить восемь шкур,
Но Блюхер из Верхнеуральска
Увел их в советский Кунгур…
Все было: потери,
утраты —
Народ о них песни сложил…
Но дед не расскажет про брата,
А Дмитрий у белых служил.
Вот как их судьба разделила
И вдруг под Уфою свела…
И смог он —
была еще сила! —
Врага развалить до седла…
Часовня на окраине села…
Никак не может позабыть о старом:
Когда вершились новые дела,
Ее с размаху сделали амбаром.
Она перетерпела этот срам,
Его сквозняк повыдул понемногу.
Который год часовня ищет Бога,
Привычного к дощатым закромам…
Теплолюбивые растенья,
Привыкшие к погожим дням, —
Малейшее сгущенье тени
Мерещится бедою нам,
А были пращуры покрепче!
Найдешь по кольцам годовым,
Когда слова гортанной речи
Гнал над полями горький дым.
А ведь еще страшнее было,
Когда, размашисто-легка,
Под корень пращуров рубила
Самодержавная рука!
Кровь и страдания без меры,
Ложь и безверие в груди —
Такие селекционеры,
Что заступи и отведи!
Монолог расстрелянного за невыполнение приказа
В. Цыбину
Я был расстрелян в сорок первом.
«Невыполнение приказа
В смертельный для Отчизны час».
Ударил залп.
Я умер сразу,
Но был неправильным приказ!
И тот комбат, его отдавший,
В штрафбате воевал потом,
Но выжил, вытерпел и даже
Еще командовал полком.
Тут справедливости не требуй:
Война не время рассуждать.
Не выполнить приказ нелепый
Страшнее, чем его отдать.
…Но стоя у стены сарая,
Куда карать нас привели,
Я крепко знал,
что умираю,
Как честный сын своей земли…
По телевизору война.
Какой-то фильм,
почти что новый.
Рассвет. Безмолвие. Весна.
Но дрогнул ствол многодюймовый,
И фронт ожил,
и враг попер,
Обрушилась артподготовка…
Но узнаваемый актер
Уже приподнялся неловко.
Вот он,
бесстрашием гоним,
Взлетел на бруствер —
и по знаку
Массовка двинулась за ним
В несокрушимую атаку!
И вдруг,
разрывом опален,
Споткнулся
и упал в сторонку…
Но однорукий почтальон
Надежно спрятал похоронку…
И он воскрес!
Сквозь забытье,
Сквозь кровь
на той траве весенней
Усталые глаза ее
Показывали путь к спасенью.
Потом —
завшивленный барак
И шепот о побеге скором —
Недолго поглумился враг
Над узнаваемым актером!
Вот общий план:
дорога, даль…
Обратный путь,
какой он длинный!
Луч солнца высветил медаль,
Медаль «За взятие Берлина»…
А мой сосед вздохнул опять:
– Ведь это ж надо
так завраться!
А впрочем…
Правду рассказать —
Недолго сердцу разорваться…
Читаю и опять кусаю губы:
Виновники немыслимой беды —
Подонки, изуверы, душегубы
Опять сухими вышли из воды.
А говорили: им теперь не скрыться,
Кого они на помощь ни зови,
Скоты, клятвопреступники, убийцы
Опять живыми вышли из крови.
Теперь им что?
Теперь хоть небо рухни.
Они уже в другом конце земли.
У них – кабак национальной кухни
Той нации, что чуть не извели.
А мы кричим «К ответу!», полагая,
Что время все расставит на места…
Нет, справедливость тут нужная другая,
Которая жестока и проста.
Чудесный день!
Осенний резкий свет
Слепит глаза и золотом, и синью.
Куплю газету, пачку сигарет,
Присяду, закурю…
Кроссворда нет —
Есть про «радиоактивную пустыню,
Которой станем, если…».
И от слов,
Почти привычных обезуметь можно,
Так человек, считая, что здоров,
Прислушался к обмолвкам докторов
И осознал, что болен безнадежно!
Давным-давно,
в детстве, мне объяснили,
что солнце
неумолимо остывает и когда-нибудь —
через много тысяч лет —
погаснет вовсе.
И тогда все сущее на Земле
погибнет!
По ночам я плакал
и мучительно фантазировал:
как же уберечь солнце от угасания,
а человечество
от неминуемой лютой смерти?
Я с трудом успокоился,
когда меня твердо заверили,
будто время от времени
в солнце врезается огненная комета
и светило разгорается с новой силой!
Теперь вечерами
я всматривался в черное небо,
похожее на огромный рентгеновский снимок,
ища глазами хвостатую спасительницу
рода людского.
– Не беспокойся! – смеялись взрослые. —
– На твой век солнца хватит!..
– А как же потом? – недоумевал я.
Прошло время.
Много времени…
Иногда вечерами я поглядываю на небо,
но уже не ищу комету-избавительницу,
я просто прикидываю,
какая будет завтра погода
и стоит ли выезжать с семьей на природу…
А в газетах пишут,
что солнце продолжает остывать,
и даже быстрее,
чем считалось раньше.
«Она бы мне могла составить счастье!» —
Какой старорежимный оборот…
Нам нужно было раньше повстречаться,
А может,
позже…
Кто тут разберет?
В Донском монастыре гуляет осень,
Ограды полны
палою листвой.
Монахов нет…
Давай у гида спросим:
Как дальше жить,
что делать нам с тобой?
И как из дней,
счастливых, буйных, пестрых,
Вернуться в мир
постылой тишины?..
Но у тебя,
как у принявшей постриг,
Глаза печальны
и отчуждены…
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это из романса.
Теперь так не говорят,
теперь скажут: «Инфаркт!»
– и, уж конечно, не по причине
любви.
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это метафора.
Но почему же тогда,
возвращаясь домой
после нашей последней встречи,
я слышал,
я чувствовал,
как слева в груди
дробно и жалобно
стучат друг о друга
осколки?
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это из романса.
В московской бестолковой суете
Мы встретимся однажды
и увидим,
Что мы не те,
да, мы совсем не те
И мы уже друг друга не обидим.
Поговорив немного обо всем
И высчитав,
как много дней промчалось,
Поймем,
что мы уже не принесем
Друг другу радости.
А прежде получалось…
С тобою нужно быть
смелей и злей,
А я слепым щенком
скулю и тычусь…
Но ты же не из плоти —
ты из тысяч
Забытых и несыгранных ролей.
Я грех такой
на сердце не возьму!
В тебя влюбиться —
получить в придачу
И горний мир,
где ни черта не значу,
И вашу закулисную возню.
Вот ты вошла,
насмешлива,
легка, —
Присела к зеркалу,
втираешь грим умело,
А может быть, не грим —
крем Азазелло?
Узнаю после третьего Звонка…
Дождь со снегом
в окно
кулаками замерзшими
лупит.
Я хожу и курю
сигареты одну за одной.
Нет, я должен понять,
разобраться:
она меня любит
Или просто играет,
как с глупым мальчишкой, со мной.
Но ведь я же и сам
никогда не любил обязательств,
Обещаний,
обетов,
нелепых расспросов впотьмах.
Почему же меня
ее сдержанность так обижает,
Недосказанность некая…
Нет, не в объятьях —
в словах…
Дождь со снегом
всю ночь
кулаками замерзшими лупит.
Скоро утро, а значит,
мы скоро увидимся с ней.
Я почти засыпаю,
мне снится:
она меня любит!
Сновидения мудры,
а утро еще мудреней…
Мне нравится быть одиноким —
Зайти в переполненный бар
И, выпив чего-нибудь с соком,
Поймать удивление пар,
Их недоуменные взгляды:
«Откуда такой нелюдим?
А ведь «упакован»
как надо
И молод. И все же один!»
А после
под стереовопли,
Под грохот танцующих ног
Грустить,
что ботинки промокли,
Что осень,
что я одинок,
Что вся эта радость хмельная
И девушки в джинсах тугих,
Как будто планета другая,
Доступная лишь для других.
А я уж чего-нибудь с соком
Еще на дорожку попью.
…Вот я и побыл одиноким —
Пора возвращаться в семью.
Ныряет месяц в небе мглистом.
И тишина, как звон цикад,
Дрожит над гипсовым горнистом,
Плывет над крышами палат,
Колеблет ветер занавески.
Все как один,
по-пионерски,
Уставшие ребята спят…
А там, за стеночкой дощатой,
Друг друга любят,
затая
Дыханье,
молодой вожатый
И юная вожатая…
Всей нежностью, что есть на свете,
Июльский воздух напоен!
Ах, как же так?
Ведь рядом дети!
Она сдержать не в силах стон…
Ах, как же так?!
Но снова тихо.
И очи клонятся к очам…
И беспокоится врачиха,
Что дети стонут по ночам…
Ну вот и пора —
возвращаемся
Каждый в судьбу свою.
Давай еще раз
попрощаемся,
Давай я опять постою
На скверике,
у киностудии,
Сжимая сникший букет,
С тревогой ловя в многолюдии
Единственный силуэт
И чувствуя,
как пробираются
По телу смятенье и дрожь,
Как сердце опять примиряется
Со страхом,
что ты не придешь.
…Ты выйдешь,
грустна и загадочна:
– Прости,
я на полчаса… —
– А мне и минуты достаточно —
Запомнить твои глаза…
Я видел,
как двое влюбленных
пытались и не умели расстаться.
Был темный ветреный вечер.
Над городом повисла тяжелая холодная туча.
Влюбленные медленно, с трудом
размыкали объятья,
потом,
крепко держась за руки,
отстранялись друг от друга,
точно хотели лучше разглядеть
и запомнить любимые черты.
Наконец,
разорвав пальцы,
они, мучительно,
непрестанно оглядываясь,
начинали расходиться в разные стороны.
Я видел,
как неожиданно,
словно приняв некое важное решение,
юноша резко повернул назад
и бегом воротился
к замершей в ожидании подруге,
обнял ее,
и все началось сначала, —
только на этот раз
воротиться пришлось девушке.
И, конечно,
ни юноша, ни девушка
не догадывались,
что в этих бесконечных прощаниях
и возвращениях,
как в витке гена,
зашифрована вся их будущая
любовь…
Поглажу ствол.
Он холоден и мшист.
Вверх посмотрю,
чтоб солнце ослепило…
Зеленый лист!
Ты превращаешь в жизнь
Сгорающее заживо светило.
Луч,
пролетевший сквозь безбытие,
Преодолевший черное безмолвье,
Вонзая в щит зеленый острие,
Становится дыханьем,
плотью,
кровью,
Тобою, мною…
Видно, неспроста
Я думаю и думаю про это.
А может быть,
и странный дар поэта —
Подобие зеленого листа?
…И вот – рассветный лес,
парной,
туманный,
Трава умыта,
ствол сосновый рыж,
А дальше —
земляничная поляна:
Казалось,
ступишь – ноги обагришь,
Казалось,
не собрать всего и за год…
Но вот растаял
золотистый чад,
И я иду из леса
с горстью ягод,
Да и они —
по-моему —
горчат…
Оттенков память не хранит,
Судьбу отображая в целом.
И у былого строгий вид:
То стало черным,
это – белым…
И вот,
порвав с прошедшим связь,
Забыв потраченные силы,
Я думаю,
былым томясь:
– Быть может,
так оно и было?..
Но если так,
то как я мог
В том негодяе ошибиться,
Об этот камень ушибиться,
Быть с доброй женщиной жесток?
Как мог я
не увидеть зло,
Себе ж готовя неудачи?
Ведь все иначе быть могло!
…Но ведь и было все иначе!
Из Добромира Задгорского
Ты отыскала первые слова —
Невинные,
невольные глаголы.
Я начинал с того же.
Ты права:
Мы в мир приходим праведны и голы.
Потом,
как муравьи,
найдем сучок,
Травинку,
каплю меда
– и довольны!
У каждого в душе живет сверчок,
Но он поет,
когда мы сердцем вольны…
Николаю Самвеляну
«Земную жизнь пройдя до половины…»
Я так хотел бы
воротиться вспять.
Но время не дает,
толкает в спину —
И нужно дальше весело шагать,
И делать вид,
что опыт – это благо,
И веровать в познанье без границ,
И понимать,
что чистая бумага
Правдивее измаранных страниц…
Некогда я был учителем словесности.
И однажды,
пытаясь выразить ученикам
ту ненависть,
которую испытывали
к Жоржу Дантесу-Геккерну
современники Пушкина, —
я сказал:
– Представьте себе на минуту,
что Юрий Гагарин
не разбился во время испытательного полета,
а был убит на дуэли
смазливым и наглым юнцом…
По глазам,
по лицам учеников
я понял,
что нашел самое убедительное для них,
самое горькое сравнение…
Дантес умер в почете во Франции в 1895-м – в год образования «Союза борьбы за освобождение рабочего класса».
Он умер в девяносто пятом!
Министром был и пэром стал!
Заделался аристократом,
Как в Петербурге загадал.
Скончался старцем именитым
И схоронен
куда пышней!
Где ж вы шатались, Эвмениды,
Со справедливостью своей?
Вы покарать любого в силе.
Так почему
душе пустой
За кровь певца не отомстили
Бесчестьем или нищетой?
Зачем, в добро ломая веру,
Его не уложили в гроб,
Поставив к новому барьеру,
Вогнав свинец в бездарный лоб!
Зачем гниением проказы
Его не обратили в грязь,
Чтоб он про юные проказы
В подпитье вспоминал,
смеясь?!
Чтоб сладко пожил,
не ответя
За все сполна – в конце концов.
Иль божьей кары нет на свете
Для извергов и подлецов?!
Да будь бы я на вашем месте
О Эвмениды, —
ни на миг
Не мешкал бы с кровавой местью!
– Дантес? Он милый был старик…
Секундант на рассвете придет.
Примиренье?
Не может быть речи!
Подпоручик всю ночь напролет
Переводит бумагу и свечи,
Унимает озноб,
а не страх, —
Нужно трезво подумать о многом:
О семье,
о друзьях,
о долгах —
Перед тем
как предстать перед Богом…
В сердце взвесить и зло, и добро,
Тихо вымолвить слово прощанья…
Подпоручик,
кусая перо,
Сочиняет свое завещанье.
У него талисман на груди.
Он шутя попадает в монету
И, не веря,
что смерть впереди,
Пишет,
пишет почти до рассвета.
…Под окном дробный шелест дождя.
Сон предутренний темен и сладок…
Дело чести мужской, уходя,
За собою оставить порядок!
Здесь у меня никто не похоронен,
И надписи мне мало говорят,
Но я брожу
под зычный грай вороний
По лабиринту крашеных оград,
Читаю даты
и считаю строки,
Как будто жизни суть —
в ее длине…
А в чем еще?
Ни свод небес высокий,
Ни прах подножный
не ответят мне.
Да и зачем ответ,
простой и скорый,
Что вместо лада
нам несет разлад,
Как этой старой церкви,
на которой
Еще видны большие буквы —
«СКЛАД».
Какая холодная осень,
Как день полусонно тягуч,
Как редко покажется просинь
Меж тяжких,
провиснувших туч!
А ветер
то угомонится,
То градом ударит сплеча…
К побегу готовятся птицы,
Зачем-то про это крича.
И столько
рябины на взгорье,
Что лес ослепительно ал, —
Как будто кровавое море
Девятый обрушило вал!
В старом сквере,
желтом от акаций,
Сладкий ветер наполняет грудь…
Стоило на белый свет рождаться,
Чтобы умереть когда-нибудь?
Ненависть к природе
потайная
И надежда:
«все – не то,
что – я»!
Это – детство.
Оторопь ночная
И утробный страх небытия.
Время научило мыслить шире.
Я природу понял и простил:
Счастлив тот,
кто в ненадежном мире
Радостно и долго прогостил.
– Не жизнь – сплошная суета,
Чтоб хлеб сыскать насущный.
Сшибает с ног не клевета,
А шепоток наушный! Любовь
(по множеству примет) —
Лишь головокруженье.
И знания по сути нет —
Одни предположенья!
А сердцу не передохнуть,
Пока не изболится…
– А ты видал когда-нибудь
Жизнь из окна больницы?..
Бесхитростный гостиничный уют.
На шифоньере —
инвентарный номер.
Здесь, чая наливая,
намекнут
На комнату,
где кто-то как-то помер.
Здесь не ищи оставленный дневник
По тумбочкам…
Сей этикет старинный
Теперь забыт.
Ты обнаружишь в них
Обертку мыла,
тюбик «Поморина»,
Использованный.
Или на стене
Прочтешь душещипательную строчку,
С которою согласен я вполне:
«Как скучно просыпаться в одиночку!»
…Сыграли гимн,
а я лежу без сна,
Пугаясь тьмы,
своей и заоконной,
И жизнь так одинока,
так грустна,
Как эта ночь в гостинице районной!..
Когда я – очень редко —
заворачиваю в мой
Балакиревский переулок,
заставленный бело-синими
новыми домами,
похожими на литровые пакеты молока, —
я отыскиваю глазами
старенькие, такие щемяще знакомые
деревянные домики,
окруженные выбеленными заборчиками
и старыми тополями,
ветви которых аккуратно ампутированы
во имя чистоты улиц.
Когда я – очень редко —
брожу по моему Балакиревскому переулку,
глубоко вдыхая
металлический запах теплого летнего дождя,
я испытываю странное чувство,
словно мне повстречался давний знакомец,
который с годами не старится почему-то,
а, наоборот, молодеет!
И вот я стою перед ним
и пытаюсь разглядеть
на его непривычно юном лице
милые моему сердцу,
но почти совершенно разгладившиеся
морщины…
Листья в желтое красятся,
Не заметив тепла…
У моей одноклассницы
Дочка в школу пошла!
Сноп гвоздик полыхающий
И портфель на спине…
Нет, ты, Время, пока еще
Зла не делало мне.
И пока только силою
Наполняли года!
Одноклассница,
милая,
Как же ты молода!..
Есть люди потрясающей удачи!
Она к ним словно
приворожена,
Самой собой: машина,
деньги,
дача,
Кинематографичная жена.
Они что хочешь
купят, обменяют,
Они с любым начальником на «ты»,
Их женщины такие обнимают,
В которых мы не чаем наготы.
Они всегда улыбчивы и горды,
Для них проблем,
как говорится,
нет!
Понадобится —
душу сплавят черту
За тридцать с чем-то
памятных монет!
Они переживут любые бури,
Все потеряют —
и опять вернут…
Пожил бы я в такой везучей шкуре!
Из любопытства…
Несколько минут…
У поэта эстрадная стать
И костюм с золотистым отливом.
Он стихи меня учит писать,
Озираясь зрачком суетливым.
Он листает мой сборник,
кривясь,
И, смешно наслаждаясь собою,
Говорит про непрочную связь
Между строчкой моей и судьбою.
Он по столику перстнем стучит
И опять начинает сначала:
Мол, строка у меня не звучит —
Наставляет,
как жить,
чтоб звучала…
Крепко врос он в приятную роль
Златоуста,
пророка,
патрона —
Обветшалой эстрады король,
За ненужностью свергнутый с трона…
Сытый, самовлюбленный осел!..
Но сижу, уважительно стихший:
У него я однажды прочел
Гениальное четверостишье…
Кругом раскисшие сугробы,
С деревьев капает вода…
А как душе хотелось,
чтобы
Снег не кончался никогда!
Чтобы холодное светило
И каждый день и целый век
Над синей кромкою всходило
И поджигало чистый снег.
Чтоб я летел
лыжнею плавной,
Всесильной радостью гоним…
Но вот не совпадают планы
Природы
с мнением моим!
И потому в округе тает.
Водой заполнилась лыжня.
И в жизни так всегда бывает,
По крайней мере, у меня…
Речитативом монотонным
Про долю горькую твердя,
Она влачится по вагонам,
Несет чумазое дитя,
Она бормочет еле-еле,
В глаза стараясь заглянуть:
Мол, погорели,
погорели,
Мол, помогите кто-нибудь!
А я читал в одной газете,
Что все как раз наоборот,
Что просто попрошайки эти
Морочат трудовой народ,
Что у такой вот мнимой нищей,
Разобездоленной на вид,
Хранятся на сберкнижке тыщи
И дом —
дай каждому —
стоит,
Что это – просто тунеядцы,
Им только бы урвать свое,
Не смей, товарищ, поддаваться
На их притворное нытье!
Народ наш не возьмешь обманом,
Народ наш вовсе не таков!
…И каждый шарит по карманам,
Сор обдувая с медяков.
Николаю Игнашину
Остепененный врач завелся быстро
И стал кричать,
что существует Бог!
В ответ поэт,
носитель божьей искры,
Его перевоспитывал,
как мог.
До хрипоты,
друг друга обзывая,
Поэт и медик спорили о том:
Что есть душа,
и что есть плоть живая,
И что куда девается потом?!
Известно:
богословие – трясина,
Но никуда не денешься,
пока
Порой еще бессильна медицина,
Еще порой
беспомощна строка!
Врач, убеждая,
кофе лил на скатерть.
Поэт был аккуратен и речист…
Двадцатый век:
хирург – богоискатель.
Служитель муз – научный атеист!
В какой-то книжке
(вспоминать не буду названия)
я как-то прочитал,
Что за измену получил Иуда
По тем годам солидный капитал.
А я-то думал раньше:
три десятка
Каких-то там серебряных монет…
И за такой пустяк (подумать гадко!)
Спасителя спровадить на тот свет!
Выходит, что Иуда был не промах.
В предательстве прибыток разглядев,
Он чаял сибаритствовать в хоромах
Под ласками
древнееврейских дев.
И может быть,
благообразно-старый,
Любовью к достоверности горя,
Иуда сочинил бы мемуары —
Евангелие, проще говоря.
А то бы и витийствовал,
в запале
Громя корыстолюбие и зло:
Мол, самого чуть было не распяли,
Но вырвался. Считайте – повезло!
А как бы пел он
об Отце и Сыне,
О Духе, разумеется, Святом,
Но взял и удавился на осине
Истерзанный позором и стыдом.
Непостижимо сердце человечье:
Предателя замучила вина…
Так не бывает! Тут противоречье,
Которыми вся Библия полна…
Как много случилось событий
В последнее время.
И вот
Кончается век общежитий —
Эпоха комфорта идет!
Из многоячейных и склочных
Своих коммунальных квартир
Мы вырвались в мир крупноблочный,
Отдельный, с удобствами мир!
О, здесь не фанерные стены,
Здесь нет посторонних ушей,
И здесь не кипят
после смены
На кухне пятнадцать борщей,
А возле кастрюль не толкутся
Пятнадцать хозяек,
как встарь,
И не с кем взбодриться,
схлестнуться
За кухонный свой инвентарь…
А раньше:
и радость, и горе,
И ссора в похмельном чаду —
Все рядышком,
все в коридоре —
И зло,
и добро на виду!
Друзья,
вы по чести скажите:
Жилищные сбылись мечты —
Теперь вам не жаль общежитий,
Семейственной той тесноты?
Мне жаль…
Хоть и дни протекают
В комфорте…
Когда раз в году
Сосед на меня протекает —
Я в гости к соседу иду…
А может быть,
все любови,
которые выпадали на долю
миллиардов людей,
тысячелетиями приходивших
на Землю
и уходивших с нее…
А может быть,
все любови,
о которых говорили,
вздыхали,
молчали
под Луной,
стершейся под затуманенными взорами,
точно старый-престарый пятак…
А может быть,
все любови,
которые, отцветая,
роняли семена
будущих страстей и желаний,
связывая все новые и новые поколения
в одну бесконечную очередь за счастьем.
Так вот,
может быть,
все эти любови
суть
задуманный и осуществленный
мудрой природой
долговременный конкурс
на самую жаркую,
самую нежную,
самую чистую,
самую верную,
самую крепкую…
Короче говоря,
самую-самую любовь?!
Когда протрубят подведение итогов,
пара-победительница
получит в награду
вечную жизнь,
а значит, – и вечную любовь!..
Вот так!
А ты опять
пугаешь меня разводом…
Наверно, когда-нибудь
(люди очень пытливы!)
на срезе сердца
можно будет рассмотреть
любовные кольца.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень внимательны!)
по толщине этих колец
можно будет отличить
испепеляющую страсть
от скоротечной интрижки.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень изобретательны!)
пустоту сердца
можно будет прикрыть
изящной
текстурой —
так называют
полированную фанеру,
на которой нарисованы
изысканные узоры благородной древесины.
…Но мы-то знаем,
что под фанерой всего лишь
прессованные опилки.
Все бесследно уходит,
и все возвращается снова.
И промчатся года
или даже столетья,
но вот
Отзовется в потомке
мое осторожное слово
И влюбленный студент
в Историчке
мой сборник возьмет.
Полистает небрежно,
вчитается и удивится:
«Надо ж, все понимали,
как мы…
Про любовь и про снег…»
Но потом,
скорочтеньем
скользнув остальные
страницы,
«Нечитабельно, – скажет. —
Двадцатый – что сделаешь —
век!..»
Стихи, не вошедшие в сборники или не опубликованные
(1968–1973)
Чего же ты хочешь, женщина?
Чего же ты хочешь, женщина?
В моем интеллекте трещина,
Трещина поперек!
Из этой пылающей трещины
В глаза восхищенной женщины
Капает, капает, капает
Самый бесценный сок!
А щеки горят от радости,
Глаза потемнели от жадности,
А руки все тянутся, тянутся
В погоне за самым большим,
За тем, что хранится бережно,
О чем вспоминают набожно
(И цвета, наверное, радужного!),
Так вот, чего руки хотят!
И тянутся, тянутся к трещине,
Все ближе и ближе и ближе…
Чего же ты хочешь, женщина?
Не любви же?!
Ее душа – Сокольники весной…
Вот пара, убежавшая с урока.
Он ей читает вдохновенно Блока,
Будя покой асфальтово-лесной.
Ее душа – Сокольники весной.
Деревья протянули к небу ветви
И просят листьев у весенних ветров.
Им хочется пошелестеть листвой.
Ее душа – Сокольники весной.
Но листьев нет. Налево и направо
Лишь пустота в раскидистых оправах.
И шелестят деревья пустотой.
Ее душа – Сокольники весной.
Я вижу лес от края и до края
И от одной лишь мысли замираю,
Что это все оденется листвой.
Ее душа – Сокольники весной.
Я буду слеп: стеною шелестящей
Прозрачная когда-то, встанет чаща,
Укрыв покой асфальтово-лесной.
Ее душа – Сокольники весной.
…Дома простудились в январской капели
И громко чихают хлопками дверей.
«Пора распускаться?» – оторопели
Деревья, морщины собрав на коре.
Дрожат от озноба и клонятся по ветру,
Глаза удивленных скворечен раскрыв…
Останкино, словно огромный термометр,
Торчит из горячей подмышки Москвы!
Я родился на Маросейке.
Так сказать, коренной москвич.
Я из самого сердца Расеи,
Что поэты хотят постичь.
Я болел и охрип от ора,
Коммуналка забыла сон.
Приходил участковый доктор,
И качал головою он.
Бабка травами внука отпаивала
И гулять выносила в сквер,
Где чернеет чугунный памятник,
В славу шипкинских гренадер…
Киносеанс. Спокойно в темном зале.
Вдруг кресла гром аплодисментов залил.
И зрители в порыве общем встали:
Через экран шел сам товарищ Сталин.
Неторопливо, в знаменитом френче,
Сутулясь, он партеру шел навстречу,
Как будто чудом до сегодня дожил,
А люди били яростно в ладоши…
От радости калошами стучали:
– Ну, наконец-то! Мы по вас скучали!
Усы, усмешка, голова седая…
Я тоже хлопал, недоумевая.
Маленькая акробатка
С напряженной циркачьей улыбкой,
В голубом истертом трико,
Стоявшая в позе шаткой
И с грациозностью зыбкой,
Балансировавшая
тонкой рукой, —
С шара на землю
упала
И растеклась голубой лужей красок.
Умер Пабло…
Вчера умер Пабло Пикассо…
Среди студентов говорят:
«Тот не студент, который
Не ездил летом в стройотряд
И не месил раствора.
Усталость мускулы свела
И голова лохмата.
О, как сначала тяжела
Обычная лопата!»
Когда работаешь за двух,
Почувствуешь на деле,
Что не всегда могучий дух
Живет в могучем теле.
Но сила явится в руке —
Заговоришь с веками
На самом древнем языке
«Тычками» и «ложками».
То куртку дождь протрет до дыр.
То солнышко ошпарит.
И скажет местный бригадир:
– Ну и дает, очкарик!
Проходит срок. Приходит час
Прощания тяжелый.
Мычаньем провожают нас
Коровы-новоселы…
Ветер хватает горящие листья
И с шипением гасит в лужах.
Он от плевел небо очистил.
Ветер кружит.
Хвойным запахом неистребимым
Обернувшись, как целлофаном,
Пожелтевшие щеки рябины
До багрянца зацеловал он.
Так не о себе, а о небе.
О нем, как о хлебе своем.
В твоем окне – одно лишь только небо
Там, на твоем десятом этаже.
Ты ешь небесный хлеб. А я такого хлеба
Еще не ел и не поем уже.
Жить у небес – тут дело не в привычке.
Ты смел и нервы у тебя крепки.
Ведь сверху люди – чиркнутые спички.
Троллейбусы, как будто коробки.
А я на первом. И с балкона можно
Полить на клумбе чахлые цветы,
Футбол вчерашний обсудить с прохожим.
Да и боюсь я этой высоты…
Обрывок дачной улочки
С верандами, балконами,
А где же крендель булочной?
Романы с моционами?
Пыль по дороге катится.
Коляска там проехала.
Мне это место кажется
Страничкою из Чехова.
А где же тут насельники?
Мечтатели и пьяницы,
Витии да бездельники?
Вдруг кто-нибудь появится!
Да и куда деваться им?
Темно. Дома прозрачные.
На этаже двенадцатом
Мерцают страсти дачные…
Кругом валялся мусор всякий
От амуниции солдат.
И подавляющий Исакий
В день подавленья был зачат.
Все тот же всадник, сфинксы те же,
Трон, содрогнувшись, устоял.
Рассвирепевший самодержец
По батюшке злодеев звал.
Потом в каком-нибудь централе,
На супостатов осердясь,
Уже по матушке их звали.
Был князь, да нынче снова – в грязь.
Шли в глубину огромной, мглистой,
Не осчастливленной земли.
И, затмевая декабристов,
За ними следом жены шли…
Не верьте московским трамваям!
Заняв поудобней места,
Мы как-то совсем забываем,
Что это не поезда.
Трамвай, умудренный летами,
Несется, гремя и стуча,
И рельсы назад улетают,
Как ленты из губ циркача.
Иным повинуясь законам,
За пыльным окошком отстав,
Мелькнули полузнакомо
Знакомые с детства места.
Трамвай убегает за город,
Понятное скрылось вдали.
И хочется всякий пригорок
Принять за округлость земли.
Какие-то дивные веси.
Все ново – деревья, трава…
На Беринговом проезде
Вдруг вспомнишь, что это – трамвай.
Жил в давние годы скупой —
И был он за жадность наказан:
Все золотом делалось сразу,
Лишь он прикоснется рукой.
И фрукты, и хлеб, и вино
Съедала червонная плесень,
Лилась соловьиная песнь,
Отборным звенящим зерном.
Он женской касался груди,
Но даже любовь стала пыткой:
Не счастье, а холодность слитка
В объятьях своих находил.
И так, не поняв ничего,
Угас он в тоске по живому.
Скиталась по мертвому дому
Лишь тень золотая его.
Метафоры блеск золотой,
На солнце тускнеющий сразу…
Поэт, ты подчас, как скупой,
Что был за порок свой наказан.
Две девушки у кромки водоема.
Не лес, не небо отразились в нем.
Природа, пошатнувшись от надлома,
Упала в тот бездонный водоем.
Мир сущий под водою, словно Китеж.
Не отраженье, а шумливый град.
Но краше, чем другие, во сто крат
Художник шепчет: «Киньтесь в воду,
Киньтесь!»
Пройдите по церквам и площадям,
В садах обильных наберите вишен.
Там под водой набата звук не слышен.
Там пощадят, а здесь не пощадят.
Мир видеть в отражении воды,
И этим жить… Какое небреженье!
В беде – лишь отражение беды.
В искусстве – отраженье отраженья…
Как леденящей твердости стекла
Коснуться лбом сереющего утра,
Увидеть все, что вьюга намела,
Промерзнуть на ветру в пальтишке утлом.
Устало щурить сонные глаза,
Приветствовать медлительность трамвая,
Ловить в себе чужие голоса,
Как драгоценность, ночь перебирая.
И вздрогнуть, заскользив ногой по льду,
И замереть, как вкопанный, на месте,
И стоя у прохожих на виду,
Увидеть сон, где снова с нею вместе…
(1974–1980)
В Москве февраль, но снова тает,
Чтобы опять застыть к ночи.
Капель ядреная, литая,
О тротуар весь день стучит.
Снег цвета довоенных фото
Лежит, подошвами примят.
Ворчанье шин. На поворотах
Трамваи старчески гремят.
Сугробы сгорбились вдоль улиц.
Из них, журча, бежит ручей.
Сорвавшись, молнии сосулек
Пугают звоном москвичей.
По наследству об ушедших судим.
Для чего потрачены года?
Что имел и что оставил людям.
Вот и все…
Но если б иногда…
(Нет, я не прошу об воскрешенье!)
Возвращаться к делу своему.
Так отец приходит в воскресенье
К сыну, что живет в чужом дому…
Небытие… Как выглядит оно?
Я думаю о смерти по ночам.
Там, как сейчас, наверное, темно,
И так же, как теперь, часы стучат,
И тело полусном истомлено,
И мысли проплывают в тишине…
Я засыпаю. Смерть ужасна, но
То, что потом, почти не страшно мне…
Я в лес вхожу, как в тайную страну,
Перешагнув крутых корней пороги.
Шумит листва, пни помнят старину,
Росистою травою вяжет ноги.
Седых стволов качающийся скрип,
Органную напоминает мессу.
И если я найду волшебный гриб,
То вызову зеленых духов леса!
Метро к ночи похоже на Помпеи:
Все в умерших шагах погребено,
Как в сером пепле.
Звуки все слабее.
Здесь неба нет. Немыслимо оно.
Мозаика легла, как тень, на стены…
Здесь кто-то жил когда-то, но ушел…
И щеткой, похожей на антенну,
Уборщица метет античный пол…
На Черной речке белый снег.
1
Вот здесь. У этой речки. На дуэли
Он ранен был.
На Черной речке. Здесь
Барьерами чернели две шинели.
И снег на землю оседал, как взвесь.
А там – курки решительно взводились,
Тропинкою, протоптанной в снегу,
Жить рядом не хотевшие – сходились,
Чтоб верной пулей удружить врагу.
И в правоту свою глухая вера
Сковала насмерть каждую из душ.
И первым был у черного барьера
От ревности осатаневший муж.
Но увидав, как зазияло дуло,
Нацелившись безжалостным зрачком,
Повеса больше ни о чем не думал…
Снег рухнул с веток —
муж упал ничком.
Потом приподнялся, сжимая рану,
И целился, казалось, целый век.
Горд выстрелом, как «Сценой у фонтана»,
Не понимая горького обмана,
Он крикнул «браво» и упал на снег.
Но был его свинец неверно пущен.
Бард шел убить, но волею небес
Смертельно ранен Александр Пушкин.
И еле поцарапан Жорж Дантес.
Великий нежилец на белом свете,
Тобой играл неумолимый рок:
Поэт лежит в Дантесовой карете.
И мчит убийцу пушкинский возок…
2
Поэт прощается, прощает, примирившись,
Уносит силы почерневший день,
А на Фонтанке, у дверей столпившись,
Не верят люди в черный бюллетень.
Рыдает Гончарова в черном платье.
Жуковский шепчет: «Ах, не уберег!»
Разящим словом Лермонтов отплатит
Тем, кто взводил и нажимал курок.
Кому же мстить?
Кавалергардской страсти?
Тем, кто интригу закрутил хитро?
Мстить черной зависти, а может, черной власти?
Но вот уже открыты двери настежь:
Из рук упало вещее перо.
3
Царь приказал. Монарх покоя хочет.
Не волновались горожане чтоб,
В кибитке при жандарме черной ночью.
Был увезен из Петербурга гроб.
Вдова на память вещи мужа дарит,
Плывет над снегом поминальный звон.
Убийца по приказу государя
Навеки из России удален.
О нет, он от раскаянья не спятит,
Разбогатеет и окончит дни
Через полвека – в девяносто пятом
В кругу на совесть плачущей родни.
4
А чернота?
Ее всегда хватало.
Ведь для нее достаточно свинца.
И много очень мягкого металла
Прошло сквозь очень твердые сердца.
Со временем обиды побледнели,
Но давней черной памяти верна
Та речка, у которой на дуэли…
Но и она не потому черна…
Итак,
я маг, волшебник, чародей
И я могу единым мановеньем
Остановить летучее мгновенье,
Остановить природу и людей:
Бегущих – в беге,
Любящих – в любви,
Врагов – в борьбе,
Обиженных – в обиде,
Убийцу – в страхе,
Мертвого – в крови…
И обойти весь мир и миг увидеть.
Вот странный дождь
Над городом застыл,
Застыл бегущий с зонтиком прохожий,
Взметенные кленовые листы
И холодок, помчавшийся по коже…
И капля побежала по стеклу,
Когда я вновь раскрепостил минуты,
Вне времени оставив поцелуй,
Который был последним почему-то…
Природа все запоминает. Все!
Два леса, как сошедшиеся рати,
Лесной ручей кровь русичей несет
И пропадает в розовом закате.
А зайчик солнечный, неистово кружа
Среди благоухающего лета,
Отчаясь, мечется, как будто бы душа
Большого, но забытого поэта.
Природа помнит счастье, горе, страх, —
Все то, чего давно не помнят люди.
И солнце на закатных небесах,
Как голова Крестителя на блюде.
Дни наши, спокойно текущие, —
На грани грядущего века
Невообразимый народ
Представит, как мы себе Пушкина,
А Пушкин представил Олега,
Сбирающегося в поход…
Я держу в ладонях эту душу.
Осторожно,
как чужую тайну.
Бережно,
как нежную медузу,
Но душа в моих ладонях тает.
Я люблю ее,
Но что же делать?
Я клянусь,
но сколько можно клясться!
Клятвы предназначены для тела,
А душа уходит —
между пальцев…
Иною могла быть судьба у любимой.
Допустим, в какой-то из сереньких дней
Она промелькнула бы мимо незримо,
И я никогда не узнал бы о ней.
Путей на земле до нелепости мало.
Допустим, мы с ней разминулись. И все ж
Кого бы и где она ни обнимала,
Я в сердце бы чувствовал странную дрожь…
Хоть сижу не под люстрою,
Благодарен судьбе.
Хорошо себя чувствую
В пятистенной избе.
Сруб с замшелыми бревнами,
Покосившийся хлев,
За дорогой неровною
Прозябающий хлеб.
А прозябший – ковригою
Ублажает живот.
За недальнею ригою
Дорогуша живет.
Красной косовороткою
Удивляю быков.
Батя сгинул за водкою —
Магазин далеко.
Чу! Повеяло ладаном.
Боже, рай наяву!
Только вскорости надо нам
Возвращаться в Москву.
Много наших там кормится,
Деревенских не счесть…
У меня ведь и горница
В блочном тереме есть!
А вот в отдельной клетке хмурый,
Огромный обезьян. Самец…
Ты принимаешь вызов гордо,
Бескомпромиссен ты в борьбе,
И что такое «про» и «контра»,
Совсем неведомо тебе.
Не отличая «про» от «контра»
Загвоздок от альтернатив,
Застыл он, взгляд суровый гордо
К воротам новым обратив.
Протест в душе бараньей зреет,
Отвага светится в глазах.
Стоят ворота – он звереет.
И вдруг удар – трах-тара-рах!
Ворота повалились наземь.
За ними повалился он,
Но не моргнули овцы глазом
И не покинули загон.
Нет, не понятен подвиг стаду!
В пыли найдя себе конец,
Лежит, осмеянный в награду,
Овец. Наверное, самец…
Отвези меня домой!
Выйду я, а ты останься.
Жалко мне, а ты расстанься,
Но еще чуть-чуть постой…
Пусть рука дрожит на дверце,
Пусть порадует мне сердце
Гул мотора холостой!
Много девок одиноких.
Если с парнем – то спроси:
Насчитаешь не у многих,
Чтоб работал на «такси».
Эх, катает он подругу,
Неженатый-холостой,
К дому, из дому, по кругу —
Звук мотора холостой.
Но женатому шоферу,
Как начало всех начал,
Нужно, чтобы в такт мотору
Счетчик бережно стучал.
И когда-нибудь супругов
Повезет, взметая пыль,
К дому, из дому, по кругу.
Купленный автомобиль!
По прочтении книги стихов Я. Козловского с исключительно каламбурными рифмами
У яков, козлов с кий
За каждым ухом – по рогу.
О, Яков Козловский,
Вы подошли к порогу.
Какая открылась даль:
Омонимы все ваши!
И утопился бы Даль
От зависти к вам в Сиваше…[1]
Иногда вдруг почувствуешь:
В чем-то
И где-то
Повторяешь себя…
Так слава приходит к поэту:
Сидел я, вихор теребя,
И понял, что в чем-то и где-то
Я сам повторяю себя.
Не всякого так осеняет —
Я тайны сберечь не сумел.
И вот уж меня повторяют
ЦК, ЦРУ, ЦДЛ…
От пят до кишечного тракта
Меня повторили давно.
Взял Пушкина где-то и как-то.
Вы мне не поверите, но…
………………………………….Ей-богу!
На меня надвигался рояль…
Не хочу вас пугать беспричинно,
Но душа за поэта болит:
Друг мой так же шутил с пианино,
И теперь навсегда инвалид!
Вы
Не протянули мне руку,
И тогда
Я сорвался в пропасть,
Но, как видите, не разбился.
Испытал любовь и разлуку.
Написал стихотворений пропасть…
В древней Спарте правило было:
Ребятишек рождалось пропасть.
И того, кто выглядел хило,
Не жалея, бросали в пропасть.
Вандализм! Но мои порывы
Вроде тех, что описаны выше:
Я б иного поэта – с обрыва,
Только так, чтобы он не выжил!
Однажды я спросила удивленно:
– Откуда я?
– Нашли.
– А где?
– В лесу…
Однажды игрушки отбросив
И взявшись за смысл бытия,
Ребенок настойчиво спросит:
«Откуда же, мамочка, я?»
Потупится мать и уныло
На этот проблемный вопрос
Ответит:
– На рынке купила…
А может быть, аист принес.
– А кто эти аисты?
– Птицы…
– А как же они донесут?
Подходит отец, горячится:
– Тебя мы сорвали в лесу!
Ребенок поверить не может
И возобновляет допрос:
– Мы с папою очень похожи.
Он тоже под деревом рос?
Родители молча краснеют
И правильный ищут подход.
А дочка, когда повзрослеет,
Генетики тайну поймет.
Но есть и другие секреты.
Наука не сводит концы.
Откуда берутся поэты,
Похожие, как близнецы?
Колкое время в охапку связать
И перемочь беду,
Что-то успеть начертать-нашептать
Между УА и АУ…
Новый поэт народился. УРА!
Мудрость запомни одну:
Пусть остальные кричат: УА!
Ты голоси: АУ!
Нет вдохновенья, муза ушла?
Дар стихотворный скис?
Горю помогут АУ и УА,
В коих бездонный смысл!
Если в искусстве жить по уму,
Будут тома и тома,
Где меж УА и прощальным АУ
Только АУ и УА…
Гомеру, Бодлеру, Хайяму, а также Игорю Грудеву, автору книги двустиший «Взмахи».
Поэты болтливы. Так было веками.
Я далеко не пойду за примером:
Пусть первым бросит в меня камень
Одолевший всего Гомера!
Поэты туманны. Так было веками.
Опять далеко не пойду за примером.
Швырни в меня смертоносный камень
Понявший стихи Бодлера!
А я не таков. Отвечаю прямо:
Простота и краткость – сила моя:
Короче стихи только лишь у Хайяма,
Но я современнее, чем Хайям!
Это вот в эти двери
Входили
В канун зимы
«Моцарт и Сальери»,
«Пир во время чумы»,
«Рыцарь скупой»
и Белкин…
Так и стою перед дверью,
Литературный вахтер.
Ходят и люди, и звери.
Как-то забрался к нам «Вор».
Волк (без ягненка) случался,
Демон с Тамарою был.
«Домик в Коломне» стучался,
Медный копытами бил.
Бродят поэмы, баллады,
Горе с визитом к уму.
Как-то с «Фрегатом «Паллада»
Шла, обнимаясь, «Муму».
Часто случается – трушу,
Обледенеешь всерьез:
Ломятся «Мертвые души»,
Шмыгает за полночь «Нос»!
Спросите, что за охота
И для чего тут стою?
Может, от Жукова кто-то
В дверь постучится мою…
А время с облегчением уносит
Мои переживанья в облака…
Мой дух, свободный, вечный и могучий,
Стремится в небо и летит туда,
А там его подхватывают тучи,
Потом, пролившись дождиком, вода.
Затем его несут ручьи, каналы,
Он падает с плотин, взмывает ввысь,
Но пожурчав и побурлив немало,
Мой дух возьми ко мне и воротись.
Вот он уже течет в водопроводе,
Вот он – в стакане, а стакан – в руках…
Таков круговорот воды в природе.
Таков круговорот воды в стихах.
Я строю, а кто-то ломает.
Я снова, а кто-то – опять…
Пишу я, а кто-то скупает,
Я снова, а кто-то – опять.
Как пули стихи вылетают,
Рифмую – и некогда спать.
«А, может, свихнулся читатель?
(Сомнения гложут порой.)
С чего и с какой это стати?
Но снова берусь за перо.
Меня, как беднягу Тантала,
Измучил сизифовский труд,
И зная, что сделано мало,
Уснул я, как форменный труп…
Звонок. Почтальон. Телеграммы,
А в ней телеграфным арго:
«Проснись! Надо три килограмма,
Чтоб взять по талону «Марго»…
И в этот тонкий и прозрачный вечер,
Что выплетут из песен соловьи,
Я снова имя тающее встречу
И губы незамужние твои…
Мы были близки, а потом далеки.
Ты вышла замуж, деток родила.
Я стал поэтом, выплетаю строки
Про жизнь, про смерть и прочие дела.
Стихов и лет немало пролетело.
На улице увидел я тебя.
Как прежде – белолица и дебела,
И в тот же миг, повторно полюбя,
Я речь завел о чувственной свободе,
Но ты сказала, не скрывая дрожь:
«Грудь, плечи, губы у меня в разводе.
Все остальное замужем. Не трожь!»
Чтоб заселить пустующие кущи,
Был на Адама матерьял отпущен.
Всего одно ребро ушло налево,
А в результате появилась Ева.
…Кофе. Рейд по магазинам. Выставка-продажа.
Литгазета. Чай. Беседа «муж-оклад-жена».
Час обеда. Сигарета. И беседа (та же).
Легкий грим. Укладка сумок. Грохот. Тишина…
1
Был лес прекрасен, хоть и не велик.
Звенели птахи, меж ветвей летая.
Приехали бульдозеры – и вмиг
«Отговорила роща золотая».
2
Теперь дома особенные строят.
Я слышу, как внизу бифштекс горит,
Как наверху кого-то чем-то кроют.
И как «звезда с звездою говорит».
3
Мой друг окончил институт.
Семья. Зарплаты не хватает.
Сидит в долгах… И вспомнишь тут:
«Науки юношей питают…»
Такой же выдан всем —
Со смазкою густой
Ребристый АКМ,
Ну а вот этот мой!
И он уже в руках.
Мгновенье – на груди.
Не знаю, что да как:
Все это впереди.
Ведь я в покое рос.
Войны не ведал, но
Мне, мирному до слез,
Оружие дано.
Я повторю стократ,
Что не бывать войне.
Но выдан автомат
На всякий случай мне…
Владимиру Соколову
Стреляет Пушкин в пустоту,
В кровавом утопая снеге.
Жизнь, разряженная в мечту…
Стрелял удачливей Онегин!
Ум к сочинительству привык.
Набросаны: античный профиль,
Интрига, вызов, смертный крик…
И час успокоенья пробил.
Тому, кто перевел с листа
Гармонию земным реченьем,
Легла пределом пустота,
Которой он придал значенье.
Где-то там, в конце пятидесятых —
Мальчик «Я» с веснушчатым лицом,
В курточке, в сандалях рыжеватых
Еле поспевает за отцом.
Сероглазый, с уймою вопросов
(«Почему?» – и нет иных забот),
Мальчик «Я», пошмыгивая носом,
По Басманной улице идет.
В праздники Москва нетороплива.
Он читает вывески подряд.
Пьет отец, покряхтывая, пиво.
Мальчик «Я», зажмурясь, лимонад.
Это может показаться странным,
Но шумят, толпясь перед пивной,
Очень молодые ветераны
С еле различимой сединой.
Мальчик не улавливает соли
Разговоров: что-то о жене,
О станке, о плане, о футболе —
Только ни полслова о войне.
Мальчик «Я» не представляет даже,
Что до этой праздничной весны,
Воблою пропахшей, будет так же
Далеко, как нынче до войны,
Что бывают и другие дали,
Их шагами не преодолеть,
Что однажды майские медали
Просто будет некому надеть,
Что, скользя, как тучи над водою,
Годы отражаются в душе,
И что «Я» останется собою,
Но не будет мальчиком уже…
Предательство старых стихов!
Нелепость строки сокровенной!
На все ради слова готов,
Вещает мальчишка надменный.
О как он речист! Как в любой
Метафоре мудростью пышет!
Как живописует любовь,
Ни разу еще не любивший!
Все в мире понятно ему.
Ночной не изведав кручины,
Не спрашивая: «Почему?»,
Он дерзко вскрывает причины.
Такая у юности стать.
Когда перевалит за двадцать,
Он, жизнь перестав объяснять,
Научится ей удивляться.
– Судьба… судьба… А это что такое?
Ведь слов пустопорожних в мире нет.
Смеетесь? Неудачник на покое,
Субъект преклонных и бездарных лет!
Да, так и есть. Давно я духом вымер.
Но шел я по высокому пути,
Мечтал о славе. Но случился выбор…
Тогда никто не знал, куда идти…
Что пытки поздним бесполезным гневом!
Всей жизни ход, любимая моя,
Соратники – меня толкали влево.
Я выбрал – вправо. И ошибся я!
Старик махнул истонченной рукою
Как будто нитку, обрывая речь.
…Судьба, судьба… А это что такое?
На нем был ветхий аккуратный френч.
Не воевал мой дед,
Хотя был годным признан
И на четвертый день
Уже в солдаты призван.
Шумел-гудел вокзал,
В дыму дрожали башни,
А дедушка рыдал,
Он был такой домашний.
И говорил в слезах:
«Я не вернусь, Маруся!»
Дед хлипок был в плечах,
А может, просто трусил.
Был слаб и робок он,
Но деда погубило
Другое: эшелон,
В дороге разбомбило.
Я утешаюсь, хоть
Он праведником не был,
Его душа и плоть
Взлетели прямо к небу.
Дед ненавидел
зло…
Да что точить балясы
Ему ведь повезло —
Он смерти так боялся…
Я себя увидел в сорок первом,
В том, одевшем молодость в шинели,
Прошептал: «Я не вернусь, наверно…»
И прочел во взгляде: «Неужели!»
Я хотел понять безумья боя,
Я хотел постичь бездушье мора…
Но в душе опять саднит
с тобою
Жалкая, бессмысленная ссора.
Ни при чем здесь духа вырожденье.
Просто мир теперь спокойно мутен.
Яркое у нас воображенье,
Но послевоенное, по сути…
Он часто на привале вынимал
Обрывок излохмаченной газеты,
Разглядывал и толком понимал
Всего два слова: Ленин и Советы.
Портянки просыхали на дыму.
На небосводе звезды мерно тлели.
Он засыпал и видел сон: ему
Дает совет чудесной силы Ленин…
А поутру в поход звала труба.
И он летел, клинком сияя узким,
И золотопогонников рубал,
Свободно говоривших по-французски.
Миру вешнего солнца хватает.
Все уже зелено, посмотри!
Но в душе между тем холодает.
Начинается осень внутри.
Мир дождями июльскими вымыт.
А на сердце тоска от снегов.
Микроклимат души, микроклимат…
Никуда не уйти от него.
Но когда под пушистою кладью
Накренятся деревья, —
внутри
Ты наденешь легчайшее платье.
Все уже зелено. Посмотри!
Покуда еще не раскрыты
Тайны все до единой.
Мистики и спириты
Просто необходимы.
Духи, столоверченье,
Это не выкрутасы,
Если, вскрывая череп,
Врач не находит разум.
Если в морях драконы
Не извелись покуда,
Если неугомонно
В небе летает посуда…
Будем же верить честно
В Шамбалы и Атлантиды.
Если не верить – исчезнут
Все чудеса… от обиды.
А знаешь, брат, и двойка не пустяк,
Когда ни дня нам не дано для пробы.
А детство, юность, зрелость, – это так…
В судьбе ориентироваться чтобы.
Из детства все: умение дружить,
Любить, терпеть, врагам давать по шее,
И, как ни высоко, уменье жить,
И умирать, поднявшись из траншеи.
И потому, братишка, не «пшено»
Твои, лентяй, позорные оценки!
…Но ты не слышишь, ты следишь в окно
Смешные переулочные сценки.
Есть мир, что виден лишь из окон школ,
Огромный, многоцветный, многошумный.
Звенит звонок – и все, что ты прошел,
С доски стирает в тишине дежурный.
Брат лежит в спокойствии мучительном.
Как же быстро минул классный час!
Навсегда ты стерт с доски учителем,
Ничему не научившим нас…
…Наши мечтанья еще не просрочены
И не сданы на покой.
Чем будет жизнь?
Переводом с подстрочника
Иль несказанной строкой?
Все будет так, как в детстве загадали,
Терпение – и все случится так.
И это, может быть, не за годами
Хотя и годы, кажется, – пустяк.
До счастья не доехать без оказий.
Но слишком много в жизни суеты.
Мечтателям недостает фантазий
Всего на полдороге до мечты.
И повседневность душу истомила.
Измучили знакомые места.
И женщина любимая постыла.
Лишь только потому, что есть мечта!
Минувший день опять напрасно прожит,
Ошибки непомерно велики.
Жизнь – не роман. Писателю попроще,
Он может взять и сжечь черновики.
Все будет так, как в детстве загадали.
Ты был всегда загадывать мастак!
Мечты твои уже не за горами.
А если все загадано не так?
Наташе
На улице Сретенке
В семьдесят третьем году
С тобою нам встретиться
Написано на роду.
Со скошенным нимбом
В поту, засучив рукава,
Всеведущий выбил
На небе все наши слова!
А сделавши это,
Подумал про взаимосвязь
Конечности света
Со счастьем, упавшим на нас.
…А время, как сквозняк,
Мне волосы ерошит.
И снова день не так,
Как мне хотелось, прожит.
Не по мечтам моим,
Не по моей охоте —
Как вздумается им,
Дни сквозь меня проходят
Куда идут они?
И кто их ожидает?
Мои когда-то дни
Другие доживают…
Стихи, сочиненные в автобусе по дороге из Ясной Поляны
Уйти – задача не из праздных.
А узел намертво затянут.
Чтоб стало все на свете ясно,
Покиньте Ясную Поляну!
Уйти? Потомки не случайно
Сажают на анналы кляксы,
Исчерпывающе отвечая
На то, что никому не ясно.
Туда, откуда вы бежали,
Повалят экскурсанты скопом,
Проезжей сделать угрожая,
Едва намеченные тропы.
Вы хмуро смотрите с картинки.
Рассказ экскурсовода скушен.
В музейных тапочках ботинки.
В обложках монографий – души.
Любовь, будет время, покажется ношей,
Вконец опротивевшей вам.
И детский роман, до предела изношен,
Трещит на свиданьях по швам.
И зная, что кончено все между вами,
Ты взглянешь на пройденный путь…
Цепочки следов обернулись цепями,
Которые не разомкнуть.
К вопросу о раздвоении личности
Я себя совершенно не знаю.
Я с собою почти не знаком.
Что душа моя – добрая, злая?
Писан ей иль не писан закон?
И каков тот закон, если писан?
Чем мой шаг по земле отягщен?
Я стремлюсь к постижению истин,
Но каких, непонятно еще…
И живут, и глазеют на звезды
Два несхожих совсем близнеца.
Я, который до капли осознан.
Я, который, неясен пока.
И строчит до колючего пота
Тот, понятный, а строчки – сухи.
Вдруг нашепчет непонятый что-то…
И тогда происходят стихи…
Мысли во время проверки ученических сочинений
Я убедился, жизнь на треть отстроив,
Измучившись, заглядывая вдаль,
Что мир на положительных героев
И отрицательных
не делится. А жаль!
У всех живущих – схожая примета.
У наших душ строение одно:
Все люди положительны!
И это
Природой как условие дано.
Вот так и жить бы, о добре радея.
Но жизнь не умещается в добре.
Кого-то нужно снарядить в злодеи,
Как нужен дождь со снегом в ноябре.
Кому-то должно с листьями расстаться,
Над лужами ветвями наклонясь.
Ведь для себя приходится стараться,
Ведь осень предназначена для нас.
Но это все останется меж нами
И не войдет в школьнопрограммный том.
А после поменяемся местами.
Ей-богу, поменяемся! Потом…
Когда и день грядущий не хорош,
Попробуй поглядеть на вещи «трезво»
И убедить себя, что ты живешь
Сам по себе. Все остальное – средства.
И выход обретешь из пустоты,
Лишь только повторяй неутомимо:
Любимая, друзья, дела – не ты,
А нечто, протекающее мимо.
Разрыв – пустяк. Ошибки не страшны.
Смотри на мир смелее и грубее!
…О эти средства, как они нужны!
И как без них не нужен сам себе я!
Телескопами целятся в небо
«Самоходки». Заныло плечо.
В карауле до этого не был.
«Кто идет!» – не кричал я еще.
А ведь всякое может случиться…
Но для этого есть автомат!
Я не сплю и смогу отличиться,
Если вдруг подкрадется… комбат.
А до смены немыслимо долго!
Вон звезда покатилась – лови!
Мне положено думать о долге,
Вот и думается о любви…
Град обложили вороги, как тучи.
Пожарища и мор, куда ни глянь.
Но вызволит из смерти неминучей
Кровавая, спасительная брань.
Один кивок – и тысячи таких же
Людей, как он, – обняв любезных жен,
Возьмут мечи и выйдут вон из хижин,
И каждый будет во поле сражен.
Они полягут, укрепив костями
Остов державы, а предсмертный стон
Вдохнут окровавленными губами
В подспудную озлобленность икон.
Кто их считал? Одно название – смерды.
Тут венценосных недругов – орда.
Но ни единой человечьей смерти
Для мира не проходит без следа!
Опять война? Горящая пустыня?
Живое убивающий металл?
А я б на ход истории отныне,
На месте Бога ни души не дал!
И снова тревога учебная.
Подсумок, штык-нож, автомат.
Луна над казармой ущербная,
Деревья, как тени, стоят.
Комбат проверяет оружие,
Мороз сводит счеты со мной.
Оплошностей не обнаружено.
Ну, что ж, все в порядке, отбой.
В еще не остывшие простыни
Я к сладкому сну возвращен.
Но сами подумайте, просто ли
Вернуть потревоженный сон.
Куда от отправился,
этого
Никто не поведает мне…
Возможно, к мальчишке ефрейтору,
Смеющемуся во сне.
Мечтают дожить до успеха,
До денег, до свадьбы детей,
До следующего века,
Триумфа дурацких идей.
Желаньями движутся судьбы.
Но я день и ночь – об одном:
Мне лишь до тебя дотянуть бы,
А все остальное потом!
Поэту быть бы фениксом.
Ощиплют, сварят, слопают,
Размечут кости веником,
А он крылами хлопает!
Неплохо – Афродитою.
Пусть оскорбляют действием.
Водой ручья омытая,
Богиня снова девственна!
Если вы потерялись, встречайтесь в центре ГУМа у фонтана.
Без сомненья, любовь наша вечна.
Я бы даже сказал, фатальна.
Но условимся, место встречи —
В центре ГУМа, у фонтана…
Может с каждым случиться это:
Ты обманешься. Я отстану…
Ни к чему мельтешить по свету.
Нужно просто стоять у фонтана.
Потолок луною расцвечен.
В ГУМе тихо и бестелесно.
У фонтана все-таки легче,
Даже если ждать бесполезно…
Ну что ж, и оно мне сослужит:
Во вздрагивающей тишине
Припасть, затаиться и слушать,
Что там происходит во мне?
Мерцающим отзвукам этим
Внимая, возможно, пойму,
Что завтра случится на свете,
А может быть – и почему.
Как ни были б отзвуки хрупки,
Они матерьяльны уже:
Картины, мосты, «душегубки»
Мерцали когда-то в душе…
Перед зернистым дождевым стеклом
Застынешь – и немного погодя
Трава, тропинка, потемневший дом
Покажутся из мелкого дождя.
В душе нестройно капают слова.
И горько куришь и, волнуясь, ждешь,
Что вот сейчас иссякнет долгий дождь,
Иссякнут дом, тропинка и трава —
Ударит солнце сквозь цветной туман,
И тыщи луж – под самый окоем
(Как будто высыхает океан),
И ничего вокруг, и никого.
Но скоро птица в ивах запоет.
И грусти дождевой не быть уже
Она ушла, но как-то без нее
И радостно, и пусто на душе…
У религий классовые корни.
Высшей силы не было и нет.
Я, как атеист, конечно, помню,
Что материален белый свет.
Так о чем же речь? Зачем же в ступе
Воду очевидности толочь?
Это днем…
А ночью вдруг подступит…
Сядешь на кровати: страх и ночь.
И тогда, не властвуя собою,
Разомкнув смешливые уста,
Я молюсь потекам на обоях,
В темноте похожим на Христа…
Город мой утешает в бездомной тоске,
Воскрешая меня.
Закрываю глаза и брожу по Москве
На исходе воскресного дня.
Пахнет легкостью, вечером, клейким листом.
Свет в окошках дрожит.
Нелюдимо. Москва размышляет о том,
Как неделю прожить.
Ей предвидеть, предчувствовать, предугадать
Каждый день из пяти.
Знать в субботу ошибки, вздохнуть и опять
В понедельник войти.
Жизнь моя – караван бесконечных недель.
Но другой не дано.
Я служу и сквозь незамутненный апрель
Вижу осени дно.
По грустным дням полночною порой
Ко мне приходит, гневно хмуря брови,
Чувствительный лирический герой
Былых стихов о пройденной любови.
Суровый и решительный на вид,
Он, в существо разрыва не вникая,
– Как ты посмел! – надрывно говорит. —
Ведь ты же сам писал: «Она такая…»
С чем только ты не сравнивал ее,
Изматывая сердце на пределе,
Выходит, что стихи твои – вранье?
И было все не так на самом деле!
В ответ молчу, киваю головой,
Мол, я ей благодарен и поныне…
А ты иди, лирический герой,
К моей – в тебя влюбленной героине!
…И снова о любви, в который раз —
О выпавшей, как выпадают снеги,
Когда весь мир прекрасен без прикрас,
И молод, и красив, и дан навеки!
И снова о любви, который год —
То с радостью, то с болью, то с укором,
То с сожалением, что это все пройдет…
Когда-нибудь, наверное, не скоро…
Рассветы встречая,
Усталый, в дорожной пыли,
Я очень скучаю,
До боли скучаю
От детства вдали.
Смеешься и веришь:
Он жив, этот детский уют,
В котором теперь уж,
Наверно, теперь уж
Другие живут.
Там улицы наши,
Там наш романтичный чердак
Там в детстве все так же
По-прежнему так же.
Кто скажет: не так?
Мечта есть такая:
Домой – в те былые года,
Я предполагаю,
Я предполагаю
Вернуться туда,
Но прежде бы надо
Все взрослые тайны узнать
И нашим ребятам,
Дворовым ребятам
О них рассказать.
Слегка запинаясь
На взрослых значениях слов,
Чтоб мучила зависть,
Смиренная зависть
Мальчишек-врагов.
Чтоб двор увлеченно
Шумел о рассказе моем.
А щеки девчонки,
Той самой девчонки
Пылали огнем.
Мой отец весь свой век пролежал на диване
(Так о нем говорит моя мать),
Ни на что не потратил особых стараний,
Ничего не пытался урвать,
Не стремился уехать в далекие страны
И высоких достичь степеней.
Он всю жизнь пролежал на диване.
С дивана
Жизнь, наверно, видней.
А чем закончится любовь?
А чем закончится?
А тем, что снова полюбить
Душе захочется.
И снова сердце заболит
От ожидания,
И взгляд любимый заслонит
От мироздания.
И снова будет суета
И ослепление:
Сначала: та! Потом: не та!
И отрезвление.
А чем закончится любовь?
А чем закончится?
А тем, что снова полюбить
Душе захочется…
И у меня смертельный недруг есть!
Вам интересно, кто и отчего он?
Букашка из господних министерств,
За судьбы отвечающий чиновник.
Когда-нибудь, войдя туда, с порога
Узнав его, хоть прежде не знаком,
Упомяну я всуе имя Бога,
И по столу ударю кулаком.
Спрошу его, сурово взглядом смерив,
«Зачем вся жизнь моя идет не так?»
Он пролепечет, что сейчас проверит,
Косясь на мой грохочущий кулак.
И будет долго в картотеке рыться,
Фамилию для верности шепча,
Ежеминутно вскидывая рыльце
Из-за сухого хилого плеча.
Он карточку найдет и, от испуга
Бледнея, растеряется совсем.
И скажет, отступая в дальний угол,
Что не туда ушло мое досье!
Что это – лишь досадная издержка
И даже входит в допустимый брак,
Что я, всего скорее, не из здешних,
А то бы не расстраивался так…
Вот это да! Судьба ушла к другому!
Я поплетусь домой, глотая пыль,
Засяду за «маляву» к Всеблагому
И буду совершенствовать свой стиль…
Был, говорят, здоров народ
Без терапевтов и хирургов,
Лечили, если хворь найдет,
Вода святая да хоругви.
А нынче – сразу бюллетень.
И что невредно, то опасно,
И даже собственная тень,
Как говорят, теперь заразна.
Перелечили, говорят:
Кругом лекарства и больницы —
И шприц останкинский подъят
Над бедной задницей столицы.
Из птичьего перелета —
В космический перелет.
Из книжного переплета —
Да в жизненный переплет.
Жизнь все бы переменила:
Зарплата, квартира, жена.
И трогательным семьянином
Окажется Дон Жуан.
Отвергнув плохую котлету,
За кухонный этот пустяк
Ромео разлюбит Джульетту
И бросит ее на сносях.
А мой сосед-выпивоха,
Безбожник и озорник,
Блаженствует в эпилогах
Еще не написанных книг.
Большие наступают времена.
И человек устал от изумлений.
Такие у явлений имена,
Что, в сущности, уже не до явлений.
Однажды утром разверну в постели
Газету «Правда»… Господи! Ура!
Космическое чудо! К нам вчера
Венерианцы в гости прилетели!
Такая радость, братцы, спозаранок.
Теперь мы в новой эре, коли так.
А кстати, как насчет венерианок?
И главное – возможен ли контакт?
Она погасит резко сигарету.
Задумается, бусы теребя,
Посмотрит на меня и скажет это:
«Мой дорогой, я не люблю тебя!»
И все, что было вечным и бездонным,
Что наполняло тело и слова,
Все сделается хрупким и бездомным,
Как ветром унесенная листва.
Вернуть листву! Вернуть любовь былую!
Сказать ей: «Без тебя мне счастья нет!»
И повторить стократ: «Люблю! Люблю я!»
Смешной и бесполезный аргумент…
Как результат проигранных сражений,
Реформ, не доведенных до ума,
Уродцами испуганных рожениц
Являлись в мир ужасные дома.
И вот стоит кирпичный Квазимодо,
Из подворотни тянет смертный хлад.
Шарахаются в страхе пешеходы,
Машины мимо в ужасе спешат.
Измучился несчастный архитектор,
К нему в ночи приходит страшный дом.
И плачет он, и проклинает тех, кто
Про старый грех напомнил перед сном!
Твои удивленные плечи,
Приветливая рука.
Любовь начиналась со встречи,
Как речка со струй родника.
А дальше – все ширились воды,
Студили закатную медь.
Течения, водовороты —
И вплавь уже не одолеть!
Потом за крутою излукой
Вставал непроглядный туман…
Любовь завершалась разлукой,
Бескрайнею, как океан…
А то, что остается за спиной,
Оно и в самом деле остается?
А, может, ускользает в мир иной,
Покуда кто-нибудь не обернется?
Но даже оглянувшись резко так,
Как только можно,
не решить задачи —
Не подглядеть потусторонний мрак,
Который все невидимое прячет.
Кому же ведом запредельный свет?
Быть может, тем,
кто безутешно машет
В последний раз любимому вослед.
Но тот, кто видел, никому не скажет!
И опять встает она
Из газетного тумана,
Эта новая война,
Без могил, без ветеранов.
Это будет не гроза,
Не кошмар о «красном смехе».
Хочется закрыть глаза
И очнуться в прошлом веке…
Голубая капелька огня —
Вмерзшая в холодный свод звезда.
Ты недостижима для меня
Ни за что на свете, никогда.
Осень осыпается с дерев.
Я по желтой осени иду.
Разве что однажды умерев,
Я смогу попасть на ту звезду.
Ни огня, ни сполоха во мгле.
Небеса осенние пусты.
Только ты одна на всей земле
Тоже видишь отблеск той звезды.
На непостижимой высоте
Светится она в вечерний час.
Впрочем, это я не о звезде —
О надежде, обманувшей нас.
(1980–2014)
Всех ближе та,
Которую недолюбил:
Виною маета,
Когда не до любви.
Другая женщина
Иль множество причин —
Все несущественно,
Когда в ночи
Она сквозь сон
Тебе погладит лоб
И скажет: все
Иначе быть могло б!
Достав вполне
Любовей и чинов,
На это не
Ответишь ничего…
Газетный некролог. О, как он кроток!
За рамкой жизнь наращивает темп:
Здесь выборы, а там – перевороты,
Кругом соревнование систем.
От суеты покойный отгорожен,
Дабы никто его не волновал
Тем, что в тайге нефтепровод проложен,
Что найден гриб размером с самосвал.
Как в черный саван, в рамочку зашитый,
Он отдыхает, словно и не жил.
И свой покой среди смятенья шрифтов
Он тяжкой суматохой заслужил!
Тот дом, где появился я на свет
(Куда, точнее, прибыл из роддома),
Стоит —
и внешних изменений нет.
А вот внутри все стало по-другому.
Где коридор, похожий на насест?
Куда девалась кухня и стряпухи?
Теперь тут главк, а может, целый трест!
Трещат машинки, шелестят гроссбухи…
Где я, забывшись,
сделал первый шаг,
Потом упал и зарыдал, опомнясь, —
Там секретарша с пачкою бумаг
Идет к столоначальнику на подпись.
А там, где я впервые невпопад
Заговорил, слова перековеркав, —
Какой-то красномордый бюрократ
Весь день орет на бессловесных клерков.
Но жизнь права.
И драма не нова.
А где еще им размещаться, трестам?
Все правильно. Но лучше бы трава
Росла на месте, освященном детством…
На сберкнижку падают звезды.
Но среди восхищенного гула
Охолаживающей дозой
Та, которая обманула.
Если все получилось иначе,
Звездопады мимо мелькнули —
Обязательно где-нибудь плачет
Та, которую обманули…
Сидеть, с черновиками запершись,
Уныло строчки рифмами оковывая.
И видеть: за окном проходит жизнь,
Как женщина, призывно незнакомая.
Забросить все, помчаться впопыхах
За незнакомкой, многообещающей.
И сразу вспомнить о черновиках,
Как о жене, без устали прощающей.
Поговорив о том, другом и третьем
С приятелем моих примерно лет,
Мы стали разговаривать о смерти.
Зловеще-занимательный предмет!
Шла речь о том, что траурного крепа
Не утаить за контуром вещей,
О том, что это, в сущности, нелепо,
Пожив, уйти из мира вообще.
О том, что мы воскреснем в наших детях,
В делах, томах и шелесте берез,
Еще о том, что утешений этих
Никто пока не принимал всерьез.
Шла речь о том, что, видимо, не скоро
Нетленность с плотью будут сочетать
И что, увы, о смерти разговоры
За малодушье принято считать.
Постыдного не вижу в этой теме.
Страх смерти – это
самый смелый страх.
Поговорим о смерти, чтобы в темень
Сойти с улыбкой мудрой на устах!
Какое сегодня тяжелое небо!
Как на плечи давит оно!
Давно я у друга старинного не был,
Не пил с ним хмельное вино.
Не спорил о жизни, о правде, о счастье,
О женщинах, черт побери!
Давно мне пора бы к нему постучаться
И слушать шаги у двери.
Мой друг одинокий, он из домоседов,
Наукой своей поглощен…
Но я и сегодня к нему не поеду.
Боюсь, что откроет не он…
Время строит: на день вчерашний
Камень нового дня кладет.
И растет Вавилонская башня.
Это речь обо мне идет.
Ввысь, куда не подняться птице,
Башня тянется день-деньской
Ввысь, где хмурый творец ютится,
На творенье махнув рукой.
Чем же кончится стройка века?
Чем кончалась во все года.
Недостроенного человека
Не достроили, как всегда.
Столп обрушится. Столб огня
Не достанет до неба тоже.
Если все это не про меня,
Но тогда про кого же?
Слова, что от века пристали перу —
Поэтам таинственный знак:
«Меня схороните, когда я умру…»
А дальше про то, где и как.
Один попросился лежать на холмах,
Развеяться пеплом – другой.
А этот с березкой решил в головах,
А тот со своей дорогой.
Ну, что ж, видно, это закон бытия.
Беру, раскрываю тетрадь:
«Когда я умру…»
Погодите, а я…
Попробую не умирать.
Пусть будет так —
уж коли так случилось.
Не обещай! Пожалуйста, иди!
Не полюбился. Ну, не получилось…
Все лучшее, конечно, впереди.
Ты утешаешь: скоро легче будет.
Желаешь счастья без тебя.
Изволь!
А знобкий ветер времени остудит.
Любую радость и любую боль.
Такой урок запомню я навеки.
В чужие сани, очевидно, влез.
А ты давай – вытаптывай побеги,
Где мог подняться соловьиный лес!
Ах, эти семейные ссоры —
Букет непрощенных обид.
Язвительные укоры,
Надменно-обиженный вид.
Соседи наш спор не осудят.
Им ведом воинственный дух.
– Ноги моей в доме не будет!
– Уж если не будет, то двух!
Но в криках супружеской злобы
Немного осталось огня.
И дверью я хлопаю, чтобы
Опять ты вернула меня…
Мечтаю жить легко, неторопливо,
Мечтаю жить солидно, не спеша,
Достойно, обстоятельно, счастливо,
Чтоб суеты не ведала душа.
А что на деле? Только ветра посвист
В ушах от постоянной беготни.
Моя судьба, как уходящий поезд:
Умри в рывке, а лучше догони,
Запрыгни на последнюю подножку,
И рухни на свободные места,
И выясни, передохнув немножко,
Что в спешке перепутал поезда…
Жил, ел, работал, занемог,
Испробовал лекарства все…
И вот короткий некролог
На предпоследней полосе.
В строках – почет его трудам,
Родне – сочувствие в беде.
А между строк: «Все будем там,
Еще никто не понял, где…»
В глазах упрек или досада,
И губы, сжавшиеся в нить.
Но я любил ее когда-то
И мог бы до сих пор любить.
Все было молодо и глупо:
Скамейка. Трепетный вопрос.
Ответ. Податливые губы.
И запах вымытых волос.
…И вот она с ухмылкой странной
Глядит из-под тяжелых век,
Как будто темной, стыдной тайной
Мы с ней повязаны навек…
Конечно, числа, даты, юбилеи —
Символика, условность, этикет,
Тогда зачем я сердцем холодею
От мысли: мне сегодня тридцать лет!
Но жизнь идет. В загулах и заботах
Мотыжу невеликий садик свой.
А кто-то, строгий, щелкает на счетах,
Насмешливо качая головой.
День миновал – веселый или тяжкий —
Забудется, водою утечет.
Но белые и черные костяшки
Всему ведут неумолимый счет.
Сегодня в сердце – хмурая усталость,
Назавтра – молодеческая прыть…
Что там, на счетах?
Сколько мне осталось?
Узнать бы, разрыдаться и забыть.
Ну, поместит стихи журнал,
Ну, пролистнет стихи читатель,
А ты мыл слово, как старатель,
Ты потрясти весь мир желал.
Иль удивить. Хотя б слегка,
Но все удивлены настолько,
Что от стихов не стало толку —
Непочитаема строка.
Все это понимают,
но
Прут в мир стихи, друг другу вторя.
Так в кризис жгут в печах зерно,
Так молоко сливают в море…
Я был к нему не то что равнодушен,
А, мягко выражаясь, не влюблен.
Вино, табак, литературный ужин.
Кричит поэт. Орет магнитофон.
Заветное свое стихотворенье
Пииту декламирует пиит,
Не слыша, как в предвечном озверенье
Похмельный Гамлет песенки хрипит.
Небосвод погас, вспыхнул и погас.
Снова на душе светлее.
Буду ждать тебя я в последний раз
В кипарисовой аллее.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
Шепчет нам «прощай» темная река.
Отражая звездный трепет.
Что любовь порой может быть горька,
В юности никто не верит.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
Расстаемся… В том
нашей нет вины.
Потому еще больнее.
И в последний раз солнышко луны
Светит нам в конце аллеи.
Припев:
Только прошу тебя, не плачь!
Только прошу тебя, не плачь!
Я задержу в своих ладонях твою руку.
Ты слышишь, гипсовый трубач,
Старенький гипсовый трубач
Тихо играет нашу первую разлуку.
Качнулось вправо здание вокзала.
И он сказал, взглянув на небосвод,
Где в красных тучах солнце исчезало:
«Как этот день, так наша жизнь пройдет!»
И водки мне налил.
С толпой народа
Уплыл перрон, похожий на причал.
«Закат – лишь только повод для восхода…» —
Подумал я, но, выпив, промолчал.
Наверное, археолог грядущего,
с трудом раскопав наше время,
напишет в научном отчете:
«Особенно интересна страна,
занимавшая обширные земли
Европы и Азии.
Она оставила после себя
десятки тысяч
изваяний вооруженных людей.
И можно предположить,
что это
была крайне жестокая и
очень воинственная
цивилизация…»
Вот так он напишет о нас,
о Советском Союзе,
едва уцелевшем
в нашествиях, битвах, блокадах…
Иногда я представляю себе,
как буду выглядеть на смертном одре.
Попросту говоря, в гробу.
Я стою перед зеркалом
и расслабляю мышцы лица,
смыкаю веки, оставив щелку,
растягиваю губы
в куриной улыбке мертвеца.
Для достоверности
надо бы совсем закрыть глаза,
но тогда меня не станет
в зеркале…
Свежая весенняя трава
появляется не на голой земле.
Сначала
меж прошлогодних стеблей
проткнутся зеленые шильца ростков.
Потом бурое былье
минувшего лета
переплетется с новыми побегами.
Наконец,
через неделю, другую —
прошлогодний подшерсток
совершенно скроется
в маленьких джунглях
нового разнотравья.
…На примере растений,
я объяснял дочери,
как на земле
сменяют друг друга
поколенья людей.
За сытный атлантический фуршет
Он Сахалин с Курилами отдаст.
Громыку величали мистер «Нет»,
А Козырева кличут мистер «Да-с».
Был президенту предан.
Был президентом предан.
Кто президенту верен,
Закончит так, как Ерин…
Мне чья-то запомнилась фраза:
«Россия такая страна,
Где можно при помощи газа
И муху раздуть до слона!»
В парламенте, в фондах, в правленьях
Засела…
Что скажешь о ней?
Есть женщины в русских селеньях
Гораздо умней и честней…
В раздумье и с большим трудом
Подводит он «Итоги».
Наверно, думает о том,
Как будет делать ноги…
Болтать до смерти не устанет!
Лукав, бездарен, жалок,
н о
Из-за таких
Россия станет
Размерами с его пятно…
В железных ночах Ленинграда
С суровым мандатом ЧК
Шел Киров. Ему было надо
Отправить в расход Собчака…
У сварливой супруги на помочах,
Но свободе – опора.
Демократ с лицом Ростроповича
И душой гастролера…
Знать, мы прогневили Всевышнего,
Нет продыху от стервецов.
Все Минина ждали из Нижнего
А вылез какой-то Немцов…
Я б со сраму смолк навеки —
Этот учит нас опять…
Эх, умеют все же греки
Нам арапа заправлять!
Просто было на бумаге:
Все – сексоты да ГУЛАГи…
Знай – бодай врага!
А вернулся на руины —
Лишь схватился за седины…
Зря точил рога!
Папаша в «Политиздате» орудовал.
Сын вырос – и тоже теперь при политике…
Таких называли всегда «лизоблюдами»,
Теперь их зовут – «аналитики»!
Разговор Явлинского с Чубайсом
– Расскажи, друг милый Гриша,
У тебя какая крыша?
– Много лет уж, Толя, я
Под крышей Капитолия.
Случится это поздно или рано,
Но кончится заветное кино.
И я уйду с обжитого экрана
Туда, где ни светло и ни темно.
Но жизнь мою, как будто кинопленку,
Не смоют, я надеюсь, не сотрут —
На дальнюю, заоблачную полку
Ее положит Главный Кинокрут…
И горнею пытливостью томимы —
Чтоб мир людской расчислить и понять —
Бесплотные, как пламя, серафимы
Мою судьбу решат с той полки снять.
Но созерцая дни мои и ночи,
Мой путь земной, как был он, без прикрас,
Они опустят ангельские очи
В унынии – и вдруг увидят нас.
Да, нас с тобой в том сумасшедшем мае…
И серафимы, глядя с высоты,
Пожмут крылами, недоумевая,
Зачем навзрыд от счастья плачешь ты?
Ах, фантазерки с честными глазами!
Вам гор златых не надо обещать —
Из нас, обычных, вы спешите сами
Выдумывать героев и прощать…
Химеры женские, они гранита крепче,
Надежней волноломов штормовых, —
Безжалостные будничные смерчи
И день и ночь ломаются о них!
И вдруг однажды, пошатнувшись хрупко,
Обрушится герой…
Но в том и суть:
И снова ты готова, словно шубку,
Судьбу под ноги вымыслу швырнуть!
Я в любви почему-то грустнею,
Как, бывало, грустнел от вина.
Мне б смеяться, что встретился с нею,
Ликовать, что со мною она!
Что же мне, окаянному, надо?
И к чему эта грустная речь?
Дал Всевышний любовь нам в отраду,
Не наставив, как счастье сберечь…
Растрачена святая сила,
Победный изветшал венок,
И мнится: сломлена Россия…
Но – Пушкин, Лермонтов и Блок!..
Они всегда и всюду с нами.
Хранят того, кто изнемог,
Шестью нетленными крылами
Вновь – Пушкин, Лермонтов и Блок!
Изведена страна обманом,
А нам урок опять не впрок.
Но в мире этом окаянном
Есть Пушкин, Лермонтов и Блок!
И в час, когда бессильно слово,
За честь свою спускать курок
Учили и научат снова
Нас Пушкин, Лермонтов и Блок.
Считает серебро Иуда,
Но мелким бесам невдомек:
Россию не сломить, покуда
Есть Пушкин, Лермонтов и Блок!
Рене Гера
Бедный Дельвиг умер, затравленный:
Бенкендорф Сибирь посулил.
Бедный Горький умер, отравленный:
Сам Ягода яду подлил.
Слезы жертв до сих пор не высохли.
И теперь, кого ни спроси:
При царях ли, при коммунистах ли
Хорошо не жилось на Руси.
Как и вы, ненавижу цепи я.
Но нельзя жить, отцов кляня!
То, что вы называли «Совдепия»,
Это Родина для меня…
Назло международным пидарасам
Обдумывая новую главу,
Я отпускным, неторопливым брассом
Вдоль берега турецкого плыву.
И размышляю: «Зря смеетесь, гады!
Еще не кончен вековечный спор.
Еще мы доберемся до Царьграда
И вычерпаем шапками Босфор!
Ночью снова думал о России!
Как тысячелетнее дитя,
Развели державу, раструсили,
Погремушкой гласности прельстя!
Бал у нас теперь свобода правит.
И закон начальству не указ!
Если надо, разбомбим парламент.
Если можно, усмирим Кавказ.
Депутаты – в розницу и оптом.
Был генсек, теперь дуумвират.
Почему мы разбиваем лоб там,
Где другие на своем стоят.
Отчего – то вправо мы, то влево,
То до основанья, то с нуля.
Вот у англичан есть королева.
Может, нам царя иль короля?
Он от слез удержится едва ли,
Оглядев развалины Руси.
Боже правый, все разворовали!
Хоть святых последних выноси!
Вместо субмарин – буржуев яхты.
Вместо танков – «меринов» стада.
Где рекорды, доблестные вахты?
Где герои честного труда?
Где самоотвержцы, что готовы,
Русь храня, остаться неглиже?
Где наш Минин? Вместо Третьякова
Вексельберг с яйцом от Фаберже!
Для того ль на Прохоровском поле
Плавилась броня и дым чадил,
Чтоб теперь на Куршавельской воле
Прохоров с девчонками чудил?
Как же ты, страна, такою стала?
Где стихи? Кругом один центон!
Всюду вышибалы да менялы
Да зубастый офисный планктон.
По фигу и город, и село нам.
Космос до звезды. Но там и тут.
От Рублевки и до Барселоны
Замки новорусские растут.
Олигархам что мои просторы?
Жить в России им не по нутру.
Для таких Отечество – офшоры.
Дети в Итон ходят поутру.
Им плевать, что кончатся однажды
Нефть и газ. Что дальше? Кто смекал?
Будем усыхающим от жажды
По трубопроводу гнать Байкал?
Вся страна давно пошла на вынос.
А Сибирь сбегает за Урал.
За стеной кремлевской верят в бизнес.
Я не верю – черт его побрал!
Закладные, взятки и откаты.
Из ментовки не уйти живым.
Тройка-Русь, остановись, куда ты?
Там уже не ездят гужевым!
Прет Китай, как из бадьи опара.
Где на вызов времени ответ?
Акромя позора и пиара,
Ничего за целых двадцать лет!
Нет, не маслом – кровушкой картина:
Лес горит и тонет теплоход,
Рухнул дом, и треснула плотина,
И опять разбился самолет.
Сорняки на плодоносных пашнях,
Вдоль шоссе продажные «герлы́».
Кто мы? Где мы? На кремлевских башнях
Вперемежку звезды и орлы.
И живем мы без идеологий,
Чтобы не задуривать башку,
Верим только нанотехнологий
Маленькому шустрому божку.
Видим только, сердцем индевея,
Как теснит подсолнушки попкорн,
Как национальная идея
Хохмачам досталась на прокорм.
Как экран чернухой забесили.
Как лютуют Эрнст и кич его.
До утра я думал о России…
Так и не придумал ничего.
* * *
Мелькнула женщина за одичавшей сливой,
Плакучей флейты смолк последний стон.
Туман над озером горчит, как дым пожара.
Грустна любовь в эпоху перемен…
* * *
Смотрю в окно на теплый майский ливень
И вспоминаю женщину под душем,
И водопад в ложбинке меж грудей.
И слезы лью, холодные, как осень.
* * *
Я руку поднял, но опять такси
Промчалось, окатив водой из лужи
И подмигнув зеленым дерзким глазом.
Прошедших женщин почему-то вспомнил…
* * *
Я слушал песню горлицы в саду.
Но стоны оборвав, она вспорхнула
И унеслась, оставив мне на память
Литую каплю теплого гуано.
Ах, бабы, бабы, все вы таковы!
* * *
Сначала ты смеялась, а потом
Стонала счастливо,
Потом ты замолчала,
Заплакала. И наконец, ушла.
* * *
Смешная девочка боится темноты.
Нагая девушка – стеснительного света.
Увядшая жена – что муж уйдет.
Старуха – что не хватит на лекарства.
* * *
Лежу, не сплю и вспоминаю детство.
Живой отец ведет меня к реке
Учиться плавать. Я боюсь и плачу.
О память, золотая тень от жизни!
* * *
За полчаса из города Тиньдзяня
Домчались мы до города Пекина.
Пешком бы шли без малого неделю.
Как долго люди жили в старину!
* * *
Мудрец сказал, что люди на том свете
О смысле жизни спорят и, поладив,
Вернутся в мир.
Не ждите, не вернутся…
* * *
Как бабочки выпрастывают крылья
Из коконов, так зелень прет из почек.
А я смотрю и вижу, как последний
Пожухлый лист кружится с ветки наземь…
* * *
О нет, не может клоун суетливый
С лиловой нарисованной улыбкой
Работать укротителем медведя!
И выключил я глупый телевизор,
Где снова угрожал Москве Обама.
* * *
Любил смотреть, как раздевалась ты,
Снимая платье и белье из шелка.
Лежал и верил, что когда-нибудь
Ты снимешь тело, душу обнажая…
* * *
Есть ли загробная жизнь,
Не так уж и важно, пожалуй…
Есть ли загробная память?
Это вопрос так вопрос!
* * *
Тот самый врач, который мне поставил
Смертельный, но неправильный диагноз,
Сам вскоре занемог, и понимая,
Что безнадежен, спрыгнул в одночасье
С верхушки роковой Каширской башни.
К чему я это вспомнил? Ни к чему…
* * *
Все чаще я бессонно сокрушаюсь,
Что мог бы век прожить совсем иначе —
Умнее, бережливее, точнее —
И выучить английский в совершенстве.
Был в юности поэт. Теперь – бухгалтер…
* * *
Я раньше вспоминал тех добрых женщин,
Которых знал в горячке сладострастья.
Теперь я вспоминаю тех гордячек,
Которые, смеясь, меня отвергли…
Затейлив подступающий склероз!
* * *
С каждым апрелем все больше
Юных, чарующих женщин
Ходит по улицам нашим
Радуя глаз пожилой…
Как ты, природа, мила
В строгом своем обновленье…
* * *
Никакой остроносый «Конкорд»,
Никакой звездолет светоскорый
Не умчит так далеко отсюда,
Как сколоченный наскоро гроб…
* * *
Плавая в море, завидуем рыбам.
Мчась в поднебесье, завидуем птицам.
Нам не завидуют птицы и рыбы.
Кто позавидовал, стал человеком…
* * *
Во сне плутаю, как в дремучей чаще.
Не понимая, кто я, где и с кем.
А просыпаюсь – исчезаю в жизни,
Которая дремучей снов моих.
Еще ты спишь, рассыпав косы,
Любимая…
Но мне пора!
Я выхожу в открытый космос
Из крупноблочного двора
И улыбаюсь сквозь зевоту
Всему, чего коснется взгляд:
Вокруг меня компатриоты,
Подобно спутникам, летят,
С часами суету сверяя,
Гремя газетой на ветру,
Докуривая и ныряя,
В метро, как в черную дыру.
Тоннель из тьмы и света соткан.
Но к солнцу лестница плывет.
Растет уступами высотка,
Напоминая космолет.
Строку задуманную скомкав,
Я застываю впопыхах,
На миг влюбляюсь в незнакомку
С печалью звездною в очах.
И вновь спешу, прохожий парень,
Мечту небесную тая.
Я твой неведомый Гагарин,
Москва, Вселенная моя!
Поэт бронзового века
Интересное это дело – при жизни литератора писать о нем, как поэте, так сказать, завершившем свой поэтический путь, но успешно, и даже я бы сказала – сверхуспешно! – продолжившем путь литературный – в прозе, драматургии, публицистике.
В принципе в литературе это явление нередкое. Однако гораздо чаще встречается два других случая – лирический поэт и прозаик сосуществуют в одном лице всю жизнь, как Бунин и Набоков, либо – прозаик, добившись успеха на новой ниве, напрочь отказывается от себя-поэта, «сжигает» в прямом и переносном смысле свои стихи, как это сделал, например, Леонид Леонов.
Юрия Полякова в этом контексте я бы соотнесла с Мариэттой Шагинян, которая начинала как заметный символистский поэт, была признана в этом сообществе, издала в начале XX века две поэтических книги, одна из которых – «Orientalia» (1913) – выдержала 7 переизданий. В дальнейшем Шагинян стала широко известным советским прозаиком, литературоведом, публицистом, но от поэтического своего начала при этом никогда не отказывалась. Так, в первый том прижизненного девятитомника («Художественная литература», 1971) она включила свои стихи 1906–1921 года, предпослав им автобиографическое вступление «Писатель о себе».
Юрий Поляков тоже публикует в первом томе своих собраний сочинений стихи из первых четырех книг, изданных в 80-е годы прошлого века, сопровождая публикацию веселым и остроумным очерком «Как я был поэтом», тем самым значительно облегчив работу исследователя этого начального периода своего творчества.
Итак, сначала цитата: «Человека, который хоть недолго был поэтом, я узнаю с первого взгляда. И не важно, кем он стал после своей поэтической кончины – журналистом, прозаиком, политиком, инженером, бизнесменом, генералом, бомжем… Как заметил, кажется, Флобер: на дне души самого жалкого бухгалтера лежат обломки великого поэта. А все дело в том, что поэт – счастливый невольник слова. Он и в быту разговаривает совсем не так, как другие, – не просто обменивается информацией, а наслаждается, упивается рождением внезапного словесного смысла… Он кожей чувствует, что иной раз крошечный промежуток между словами значит куда больше, нежели сами слова. Для него слово – это живая белка на великом древе, соединяющем землю и небеса. Для большинства же слово – это просто шапка, пошитая из мертвых беличьих шкурок…» Так Ю. Поляков начинает рассказ о том времени, когда он писал стихи, начинал печататься, «был поэтом». И сразу задает ориентиры пространства, в котором, по его мнению, заключены сами понятия «поэт» и «поэзия». Сравнение поэтического слова с живым существом, соединяющем землю с небом, не случайно. Особенно актуально это звучит сегодня, когда шапками «из мертвых беличьих шкурок» заполнены не только толстые литературные журналы и самодельные сборники стихов, но и обширные пространства его величества Интернета.
В конце 70-х – начале 80-х годов начинающему стихотворцу было, с одной стороны, проще – количество пишущих и желающих напечататься было столь же велико, как и ныне, но разница между участниками различных литобъединений и семинаров, руководимых известными поэтами, такими, скажем, как Б. Слуцкий, А. Жигулин, В. Соколов, А. Межиров, Ю. Левитанский, Е. Храмов, И. Волгин, и самодеятельными стихотворцами (сегодняшними участниками «стихиры») – была значительной. Примерно как между выпускником музыкальной школы и самостоятельно научившимся бренчать на фортепиано. Но, с другой стороны, молодым в те времена было много сложнее, чем сегодня: чисто профессиональные критерии отбора стихов для публикации были строже нынешних (я здесь намеренно не говорю об идеологической составляющей). Но если уж ты достиг некоего стихотворческого уровня, если был замечен и одобрен старшими поэтами, то перед тобой открывался не скажу чтобы ровный, но достаточно определенный путь – к первой книге, затем – ко второй. Далее уже все зависело от тебя лично – от способности к развитию своего природного дарования, от простой работоспособности, от умения переплавить автобиографическое в личностное, единичное – в характерное.
Именно эту способность молодого поэта к саморазвитию определил в напутственном слове к первой публикации, а затем – и к первой книге Юрия Полякова его «старший собрат по перу» (как он сам себя назвал) Владимир Соколов.
«Ю. Поляков, когда появилась его первая основательная публикация, окончил институт и уходил в ряды Советской Армии. За это время обострилось чувство любви, природы, дружбы. Особенно глубоко осозналось, как это всегда бывает в первой молодости, единственность всего, что тебе дается в жизни:
Конечно, счастье – это тоже тяжесть.
И потому чуть сгорбленный стою.
Не умер бы я, с ней не повстречавшись,
И жизнь бы прожил. Только не свою!
Но ведь если поэт хочет прожить «только свою» жизнь, он не только намерен, но и обязан быть самобытным», – завершает мэтр свой комментарий, деликатно не замечая ассоциативной переклички процитированного четверостишия со своими широко известными стихами 1976 года:
Это страшно – всю жизнь ускользать,
Уходить, убегать от ответа.
Быть единственным – а написать
Совершенно другого поэта.
Собственно говоря, в этом и состояла суть ученичества в те баснословные года. Любимого поэта надо было пристально читать, знать наизусть и, сближаясь с ним на минимальное расстояние, одновременно отталкиваться от него. Так Есенин учился у Блока и Клюева, а акмеисты – у Иннокентия Анненского. Это все же иной тип ученичества, чем простое подражание стилю того, кто тебе дорог в литературном пространстве. Может быть, поэтому среди тщательных учеников Бродского нет ни одного самобытного поэта, зато среди его ранних «учителей» такой есть – Евгений Рейн, и это свидетельствует о том, что сам нобелевский лауреат был учеником, избравшим с первых шагов путь не подражания, а самобытности.
Я думаю, Юрий Поляков не случайно оказался в ареале Владимира Соколова, поэта по преимуществу городского, даже можно сказать, «московского», и при этом, может быть, самого тонкого и достоверного из поэтов России.
Соколов появился на свет в Лихославле Тверской области, но в ранние годы переехал на московское жительство и полюбил, и воспел наш город, как никто другой. Он высмотрел в нем такие милые подробности старины, так искренне полюбил все ее «украшенья и увечья», «таинственную глубину» московских двориков, «бочком» выползающие из переулка трамваи, аллеи «в белом трауре зимы», все эти Таганки и Ордынки, Лихоборы и Маросейки. Не отринул при этом и урбанистические ее пейзажи, «кружевную сталь» портальных кранов, «белоснежные башни» новостроек – «большой строительный каркас зимы».
Юрий Поляков родился на Маросейке, это его «малая родина». Жил в коммуналке, в заводском общежитии. Он человек городского быта, городского взгляда на вещи. Москва для него – не как для большинства из нас, появившихся на свет в провинции, вожделенный город «сбывания» детской мечты и юношеской фантазии. Его Москва – многомерная, многоплановая. Подобно Владимиру Соколову, он видит ее сразу во всех временах, и во всех – приемлет.
Я ищу девятнадцатый век
В подворотнях,
Как неярким апрелем припрятанный снег
От лучей посторонних.
Старый дом. В нем уже не зажжется окно:
Новоселье – поминки…
Мне шагать через век – от Бородино
До Ходынки.
Есть в модерне какой-то предсмертный надлом…
Переулки кривые.
Революция за поворотом. Потом
Сороковые.
Где-то рядом автомобили трубят
И дрожит мостовая.
Мне в глаза ударяет высокий Арбат.
Я глаза закрываю.
Поляков, может быть, самый московский поэт своего поколения.
Сегодня редко мыслят «поколениями», скорее – противоборствующими «школами». Как говорится, «распалась связь времен», и победивший индивидуализм вытеснил из обихода на обочину этот пресловутый возрастной водораздел, оставив, как плеяду, – лишь поэтов «военного поколения» да знаменитых «шестидесятников».
Хотя, честно говоря, и со «школами» все не просто; тот же Соколов сказал когда-то, как отрезал:
Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод и жар.
Вот и я думаю, что, по большому счету, в русской поэзии «школ» нет, а поколения – есть. Взять хотя бы, к примеру, такое отличие, как музыкальные предпочтения одного и того же возраста в разные времена, или же – модные веянья, одномоментные книжные открытия, теперь вот – компьютерные игры и гаджеты. Те, кто в 18 лет дурел от «The Beatles», вряд ли понимают, почему спустя всего четверть века люди того же возраста сходят с ума от реперов.
Есть общность людей одного возраста и в жизни, и в литературном процессе – конечно, когда сам «литературный процесс» не размыт профессионально, не смешан в болтушке времени, как неудобоваримый коктейль высокого умения с отчаянным дилетантством.
Литературные сверстники Юрия Полякова возникли на авансцене в середине 70-х и к началу 80-х уже оформились в поколение; именно тогда у большинства из них вышли первые книги: Геннадий Красников (1981), Андрей Чернов (1980), Игорь Селезнев (1981), Владимир Салимон (1981), Марина Кудимова (1982), Михаил Поздняев (1984), Олеся Николаева (1980); можно назвать еще несколько имен, может быть, ныне менее убедительных. А также добавить к списку – моих ровесников Татьяну Бек, Евгения Блажеевского, Петра Кошеля, Владимира Урусова, Александра Щуплова, бывших всего на 3–4 года старше тех, кто родился в начале пятидесятых.
Самыми ранними и успешными в этой генерации считались дебюты Олега Хлебникова (1975) и Николая Дмитриева (1975).
В предисловии к уже посмертной книге последнего Ю. Поляков написал: «Николай Дмитриев был и остается самым значительным открытием моего поэтического поколения… Прошло без малого 30 лет, а во мне до сих пор живет светлая, почти счастливая оторопь от первого прочтения стихов Николая Дмитриева. Я вдруг понял, что столкнулся с одним из тех редких случаев (известных мне в основном по классике), когда слова не сбиваются в стихи усилием филологической воли, а таинственным образом превращаются в поэзию, как вода – в вино…»
Сегодня без перечисленных выше поэтов трудно представить любую честную хрестоматию конца XX – начала XXI века. Но «хрестоматийность» Николая Дмитриева была очевидна уже при его вхождении в литературу, не случайно многие его стихи наперебой цитировали в критических статьях, взять вот хотя бы это:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, но все же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны.
Летела пуля, знала дело,
Летела тридцать лет подряд
Вот в этот день, вот в это тело,
Вот в это солнце, в этот сад.
С отцом я вместе выполз, выжил,
А то в каких бы жил мирах,
Когда бы батьку снайпер выждал
В чехословацких клеверах.
Характерно, что опыт родителей, участвовавших или не участвовавших в Великой Отечественной, но ставших ее трагическими современниками, так или иначе тревожил многих в поколении Ю. Полякова. И это закономерно: всего десять или меньше лет отделяло дни их рождения от событий, перекроивших и потрясших весь мир. Воистину не было в отечестве нашем семьи, которую так или иначе не задело бы это античной выделки время. И в пятидесятые оно еще не стало историей – все было слишком горячо и болезненно.
Поэтому перекличка поэтов в желании сказать свое слово, примерить опыт старших на свою жизнь была естественной. «Без вас будет пусто на свете…» – писал Геннадий Красников, обращаясь к фронтовикам, и пафос этого стихотворения понятен нам и теперь, когда истончилась до совсем малых величин жизнь военного поколения. Юрий Поляков нащупал в те времена другую интонацию: «Конечно, мы смотрим глазами другими / На вашу большую войну…», и тут же в свойственной ему парадоксальной манере добавил: «Конечно, мы смотрим другими глазами. / Такими же, полными слез!» И в этом тоже была не преувеличенная правда уже отчасти романтизированного послевоенного времени. В другом стихотворении ощущение уходящей в историю эпохи выражено пафосом уже иной выделки:
Порой война теряется из вида:
Уже комдивы – нефронтовики.
И все ж у мира, как у инвалида,
Болит ладонь потерянной руки.
Этой сильной метафоре из первого сборника Юрия Полякова, вышедшего в 1980 году, могли бы позавидовать и старшие поэты. Молодогвардейская книжка «Время прибытия», изданная в серии «Молодые голоса», была тоненькой, всего 30 страниц, но при этом вышла она тиражом 30 000 экземпляров. Поистине фантастические цифры для любого сегодняшнего стихотворца. Но так выходили практически все книги этой серии!
Владимир Соколов свое предисловие к стихам Полякова завершил на подъеме:
«Размышляя о поэзии молодых, я думаю, сколько в ней свежести чувств, как они хоть и не всегда, да умеют, как представляемый мною поэт, естественно сочетать живое движение природы и живое движение души: «Наши тела, порывы, помыслы и слова – все быть должно красиво, как дерева…» Стихи Ю. Полякова отличаются остротой поэтической мысли, стремлением взглянуть на привычное по-новому; я думаю, что они вызовут интерес у широкого читателя».
И Соколов не ошибся. Будучи всего на полпоколения старше Полякова, я не раз оказывалась вместе с ним в литературных поездках и на больших поэтических вечерах, где наряду с маститыми и знаменитыми часто выступали и молодые поэты.
Так вот свидетельствую: выступления юного Юрия Полякова действительно «вызывали интерес». Сейчас, через сорок лет перечитывая его первую книгу, вижу, что в ней есть стихи, которые не только не потускнели с годами, но и укрупнились, обрели во времени какую-то новую ауру. Вот, скажем, восемь строк, озаглавленных просто – «Перед прощанием»:
Сначала я забуду звуки голоса,
Ее привычку теребить кольцо,
Потом глаза, походку, руки, волосы,
Улыбку, всю ее, в конце концов.
Лишь силуэт, почти что невещественный,
Останется, реальностью тесним,
И с той минуты никакая женщина
Не сможет никогда сравниться с ним!
На мой взгляд, эта лирическая миниатюра, имеющая в анамнезе без сомнения и пушкинское «Я вас любил, любовь еще, быть может…», достойна любой антологии любовной лирики. Здесь так же благородно, благодарно и возвышенно написано о разрыве, о прощании двух существ, любивших друг друга, но почему-то навсегда расставшихся. Такие стихи можно написать только в молодости, в неутраченной свежести и яркости всех ощущений жизни.
И вместе с тем в восьми строчках – лирическая повесть о первой любви, о драгоценных ее ощущениях, сохраняющихся, как правило, на целую жизнь. Если вдуматься, поймешь, что уже на этом этапе Юрий Поляков мог сменить жанровую ориентацию. Но не сменил, хотя пространство стихотворения ему порой было маловато.
Старичок бредет по новой улице
(Все дома равны, как на подбор),
Под ноги глядит себе – любуется:
Старый парк, особняки, собор.
Следом я иду,
сосредоточенно
Думая про ту, что всех милей.
Замечаю: домик скособоченный,
Несколько старинных тополей.
А за нами – мальчуган,
уверенно
Едущий на папе в детский сад,
Видит, как шумит большое дерево,
Срубленное год тому назад.
Стихотворение называется весьма необычно – «Из истории московских улиц». Несмотря на то, что оно целиком держится на присущей стихам лирической антитезе, здесь также угадывается большее, чем история города, это скорее рассказ о жизни, которая в каждом возрасте воспринимается человеком по-разному. И в ряде других стихотворений первой книги Полякова сквозь увеличительное стекло времени я вижу это неистребимое свойство прозы – описательную рефлексию с опорой на меткие детали и подробности. И тягу к психологическому анализу – в придачу.
Давно кем-то в простоте замечено, что поэзия это то, что нельзя пересказать прозой. В теоретической работе Николая Гумилева «Анатомия стихотворения» есть тот же посыл. Говоря о законах, по которым слова влияют на наше сознание, Гумилев говорит: «Поэтом является тот, кто учтет все законы, управляющие комплексом взятых им слов. Учитывающий только часть этих законов будет художником-прозаиком, а не учитывающий ничего, кроме идейного содержания слов и их сочетаний, будет литератором, творцом деловой прозы».
Так вот, самое время сказать, что Юрий Поляков, на мой взгляд, родился поэтом. Поэтическое мироощущение вкупе с другими составляющими «законов поэзии» были свойственны ему имманентно. Это в самом начале увидел и многоопытный Вадим Сикорский, в чьем семинаре занимался Юрий, и тот же Владимир Соколов. И Римма Казакова, и Константин Ваншенкин, писавшие впоследствии о стихах младшего коллеги.
В те времена, на которые приходятся первые публикации Полякова, версификационный уровень начинающих в целом был ниже нынешнего. И на этом общем фоне его стихи выделялись законченностью мысли, стремлением к классической завершенности лирического сюжета, для которой в русской поэзии характерны поэтические обобщения, формулы, содержащие квинтэссенцию мысли и по форме близкие к афоризму. Этим умением высекать из лирического стихотворения искры внезапно открывающихся смыслов обладали лучшие из лучших профессионалов поэтического пера старшего – военного поколения, к стихам которого особенно присматривался молодой Юрий Поляков. Межиров и Винокуров, Гудзенко и Луконин, Наровчатов и Михаил Львов… Они не были прямыми учителями, но книги их, прочитанные не наспех, становились своего рода учебниками. И уроки старших пошли юноше впрок. Вот, к примеру, еще одно стихотворение из первой книги:
Была разлука из неодолимых,
Когда в былое верится едва.
Но я нежданно в письмах торопливых
Вдруг для своей любви нашел слова.
Рукой заледенелой на привале
Царапал: «Здравствуй…» и валился спать,
Но там, где слезы раньше подступали,
Слова вдруг научились проступать.
Все здесь – и неточная первая пара рифм, и сведенное в одном предложении «нежданно» и «вдруг» – выдает начинающего стихотворца, но последние две строки – уже говорят о приближении автора к художественной зрелости, его готовности состязаться с мастерами на поэтическом турнире, каковым и является литературный процесс. Примеров такого рода в ранних стихах Ю. Полякова достаточно много. «Чужая жизнь! Какая суета! / Как скроено и сшито неумело! / А жизнь моя, она не прожита / И потому логична до предела», «Простое платье и лицо простое, / Цвет беглых глаз как будто голубой. / Она нехороша. / Некрасотою / Всех женщин с несложившейся судьбой»… Склонность к афористичности сохранится и в более поздних стихотворениях поэта, более того, видоизменившись, преодолев лирическую романтичность и вобрав в себя долю иронии или сарказма, она станет приметой и поляковской прозы. Не случайно впоследствии из таких емко сформулированных мыслей и замечаний возникнет книга «афоризмов» Юрия Полякова. Но не будем забывать: родоначальником этого прозаического «жанра» были все же стихи.
На большой, разнообразной карте русской поэзии довольно четко прослеживаются три художественных пути – три ветви одного поэтического древа.
Первая – это стихи, сильно и прочно связанные с биографией автора, можно сказать, прямо вытекающие из нее. Вслед за универсальными Пушкиным и Лермонтовым (совместившими в себе все направления) эту личностно-биографическую ветвь плодотворно выращивали Некрасов, Есенин, Маяковский, отчасти Ахматова и Блок. Их творчество коррелирует с их биографиями довольно четко. Яснее всего об этом сказано у Сергея Есенина. Пунктиром прочертив основные вехи своей жизни, он подытожил: «Что касается остальных автобиографических сведений, – они в моих стихах».
Вторая ветвь, напротив, удалена от личной жизни художника настолько, что по ней вряд ли можно реконструировать биографию или восстановить жизненный путь человека, это поэзия, отстраненная от внешних событий и катаклизмов биографии, как бы пренебрегающая ими. Таков, скажем, Хлебников, Бальмонт, Саша Черный, Гумилев, Игорь Северянин, ну и, как апофеоз, – Черубина де Габриак с придуманной для нее «биографией».
Однако чаще всего русские лирики стихийно избирают третий путь, как бы камуфлируя, тщательно запрятывая в стихи факты своей жизни и вынося наружу скорее свои переживания и тайные мысли по поводу этих фактов, свои «пережевывания» их – и вовсе не потому, что эта фактология приятна или нелицеприятна, а потому, что такова природа таланта этих поэтов – уметь сказать главное, говоря «вокруг да около». Их биографам достается трудная работа – по крупицам выискивать в стихах намеки на то или иное жизненное обстоятельство, угадывать в них события, имевшие место быть в тот или иной период жизни поэта, связывать текст и контекст эпохи. Таковы Цветаева, Волошин, Мандельштам, Пастернак, Тарковский, Мария Петровых.
Военное поколение поэтов, на которое, как я уже заметила, внутренне ориентировался Юрий Поляков, не могло уйти от своей биографии далеко.
И хотя Межиров однажды задиристо провозгласил:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне,
а Самойлов, Левитанский, Панченко, Окуджава, Ваншенкин и другие представители яркой плеяды подхватили этот мотив, в конце концов сошлись на том, что все они писали о жизни, «о жизни, не делимой на мир и войну».
От своей биографии никуда не могли деться и значительные поэты, лично испытавшие «обиды века» – раскулачивание семьи, высылку родных, лагерный ад – или как-то соприкоснувшиеся с этим – это Твардовский в своей поздней лирике, Жигулин, Шаламов, Чичибабин.
Я уже не говорю об опыте «шестидесятников», на глазах у публики выстраивавших поэтическую биографию в тесном переплетении с личной биографией…
Таков был общий контекст живого литературного процесса, открывшегося перед Юрием Поляковым в момент его вхождения в литературу. Так что, если говорить об эйдологии молодого поэта, можно смело очертить круг тем, крепко связанных с фактами личной жизни и биографии советского юноши, окончившего школу, пединститут и отслужившего в Армии. Стихи Полякова о его службе в Армии появляются уже в первой книге, а во второй, названной, на мой взгляд, несколько простовато – «Разговор с другом», они весьма естественно составляют часть книги. Каких-то особенных взлетов и открытий от армейских стихов в мирное время ждать не приходится, тем более мы знаем, что в сознании поэта Полякова уже зрела его армейская проза «Сто дней до приказа», где искренность его отношения к той действительности, в которую он оказался погружен на время службы, перевешивала культ ее романтического восприятия. Но несколько стихотворений армейского цикла все же стоит отметить, как пережившие время. Среди них – уже процитированные выше «Слова», «Возвращение», «Из дневника рядового».
В эссе «Как я был поэтом» Юрий Поляков вспоминает: «Я отлично помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Кстати, я уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного образованца недугом – насмешливой неприязнью к своей стране. Это был непременный атрибут тогдашнего интеллектуала, вроде нынешней серьги в ухе гея. После института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы «сразу подобреть душой»:
Душой понять однажды утром сизым,
Что пишут слово Родина с большой
Не по орфографическим капризам…»
В концовке Поляков вывел литую формулу того, зачем мужчине должно пройти этот путь. В наши дни, говоря о патриотической линии в творчестве того или иного поэта, часто ставят в «поперечный» пример как бы сомневающееся в ценности «патриотизма» лермонтовское стихотворение: «Люблю Отчизну я, но странною любовью…» Меж тем именно эти стихи убедительнее всего свидетельствуют о том, что любовь к Отчизне изначально, природно присуща поэту, ее не победит ни «слава, купленная кровью», не усилят, но и не уменьшат «темной старины заветные преданья». Люблю – «за что, не знаю сам» – вот кредо поэта. Можно сомневаться в эффективности власти, государства, парламента, участкового милиционера, но не любить за это «родину» – значит быть калекой.
В 1981 году в издательстве «Современник» вышла в свет вторая книга Юрия Полякова. Разговор о второй книге любого поэта всегда труден. Очень часто вторая книга по сравнению с дебютной – провальна, как минимум – слабее первой. Этому даже есть объяснение. Если первая – опыт всей предшествующей ей жизни человека, всех его смятений, «душевных мук», поисков и открытий молодости, то во второй, как правило, недалеко отстоящей по времени от первой, виден плод чисто литературных усилий или повторений, сказанного поэтом ранее. Юрий Поляков – не исключение. И если бы не лучшие стихи из первой книги, можно было бы говорить о растерянности поэта после раннего дебюта. Отмеченная Владимиром Соколовым «свежесть чувств» как-то незаметно подсыхает, искренность поэтического волнения – сменяется констатацией, вроде «спасибо жизнь, за то, что ты добра», или «а игры тем и хороши, что жизнь в них познается».
Однако и во второй книге поэта по-прежнему живы и волнующи стихи о любви, которых у молодого Ю. Полякова, надо сказать, немало.
«Происхождение отдельных стихотворений таинственно схоже с происхождением живых организмов. Душа поэта получает толчок из внешнего мира, иногда в незабываемо-яркий миг, иногда смутно, как зачатье во сне, и долго приходится вынашивать зародыш будущего творения, прислушиваясь к робким движениям все еще неокрепшей жизни» – эти слова Николая Гумилева уже из другой его теоретической работы, «Жизнь стиха», как нельзя лучше описывают рождение любовной лирики.
Толчок из внешнего мира, связанный с любовным очарованием и разочарованием, испытывал на белом свете почти каждый. Но переживания, которые частный человек обычно скрывает, поэт ставит во главу угла, если, конечно, он искренен, безогляден в своем творчестве и не боится обычной тривиальности жизни. Если способен чувствовать так, как сказано в поляковской метафоре: «Полюбить, словно высунуть голову / Из окошка летящего поезда…»
Третью свою книгу Юрий Поляков так и назвал – «История любви», и вышла она в издательстве «Современник» в 1985 году, когда поэту едва исполнилось тридцать. История – вообще-то наука описательная, она ищет логику там, где прежде событиями командовали неподвластные уму чувства, острые ощущения или стоящие за этим роковые обстоятельства. С возрастом – острое убывает. Грустное стихотворение «Первая любовь» – как раз об этом.
Ее, наверно, можно миновать.
Влюбившись сразу
вдумчиво и зрело,
И навсегда утратить благодать
К ней возвращаться —
к первой, неумелой,
Загадочной, застенчивой, слепой,
Чтоб, испытав,
как счастье убывает,
И вспомнив удалое «Есть любовь»,
По-взрослому поправиться: «Бывает».
В стихотворении «Зрелость», открывающем книгу, есть и более смелое признание:
Когда, не раз душой поранясь,
Поймешь:
помимо наших воль
Любовь приносит боль и радость,
Но чаще – почему-то —
боль!
Боль, как двигатель внутреннего сгорания, придающий ускорение жизни, часто лежит и в основе творчества. И, понимая это, мятежный лирический герой (мы не забыли еще этот тыняновский эвфемизм лирического «я» поэта?!) начинает искать в жизни «бурю», надеяться на нее, ждать ее!
Дождик моет старинные камни,
По беседке гуляет сквозняк
Стань поближе ко мне. Ты близка мне
Невозможно и вымолвить – как!
В черных лужах вода пузырится,
Воздух пахнет промокшей сосной.
Я-то думал, что не повторится
Никогда это чудо со мной.
В другом стихотворении поэт размышляет уже не о чуде надежды, а о горечи убывания любви, о том, что остается на ее пепелище:
Остается смятая кровать,
Пахнущая нежным
смуглым телом,
Остается право ревновать
И возможность заниматься делом.
Остаются шпильки на полу,
Странный взгляд,
на прежний непохожий,
И совет «не ворошить золу»,
И последний поцелуй в прихожей…
А позже появляется и робкая вера в то, что должны появиться слова «возвращающие любовь», что пройдет желание разбираться в причинах разрыва: «пусть остается тайной, почему / Мы, полюбив, однажды разлюбили»… Одним словом, сначала переживается, а затем и пишется подлинная «история любви». Финал ее часто – предсказуемый:
В доме пахнет безлюдьем,
Хоть все лампы горят.
Мы с тобою не будем
Разбираться, кто прав,
виноват.
Багровея от пыла,
Выяснять, чья правей правота.
Это все уже – было,
Дипломатия и прямота.
И уходы с возвратом,
И прощенье с улыбкой змеи…
Это страшно, как атом —
Расщепленье семьи.
Или вот еще один вариант завершения любовной истории, записанной на скрижалях отдельной человеческой жизни и обеспеченной «личным опытом» все того же «лирического героя»:
…И вот, смиряя гордый нрав,
В сердцах – не напоказ —
Я говорю:
– Прости меня,
Прости в последний раз!..
И ты с усмешкой на устах
Простишь меня опять.
Одна любовь умеет так
Бессмысленно прощать…
Необыкновенно весомо здесь слово «бессмысленно». В одном определении – целая повесть. Впрочем, емкость поэтического слова всегда изумляет. Пишущие стихи это знают, те, кто любят настоящую поэзию – тоже.
Читая именно любовную лирику Полякова, я из нынешнего своего далека явственно вижу, как менялась не столько лексика и музыка, сколько энергетика его стихотворений. Для меня совершенно ясно, что он сам первый ощутил это состояние – «охлаждение возраста», убывание поэтического восторга перед жизнью, невозможность возврата в прошлое. Поэзия Юрия Полякова никогда не была «глуповатой» (по Пушкину), но непосредственной (а именно это, я думаю, имел в виду классик) – была. И даже малая толика утраченного должна была насторожить поэта. И, видимо, настораживала.
Отчетливо помню, как все мы, пишущие в те годы, воспринимали провокативно-притягательные строки Межирова: «До тридцати поэтом быть – почетно, и срам кромешный – после тридцати!»
Четвертая книга Полякова «Личный опыт» («Советский писатель», 1987) появилась как раз «после тридцати». И вот что удивительно – в ней рядом со старыми, что называется, «апробированными временем» стихотворениями впервые появились стихи без рифм, без внешних признаков традиционного русского стиха. Это сегодня верлибры пишет каждый второй, а тогда в России адептов свободного стиха было – раз-два и обчелся! И обращение «традиционалиста» Полякова к верлибру я понимаю именно как его настороженность – ввиду исчезающей внутри поэта музыки, мятущейся энергетики ритма, понимаю – как неуверенный поиск новой опоры в творчестве.
В то время Юрием Поляковым уже были написаны первые повести, вскоре принесшие ему оглушительный успех. Но и стихи были еще рядом, совсем близко. Вот такие:
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это из романса.
Теперь так не говорят,
теперь скажут: «Инфаркт!» —
и, уж конечно, не по причине любви.
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это метафора.
Но почему же тогда,
возвращаясь домой
после нашей последней встречи,
я слышал,
я чувствовал,
как слева в груди
дробно и жалобно
стучат друг о друга осколки?
«Разбилось лишь сердце мое…» —
это из романса.
В верлибрах Юрия Полякова уже отчетливо проглядывает ирония. Они бестрепетны и холодны, глаз автора подобен скальпелю опытного хирурга, точно знающего место боли. И если в прежних стихах поэт был страдающим лицом, в крайнем случае – соучастником событийного ряда, сострадателем на ярмарке жизни, то теперь он видит ее как бы со стороны.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень пытливы!)
на срезе сердца
можно будет рассмотреть
любовные кольца.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень внимательны!)
по толщине этих колец
можно будет отличить
испепеляющую страсть
от скоротечной интрижки.
Наверно, когда-нибудь
(люди очень изобретательны!)
пустоту сердца
можно будет прикрыть
изящной
текстурой —
так называют
полированную фанеру,
на которой нарисованы
изысканные узоры благородной древесины.
…Но мы-то знаем,
что под фанерой всего лишь
прессованные опилки.
Так заканчивается последняя книга поэта Полякова.
«Я не люблю иронии твоей, / Оставь ее отжившим и не жившим, / А нам с тобой, / Так горячо любившим, / Еще остаток чувства сохранившим, / Нам рано предаваться ей…» – завет этого некрасовского стихотворения уже нарушен. Ирония прочно вторгается в общее литературное пространство, вытесняя и даже высмеивая прежние романтические состояния лирического «я» поэта.
Примерно в том же временном отрезке я тоже пережила своеобразную «ломку» и очень хорошо помню то свое душевное состояние. Боязнь самоповтора, с одной стороны, с другой – ощущение, что рифмовать можешь «легко и километрами», а с третьей – предположение, что все на свете «уже сказано». До тебя.
Мы не знали тогда, что это грозная поступь «постмодернизма» уже слышна в России и русский литературный процесс, девственный в этом смысле, готовится дать свой ответ на вызовы постмодернистского времени. Оно оказалось не за горами. Тем более что в подземных кладовых русского андеграунда созрела и готова была занять свои места на сцене другая часть того же самого поколения, к которому принадлежал Ю. Поляков и все выше поименованные поэты.
Грозный призрак «главного постмодерниста» страны Д. А. Пригова уже бродил по литературным гостиным и мастерским художников, собирая вокруг себя как одаренных, так и малоодаренных стихотворцев, узревших в новых веяньях возможность «пробиться», «выйти в люди» и «сорвать банк». Вот как об этом времени вспоминает Ю. Поляков: «Уже набирала силу и поэзия, строившаяся на уклонении от «совка», молчаливом неприятии советских мифологем, а то и на зашифрованном, убранном в подтекст их осмеянии. Из этого направления потом вырос, вырвавшись из-под цензуры, литературный соц-арт, именуемый почему-то «концептуализмом».
Из андеграунда в мейнстрим начали перемещаться и поэты группы «Московское время», хорошие, разные… Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Александр Сопровский… Они тоже родились в 50-х, но пришли в литературу с другим опытом и другими жизненными установками. Позже Гандлевский скажет: «Речь идет о категорическом неприятии советского режима: об убеждении, что объективной реальностью… жизнь не исчерпывается, потому что за ней стоит тайна… Мы любили литературную традицию и в то же время с подозрением относились к снобизму «хранителей ценностей» и «жрецов всего святого». Мне кажется, в этом обобщении есть доля позднего лукавства. «Категорическое неприятие», выразившееся в поступлении и затем учебе в самом советском учебном заведении страны – МГУ, представляется мне несколько смешным. А что касается «тайны жизни», то за пределами «объективной реальности» в стихах того же Николая Дмитриева ее ничуть не меньше.
Самым же громким явлением той поры, пожалуй, стала другая группа, с поспешной руки К. Кедрова, несуразно названная «метаметафористами». Ровесник Юрия Полякова – Алексей Парщиков, прибывший в Москву с Украины, родившиеся на несколько лет раньше на Алтае – Иван Жданов и Александр Еременко. На мой взгляд, это были самые талантливые из «новобранцев» поколения, и они в целом достойно завершили формирование поэтической плеяды «родившихся в пятидесятых».
В последующем, правда, состоялось еще несколько запоздалых поэтических «открытий» в этой генерации. Михаил Анищенко, ушедший в мир иной совсем недавно – ровно накануне своего признания и триумфа. Или тоже ныне покойный петербуржец Геннадий Григорьев, которого суровый критик В. Топоров назвал «бесспорно лучшим поэтом своего поколения».
А если окинем взором всю огромную страну, то добавим к уже названным и Юрия Казарина из Екатеринбурга, и Юрия Кабанкова, и, наверно, при этом кого-нибудь обязательно забудем.
Что и говорить – талантливое, яркое, пассионарное поколение поэтов родилось в России после большой войны и сформировалось в достаточно сытое и благополучное время, позже названное политиками «застоем».
Я думаю, что в совокупности это поколение ничуть не уступает знаменитым «шестидесятникам», а может быть, даже коллективно превосходит их в глубине и метафизичности постижения истории, в трагедийности взгляда на жизнь и личностной цельности, в широте русской географии, представившей эти таланты.
Это нам выпало присутствовать при крушении советской цивилизации: одним – оплакать ее, другим – порадоваться этому, третьим – замолчать на долгое время, четвертым – спиться и погибнуть. Но литературную бронзу заслужили все поэты Бронзового века.
«Я последний советский поэт…» – написал в конце своей недлинной жизни Михаил Поздняев.
Расставшийся с поэтической музой Юрий Поляков – один из этого советского «бронзового» поколения. Без него – оно неполное.
Повесть о поэте
«Узнать – как в душу заглянуть…»
(Вместо предисловия)
Когда я захотел поближе познакомиться с этим человеком, мы были ровесниками: ему 24, мне 24. Да и судьбы наши были схожи – педагогический институт, учительская работа, служба в армии, военная журналистика, стихи, уже сложившиеся в первую книжку… Его стихи мне нравились, многие помнил наизусть. Но это были строки, которые постигаешь по-настоящему глубоко лишь тогда, когда знаешь их автора, знаешь не только его слово, но и дело, его жизнь.
Я бы хотел просто подойти к этому высокому красивому сибиряку, протянуть руку и попросить почитать стихи, зная, что читает он с удовольствием. Трудно сказать, какое бы стихотворение он выбрал, может быть, вот это:
Туманов голубая робость
Над грязью выбитых дорог.
Устало ухает автобус
Из лога в лог, из лога в лог.
Ухабы – глубже. И пропала
В ночи дорога. Нет и нет.
Пробив густую темень, ало
Взметнулись сполохи ракет…
Он читал бы с особым сибирским выговором, будто грызя кедровые орешки, а в его чуть раскосых глазах в самом деле бы вспыхивали те самые ночные ракеты:
Так, отоспавшись за неделю
И письма написав домой,
С рассветом натянув шинели,
Мы движемся к передовой.
Чтобы в бою узнать героя,
Узнать – как в душу заглянуть, —
Какой высокою ценою
Он свой оплачивает путь.
Но наша встреча не могла состояться. Давно уже унеслись в вечность воды реки Нарвы, при форсировании которой гвардии лейтенант Георгий Суворов погиб в 1944 году, состарились его ровесники – молоденькие гвардейцы, начинающие поэты фронтовой поры, и я, еще, в сущности, совсем молодой человек, уже стал старше его. У него теперь другие ровесники. И так будет всегда, потому что время подобно медленному урагану, незаметно уносящему людей. Не многие способны выдержать напор этого ветра времени, Суворов выдержал, и именно поэтому я ощущаю его как живого человека, а его стихи, написанные сорок лет назад, читаю, словно боясь смазать еще не просохшие чернила.
О классиках мы знаем все: что они делали или говорили в такой-то день их жизни, кто их натолкнул на тот или иной замысел. Порой даже знаем о них то, чего и они сами не знали. Другое дело, когда путь молодого писателя оборвался в самом начале и все оставшееся от него – тоненькая книжка прекрасных стихов, несколько строк в истории отечественной литературы и горькие слова более счастливых его ровесников о том, что он стал бы замечательным художником, если бы…
Но это «если бы» произошло. И человеческая судьба, которая минуту назад, подобно быстрой реке, летела вперед, подпрыгивая на камешках мелких невзгод и закручиваясь в водовороте народных бед, вдруг словно рассыпалась на тысячи мельчайших осколков: старые фотографии, письма, кем-то запомненные обрывки разговоров, воспоминания… У поэта – стихи, конечно. Из этих осколков, увы, человека уже не сложишь, но его образ сложить можно. Обычно не задумываются, какой смысл заключен в ставших как бы клятвой словах «Никто не забыт, и ничто не забыто». Разве я знаю о каждом из многих миллионов погибших на войне, разве я знаю о каждом подвиге? Есть несколько сотен имен, которые мы помним, и в их лице, если так можно выразиться, отдаем дань памяти всем павшим за Родину. Мы же знаем, что многие солдаты повторили подвиг Александра Матросова. А почему «повторили»? Ведь и до него солдаты Великой Отечественной падали грудью на амбразуры. Многих мы не знаем поименно и называем, склоняя головы перед их бесстрашием, одно имя – Матросов. Но мы можем знать обо всех. И в этом «можем» заключен второй смысл формулы «Никто не забыт, и ничто не забыто».
С каждым годом о павших на фронте знать становится все труднее и труднее: уходят их ровесники, соратники. Но спустимся с общенародного уровня на литературный. Немало «стихотворцев обоймы военной» не вернулось с фронта. У некоторых перед войной вышли первые книги, другие начали печататься в периодике, а третьи при жизни не напечатали ни одного стихотворения. С горькой точностью написал об этом Давид Самойлов:
Они шумели буйным лесом,
В них были вера и доверье.
А их повыбило железом,
И леса нет – одни деревья.
Но если сравнивать поэтов с деревьями, то нужно добавить, что у них как бы общая корневая система, и, для того чтобы в этой корневой системе разобраться, мы должны знать как можно больше о каждом. Знать не по кратенькой биографической справке и нескольким стихотворениям в сотнеименной антологии, а по-настоящему…
И еще об одном я хочу сказать, прежде чем повести рассказ о жизни и поэзии Георгия Суворова. Та «с рассветом вставшая тишина», о которой мечтал и за которую погиб поэт, простирается над нашей Отчизной почти сорок лет. Мы-то помним, какой ценой оплачена тишина, и готовы бороться за нее. Готовы… Готовы ли мы, молодые 80-х, если понадобится, отдать за тишину, как юноши 1941 года, ту единственную жизнь, которая дается, как известно, только один раз? Сможем ли? Повременим с дежурным «да!» и вглядимся в черты поколения, вынесшего войну с фашизмом, сверим свои души с душами героев, вчитаемся в строки поэтов-фронтовиков, отразившие не только их личные судьбы, но и судьбу народа, может быть, единственного в мире, для которого слово «победа» и радостное и горькое одновременно.
И последнее. Эта книжка не научная биография, не литературоведческое исследование, хотя творчество Суворова заслуживает и таких работ. Это попытка поэта 80-х рассказать о поэте 40-х. И попытка, нужно сказать, ответственная, потому что о нем писали и размышляли такие мастера советской поэзии, как Леонид Мартынов, Николай Тихонов, Сергей Наровчатов, Алексей Сурков, Леонид Решетников, Александр Смердов, Михаил Дудин.
Николай Тихонов и Михаил Дудин составили, отредактировали и издали в 1944 году, через несколько месяцев после гибели поэта, его книжку «Слово солдата». Леониду Решетникову мы обязаны находкой и публикацией многих ранее неизвестных произведений Суворова, двадцать лет пролежавших в архиве Нарвского городского музея. Леонид Решетников – составитель, автор предисловий и комментариев к двум наиболее полным сборникам суворовских стихов, – писем и воспоминаний о нем – «Звезда, сгоревшая в ночи» (Новосибирск, 1970) и «Соколиная песня» (Москва, 1972).
Интересно и то, что почти все из названных мною поэтов посвятили Суворову стихи. Факт не случайный: он и сам любил посвящать стихи друзьям, рассказывать о товарищах языком поэзии. Человек так уж устроен, что, выражая свою любовь, уважение к другу, он стремится подарить ему самое дорогое. Для Суворова самым дорогим были стихи:
Я рассказал бы о тебе в поэме,
Но знаешь сам, теперь нам не до слов, —
писал он в посвящении лейтенанту Андрееву.
Размышляя над рукописью и перечитывая уже написанное, я вдруг сформулировал то, что давно чувствовал: сам Суворов был именно таким человеком, о котором лучше всего рассказывать в поэме. И свой рассказ о его жизни, творчестве, если бы мне нужно было определить жанр, я бы назвал поэмой. Литературоведческой, но с лирическими отступлениями!
Стремительно мчащийся к Енисею Абакан, плавные хакасские горы – к ним даже как-то больше подходит пушкинское «холмы». Здесь родина поэта, о возвращении сюда он мечтал всю войну; для него, как и для миллионов советских людей, путь к Берлину был одновременно и дорогой домой.
Я бродил по душному июньскому Абакану, разглядывал здание педагогического техникума, который окончил Георгий Суворов, и думал о том, что, не побывав на родине поэта, по-настоящему не проникнешься его стихами. Мысль, что и говорить, неоригинальная, даже, можно сказать, расхожая. И все-таки…
Чтобы понять творческий путь художника, пусть даже так рано оборвавшийся, очень важно знать, что было «до холста», еще до того, как он попытался выразить себя и окружающий мир в поэтических строчках. Детство и юность, может быть, самые важные периоды человеческой жизни, во многом как раз они определяют то, что сделает человек в зрелости. Многие замечательные произведения мировой лирики посвящены именно этому «поиску утраченного времени» – иногда печально-рассудительному, иногда яростно-непримиримому. Без мотива «сереброокой Сибири», без воспоминаний о проведенных на хакасской земле годах невозможно представить себе романтику фронтовой лирики поэта.
А много ли известно об этих начальных годах жизни Г. Суворова? Оказалось, очень немного. И поэтому свой поиск я начал именно отсюда. Были поездки по Красноярскому краю, встречи с людьми, знавшими поэта, работа в архивах… И теперь, не боясь впасть в известный академизм, ведь Краткая литературная энциклопедия не сообщает даже дня рождения поэта, я могу повести свой рассказ с самого начала.
Георгий Кузьмич Суворов родился 19 апреля 1919 года в селе Абаканском Енисейской губернии (ныне Красноярского края) в семье крестьянина-середняка. «Детство его, – вспоминает сестра поэта Тамара Кузьминична Серебрякова (Суворова), – прошло на берегах Енисея, на лоне сибирской природы. С ранних лет Гоша помогал отцу и деду: ворошил сено, колол дрова…»
Будущему поэту выпало нелегкое детство. «Во время коллективизации, – пишет он в автобиографии, – разойдясь с женой, отец уезжает из родного села в деревню Бол. Ничку Минусинского района. После смерти матери (я оставался с ней) мне пришлось ехать к отцу, так как не находил средств для существования. Окончив начальную школу в Бол. Ничке, а потом пятый класс в г. Абакане (отец переехал в Хакасскую область), я поступил в Хакасское педагогическое училище, уже окончательно порвав связь с отцом…» Этот существенный факт биографии Георгия Суворова обычно обходят молчанием, сообщая только, что он рано остался сиротой. Однако дело обстояло сложней: отец будущего поэта «во время реакции Колчака был участником колчаковских дружин» и, по всей видимости, так и остался в стороне от социалистических преобразований в деревне. И нужно сказать, что отец Суворова был не одинок в своем трагическом выборе. А его сын сделал другой выбор. О том, кто из них был прав, судить не нам.
Обостряясь с годами, конфликт с отцом в конечном счете привел к разрыву: Георгию Суворову и его сестре пришлось устраиваться в жизни самостоятельно. «В педучилище, – вспоминает Т. К. Серебрякова, – устроились с помощью советской общественности. Жили в интернате». «Учился на средства государства», – пишет в автобиографии будущий поэт. Разрыв с отцом стал серьезнейшим нравственным испытанием для юноши, но это не сломило его жизнерадостного, целеустремленного характера. Позже, уже будучи на фронте, он писал об этом периоде своей жизни:
Легко ли жить с сиротством за плечами,
Но рвались мы к науке и труду.
Мечта сбылась: пред нашими очами
Грядущий день зажег свою звезду.
В одном из своих фронтовых писем к сестре Суворов прямо выражает принципиальное отношение к семейному конфликту – острейшей и трагической форме классовой борьбы: «…Ты пишешь о смерти Вити и Александра. Меня это сильно взволновало. Меня радует только то, что они, дети врага Советской власти, сумели перебороть в себе отцовский яд – а в них его было много – и честно умерли в борьбе за Родину. Защита Родины выше всего. Виктор последнее время, кажется, был комсомольцем…»
В Георгии Суворове жило, как писал Леонид Решетников, «страстное желание, невзирая ни на что, быть и чувствовать себя равноправным членом коллектива строителей нового общества. А между тем судьба не очень благоволила к нему. По причинам, которые сейчас никак не могут считаться существенными, он получил отказ, когда подал заявление в комсомол. Потом, много лет спустя, мы узнаем из его письма, помеченного сентябрем 1942 года, как это было важно для него – иметь право называть себя комсомольцем: «Познакомился с большим советским поэтом А. Сурковым. Он похвалил мои стихи. А литобъединение при ЦК ВЛКСМ (я теперь комсомолец) устроило радиопередачу моих фронтовых стихов». Сын колчаковца, Г. Суворов гордился тем, что наконец стал комсомольцем. И в этом – пронзительный символ эпохи! Успешно учась в Хакасском педагогическом училище, он, вспоминает сестра, «с увлечением читал художественную литературу, любил спорить, беседовать о прочитанном, начал писать стихи, издавать стенную газету «Дружественный шарж», сам ее художественно оформлял… играл в самодеятельных спектаклях… Имея хороший голос и слух, Георгий пел в хоре, играл в струнном оркестре. Изучив немецкий язык, легко и свободно читал литературу на этом языке, переводил стихи с немецкого на русский…». Страстная тяга к знаниям – одна из характернейших черт поколения «лобастых мальчишек революции». С той же неистовостью учились сверстники Суворова, составившие впоследствии фронтовое поколение советской поэзии.
В 1933 году Суворов поступил в Абаканское педагогическое училище. Хакасский писатель Н. Доможаков, учившийся вместе с будущим поэтом, вспоминает: «Он очень много писал. Мы с ним были членами одного литературного кружка. Помню, нам всем понравилось стихотворение Георгия Суворова «Крыжовник».
Своевременно закончить училище будущему поэту не удалось «из-за слабой экономической обеспеченности». Не доучившись нескольких месяцев, он уехал работать учителем начальных классов села Иудина в Хакасии (ныне село Бондарево Бейского района). Это дало возможность его сестре благополучно закончить училище, а сам он сдал выпускные экзамены, воспользовавшись первым же отпуском. Так в 1937 году семнадцатилетним юношей Суворов начал свою трудовую деятельность в качестве сельского учителя.
В автономных республиках и областях Сибири (Хакасская автономная область была образована в 1930 году) вырастала промышленность, создавались колхозы. Но не только сопротивление кулаков и национальной знати – баев лежало на пути строительства нового общества. Серьезными препятствиями были неграмотность, религиозные предрассудки угнетенных некогда классов. Достаточно сказать, что лишь в 1926 году была создана хакасская письменность. В этом отношении борьба с неграмотностью, просветительская работа приобрели исключительное, политическое значение.
Внес посильный вклад в это большое дело и молодой учитель Суворов. Он относился к работе увлеченно, творчески, ненавидел рутину и мещанство в деле воспитания. Журналист А. Шадрин, приезжавший по командировке газеты «Красноярский комсомолец» в село Иудино, рассказывает интересный эпизод: «Звонок. В дверь со стопкой тетрадей в руках врывается высокий белокурый парень…
«Вот и Суворов», – отрекомендовали вошедшего мои собеседницы…
Я назвался, сказал о цели приезда…
Когда мы вышли и направлялись к его дому, объяснил:
«Думал, инспектор из облоно приехал выяснять мои отношения кое с кем из учителей. Жаловались на меня».
«За что?»
«Кое на кого эпиграммы сочинил. Есть тут у нас мещаночки. Этакие благообразные с виду. А копнешь – болотом отдает. А ребятишки – народ сообразительный, все видят. Настоящие-то посмеиваются, но есть и такие – хотят походить на этих благообразных. Душа не терпит…»
Что ж, молодой поэт и учитель отстаивал свою позицию разящим оружием стихотворной сатиры.
Ученики любили и уважали своего учителя. Много лет спустя с теплотой вспоминает о нем одна из бывших его учениц: «Молодой, высокий, с волнистыми волосами и улыбкой, которую можно назвать улыбкой счастливого человека. Казалось, он улыбался просто потому, что вокруг мы, ученики, небо, жизнь… Георгий участвовал в самодеятельности, был нашим «учителем танцев».
Молодой поэт активно участвовал в агитационной и культурно-просветительной работе на селе. «В этот год (имеется в виду 1937 год), – вспоминает Т. К. Серебрякова, – проходили выборы в Верховный Совет СССР. От нашего села выбрали лучшего председателя колхоза тов. Бабина. Помню торжественное предвыборное собрание… Георгий сидел в президиуме и записывал что-то в блокноте карандашом. Потом он взял слово и прочел приветственное стихотворение, написанное им тут же… Последняя строчка была произнесена им торжественно и громко, и указывал он прямо на Бабина, сидевшего тут же: «Тебе мы путь в Совет откроем!» Здесь же, в Иудине, он писал много одноактных пьес на тему дня, которые проверялись местной парторганизацией и исполнялись участниками самодеятельности в сельском клубе». Агитационный пафос поэзии Суворова, зарождавшийся и утверждавшийся в тот период его жизни, впоследствии получит яркое развитие в его фронтовом творчестве.
Учительствуя в глухом сибирском селе, Георгий Суворов свел дружбу с людьми в полном смысле выдающимися. Среди его друзей Хоха (Иван) Чертыгашев, ставший одним из первых в Хакасии чабаном-орденоносцем, депутатом Верховного Совета РСФСР; известный хакасский певец Оралдай Кучугешев. Совершенно особенное влияние на Суворова оказал поэт Иван Ерошин. Один из авторов и распространителей еще дореволюционной, полулегальной большевистской газеты «Правда», хорошо знавший других поэтов-правдистов, Бердникова, Арского, Артамонова, близко знакомый с Серафимовичем, – Ерошин приехал в Сибирь с политотделом 5-й армии, освобождавшей край от колчаковцев. Он был одним из тех литераторов, чьи произведения открывали первый номер журнала «Сибирские огни». В 20—30-х годах он пешком путешествовал по Сибири, увлекся фольклором горноалтайцев. Его переводы и подражания поэзии Горного Алтая высоко оценил Ромен Роллан. Именно Ерошин увлек своего молодого друга собиранием хакасского фольклора, тем более что интерес к устному народному творчеству хакасов, говоря буквально, был у Суворова в крови: в его роду по материнской линии были хакасы.
Колоритная образность и символика хакасских песен и сказаний, широко распространенный в них принцип параллелизма повлияли на формирование художественной палитры молодого поэта, по-своему воспринявшего многие мотивы хакасской народной поэзии.
Опоэтизированный рассказ о таежном охотнике, столь распространенный в хакасском фольклоре, стал одним из излюбленных мотивов суворовской поэзии, придав романтичное своеобразие его фронтовым стихам. Я говорю не о простом заимствовании из народных произведений, но о художественном сплаве образов фольклора и глубоко личных впечатлений, наблюдений и размышлений Суворова, немало прошедшего с ружьем по лесистым склонам Саянских гор. Об этом он часто вспоминал на фронте, мечтая вернуться на родину:
Я исходил немало горных троп
Высокого и строгого Саяна.
Шел по ущельям хмурым Абакана,
Был постоянно спутником ветров.
Юношеские произведения Суворова, к сожалению, не сохранились. Лишь Мартынов процитировал некоторые стихи хакасского периода и дал им доброжелательную, но строгую оценку: «Они повторяют хорошо знакомую алтайскую лирику старого сибирского поэта Ивана Ерошина… Хакасские мотивы певца Оралдая юноша Суворов переложил на русский лад в духе Ивана Ерошина…»
Это ясно видно, если сопоставить стихи учителя и ученика.
Иван Ерошин:
Солнце – жаркий мой костер.
Ночь густа, черна, как соболь,
Шкурою своей мохнатой
Валится на мой костер.
Кедры мглисты, молчаливы.
Светлолицый, гибкий пламень
Обогрел, сварил сырое,
Вспомнилась родная мать.
Георгий Суворов:
День – пулан сереброшерстый
С быстрыми ногами ветра,
С синими глазами неба,
С серыми рогами туч.
День – пулан ветвисторогий.
Жалко убивать пулана,
Протрубившего в горах…
Но есть и различие, которое не отметил в своем очерке Леонид Мартынов. Автор «Песен Алтая» прежде всего стремится передать своеобразный строй художественного мышления горноалтайцев, их непривычное для европейца восприятие мира. Это, так сказать, сверхзадача его поэзии. Для Суворова же, только нащупывающего в ту пору свой путь в поэзии, важно другое: его привлекают романтические, яркие образы фольклора, которые призваны помочь молодому поэту необычно, свежо выразить мироощущение. Ведь и строчки о «дне-пулане»: «Жалко убивать пулана, протрубившего в горах» – это выражение юношеской жадности к жизни, близкое по своему пафосу к романтической поэзии Николая Тихонова.
Касаясь учителей Суворова, нельзя не вспомнить известного крестьянского мыслителя Тимофея Михайловича Бондарева (1820–1899). На первый взгляд такое сближение может показаться надуманным. Однако речь идет не о непосредственном творческом влиянии, а, если так можно выразиться, о включении образа этого выдающегося человека в сферу духовной жизни молодого поэта.
На судьбе Т. М. Бондарева нужно остановиться подробнее. Он родился в 1820 году в области Войска Донского и был крепостным крестьянином. В 37 лет, будучи отцом пятерых маленьких детей, Бондарев попал в солдаты: помещик решил наказать его за свободомыслие. Случай жестокий даже по тем временам… Военную службу он отбывал на Северном Кавказе, где прослужил десять лет и даже был назначен полковым дьяконом. В это время он познакомился со стихами декабристов и книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Поиски социальной правды привели Бондарева в секту субботников. Он был осужден и сослан в Сибирь, в село Иудино Енисейской губернии, где много лет спустя работал учителем Суворов.
Бондарев, до преклонных лет занимаясь крестьянским трудом, в часы зимнего досуга учил грамоте крестьянских детей. Но главное – он писал послания и памфлеты, в которых пытался, опираясь на Библию и свой опыт земледельца, найти выход из тупика социального неравенства, резко критикуя тунеядцев – кулаков и помещиков. Крупнейшее программное его произведение – памфлет «Торжество земледельца, или Трудолюбие и тунеядство». В нем Бондарев с горячей убежденностью доказывает благородность и необходимость земледельческого труда для каждого человека, невзирая на его социальное положение. Бондарев был уверен, что, узнав его учение, люди пойдут по указанному пути, и поэтому делал отчаянные попытки опубликовать свой памфлет, безрезультатно посылая рукопись царям, высшим сановникам. Но вот Бондарев послал свой памфлет Л. Н. Толстому и Г. И. Успенскому, которые горячо поддержали его учения.
Л. Н. Толстой, открыто говоря о влиянии на него идей иудинского мыслителя, всячески их пропагандировал и стремился издать «Торжество земледельца», что ему частично удалось – сначала во Франции (1880), а потом, уже после смерти Бондарева, в России, объятой огнем первой русской революции (1906). «Совершенно ясно стало в последнее время, – записывает он в дневнике 2 апреля 1906 года, – что род земледельческой жизни не есть один из различных родов жизни, а есть жизнь (как книга Библия), сама жизнь, жизнь человеческая, при которой только возможно проявление высших человеческих свойств… Как прав Бондарев!» Переписка между Л. Н. Толстым и Т. М. Бондаревым длилась 12 лет и оборвалась со смертью иудинского мыслителя. На могиле Бондарева по его завещанию были установлены стол с лежащей на нем рукописью «Торжества земледельца», которую, как мечтал автор, мог бы прочитать любой прохожий, а также каменные плиты, на них Бондарев высек важнейшие цитаты из своего сочинения. Но, увы, несмотря на всероссийскую и даже европейскую известность мыслителя, односельчане да и собственные дети относились к Бондареву скептически, считали чудаком, и вскоре могила мечтателя пришла в запустение, многие плиты с надписями исчезли, а в памяти односельчан сохранился смутный образ странного человека, корившего их за стремление к обогащению. Ничего не знал о выдающейся роли Т. М. Бондарева и юный иудинский учитель Суворов.
Эти сведения ему сообщил Афанасий Шадрин, приехавший в Иудино в командировку, с тем чтобы проверить состояние могилы крестьянского писателя. «Назавтра, – вспоминает Шадрин, – мы разыскали с ним камни-писаницы с могилы Бондарева. Георгий слышал об этом человеке самые противоречивые рассказы. И для него, молодого учителя, было новостью, что Лев Николаевич Толстой считал Бондарева своим духовным наставником.
Одну из раздробленных плит, – вспоминает А. Шадрин, – мы нашли в кладке фундамента колхозной конюшни. Узнали, что некоторые были использованы местными крестьянами на застилку дорожек во дворах и облицовку погребов…
– Варвары! – возмущался Георгий. – И мы, учителя, не лучше. Не удосужились узнать хоть что-нибудь о таком человеке…»[2]
Общение с Иваном Ерошиным, встречи со сверстниками, приезжавшими из краевого центра, раздумья о своем литературном признании – все это укрепляло в Суворове мысль о продолжении образования. «Я уже задумывался о переезде в какой-нибудь город, – говорил он Шадрину, – в литературную среду. Да и учиться надо. Средняя школа – маловато…»
Летом 1938 года Георгий Суворов побывал в Красноярске – учился на курсах при Институте повышения квалификации кадров народного образования (ИПККНО) и с 1 сентября преподавал в Иудинской школе русский язык в 5—7-х классах. Именно в 1938 году, вспоминает Шадрин, «впервые его стихи появились в редакционной папке… Юношеские, несовершенные по форме, они тем не менее подкупали страстностью и искренностью. В них было что-то от характера самого автора, человека живого, энергичного, горячего». Но для публикации тогда ничего отобрано не было, не печатались стихи Суворова к тому времени и в хакасской периодике. Это было время накапливания впечатлений, обретения первых навыков работы со словом, время, когда поэзия уже перестала быть средством юношеского самовыражения, но еще не стала «почвой и судьбой».
Летом 1939 года Суворов приехал в Красноярск с целью продолжить свое образование. Он поступал на отделение русского языка и литературы Красноярского государственного педагогического института. Успешно закончив подготовительное отделение и сдав экзамены (русский язык: сочинение – «отлично», устный – «отлично», литература – «хорошо»…), он был зачислен на факультет русского языка и литературы.
Одновременно Георгий Суворов активно включился в литературную жизнь Красноярска, куда к тому времени перебрался и его учитель Иван Ерошин. Молодой поэт познакомился с известной собирательницей сибирского фольклора Марией Красноженовой, в записи которой вышли «Сказки Красноярского края», поэтом Казимиром Лисовским, широко печатавшимся в красноярской периодике. Суворов стал участником литературных пятниц литобъединения при газете «Красноярский рабочий», которым руководил Ерошин. В то время в крае велась серьезная работа с литературной молодежью, о чем свидетельствует вышедший в 1938 году «Сборник произведений начинающих писателей Красноярского края», авторами которого стали Сергей Сартаков, Игнатий Рождественский, Казимир Лисовский… На занятиях литобъединения Георгий мог встречаться с будущим Героем Советского Союза Борисом Богатковым, молодым поэтом, активно выступавшим в красноярской периодике. Суворов «жадно впитывал все, что говорилось в стихах, кому бы они ни принадлежали. Чувствовалось, что он критически начал относиться к своим стихам, становился более требовательным к себе…».
Укоренилось мнение, что именно в красноярский период началась литературная деятельность поэта, но это не так. До войны в красноярской периодике Суворов не печатался.
Ничего странного в этом нет: ведь он пробыл в Красноярске считаные месяцы и в октябре 1939 года с первого курса был призван на срочную военную службу.
Была, наверное, еще одна причина: молодой поэт переживал кризис творческого роста, стал требовательнее относиться к себе и не торопился с публикацией прежних, уже не удовлетворявших его стихов. Как правило, такая неудовлетворенность собой предшествует резкому качественному скачку в творчестве, когда на «холст» ложатся первые уверенные мазки, это еще не мастерство, но уже и не ученичество, а первый шаг в настоящую литературу. Но все это произойдет с Георгием Суворовым в Омске.
Армия… Совершенно особенная часть мужской жизни. Недаром армейская дружба самая крепкая. Недаром с годами все нежнее вспоминаешь о времени службы, какой бы трудной и суровой она ни была. Стоит закрыть глаза – и опять: громыхая сапогами, в душную утреннюю казарму вбегает дневальный и, набрав полную грудь воздуха, кричит: «Батарея, подъем!..» И если через мгновение он не добавляет слово «тревога!», значит, начинается обычный солдатский день со строевой подготовкой, с политзанятиями, с недолгим личным временем. Казалось бы, ни минуты досуга, но именно в армии – это я знаю по себе – стихи пишутся с какой-то неистовой энергией. Ты шагаешь по плацу, выполняешь команды офицера, а в сознании твоем в этот миг наконец проявляются строки, еще только утром бывшие каким-то неясным, тревожно-радостным ощущением.
Но, как ни странно, именно о солдатском периоде жизни поэта оказалось известно менее всего – видимо, у исследователей сработал принцип: в армии не до стихов.
Не приходило в голову искать следы поэтической деятельности Г. Суворова в Омске, где начиналась его армейская служба. Поэтому стоило только перелистать областную периодику и… Но не буду забегать вперед. А лучше представим себе широкоплечего, стройного красноармейца (сразу видно – солдатская косточка); немного рассеянный вид говорит о том, что боец в увольнении. В руках папка с новыми стихами, а спешит он по омским улицам на очередное занятие литературного объединения, которым руководит знаменитый Леонид Мартынов. Омск издавна был одним из центров литературной жизни Сибири. В первые годы советской власти здесь начинали творческий путь Всеволод Иванов, Сергей Марков, Леонид Мартынов. Перед войной в Омске жили и работали Сартаков, Коптелов, Марков, Мартынов, Драверт… В это время начал выходить литературно-художественный «Омский альманах», печатали литературные произведения газеты «Омская правда», «Молодой большевик». Была в городе и значительная группа молодых литераторов, среди них Иосиф Ливертовский, яркий поэт, чьи стихи, опубликованные в «Омском альманахе», были замечены и даже вызвали полемику; Николай Копыльцов, чья юношеская поэма была одобрена Багрицким; Марк Юдалевич, писавший стихи, увлекавшийся историей края. Именно Юдалевич, единственный из друзей, уцелевший в войну, в своих воспоминаниях рассказал о вхождении Суворова в литературную жизнь Омска. Он вспоминает о том, как во время одного из вечеров молодой поэзии в воинской части на сцену поднялся красноармеец и с большим успехом прочитал свои стихи. Некоторые из них Юдалевич цитирует по памяти:
А гора высока,
Высока,
А под ней облака,
Облака,
А дорога крута,
Крута,
И зовет высота,
Высота.
Пользуясь нечастыми увольнениями, красноармеец Суворов встречался со своими товарищами по перу, обсуждал свои и их новые работы. В стремлении найти точные, яркие слова, чтобы передать красоту сибирской природы, будущему автору «Слова солдата» оказался близок Иосиф Ливертовский:
Горит боярка бурая у впадин,
Изломанную линию небес
Нарисовали горы. Ароматен
Сосновый поднимающийся лес…
Со слов Мартынова мы также знаем, что два раза в месяц по понедельникам Суворов аккуратно являлся в местное издательство, чтобы встретиться там с литераторами, показать свои новые стихи. Все это говорит об активном участии молодого поэта в литературной жизни, о неустанной творческой работе.
Очень важно для омского периода и другое: именно тогда, став солдатом, Суворов по-настоящему глубоко проникся высоким смыслом ратного труда, именно тогда сформировались любовь и уважение к воинской службе, к защитникам Родины, без чего невозможно представить себе его фронтовую поэзию.
Тем временем поэзия молодого красноармейца вызывала все больший интерес. Наконец 21 марта 1941 года в Омском Доме Красной Армии, как сообщил в разделе «По краям и областям Сибири» журнал «Сибирские огни», состоялся «большой вечер поэта-красноармейца Г. Суворова. Вступительное слово сделал Леонид Мартынов. Суворов прочитал ряд своих стихотворений, посвященных боям в Финляндии («Случай с танком», «Отдых», «Штурм» и другие). Выступавшие товарищи отметили несомненный поэтический рост Г. Суворова за последнее время.
Леонид Мартынов много сил отдавал литературному наставничеству. Его очерк «Поэт-красноармеец» – забытая страница литературно-критической и наставнической деятельности автора «Лукоморья» в омский период его жизни, а ведь это один из немногих источников, где можно почерпнуть сведения о Суворове тех лет. Это одновременно и литературный портрет молодого поэта, и взыскательный разбор его успехов и промахов, а также добрая поддержка и совет, как работать дальше.
С тех пор как очерк «Поэт-красноармеец» появился в «Омской правде», он не переиздавался; и мне хочется процитировать его как можно полнее, ибо не многие вступающие в литературу сегодня могут похвастаться подобным серьезным и развернутым разговором о своем творчестве:
«Рядовой боец Н-ской части, вынув из кармана шинели немецко-русский словарь, завел речь о стихах Генриха Гейне. Боец недавно перевел «Лорелею». Мы говорили о блоковских переводах Гейне. Затем беседа перешла на Лермонтова, Антокольского, Багрицкого, Киплинга, Омара Хайяма.
Кто был этот юноша? Бывший студент литературного факультета? Да, Георгий Суворов до призыва на военную службу действительно посещал институт. Полтора месяца, иными словами, сорок пять дней. Только. Так что знания свои получил не в институте. А где?
Ответ прозвучал несколько неожиданно. В горных долинах Хакасии, в дальних селах юго-восточной окраины страны.
Ценитель Уайльда, не случайно ли оказался он там, этот юный Георгий Суворов? Но, взглянув на профиль красноармейца, я понял, что Суворов не гость, но уроженец этих краев. Несомненно так. И больше того: он если не наполовину, так, во всяком случае, на треть сам хакас. Так и оказалось… Надо сказать прямо: несмотря на свою начитанность, несмотря на свою любовь к литературе, Георгий Суворов приносил поначалу довольно-таки слабые стихи.
Самое тонкое знание персидских лириков, Гейне, Лермонтова, Уайльда все же еще не является само по себе залогом творческой удачи. С родного Енисея Георгий Суворов привез сюда, в Омск, милые, изящные, но едва ли все же имеющие самостоятельное художественное значение стихи. Лучшие из этих стихов были откровенно подражательными.
…Больше года прошло с той поры. И за этот год, год военной службы, Георгий Суворов немало вырос. Он написал едва ли меньше чем десять тысяч стихотворных строк.
Отсюда, из Омска, Суворов шлет стихотворные послания своим друзьям – певцам, лесосплавщикам, пастухам, поэтам Хакасии. Здесь, в Омске, он пишет пьесу из жизни лесосплавщиков на Абакане и поэму о хакасском богатыре Камза Пиге. Говорить о поэме в целом еще рано, она только начата, и нам кажется, что автор еще не продумал многое, еще не вполне четко представляет себе сложность тех больших исторических событий, которые решил показать в этой поэме. Но отдельные отрывки из этих стихов пленяют нас своей свежестью, своей силой:
Нет озера в родных степях,
Где не садился бы крохаль, —
Нет человека на земле,
Не испытавшего печаль! —
говорит погибающий богатырь. Но, добавляет он,
Один, страдая, – рысь в огне, —
Добра от зла не отличит.
Другой, страдая, миру шлет
Любви горячие лучи.
Хотелось бы привести здесь и другие строфы, в которых рассказывается о дружбе и ненависти, о судьбах народов, о некоем старом, мудром донском казаке, облегчившем страдания хакасского богатыря, и многие еще стихи Георгия Суворова, этого молодого поэта, который с равным вниманием прислушивается к поэзии народов Запада и Востока.
…Так пишет юноша из Хакасии, переводчик Генриха Гейне, поклонник восточного мудреца Омара Хайяма, трезвый ценитель Киплинга и Уайльда – рядовой боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии».
Отметив некоторые просчеты и недостатки Суворова, Леонид Мартынов приходит к выводу, что его поэзия – незаурядное явление в молодой литературе. Положительная оценка известного поэта имела для будущего автора «Слова солдата» большое моральное и практическое значение. В течение буквально нескольких недель в омской периодике появляется целый ряд его стихотворений: в «Омской правде» – «Выборгская заря» (11 мая), «Портрет из цветов» (31 мая), «Чтоб крепла сила, молодость твоя…» (6 июня); в «Молодом большевике» – «Тропа героя» (25 мая).
Стихотворение «Выборгская заря» посвящено войне с белофиннами, «той войне незнаменитой», говоря словами А. Твардовского. В предвоенной советской поэзии появилось немало стихов, посвященных этой теме. «Лучшие произведения, созданные тогда, – пишет А. Абрамов, – непосредственно вводили в советскую литературу образы, интонации, мотивы, которые получили затем развитие в поэзии Великой Отечественной войны».
Очевидно, что даже о суровости военных будней Суворов пишет с тем же романтическим пафосом, пользуясь теми же яркими образами, – «он видит в смерти свет зари и стали». Романтическое видение поэта-красноармейца особенно заметно при сравнении его стихов, скажем, со стихами участника финской войны Сергея Наровчатова – обнаженными, принципиально лишенными малейших намеков на романтику:
Мы сухари угрюмо дожевали
И вышли из землянок на мороз…
А письма возвращенья нам желали
И обещали счастья полный воз.
В глаза плыла уже шестые сутки
Бессонница… Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.
Такая принципиальная антиромантичность была, с одной стороны, реакцией молодых поэтов-бойцов на тяжкую правду войны, а с другой стороны, на ее «облегченное» изображение во многих стихах предвоенных лет. Нужно подчеркнуть, что новое поколение выражало в заостренной полемической форме свое неприятие не романтической поэзии вообще – на произведениях Багрицкого, Светлова, Тихонова оно было воспитано, – а свое несогласие с псевдоромантическими стихами, которые не переосмысляли мир в свете высоких идеалов, а просто-напросто игнорировали реалии современности, отворачиваясь от сложности и неоднозначности такого экстремального явления общественного бытия, как война. Именно о такой «псевдоромантике» писал Наровчатов:
Лгущая красивыми строками!
Мы весь ворох пестрого трепья
Твоего, романтика, штыками
Отшвырнули напрочь от себя.
Так же суровы и обращены к реальному военному быту были стихи Суркова, Твардовского и других участников событий. Тем не менее очевидцы финской кампании писали и другие стихи. Николай Тихонов, например, не обходя страшную реальность войны, остался верен романтической доминанте своей поэзии.
Именно на тихоновский опыт романтического осмысления войны, на мой взгляд, опирался Георгий Суворов.
Молодые поэты, сверстники Суворова, остро чувствовавшие приближение большой войны, посвящали свои поэтические размышления грядущему испытанию: одни, следуя определенной тенденции, «подавали войну в пестрой конфетной обертке», как выразился Сурков. Причем это не было какое-то сознательное «облегчение» темы: у молодых поэтов, например у юного Бориса Богаткова, земляка Суворова, это было естественное выражение любви к Советской Родине, веры в ее «никем непобедимые» силы. Часто проводились оптимистические параллели с Гражданской войной. К теме Гражданской войны обращались практически все «юноши 41-го года». Суворов написал стихотворение «Тропа героя», рассказывающее о герое Гражданской войны в Сибири Петре Щетинкине. Описывая «красных партизан-богатырей», поэт создает символический образ партизанской тропы:
Подступала не тропа – аркан,
Земляная плеть… И, багровея,
Из-под ног усталых партизан,
Выскользнув, летела в глубь Саян,
Колчаковцам свертывая шеи.
В центре стихотворения «Тропа героя» – образ легендарного партизанского командира, изображая которого поэт тяготеет к романтическим краскам, подчеркивая исключительность, былинную мощь народного вожака:
Словно крылья черного орла,
Развевалась на ветру боргатка.
На устах у командира – мгла.
Очи – черная смола.
В сердце молодецкая ухватка.
Георгий Суворов подчеркивает преемственность поколений, и партизанская «тропа-аркан», до поры пропавшая в зарослях, в «нужный час себя откроет» и поможет расправиться с врагами.
Обобщая, можно сказать, что на творчество Суворова омского периода огромное влияние оказали традиции молодой советской поэзии, он опирается в своих художественных поисках на широкое знакомство с русской и зарубежной поэзией, знание народного творчества. В то же время он ищет и новые пути. Прежде всего это стремление соединить дух советской романтической поэзии с образностью народного творчества, в частности хакасского фольклора. Поэт ищет яркие эпитеты, сравнения и метафоры («Над городом вскипает сок зари…»; «Подступала не тропа – аркан…»; «День – пулан ветвисторогий…»).
Однако было бы неправильно говорить о Суворове омского периода как о сложившемся мастере слова. Авторская мысль не всегда находит в стихе свое органическое выражение. Иногда поиск яркого слова приводит автора к давно отработанному поэзией материалу, и «появляются вдруг, – как писал Леонид Мартынов, – всевозможные штампы: «птица яркой юности», «лесные рулады», «утра водопады»…».
И все же Суворов встретил войну достаточно заметным в Сибири и активно публикующимся молодым поэтом, определившим в принципе свой путь в литературе. В полной мере к нему относятся слова, сказанные А. Павловским обо всем фронтовом поколении поэзии: «Так называемое «третье поколение» советских поэтов, т. е. то, которое окончательно созрело, возмужало и выросло в огне Великой Отечественной войны… несмотря на известные препятствия, характерные для конца тридцатых годов, сумело в основном сформироваться и встретить войну, будучи морально, а в известной степени и эстетически к ней подготовленным…»
«Газета живет один день» – так говорят журналисты. И в самом деле, газета недельной давности – никому не интересный лист бумаги. А вот газета, вышедшая сорок лет назад, пожелтевшая, истлевшая на сгибах, – это уже история. Наверное, ничто не дает такого ощущения путешествия во времени, как чтение подшивок старых газет. При этом испытываешь щемящее чувство, чувство горького превосходства над теми людьми, не знавшими своего будущего и гордо-энергичными в своем незнании. Думаешь о том, что когда-то и твоя многодневная, многосложная эпоха спрессуется в десяток-другой таких вот годовых подшивок.
Я помню свое потрясение, когда, впервые листая подшивку газет за 1941 год и с холодом в сердце дойдя до 22 июня, не обнаружил там ни строки, ни слова об уже начавшейся великой войне. Все было как обычно: сообщения о новых трудовых успехах и починах, улыбающиеся лица на фотографиях, какой-то воскресный юмор. Я понимал разумом, что в четыре часа утра, когда раздались первые залпы, типографии уже закончили печатать тираж, и свежие, пахнущие типографской краской пачки газет уже развозились на почту, поэтому любое событие, происшедшее к этому времени, даже война, могло попасть только в следующий номер. И сейчас, читая свежую газету, такую же спокойную, обычную, я не могу порой отделаться от чувства некой недосказанности…
Омская молодежная газета «Молодой большевик» украсила свой новогодний номер плакатом: с крутой горы стремительно спускается на лыжах румяный улыбающийся юноша. На груди надпись: «1941 год». Да, литературный дебют Георгия Суворова и начало Великой Отечественной войны разделяло всего несколько недель.
Войну ждали, не ждали такой войны. Вот почему в поэзии «юношей 41-го года» так отчетливо звучит тема преодоления иллюзий, мучительное сознание того, что «война – совсем не фейерверк», что «врагу указать путь назад» удастся не «спокойными штыками», а ценой миллионов жизней. Эта тема есть и у Суворова, хотя вся предшествующая жизнь подготовила его к испытаниям войны лучше, чем многих ровесников-поэтов, «на фронт ушедших из школ». Но Суворов не декларирует это преодоление, стихи, известные до последнего времени, были написаны человеком, уже немало прошедшим «дымной дорогой из боя в бой». Но ведь от стихов омского периода до фронтовой лирики Суворова дистанция если не огромного, то значительного размера. Должно же быть «недостающее звено», стихи, в которых поэт как бы перестраивает свою душу, свою лиру на военный лад.
Вот почему я прежде всего стремился найти ранние фронтовые стихи поэта, по которым можно проследить динамику мужания его таланта, ведь не случайно А. А. Фадеев в статье «Художественная интеллигенция в Отечественной войне» говорил о том, что у «талантливой молодежи есть все возможности проявить свои таланты на фронте…».
И такие стихи в самом деле удалось обнаружить все в той же омской периодике, они назывались «Бить – так бить!» и с грозной искренностью еще не воевавшего человека призывали:
Бить – так бить врагов народа,
Чтоб их псовая порода
Никогда не ожила!
На удар – стальным ударом,
Чтобы знали все – недаром
Кровь народная текла.
«…Перечитывая сейчас призывные стихи, стихи-выступления самых различных поэтов, – пишет А. Абрамов, – отчетливо видишь, как они близки друг другу. Громада единого, всеохватывающего чувства, мгновенно проникшего в святая святых человека, стерла различия, оттеснила на задний план подробности в особенностях лексики, интонации, стиха. На первое место выступило единое, общее… Словосочетания «будем бить», «штыком и снарядом» или «штыком и гранатой», «смерть врагу» можно встретить в десятках стихотворений». Эти слова буквально «один к одному» подходят к приведенному стихотворению Суворова, призывающему: врагов «бить и танком топтать их». Интересно, что с подобными стихами, конечно, отмеченными печатью большого Мастерства, выступил одновременно с Суворовым на страницах «Омской правды» и Л. Мартынов.
В конце сентября 1941 года Суворов «первый раз вылетел на фронт». О том, как складывалась его фронтовая судьба с сентября 1941-го по сентябрь 1942 года, мы узнаем из письма к сестре. В течение первого военного года они не имели связи друг с другом, и поэтому, разыскав наконец единственного близкого человека, Георгий Суворов кратко рассказывает о событиях целого года: «Был сначала у Ладожского озера, в гвардейской части. Немцы были сильны, но в этом месте мы их держали и кое-где вели наступательные действия… На этом участке был хим. инструктором…» Через двадцать дней, как пишет далее Суворов (значит, к середине октября), часть, в которой служил поэт, была переброшена на Тихвинский участок Ленинградского фронта.
Нужно подчеркнуть, что свою боевую биографию поэт начал на одном из тяжелейших участков растянувшейся на тысячи километров линии фронта. Фашистские дивизии согласно плану «молниеносной» войны рвались к Ленинграду, стремясь захватить его любой ценой. Для германского командования это было важно не только в стратегическом, но и в морально-политическом отношении: город Ленина – колыбель революции. Сражения на подступах к Ленинграду носили ожесточеннейший характер. «Пятого ноября, – сообщает далее поэт, – я был ранен в правую ногу двумя минными осколками. Ранение было тяжелое…»
После ранения Суворов был эвакуирован в Алтайский край и пролежал в госпитале до 26 января 1942 года. Поэт был настроен мужественно. «Но ничего, на свои мелочишки и раны будем смотреть, если останемся живы, после войны», – писал он сестре. После госпиталя Суворов прожил несколько дней в Новосибирске у поэта Александра Смердова, активно сотрудничавшего в новосибирской периодике, принимавшего участие в составлении сборника произведений, посвященных фронту. Судя по переписке, которую они поддерживали до самой гибели Суворова, у них сложились крепкие товарищеские отношения. Смердов познакомил своего земляка-солдата с видными новосибирскими литераторами Коптеловым, Мухачевым, Стюарт. Впоследствии в письмах с фронта Суворов рассказывал Смердову о своих боевых делах, о своей творческой работе, о встречах с Сурковым и Тихоновым, посылал новые стихи. Часть стихов, присланных с фронта, Смердов поместил в сборнике «Родина. Стихи молодых поэтов», вышедшем в Новосибирске в 1944 году. Памяти Суворова и Богаткова Смердов посвятил свою военную поэму «Пушкинские горы».
И на передовой, и в госпитале Суворов пишет, пишет, пишет. В письме к сестре он сообщает: «Писать стихи я не бросал ни на минуту. Писал в поезде, отправляющемся на фронт. Писал в госпитале. Писал о бомбежках под ожесточенными бомбежками. Везде писал. Обо всем писал. И сейчас пишу. Война – это почва, по которой я сейчас хожу. Стихи – это мои вздохи».
Эти стихи были опубликованы в сборнике «Сибиряки-гвардейцы», выпущенном в 1942 году. Можно с полным правом утверждать, что перед нами образцы фронтовой поэзии Суворова первого периода: сентябрь 1941 – январь 1942 года. В них еще слышны отзвуки стихотворения «Бить – так бить!». Это отвлеченный пафос обличения фашизма, когда собственный боевой опыт еще не входит органически в стихи. Таково, например, стихотворение «Наши звезды», где борьба советских людей с фашизмом представлена в виде символического противостояния красной звезды и черной свастики:
Да будет свет! Исчезнет мгла!
Рычите, палачи!
У смерти лапы… много лап.
У жизни – звезд лучи!
Очевиден общий, как бы лишенный индивидуальных признаков стиль, характерный для стихотворений-агиток первых месяцев войны. Такое стихотворение мог написать и поэт, не побывавший на передовой. Но вот другие два стихотворения-подборки, объединенные в цикл заглавием «Сибиряки», вполне оправдывают стоящие под ними слова «Действующая армия». Написанное от первого лица, одно из них рассказывает о поединке с вражьим дотом. Стихотворение конкретно в описании реалий фронтовой жизни, точно передает состояние человека, вступающего в смертельно опасное единоборство:
Ползу. И кажется, вот-вот
От гула треснет небосвод
И вихрь гремучего огня
Смешает с глиною меня…
…Я взрою тьму. Я свет плесну
В весеннюю голубизну.
Тема борьбы света с тьмой, впервые ярко прозвучавшая в стихах 1941 года, чрезвычайно характерна для всей суворовской поэзии. «Тема прорыва – через тьму к свету, – подчеркивает А. Коган, – пронизывает творчество Суворова. Тема давняя, «блоковская», но как нельзя лучше отвечающая всему облику Суворова, духу его творчества».
Из Новосибирска поэт снова прибыл на фронт – на Орловское направление, где пробыл недолго и был направлен в Тулу на курсы младших лейтенантов. Проездом он побывал в Ясной Поляне, куда некогда тщетно пытался съездить иудинский мыслитель Т. М. Бондарев. Посещение усадьбы великого писателя напомнило Суворову об узах, связывавших создателя «Войны и мира» и автора «Торжества земледельца», помогло острей почувствовать свою причастность к духовному наследию русского народа. В это же время младший лейтенант впервые побывал в Москве, где провел семь дней и познакомился в редакции газеты Западного фронта «Красноармейская правда» с Алексеем Сурковым, ставшим к тому времени одним из ведущих поэтов-фронтовиков страны. «В комнату, где мы работали, – вспоминает Сурков, – вошел молоденький лейтенант, вся наружность которого говорила о доброй армейской выучке и повадках бывалого солдата… Георгий вынул из мешка папку, в которой находилась машинописная тетрадь, озаглавленная «Сонеты гнева»… Сквозь неумелые и неровные строки слышалось биение сильного солдатского сердца, испытанного в огне первых тяжелых битв этой нелегкой войны, чувствовался тот свойственный нашей поэзии тех месяцев суровый гуманизм, в котором ненависть к врагу безраздельно слилась с неистребимой любовью к своим людям, своей земле, своему советскому небу, ко всему, на что посягнул враг». Сурков отмечает оптимистичность поэзии Георгия Суворова, созданной в «самую жестокую, самую хищную полосу войны».
Поэт пишет в одном из сонетов:
Сердце на взлете. Смолкните, враги!
Сейчас четырехгранные штыки
Над ночью золотой рассвет подымут.
Интересно отметить, что символический образ штыков, несущих на своих остриях рассвет, очень характерен для фронтовой поэзии. Сверстник и земляк автора «Слова солдата», Леонид Решетников писал в том же 1942 году:
Недаром грань штыка, как даль, светла.
Когда мы с боем за врагами вслед
Входили в город, выжженный дотла,
За нашими плечами шел рассвет.
Встреча Суворова с Сурковым состоялась в конце марта 1942 года. Тогда же, как сообщает поэт в письме к сестре, литобъединение при ЦК ВЛКСМ устроило передачу фронтовых стихов поэта. К сожалению, в то время передачи по радио велись без записи, сразу в эфир, не сохранился и сценарий передачи стихов Суворова. Май и начало лета поэт провел в военных лагерях в Марийской АССР – готовил младших командиров, а затем был снова направлен на Ленинградский фронт. Начался самый плодотворный и героический этап его жизни и творчества – к сожалению, этап последний.
На Ленинградском фронте Суворов служил командиром взвода противотанковых ружей 60-го отдельного противотанково-истребительного дивизиона. «Более горячей и смертельно опасной работы, – замечает Решетников, – на войне не было». Служил молодой офицер в дивизии со славными боевыми традициями, первой получившей на Ленинградском фронте почетное наименование гвардейской. Не зная боевого пути этого соединения, его героев и традиций, нельзя достаточно полно понять особенности поэзии Суворова этого периода, ибо он в прямом смысле этого слова стал певцом боевой славы своих товарищей по оружию, воспевал их победы, оплакивал потери.
«Мне казалось, – пишет В. Азаров в рецензии на книгу «Звезда, сгоревшая в ночи», – что Н. Тихонов возлагает особую надежду на Суворова еще и потому, что оба они как бы продолжали высокую национальную традицию «певцов во стане русских воинов», уходящую в седую древность». Замечание очень точно определяет тот слой русской поэтической культуры, который питал творческую индивидуальность Суворова. Многие русские поэты посвятили прекрасные строки мощи российского оружия – Жуковский, Давыдов, Глинка, Пушкин, Лермонтов, Блок, Брюсов… Это была действительно древнейшая традиция. В период Великой Отечественной войны интерес к русской военно-патриотической поэзии вспыхнул с новой силой; в стихах, написанных в годы иных сражений, современники искали источник сил для нового испытания. На страницах фронтовых газет появлялись целые подборки стихотворений поэтов-классиков. Интересно, например, как актуально звучало со страниц одной из дивизионных газет в 1943 году стихотворение Брюсова «Старый вопрос», написанное в 1914 году. В этих брюсовских стихах есть и гордость за нашу многовековую культуру, за стойкость русского оружия, не раз спасавшего другие народы от порабощения:
Иль мы тот народ – часовой,
Сдержавший напоры монголов,
Стоявший один пред грозой
В века испытаний тяжелых?
Иль мы тот народ, что обрел
Двух сфинксов на отмели невской,
Кто миру титанов привел,
Как Пушкин, Толстой, Достоевский?
Написанные в начале Первой мировой войны, эти стихи выгодно отличались от сотен появлявшихся тогда рифмованных шовинистических лозунгов. В них спокойная и художественно убедительная отповедь захватчикам, пытавшимся выдать себя за «культуртрегеров», несущих якобы «просвещение» славянским «варварам». Причем эта доктрина пропагандистской машины германского милитаризма за время, прошедшее между Первой и Второй мировыми войнами, существенных изменений не претерпела. Примеров такой действенности классической русской поэзии можно привести множество.
Чрезвычайно популярен стал образ поэта-воина, «певца и ратоборца» своей Родины, по выражению Е. Ростопчиной. В русской поэзии немало примеров этой слитности призваний – поэтического и воинского. Наиболее ярко и символически воспринимался образ знаменитого Дениса Давыдова – поэта и партизана. Не случайно в годы войны поэты обращались к этому неумирающему образу, к произведениям поэта-гусара. М. Спиров, например, писал в 1941 году о Давыдове,
Что он оставляет на вечность
След сабли и след от пера.
Дениса не спрячет могила…
Звенят вдалеке удила.
И сабля его не скосила,
И пуля его не взяла!
Говоря образно, «певцы во стане русских воинов» появились тогда в каждой части, каждом соединении. Как правило, их произведения не выходили за рамки стихотворной самодеятельности, иногда появлявшейся на страницах дивизионных газет. Но психологическая, агитационная сила таких произведений была чрезвычайно высока: призывные стихи исходили из уст товарища по оружию, делящего со всеми тяготы войны, рискующего ежеминутно погибнуть, да и запечатлевалась в них жизнь родного солдатского братства.
Но были среди таких «доморощенных» поэтов и художники в большом и главном смысле этого слова – их знали далеко за пределами частей, где они служили, они были гордостью своих товарищей по оружию. Таким был для моряков-балтийцев Алексей Лебедев, таким был для защитников полуострова Ханко Михаил Дудин, таким был и Суворов. Эту слитность слова и дела впервые отметил в нем Тихонов, сам принадлежавший к поколению поэтов, бившихся за революцию не только в стихах, но и в кровавых схватках Гражданской войны.
Суворов «глубоко уважал свое офицерское звание», уважал и интересовался он традициями русской воинской поэзии.
Поэтическая традиция давала, так сказать, художественный ориентир, но содержание, пафос поэты-воины черпали из фронтовой жизни, богатой примерами самого высокого героизма. Для Суворова таким неиссякаемым источником стали боевые будни его дивизии. Поэт обращался не только к эпизодам, свидетелем которых стал сам, но и к событиям, происшедшим еще до его назначения.
70-я стрелковая дивизия была сформирована в городе Куйбышеве. Принимала участие в финской войне и завершила боевые действия в районе Выборга. С начала Великой Отечественной войны она бьется на дальних подступах к Ленинграду. И под Сольцами наносит сокрушительный удар бронетанковым частям противника под командованием Манштейна. С сентября 1941-го ведет кровопролитные бои в районах Пушкина, Колпина, Пулкова, Красного Бора, на ближних подступах к Ленинграду. 26 сентября 1942 года части 70-й стрелковой дивизии форсируют в рамках Синявинской операции Неву и занимают в районе Московской Дубровки плацдарм, имевший большое значение для дальнейшего прорыва блокады. За образцово выполненное задание командования и проявленный личным составом героизм соединение преобразовывается в 45-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Свидетелем и участником этих событий был лейтенант Георгий Суворов, чрезвычайно гордившийся своим гвардейским званием и посвятивший гвардейской доблести немало стихотворений, появившихся на страницах дивизионной газеты «За Родину». Вот, например, стихотворение «Гвардеец»:
Рожденный не сегодня, не вчера —
Гвардеец – это от времен Петра —
На все века, на все, на все столетья.
«Ура!» – сентябрьской ночью на Неве.
Победный клич в днепровской синеве.
Гвардеец – слава, песня на рассвете…
В этих стихах и ссылка на традиции русской гвардии, и намек на конкретные боевые дела, и призыв «пройти на Запад в пламени и дыме». Суворов поистине стал летописцем боевой истории дивизии. Приведу в качестве примера своеобразный, можно сказать, уникальный случай. В тот период дивизией командовал Герой Советского Союза полковник А. А. Краснов, подписавший любопытный приказ по дивизии, в котором говорилось: «В связи с присвоением нашей дивизии высокого звания гвардейской, в соблюдение традиций великой русской гвардии приказываю с сего числа всему личному составу дивизии отпустить гвардейские усы». На этот уникальный приказ поэт откликнулся юмореской «Усы»:
Нам приказали отпустить усы,
И если нам вообразить себя
Часами битв, мерилами грозы,
Врагов везде и без числа губя,
Вообразить себя в те дни грозы,
Когда последний упадет фугас, —
То часовыми стрелками усы
Покажут немцам их последний час.
Поэт-воин – эти два слова прочно характеризуют и поэтическую, и гражданскую особенность судьбы Суворова. Он был храбрым воином, прошедшим путь от рядового до офицера, немало испытавшим на фронте. Наровчатов в стихотворном послании автору «Слова солдата» пожелал, «чтобы суворовское счастье ему дало свои крыла». Что ж, Суворов и в самом деле был талантлив не только как поэт, но и как солдат, командир. Один из близко знавших его на фронте – поэт Петр Ойфа вспоминал: «…Поэт и офицер. Предельная слитность слова и дела, поэзии и воинского долга. Таким был Суворов. Ему удивительно шла новая, тогда еще только введенная офицерская форма. Золотые погоны с одним просветом и двумя серебряными звездочками лейтенанта. Он глубоко уважал свое офицерское звание. В его глазах оно требовало от человека самых высоких нравственных качеств. Он сам был именно таким человеком. Его любили солдаты. Он никогда не позволял себе дешевого панибратства ни с подчиненными, ни с товарищами. Его лексикон не знал хамского тыканья, ни сквернословия в любых обстоятельствах фронтовой жизни. А на войне нетрудно было огрубеть душевно…» Свое понимание того, каким должен быть советский офицер, хранящий славные традиции русского оружия, Суворов выразил в стихах, посвященных командиру дивизии Путилову:
Есть в русском офицере обаянье.
Увидишься – и ты готов за ним
На самое большое испытанье
Идти сквозь бурю, сквозь огонь и дым.
Он как отец – и нет для нас дороже
Людей на этом боевом пути.
Он потому нам дорог, что он может,
Ведя на смерть, от смерти увести.
И конечно же, прав Петр Ойфа, относя каждую строчку этого удивительного стихотворения к самому автору.
Романтична была не только поэзия Суворова, романтична была и его фронтовая судьба, насколько вообще возможна романтика на фронте, там, «где убита в человеке боль». Но уж таким он был человеком, таким его видели и любили друзья. И редкое воспоминание о Суворове обходится без этого эпизода: во время атаки осколок вражеской мины попал ему в грудь. Суворов сам вырвал его и продолжал бой, не замечая струившейся крови, и только потом, после боя, ослабев, попал в медсанбат.
А вот как рассказывает о своем молодом товарище Н. Тихонов в очерке «Ленинград в сентябре»: «…в комнату входит высокий стройный юноша, как будто сделанный из красноватого металла. Он лейтенант, но он принес стихи. Эти стихи о войне, написанные в блиндаже, на полевой сумке, строки, полные молодой страсти. Они могут быть еще неотделанными, незаконченными, но характер бойца закончен…»
Законченность характера… Иногда, сравнивая стихи сегодняшних молодых (да и свои собственные, что греха таить!), остро ощущаешь отделанность и законченность стихотворных строк в ущерб законченности характера, характера бойца. А это, может быть, главное, что нужно поэту, чему мы должны учиться у «стихотворцев обоймы военной».
(Лирическое отступление)
Когда мы говорим «фильм о войне», «стихи о войне», не нужно объяснять, о чем идет речь. Все понимают и так: была гражданская, была финская… и была – ВОЙНА – Великая Отечественная, вошедшая в генетическую память народа, который обрел в огне этого испытания такой нравственный и исторический опыт, что еще не одно поколение людей будет постигать его глубины.
Вот где, по-моему, следует искать жизненный источник странного, казалось бы, явления – военной лирики невоевавших поколений. Раскройте сборник любого поэта, родившегося в 40-х, 50-х, даже 60-х годах, и вы обязательно найдете стихи о войне. Они могут быть хуже или лучше, но без них лирический мир человека, знающего о фронте только из устных рассказов, книг, кинофильмов, так же неполон, как если бы в нем отсутствовала память о первой любви, о матери, раздумья о смысле жизни.
Поэты и сами пытаются разобраться в этом кровном пристрастии:
В пятидесятых рождены,
Войны не знали мы, и все же
В какой-то мере все мы тоже
Вернувшиеся с той войны, —
предлагает свое объяснение Николай Дмитриев. В самом деле, каждый из нас выжил вместе с отцом или дедом, шире – вместе со всем народом. В самом деле, в каких бы мы жили мирах, говоря словами Н. Дмитриева, если бы случилось непоправимое?
Часто приходится слышать или читать в критических рассуждениях, что война для послевоенных поколений поэтов всего лишь память о героическом и горьком прошлом страны, боль искренняя, но не своя, а как бы «заемная». Поэтому не лучше ли молодым писать о своем времени, о своей боли, пусть не такой острой и всеобъемлющей, но пережитой наяву, а уж войну оставить ее участникам и очевидцам.
На первый взгляд все логично, но логика эта формальная, и, поверенная гармонией искусства, она распадается. Именно так, как в стихотворении «Рубеж» Александра Боброва:
Уж сколько лет!..
А сын в лесу негромко —
Как я отцу – вопросы задает:
– Землянка?
– Да.
– Воронка?
– Да, воронка.
– Окоп?
– Гнездо, где размещался дзот.
Уж сколько лет!..
А сын опять упрямо
Все ищет гильзы. Мало мы нашли?
Да, может, это не воронка – яма,
Не бруствер – складка на лице земли?..
Не все ж война!
Но ветер дымом горьким
Встревоженному сердцу говорит:
Склонись в раздумье над любым пригорком, —
Не ошибешься – здесь солдат зарыт.
Есть боль соучастника, и есть боль соотечественника. Человеку, чье Отечество перенесло то, что выпало на долю нашей страны, нет нужды заимствовать чужую боль, потому что она принадлежит всем и передается из поколения в поколение, равно как и гордость за одержанную Победу.
Более того, не пропустив эту боль через собственную душу, не осознав высокий и трагический опыт, вынесенный народом из войны, нельзя быть по-настоящему современным человеком. Особенно сегодня, когда земля напоминает «лимонку», готовую взорваться.
Писать о прошлом, думая про будущее, – прием в литературе не новый. Вспомним хотя бы Георгия Суворова и его ровесников, запоем писавших о Гражданской войне на рубеже тридцатых и «роковых сороковых годов», если пользоваться выражением Александра Блока из статьи «О назначении поэта», удачно использованным применительно к новому веку в знаменитом стихотворении Давида Самойлова «Сороковые, роковые…». Именно так, с тревогой о завтрашнем дне, пишут поэты послевоенных поколений о том памятном утре, когда «мессершмитты» плеснули бензин в синеву». Они хотят, пусть мысленно, поставить себя сегодняшнего в начале того горького победного пути длиной в двадцать миллионов жизней, потому что, пока существует угроза войны, двадцать вторым июня может стать любой день в нашем календаре. Не случайно Сергей Мнацаканян завершает свое стихотворение «Памяти 1941 года» строчками:
Раннее утро – и красное солнце,
красное-красное солнце весны,
на остановке – автобус трясется, —
небо аукнется, пульс оборвется —
сколько осталось минут до войны?..
…Это, так сказать, жизненная основа рассматриваемого нами поэтического явления, но есть еще основа литературная. Сергей Наровчатов, размышляя именно о стихах Георгия Суворова, высказал мысль, что фронтовое поколение, не выдвинув одного гениального поэта, само, все в совокупности, стало таким гениальным поэтом. И как в русской поэзии невозможно не испытывать влияния Пушкина, так нельзя сегодня писать стихи, не ощущая мощного воздействия поколения поэтов-фронтовиков. Воздействия идейно-тематического, стилевого, но прежде всего нравственного. «А я бы смог, как они?» – этот вопрос явно или подспудно пронизывает каждое стихотворение о войне, написанное сегодня.
Не забывая о России,
Сгорая в танках на снегу,
Стихи из боя выносили,
А я из дома не могу… —
наивно и в то же время очень точно передает свое ощущение ответственности перед «стихотворцами обоймы военной» Александр Швецов и добавляет:
И как же я под небом синим,
Как подвести я их могу!
Но, как правило, эта преемственность поэтических поколений выражена сложнее, диалектичнее, что ли! Часто война как бы пропускается через свой солдатский, хоть и не боевой, опыт. Например, у поэтов, прошедших через армейскую службу, обязательно есть стихи о военных учениях – с «условным противником», с «условно убитыми». Мысль о том, что обстоятельства образа действия «условно», родись он на десятилетие-два раньше, могло и не быть, обжигает поэта, заставляет мучительно думать о том, что случилось бы, если… Именно в таком ключе написано стихотворение Юрия Гречко «Маневры»:
Посредник вскричал:
– Вы убиты, сержант,
наповал!..
А я-то
на счастье слепое свое уповал,
когда мы бежали, шалея,
в учебном огне.
И цепь отпустила меня,
разомкнувшись на мне…
Убитый условно,
я падал на полупути.
Трава и деревья
могли сквозь меня прорасти.
И птица щегол
распевать надо мною могла,
когда наступает весенняя
душная мгла.
Поэт смотрит в прошлое как в зеркало и видит там почти себя. Почти, потому что полному слиянию мешает это зыбкое и так легко отбрасываемое людьми обстоятельство «условно»:
…А кто-то
сорвет землянику
и скажет: «Горчит…»
В траву упадет,
рассмеется, потом замолчит.
И будет, наверно, лежать
голова к голове
с солдатом без имени,
давшим начало траве.
На стихах Юрия Гречко мне хотелось бы остановиться подробнее, потому что он относится к немногим поэтам, пришедшим в литературу в середине 70-х, для которых военная тема стала одной из главных. Причем он принял в себя не только боль фронтового поколения, но и свойственную фронтовикам гордость за свое ратное дело, высокую воинскую романтику:
Все мерить соленость пота —
привычка солдат отставных.
Ничто не покажется пресным,
ничто не истлеет, пока
для нас громыхают оркестры
на замерших флангах полка!
Эти строки удивительно созвучны поэзии Георгия Суворова, во многих своих стихах утверждавшего отношение к ратному труду как мерилу важнейших свойств человеческой души. Поэт, задумавшийся о минувшей войне, воспринявший как личную боль фронтового поколения, не может не мыслить о сегодняшнем дне, о его болях и бедах. Иногда мне кажется, что к самой гражданственности и интернационализму, этим неотъемлемым качествам всей русской поэзии, современные молодые поэты приобщаются через военную тему.
И еще одним наблюдением я хочу поделиться. Важным мотивом молодых поэтов 30-х и 40-х годов, писавших о Гражданской войне, было чувство зависти к отцам и старшим братьям. Надо ли говорить, что у нынешних молодых, пишущих о войне, этот мотив начисто отсутствует. На фронте порой живые были рады поменяться местами с мертвыми, пользуясь выражением Дмитрия Кедрина. И завидовать тут нечему. Это свойство тесно связано с другим. Готовность к испытаниям, к защите Родины молодые поэты от имени своего поколения не декларируют, эта готовность как бы звучит в самих мужественных интонациях стихов, где есть все – и гордость за военную мощь Родины, и чувство личной причастности к этой мощи, и чувство личной ответственности за такой дорогой и непривычный для нашего народа мир, и чувство страха за человечество, за планету. Именно чувство такого страха рождает в бою отвагу, которая отличала советских воинов. Об этом в стихотворении «Поколение Победы» с пронзительной точностью написал Станислав Золотцев:
Не страх за себя – я плечами ровесников стиснут.
Не холод по коже от близких ракет и торпед:
они для того и встают над водою и виснут,
чтоб кровью и пеплом не застило солнечный свет.
Но трудно поверить – и страшно не верить, что веха
свинца и огня не возникнет у нас на пути.
Мы – первые люди в России двадцатого века,
не знавшие войн – дожившие до тридцати.
На этом было бы можно и закончить наше отступление, если бы не одно «но», которым неожиданно становятся в нашем разговоре такие строки молодого поэта Владимира Урусова:
Катись проторенной дорогой.
Про что угодно воду лей.
Но меру знай – войну не трогай.
Отца родного пожалей.
На первый взгляд можно подумать, что автор в принципе против военной темы в молодой поэзии (помните рассуждения о «заемной боли»!). Но в другом месте Урусов сам признается: «Война меня преследует повсюду…» В чем же дело? А дело в том, что автор имеет в виду тот тип стихотворцев, которые делают из военной темы «паровозы». Есть такой профессионализм, обозначающий дежурные патриотические стихи, тянущие за собой в публикации весь остальной лирический состав. И обычно, показывая стихи товарищу, их авторы с виноватой улыбкой говорят: «Первое можешь не читать. Это паровоз…» Но, честно говоря, я еще не читал ни одной талантливой лирической подборки, втянутой на газетные или журнальные страницы такими «паровозами». Гражданские стихи могут не удаться талантливому поэту, но сознательно идти на подделку художественно одаренный человек, по-моему, просто не может.
В таких стихах нет свой боли, а есть расчет на то, что святость темы возместит отсутствие человеческой подлинности, поэтической новизны. Поэтому всем обращающимся к военной теме надо бы чаще вспоминать суровые строки Николая Майорова:
И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.
Читатель может задать вопрос: «Почему я назвал это отступление лирическим, если речь в нем идет совсем не об авторе, а о чужих стихах?» Да, это верно, и тем не менее все, о чем я сказал, вещи глубоко личного свойства, потому что военная тема волнует и меня, потому что немало моих стихотворений посвящено войне, потому что иногда я представляю себе, как принес бы свои стихи о войне Георгию Кузьмичу Суворову. Ему сейчас было бы за шестьдесят. Я пытаюсь вообразить его пожилым, но что-то не получается. Знаете, как в фильмах: бывает, молодого актера неудачно загримируют под старика – немного седины в виски и усы, немного искусственных морщин, а лицо все равно молодое…
Иногда по воскресеньям, выпросив разрешение у редактора майора Царика, я приходил в редакцию нашей «дивизионки» и доставал из чуланчика подшивки военного времени. Мне, как активному военкору, это разрешали. Я погружался в боевое прошлое нашей дивизии, прошедшей с боями до Померании. Грубая, пожелтевшая, похожая на горчичник бумага. Крупный, прыгающий шрифт. Торопливая верстка. А над черными неуклюжими буквами названия вместо привычного лозунга «За нашу Советскую Родину!» сурово и требовательно – «Смерть немецким оккупантам!». Да и все содержание газеты: от маленькой заметочки о снайпере Сидорчуке, уложившем своего 49-го фрица, до пространного объяснения, почему вводится новая форма с теми самыми погонами, от которых некогда решительно отказалась Красная Армия, – служит одной цели – морально подготовить солдата к новому бою, укрепить его бесстрашие и беспощадность. А фронтовой юмор! Он одновременно и смешит, и ожесточает:
«– Где же Мюллер?
– Он в лазарете. Во вчерашнем бою русской гранатой ему оторвало обе ноги!
– Бедняга… Недаром он всегда говорил, что нужно поскорее уносить отсюда ноги!»
«Окоченевшая вражда», – очень точно сказал об этом состоянии человеческой души Семен Гудзенко, но иначе было нельзя, потому что, как написал Суворов,
Мы твердо знали. Да. Мы знали точно —
Победу нам дают лишь кровь и боль.
Листаю подшивку…
Вот смутные, непропечатавшиеся фотографии наших бойцов, замученных фашистами, еще более страшные в этой своей смутности. И жирная надпись: «Отомсти!» А вот письмо, которое получил рядовой Сергеев из дому. В нем рассказывается о зверствах фашистов, сжегших деревню, коловших штыками маленьких детей. И снова – «Отомсти!». Рядом – взволнованные рассказы о подвигах однополчан, жестоко мстивших врагу. Очерки, заметки подписаны именами военных корреспондентов; и по тому, как часто меняются фамилии, понимаешь, насколько опасна была работа дивизионного корреспондента, чьи руки одинаково владели «лейкой», карандашом и пулеметом. А вот внезапно за один номер сменились сразу все: и редактор, и корреспонденты, да и газета стала немного другой. Может быть, накануне землянку редакции накрыло тяжелым снарядом… Я вдруг явственно слышу вой снаряда, потом разрыв и частый пулеметный стук. И только через несколько мгновений соображаю, что это в солдатском клубе начали показывать вечерний фильм. Как всегда, про войну…
Сколько таких «дивизионок» выходило на бескрайних фронтах великой войны, и, хотя они не могли соревноваться по уровню профессионализма, качеству материалов с армейскими и фронтовыми и тем более центральными газетами, где служили многие видные наши журналисты и писатели, они делали свое нужное дело, и со многими из них связаны были судьбы вступавших тогда в литературу писателей, выдвинутых армейской средой, каждый из которых мог бы сказать о себе словами Семена Гудзенко:
Я был пехотой в поле чистом,
В грязи окопной и в огне.
Я стал армейским журналистом
В последний год на той войне.
Но если снова воевать…
Таков уж закон:
Пускай меня пошлют опять
В стрелковый батальон.
Быть под началом у старшин
Хотя бы треть пути,
Потом могу я с тех вершин
В поэзию сойти.
Стихи написаны в 1943–1944 годах. Именно в это время сошел в военную журналистику с вершин передовой Георгий Суворов…
В январе 1943 года была прорвана блокада. С плацдарма в районе Московской Дубровки перешли в наступление полки 45-й гвардейской стрелковой дивизии… Боевая и творческая биография Г. Суворова в этот период складывалась следующим образом. Поэтический дар молодого офицера был вскоре замечен. «До 23 октября 1943 года, – вспоминает председатель Совета ветеранов гвардейской Красносельской ордена Ленина Краснознаменной мотострелковой дивизии имени А. А. Жданова полковник запаса К. В. Кононов, – мы знали его как командира взвода, 23 октября гвардейцы узнали и Суворова-поэта. В этот день он напечатал в дивизионной газете «За Родину» стихотворение, посвященное комиссару дивизии Георгию Журбе, умершему от ран». Комиссар Журба пользовался любовью солдат, отличался личной храбростью. Несколько номеров дивизионной газеты были посвящены его памяти. Не мог не откликнуться на это трагическое событие и Георгий Суворов:
Солдат… Ты плачешь? Не грешно ли?
Ведь слез солдату не простят.
Любые раны или боли —
Все перенес уже солдат…
Но тут не выдержал. Упали
Скупые слезы на песок.
Солдат, сдержавший натиск стали,
Слез горьких удержать не мог…
Он шел вперед. Он шел на приступ,
Взмахнув рукой над головой.
И знали мы – не жить фашисту,
Не быть фашисту над Невой!
Называлось стихотворение «Над гробом комиссара. Памяти Георгия Журбы».
В период с октября 1942 по май 1943 года в газете «За Родину» появились и другие произведения поэта, посвященные сентябрьским боям, присвоению соединению звания гвардейского, – «Стяг богатырей», «Стрелковая гвардейская», «Новогодняя песня». А в конце мая 1943 года, после зимнего наступления, Суворов был прикомандирован к редакции газеты «За Родину» и пробыл фронтовым корреспондентом более полугода.
Г. Суворов вошел в сравнительно немногочисленный, но важный отряд армейских политработников – военных газетчиков. «Работа военных корреспондентов, – писал К. Симонов, – не была самой опасной работой на войне. Не самой опасной и не самой тяжелой. Тот, кто этого не понимал, не был ни настоящим военным корреспондентом, ни настоящим человеком. А те, кто это понимал, сами, без требования со стороны начальства стремились сделать свою работу и опасной, и тяжелой, старались сделать все, что могли, не пользуясь ни выгодами своей относительно свободной на фронте профессии, ни отсутствием постоянного глаза начальства».
Именно таким военкором был Суворов, размышлявший о высокой миссии воина, призванного в зажигающем слове отразить подвиги своих товарищей по оружию. Как, например, К. Симонов, другие поэты – военные журналисты, он написал стихи о своей работе. В посвящении стоит – «Военному газетчику Н. Маслину». Н. Маслин был в то время редактором газеты «За Родину» и с большим пониманием относился к своему сотруднику, ценил его творчество.
За время, проведенное в должности военного корреспондента, поэт опубликовал на страницах «дивизионки» более 60 материалов – стихи, заметки, очерки. Материалы подписаны: «Гвардии лейтенант Георгий Суворов», инициалами – «Г. С.» или же, наконец, псевдонимом «С. Георгий». Однако нужно учитывать, что многие заметки шли без подписи; кроме этого, военные корреспонденты занимались так называемой организацией материалов, то есть помогали бойцам писать заметки в газету, редактировали их.
Подписанные материалы представлены в основном стихами и очерками. Стихи рассказывали о боях, о героях дивизии, воспевали массовый героизм советских людей, призывали отстоять Родину, Ленинград, не щадить захватчиков. Вот характерные названия: «Жизнь за командира. Бойцу Негриенко», «Неумирающее имя», «Так бьется коммунист», «Путь к победе», «Богатырь», «Священный автомат», «Ленинград» и другие.
Газетная работа требовала от поэта оперативности во всех стихотворных жанрах, требовала мгновенного решения любой темы. Писал Г. Суворов и агитки, призывающие бойцов подписываться на облигации денежного займа, чтоб «хруст бумаги стал скрежетом граненого штыка». Интересно сравнить эту агитку с другой – «Чтоб крепла сила, молодость твоя…», написанной и опубликованной еще в Омске. Показательно, насколько лаконичнее, убедительнее решает поэт теперь эту агитационную тему.
Разумеется, требования оперативной газетной работы в условиях действующей армии наложили определенный отпечаток на произведения – торопливость, открытая привязанность к отдельному факту – это было необходимо, естественно. Но поэт публиковал на страницах газеты и стихи, полные глубоких обобщений, в которых как бы найден художественный эквивалент духовному подъему простого советского солдата; хотя эти стихи тоже посвящены конкретным солдатам, например стихотворение «Сквозь смерч огня» – гвардейцу Соломонову:
– Пройду! – ответил он. – Пройду! Прорвусь! —
И дрогнул торф. И вспыхнуло болото.
Пошла вперед гвардейская пехота.
Пошла вперед разгневанная Русь.
Писал Суворов, как выясняется теперь, и прозу.
В основном это были распространенные во фронтовой печати очерки, обобщавшие опыт героических солдат и офицеров. «Само собой, – пишет П. Глинкин в книге «Страницы подвига», – что военный очеркист, корреспондент армейской газеты, вообще журналист не только следовал велению сердца в поиске объекта исследования, его выбор героя, ситуации, художественное решение темы определялись прежде всего злобой дня… Пропагандистская направленность, откровенная агитационность придает специфику всему искусству той поры».
Перед военным корреспондентом Суворовым стояла задача не просто рассказать о герое, а нарисовать его облик, его путь к подвигу, рассказать читателям-бойцам о «секретах» его солдатского мастерства и при этом постараться дать обобщенный образ советского чудо-богатыря. Таких очерков поэт написал около двух десятков, печатались они в основном «в подвале» второй полосы и были приблизительно одинаковы по размеру – 100–120 газетных строк.
Вот очерк «Разведчик Капшуков», начинающийся с рассказа о том, как опытный разведчик учит новичков: «Зеленая равнина. Болото. Лес. Как бы отрезая равнину от болота черной извилистой чертой, идет наша траншея. В лесу «противник».
Командир разведывательной группы гвардии красноармеец Капшуков ставит задачу молодым разведчикам. Опытный солдат, он знает, как можно скрытно подойти к врагу. Теперь учит этому других…» Далее Суворов переносит читателя уже во фронтовую обстановку. Интересно отметить, что и в прозе он мастерски дает пейзаж, находит точные детали, точные сравнения. Короткие предложения создают настроение надвигающейся схватки: «…июньский день. Солнце кровавым пятном отражается в Неве. На берегах ни души. Тишина. Только изредка где-то в расщелинах берегов поблескивают стекла перископов. Томительная это работа. Но разведка – это прежде всего выдержка. А выдержке Капшукова учить не надо…» Прослеживается во фрагменте и другая особенность, свойственная Суворову прежде всего как поэту, – стремление к афористичности – «разведка – это прежде всего выдержка». Далее рассказывается о том, как благодаря внимательности Капшукова удается засечь и расстрелять замаскированное фашистское орудие.
«И вот, – продолжает автор, – грянул боевой сентябрь 1942 года. Капшуков с группой бойцов получил приказ наладить связь подразделения с командиром части и обозначить передний край.
Лодка закачалась на Неве. С обоих флангов ударили по ней немецкие пулеметы. Мины и снаряды подняли фонтаны воды. Над переправой нависли «юнкерсы». Но лодка шла. Разведчики молчали. Капшуков, припав к носовой части, выбирал место для причала. Гребцы гребли. Еще минута, и разведчики гуськом где в полурост, где ползком продвигаются к переднему краю. Капшуков на ходу по цепи передал последний наказ бойцам: «Передний край наносить на карту точно. От нашей работы будет зависеть все.
Капшуков расположился на высотке. Оттуда он мог легко наблюдать за противником, изучая его передний край. Адская это работа. Над головой то и дело летели пули. Земля, поднятая снарядами, не один раз засыпала его с головой. Он выкарабкивался из-под земли, быстро переползал на другое место, и снова на карту ложилась черная черта переднего края гитлеровцев.
Теперь на опыте старого солдата разведчики учатся добывать победу. Они ее добудут».
Рассказам о героях посвящены почти все очерки Г. Суворова – «Александр Марков», «Наводчик Юрьев», «Ленинградец», «Комсомольский вожак», «Разведчик Василий Ольховский», «Разведчик Комаров», «Путь к победе», «Гвардеец», «Комсомолец Шутько», «За родной Ленинград» и другие.
В одних на первый план выступают черты портретного очерка: «Здоровые, крепкие руки. Сдержанные, но уверенные движения. Сутуловатая фигура. И на мужественном лице темные сосредоточенные глаза, опаленные дымом не одного такого боя…» («Разведчик Азанов»). В других случаях это военно-путевой очерк – широкий по охвату событий ленинградской эпопеи рассказ, в который как бы вкрапливаются конкретные боевые эпизоды: «Немцы били на дальних подступах к Ленинграду. Их бомбы ударили по историческим памятникам Новгорода. Длиннохвостые стервятники на бреющем полете проносились над Ленинградской областью, расстреливая женщин и детей…» («Под Сольцами»).
Проза и поэзия Георгия Суворова, конечно, не были изолированы друг от друга: в очерки приходили яркие образы, характерные для его стихов, а эпизоды, о которых поэт рассказывал в очерках, находили свое выражение в стихах. Работа военного корреспондента давала возможность поэту широко знакомиться с фактами массового героизма.
Интересно в этом отношении сравнить очерк «Комсомолец Шутько» со стихотворением «Хотя бы на минуту на роздых…». В очерке рассказывается о боевой группе, которой командовал боец Яков Шутько, корректировавший с территории, занятой противником, огонь нашей артиллерии. «Когда лавина озверевших фашистов бросилась на горстку оборонявшихся бойцов, Шутько склонился над рацией и передал: «Дайте огонь на меня». Десятки снарядов окаймили гарнизон. Немцы откатились…» Этот же эпизод лег в основу стихотворения, воспевающего отвагу советского солдата:
И рухнули наземь звезды,
И парень, гранату подняв,
С кровью выхаркнул в воздух: —
Огонь, огонь на меня!..
Конечно, вряд ли можно говорить о фронтовых очерках поэта как о безусловных художественных удачах – торопливость, недостаточно отточенное мастерство прозаика и другие условия сказывались на их уровне. Но не это для нас важно. «Война, – пишет П. Глинкин, – не любит литературных белоручек… Действительно, никогда литературный универсализм не был столь обиходен, как на фронте. Поэты становились прозаиками, прозаики писали стихи, а критики научились делать и то и другое».
Но главным для Суворова все-таки оставались стихи, писать которые он «не бросал ни на минуту». Одни из них появлялись на страницах газеты «За Родину», другие ждали своего часа в полевой сумке поэта-гвардейца. Н. Тихонов вспоминал: «Его полевая сумка была переполнена стихами. Стихи эти были самые разные, хорошие и плохие, незаконченные и зеленые, как маскировочные еловые ветви, прикрывающие снайпера, стихи, посвященные всему, что волнует сердце молодого поэта-воина…»
Суворов продолжал поддерживать отношения со своими знакомыми сибирскими писателями Дравертом, Мартыновым, Смердовым. Он посылает им новые стихи, некоторые из которых появились в «Омском альманахе», сборнике «Родина», вышедшем в Новосибирске в 1944 году. Его старшие товарищи отмечают творческий рост поэта. Так, Мартынов, пристально, с удовольствием следивший за развитием своего ученика, писал, предваряя его новые стихи: «…в боях с фашизмом превратился из рядового красноармейца в лейтенанта Георгий Суворов… Мы увидели новые стихи старого знакомого Г. Суворова в конверте со штампом полевой почты действующей армии… Прекрасные стихи пишет лейтенант Суворов. В войне с фашизмом окреп и вырос его талант, недаром о Георгии Суворове не однажды упоминалось в военной печати, недаром старший собрат – ленинградский поэт Николай Семенович Тихонов тепло встретил нашего поэта-лейтенанта и открыл ему дорогу в большую прессу».
К Тихонову Суворова всегда влекла суровая романтика автора «Орды» и «Браги». «Это был его главный поэт», – вспоминает Юдалевич. Причем влияние Тихонова сказывалось не в копировании Суворовым каких-то внешних черт «поэта романтического подвига», а в творческом восприятии «романтической доминанты поэзии Тихонова – утверждении героизма, суровой доблести самопожертвования, утверждении красоты железной дисциплины, культа верности долгу». Свое отношение к поэзии Тихонова как к источнику жизнелюбия и отваги Суворов выразил во фронтовых стихах, написанных уже после знакомства с ним и посвященных автору «Браги»:
Я снова пьян и юностью богат.
Не оторвать мне губ от пенной «Браги».
Я пью огонь, живой огонь отваги.
Я пробую клинок. Я – вновь солдат.
Сближала с Тихоновым Суворова и другая общая черта: глубокий интерес к жизни других народов, необоримая тяга к странствиям.
Сначала Николай Тихонов услышал о поэте-офицере с громкой полководческой фамилией от знакомого майора, прочитал его стихи, ходившие в списках. Стихи понравились. А потом состоялось и знакомство в квартире на Зверинской улице.
«Уже вторая военная осень осыпала улицы листьями всех цветов, – вспоминал Тихонов, – и в комнате, походившей на каюту много видевшего бурь корабля, было темновато, когда ко мне прямо с переднего края пришел Георгий Суворов.
Почти таким я и представлял его себе. Он был из тех ладных молодцов, в которых чувствуется что-то богатырски-молодое, и застенчивое, и дерзкое вместе, которые на вопросы: «Кто пойдет в самое пекло?» – отвечают, делая шаг вперед: «Я пойду!» С того мига их связала та светлая мужская дружба, которая и должна связывать двух поэтов – учителя и ученика. «Когда я долго не видел Суворова, я скучал о нем, – признается потом Тихонов, – мне было радостно думать, что где-то в блиндаже при коптилке этот сибиряк на Неве пишет стихи».
А сам Георгий был тем преданнейшим, восторженным и верным учеником и товарищем, какие нечасто встречаются в жизни даже очень большим художникам. Уже в предсмертном бреду на медсанбатской койке он твердил одно имя – имя Тихонова.
Встреча со своим «главным поэтом» имела для Суворова огромное значение. Тихонов действительно «открыл ему дорогу в большую прессу», ибо пользовался высоким авторитетом и как замечательный поэт, и как руководитель Ленинградской писательской организации. В течение 1943–1944 годов стихи поэта постоянно появляются в журналах «Ленинград» и «Звезда». «Выслал тебе журнал «Звезда», – пишет он сестре. – Этот журнал печатает мои вещи регулярно. Жду выхода книги своих стихов».
Впервые о своей будущей книге поэт заговорил в сентябре 1942 года, когда познакомился с Тихоновым. В письме сестре читаем: «В Ленинграде я увиделся с поэтом-орденоносцем Николаем Тихоновым. Мои стихи ему понравились. Он написал письмо командиру нашей дивизии (Краснову А. А. – Ю. П.), и я на днях еду опять в Ленинград для издания книжки своих стихов». И в дальнейшем в редком письме поэт не говорит о желанном сборнике, о перипетиях, связанных с его изданием, – «книжка еще не вышла, очень трудно здесь с изданием. Сама понимаешь: Ленинград – город-фронт. Но надежды не теряю: в журналах и альманахах издаюсь все время». Книга была необходима Суворову кровно, он вступил в ту пору творческого развития, когда на пройденный этап нужно взглянуть как бы со стороны, а это значит – нужно издать книгу. Но, к сожалению, очень медленно «пережевывала типографская машина», пользуясь словами поэта, его сборник. В нарвском музее я обнаружил внутреннюю издательскую рецензию, в которой рецензент Т. Хмельницкая дает высокую оценку произведениям Георгия Суворова: «Поэзия Суворова отличается большой искренностью, свежестью, неподкупной правдивостью выражений, подлинной чистотой чувств. Он великолепно видит и воплощает природу родного края, он не только чувствует, но и углубленно мыслит в стихе, стараясь передать свою мысль в сжатых, содержательных, продуманных и глубоко пережитых строках. Но во многих стихах Суворова чувствуется еще поэтическая незрелость. Поэт далеко не всегда находит слова, адекватные характеру и сущности выражаемого…»
Георгий Суворов, пользуясь каждой свободной минутой, продолжает упорную работу над сборником. В его полевой сумке появляется самодельная тетрадка, на обложке которой написано: «Стихи в дополнение к сборнику «Слово солдата» – это тридцать стихотворений, большинство из которых впоследствии вошли в книгу «Слово солдата». Нужно сказать, это строгое и емкое название пришло к поэту не сразу. «Из его стихотворений, – вспоминает Н. Тихонов, – постепенно собиралась первая книга, которую сначала он хотел назвать «Тропа войны». Было у него такое стихотворение, где говорилось и о Сибири, и о войне. Но потом решил переменить название.
«Надо назвать проще и точнее, – говорил он. – Я солдат. И книгу назову «Слово солдата».
Общение с Тихоновым, знатоком литературы, блестящим воспитателем литературной смены, несомненно, ускорило творческий рост Суворова. Он получил возможность читать свои новые вещи доброжелательному, но строгому читателю, перед ним был пример поэта, умевшего органически сочетать высокую гражданственность с подлинной художественностью. Вместе с тем нет оснований говорить о некоем прямом, непосредственном отражении стиля Николая Тихонова в творчестве его молодого ученика. Справедливо отмечает Сергей Наровчатов, что «тихоновский стиль мало чем отпечатался в стихах Суворова. Разве что афористичностью отдельных строк, и особенно концовок. В Тихонове молодой поэт искал и нашел нравственное соответствие своим поступкам и стремлениям…». Тем не менее нужно сказать, что в некоторых стихах Суворова все-таки ощущается влияние, скажем, тихоновского ритма – ритма шагов идущего по ночному городу Кирова:
Снегов помутневшая россыпь
На скованном льдом берегу.
Окопы. Воронки. Заносы.
Багрянец крови на снегу.
…Поэт всегда развивается в поэтической атмосфере своего поколения, его творчество испытывает на себе как притягивающие, так и отталкивающие силы литературной традиции, творчества современников.
О взаимоотношении Георгия Суворова с представителями его поэтического поколения, «стихотворцами обоймы военной», пользуясь выражением Александра Межирова, следует сказать особо. Как мы знаем, еще в омский период Суворов общался со своими ровесниками – поэтами Ливертовским, Копыльцовым и другими. Но все-таки вряд ли можно сравнить их общение с той напряженной и бурной литературно-общественной жизнью, которой жили его юные товарищи по перу в Москве, студенты Литинститута, МГУ и ИФЛИ Наровчатов, Коган, Майоров, Кульчицкий, Отрада и многие другие. Понятно, что литературная жизнь столицы, знакомства со многими мастерами слова более способствовали расширению их кругозора, разнообразию их поэтических поисков. Однако нельзя сказать, что Суворов был совершенно в стороне от исканий своего поколения. Как вспоминает Наровчатов, стихи некоторых ровесников, например Михаила Луконина, он знал «по публикациям в довоенных журналах». Попав же на Ленинградский фронт, поэт-офицер сразу окунулся в насыщенную литературную жизнь фронтового города. «Георгия Суворова, – вспоминает Тихонов, – на Ленинградском фронте скоро узнали многие. Слухом земля полнится, а братьев-литераторов в армии было много, и стихи сибирского поэта стали известны, тем более что некоторые из них печатались не только во фронтовой печати». Вскоре в редакции газеты Ленинградского фронта «На страже Родины» или на квартире Тихонова Суворов познакомился со многими товарищами-литераторами. Он встречался с Михаилом Дудиным, Сергеем Наровчатовым, Павлом Шубиным, Иваном Курчавовым, который вспоминает, как на квартире Тихонова Суворов познакомился с Фадеевым. Во время встреч Суворов узнавал, над чем работают его товарищи, в каком направлении ведут поиски, – все это оказывало несомненное влияние на его собственные произведения. «Нас проникало, – писал Наровчатов, – удивительное чувство общности молодой поэзии, и тысячи километров, отделявших нас от друзей, даже метрами не казались». Это чувство общности определяло и созвучие стихов, мотивов у поэтов, совершенно не знавших друг друга. Интересно сравнить в этом отношении строки стихотворения Николая Майорова «Мы» и Георгия Суворова «Месть».
Майоров:
Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли недолюбив,
Недокурив последней папиросы…
Суворов:
Мы стали молчаливы и суровы,
Но это не поставят нам в вину.
Без слова мы уходим на войну.
И умираем на войне без слова.
Едва ли Суворов мог читать эти стихи своего собрата, частично опубликованные в 1940 году в газете «Московский университет», но он мог их слышать, например, от Наровчатова, который вспоминает, что во время их встречи шел разговор и про Майорова, о чьей гибели еще не было известно. Немалое влияние оказал на Суворова и его ленинградский товарищ Михаил Дудин, которому он посвятил свое самое известное стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…». Очевидно, что творческое развитие Суворова во фронтовой период происходило в тесном взаимодействии с поэтическим развитием своего поколения «стихотворцев обоймы военной».
Суворов был не только создателем поэтических произведений, но и пропагандистом советской поэзии среди воинов. «Поэт на фронте, – писал Наровчатов, – всегда является пропагандистом поэзии в целом… Георгий Суворов обладал отличной памятью, и его солдатские слушатели могли, наверное, пройти вместе с ним сокращенный курс Литинститута, если б на то хватило времени и возможностей». Сергей Наровчатов вспоминает также о тесном контакте, возникавшем у Суворова с солдатской аудиторией: «Солдатский читатель стал нашим главным и единственным учителем в годы войны. Именно ему должно отдать поклон за науку фронтовое поколение поэзии. Одним из тех, кто до конца усвоил этот урок, был Георгий Суворов».
В канун январского 1944 года наступления, вероятно в ноябре 1943 года, Суворов подал заявление о приеме его кандидатом в члены ВКП(б). Наступления, которому предстояло окончательно снять блокаду и отбросить фашистов от Ленинграда, поэт ждал, по словам Н. Тихонова, «как праздника». И в бой он мечтал пойти коммунистом. К сожалению, по отношению к поэту была проявлена та же несправедливость, что и когда-то при его вступлении в комсомол. Леонид Решетников в очерке «К портрету моего современника» упоминает об этом случае, правда, допуская некоторые неточности: речь шла о приеме не в члены ВКП(б), а кандидатом в члены ВКП(б). Кроме того, он отмечает, что «при рассмотрении заявления кто-то высказался против, имея в виду, возможно, еще недостаточный боевой опыт Г. Суворова».
Председатель Совета ветеранов дивизии, в которой служил поэт, К. В. Кононов, бывший в то время офицером политотдела, вспоминает об этом случае: «…не было сомнений в «недостаточном» боевом опыте Г. Суворова. Не было сомнений в его «готовности отдать всего себя Родине». Мы знаем, кто высказался против на заседании парткомиссии. У человека, воевавшего с 1941 года, пролившего свою кровь, был боевой опыт, и не было в этом сомнений. Вопрос свелся к истории отца, которого они с сестрой потеряли в юности. Что мог сказать о нем Георгий? Да и не нужен был этот вопрос. Такую ошибку допустили товарищи, ошибку неоправданную. А Георгий погорячился, решил что-то доказывать… Мы же, политотдельцы, «прозевали», поздно спохватились… Сознаем и сожалеем об этом. Знали и знаем, что он в сердце и в делах был коммунистом».
Глубоко обиженный этим недоверием, Суворов подал рапорт с просьбой откомандировать его из газеты в свой взвод противотанковых ружей. С 25 ноября в газете «За Родину» перестают регулярно появляться материалы за подписью «Гвардии лейтенант Г. Суворов». Правда, в канун наступления в газете были напечатаны его маленькая заметка «Солдатская сметка», рассказывающая о бойце, находчиво воспользовавшемся в бою ракетницей как стрелковым оружием, и стихотворение «Соколиная», написанное в жанре походной песни и полное того высокого подъема, который охватил армию в канун наступления:
Снежный ветер в поле воет.
Путь-дорога длинная.
Грянем, братцы, да сильнее,
Песню соколиную!
Стихи были опубликованы 9 января, а 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская операция, в которой активное участие принимала 45-я гвардейская дивизия, 21 января получившая почетное наименование Красносельской за бои в районе города Красное Село. Это было последнее отличие соединения, свидетелем которого был гвардии лейтенант Суворов. «Мы быстро продвигаемся вперед, гоним немца с нашей земли, – пишет он сестре. – Все кругом сожжено и уничтожено фашистами, многие советские люди угнаны в Германию. Чувствую себя отлично. Командую бронебойщиками. Это очень интересно. От Ленинграда ушли очень далеко. Собственно говоря, мы у эстонской земли…»
Иногда говорят о том, что поэты как бы предсказывают свою смерть, что тема смерти, появляющаяся в стихах, предвещает гибель реальную. В доказательство приводят классические примеры: Лермонтов, Есенин… Что ж, это грустно, но понятно: поэт – человек, обладающий обостренным чувством пути, а у пути, как известно, есть начало и конец. Кстати, наше поколение воспитано так, что о неизбежном окончании пути мы как-то не думаем, а значит, и жизнь свою зачастую планируем, строим, как будто впереди у нас вечность. И не в этой ли бодренькой уверенности, что «все еще впереди», истоки инфантильности немалой части молодых? И опять я призываю тебя, читатель, сверить свою душу, свою жизнь с судьбой того поколения, с судьбой Георгия Суворова.
«Мои сверстники, – писал Наровчатов, – спокойно относились к возможности собственной гибели. У многих из нас были стихи и о своей смерти, которая угадывалась в будущих боях». Молодой, сильный, жизнелюбивый Суворов жил в постоянной готовности к смерти, которая если и проходила мимо, то, значит, это стоило жизни кому-то другому. «Вначале было неприятное ощущение того, что через минуту можешь умереть, – признавался Георгий в письме к сестре. – Постепенно привык. Научился воевать». Да, веря, что «вновь придет к своим таежным тропам», веря в свою поэтическую судьбу, веря в большую и настоящую любовь, которая впервые пришла к нему на фронте, поэт внутренне был постоянно готов к смерти. И это мужественное, скорбное чувство не могло не стать стихами:
Когда ж найдут меня средь мертвых тел,
С улыбкой грустною кивнут на ветер:
– Он весело страдал и сладко пел… —
А может быть, и вовсе не заметят.
Но этот мимолетный мотив – естественный, когда вокруг столько смертей, подчас и вправду безвестных и незаметных. Нет, конечно же, Суворов был уверен в памяти товарищей, а главное – в отмщении:
Ведь вспомнят и о нас, как мы сурово
В последний раз припомнили о нем:
– Он был средь нас… Товарищ мой, ни слова,
Мы в честь него ударим в ночь огнем!
Вот еще строчки из никогда не публиковавшегося, да, впрочем, и не дописанного до конца стихотворения «Художник», которое я нашел в полевой сумке поэта, хранящейся в Нарвском городском музее:
…Я видел, как застыл он на сугробе,
Когда рвануло землю перед ним,
Как он взглянул на струйки алой крови,
Как стал глотать он розоватый дым.
Потом друзьям, испытанным солдатам,
На кровь свою глазами указал:
– Она врагам покажется закатом,
Но как рассвет стоит в моих глазах…
Именно так все и случилось 13 февраля 1944 года: при форсировании скованной льдом реки Нарвы поэт был смертельно ранен осколками вражеского снаряда, разорвавшегося посредине боевых порядков взвода, который он вел на левый, эстонский берег. Суворов умер в медсанбате на следующий день, 14 февраля, и был похоронен в братской могиле на берегу Нарвы возле деревни с есенинским названием Криуши.
Суворова не стало: оборвалась одна из двадцати миллионов жизней, которых стоила Победа. Навсегда исчезла целая вселенная, неповторимый, невозвратный мир, носивший красивое имя – Георгий Суворов. И сейчас, наверное, впору заговорить о стихах, сохранивших его душу, переживших прах поэта. И об этом я обязательно скажу, но не сейчас. Смерть завораживает, как огонь. Вновь и вновь заставляет задуматься о тайне и смысле бытия. Помните, как заканчивается «Поединок» Куприна: Ромашов убит. И эту роковую грань писатель дает почувствовать, противопоставив живому голосу предыдущих страниц бесстрастные строки военного рапорта. Именно с таким чувством я читал извещение о гибели поэта:
Форма № 4. Копия
Серебряковой Тамаре Кузьминичне
ИЗВЕЩЕНИЕ № 19
Ваш брат гв. лейтенант Суворов Георгий Кузьмич, уроженец Красноярского края, Краснотуранского р-на, с. Краснотуранское, в бою за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер от ран 18[3] февраля 1944 г. Похоронен в районе Красненска Эстонской ССР.
Настоящее извещение является документом для возбуждения, ходатайства о пенсии. Приказ НКО СССР № 240 1943 г.
А вот строки из письма, которое написал сестре поэта его фронтовой друг Олег Корниенко:
«Здравствуйте, Тамара!
Извините меня, что я так долго не сообщал о Гоше. Я не мог это сделать, пока не был сам точно убежден в правдивости случившегося несчастья.
До этого времени я не имел возможности узнать, слухам, которые ходили, не верил. Вчера я был в том медсанбате, в который Гоша попал по ранению. Там точно узнал, что Гоша умер от ран… Видеть его раненым мне не пришлось, так как мы находились в разных подразделениях. Видел его связного, то есть бойца, который сопровождал его. Он рассказал, куда Гошу ранило. Его ранило осколками разорвавшегося снаряда в лицо (перебило нижнюю челюсть), в живот и в ногу. Перебило кость.
Тамара, вы извините, что я сообщаю об этом так жестоко и прямо, но лучше знать сразу и бороться с переживаниями, чем мучить себя разными предположениями… На войне все так получается. Сегодня ты с другом, а завтра может быть, что тебя нет в живых. Но оставшийся мстит этим фашистским мерзавцам за смерть друга…»
«Его талант железом утвержден…»
Жизнь поэта может сложиться по-разному. Как правильно заметил один мудрый писатель, поэзия не профессия, а состояние души. «Как же так? – может возразить читатель. – А почти десятитысячный отряд членов Союза писателей СССР, одно только перечисление которых (вкупе с адресами и телефонами) составляет толстенную книгу? Разве для них это не профессия – писать? Все верно, профессия «литератор», то есть человек, посвятивший жизнь литературной деятельности, безусловно имеется, а уж поэт ты, прозаик или драматург… Это и вправду состояние души, которое и меняется порой со временем. Может быть, поэтому в «краснокожем» писательском билете – заветной мечте многих молодых литераторов – жанр (кто ты – драматург, поэт, прозаик) не указывается, а просто: фамилия, имя и отчество, номер удостоверения. Не будем гадать, как бы сложилась жизнь поэта после войны (еще С. Наровчатову он говорил о своей мечте поступить в Литературный институт), но и того, что он успел написать, достаточно, чтобы говорить о нем как об одном из талантливейших поэтов, родившихся «в огне великого испытания».
Остались стихи, запечатлевшие нравственный подвиг советских людей в годы войны, поэтический дневник человека, отдавшего свою жизнь за Родину, стихи, в которых подлинная, кровью оплаченная гражданственность и партийность соединены с яркой талантливостью, с той художественностью, которая делает стихотворные строчки (а кто не слагает их в определенном возрасте и душевном состоянии?) фактом духовной жизни народа, явлением большой литературы.
Для истинного поэта стихи – самое главное, это оправдание и смысл жизни. «Мои стихи… – шептал умирающий Валерий Брюсов, который, как известно, был еще и прозаиком, переводчиком, литературоведом, историком, издателем, педагогом, государственным деятелем, – мои стихи…» Так Суворов, подобно верующему, твердящему перед смертью имя бога, умирая, звал своего главного поэта, может быть надеясь, что сама Поэзия не всем понятной, но огромной силой поможет ему выжить. Выжили его стихи. Именно выжили, потому что и поэтические строки испытывают разрушительную силу медленного урагана времени: и порой строки, восхищавшие нас пять лет назад, вызывают ныне ироническую усмешку и чувство неловкости за себя тогдашнего. А стихи Суворова вот уже четыре десятилетия волнуют читателей, учат самому важному – умению любить жизнь и умению бороться за нее.
Снова и снова вчитываюсь в его строки. Совершенно прав Владимир Соколов, утверждая, что
Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод и жар.
И все же, если говорить о школе, о стилевой направленности поэзии Георгия Суворова, то со всей ясностью нужно определить: он был романтиком. Его романтическое видение мира начало складываться еще тогда, когда он с ружьем бродил по лесистым Саянам, дружил с плотовщиками и чабанами, слушал рассказы о красных партизанах, которые в устах хакасских сказителей более походили на легенды о богатырях – альтах; когда молодой сельский учитель попытался в поэтических строчках выразить свой восторг перед сказочной хакасской землей, перед теми грандиозными преобразованиями, которые переживала вся многонациональная Россия. А потом армия, фронт. Личный боевой опыт, образцы невиданного мужества и героизма слились в сознании поэта с романтическими традициями русской воинской поэзии. Фронтовая поэзия Георгия Суворова – это поэзия героико-романтическая. Да он и сам понимал особенность своего дарования:
Стой! И послушай шорохи зари,
Пусть рвется слово. Но не говори!
Не говори… Об этом будет песня.
А ведь кругом шла война: смерть, кровь, примеры не только мощи, но и нищеты человеческого духа – все это было перед глазами Суворова. Можно двояко бороться с этим силой слова: писать об этом гневно и страстно или со всей силой души противопоставлять этому свой героический идеал, – именно таков был принцип Суворова. Можно возразить, что в условиях военной печати, в силу ее специфики, появление стихов первого типа было зачастую невозможно. Это верно, но они оставались в записных книжках и потом составляли основу послевоенных книг поэтов-фронтовиков. Главное, что они были. Среди многочисленных не публиковавшихся при жизни произведений Суворова практически нет ни одного, где он бы отказался от своего романтического принципа типизации. В его художественную задачу входило создать высокий, романтический образ советского воина-освободителя. Приведу очень характерный пример. Как, казалось бы, в условиях военного времени можно было писать о солдате, попавшем в плен? А все-таки и тут поэт не отступает от своего принципа. Он пишет о «звериных черных лапах, легших на тело молодое в неравной схватке взятого воина». Он обращается с гневной отповедью к Германии, «клеймящей своим позором бойца прекрасные черты».
Сами поэты остро ощущали этот возросший героико-романтический пафос советской поэзии. «В самом деле, что случилось с такими словами, как слова «победа», «битва», «счастье», «могущество», «Родина», «смерть», «жизнь», «месть»? Раньше это были слова условного, «высокого» стиля. Сейчас они вошли в наш быт», – писал Н. Тихонов.
Нередко обращается поэт и к романтической символике. Наиболее типично в этом отношении стихотворение «Чайка». Эти птицы являются, по мысли автора, символом бесстрашия, активного отношения к бытию:
Как полумесяц молодой,
Сверкнула чайка предо мной.
В груди заныло у меня…
Зачем же в самый вихрь огня?
Что гонит? Что несет ее?
Не спрячет серебро свое…
……………………………………
Зачем?
Но разве я не так
Без страха рвусь в огонь атак?
И крикнул чайке я:
– Держись!
Коль любишь жизнь —
Борись за жизнь!
Характерно, что это стихотворение чрезвычайно ценил Николай Тихонов. В выразительности образа чайки явно ощущаются традиции русской революционной романтики – «Песни о Буревестнике» и «Песни о Соколе» Горького. Романтизм Суворова был не книжным, придуманным, уводящим от жизни, а был рожден в самом кипении жизни, ознаменовал творчество поэта, писавшего на линии огня, видевшего в жизни немало злого, недоброго, несправедливого и все-таки с романтической страстью мечтавшего о том,
Чтоб то, что было вечной болью
Твоей души, всех дней твоих,
Легло и умерло с тобою
В один неотвратимый миг.
Но только б жило, только б жило, —
Чему в веках не потускнеть,
Вот та единственная сила,
Сбивающая с толку смерть.
И такой «силой, сбивающей с толку смерть» поэт считал прежде всего отвагу, героизм своих товарищей по оружию. Тема героя и подвига – ведущая во всем творчестве Георгия Суворова, многих его товарищей по перу.
Поэт сам подчеркивает, что такая отвага на фронте имела огромное агитационное значение, вдохновляющее значение – личный пример был сильнее любых самых горячих слов:
Нет! Никакой порыв и никакое слово
Нас так не повело б в летучий дым огня.
Мы видели тебя и шли вперед сурово…
И немец отступал. И плавилась броня.
Яркое воплощение получил в стихах Г. Суворова образ воина-коммуниста. Одно из стихотворений – «Так бьется коммунист» – посвящено «офицеру Чахлову», ведшему неравный бой до последнего патрона в автомате, до последней гранаты:
А в час, когда живым крылом рассвета
Багряный ветер сдвинул стену тьмы, —
Лишь только по партийному билету
Средь вражьих тел его узнали мы.
Однако нельзя сказать, что за романтическим образом воина-богатыря поэт не видел реальных трудностей войны. Слова гордости и славы сливаются с чувством скорби, ода подвигу сливается с реквиемом погибшему герою. Но даже гибель героя трактуется поэтом как начало легенды, вечной памяти о павшем:
Отсюда начинается легенда,
От этой темной с надписью плиты…
Героический пафос Суворова отмечали еще первые рецензенты его произведений. Так, Т. Хмельницкая писала: «Это настоящее «слово солдата», это поэзия борца, закаленного фронтом, человека, у которого между поэтическим словом и реальным жизненным делом нет расхождения».
И сам поэт мыслил себя как певца воинского подвига, отводя себе скромную роль летописца солдатской доблести. Кстати, в устах Георгия Суворова слово «солдат» звучало как высшая похвала, свидетельство бесстрашия и ратного мастерства: «Вот уж поистине солдат, хотя с погонами майора…»
Тесно связана с темой героизма советских людей тема Родины во фронтовой поэзии. Причем образ Родины разрабатывался поэзией не только в «пространственном» плане, как необъятной земли, которая лежит, «касаясь трех великих океанов», но и во временном плане – великие исторические традиции, былые победы – это как бы залог несокрушимости в новом испытании. Недаром нынешние победы осмысляются как продолжение побед былых. П. Шубин, например, писал в одном из стихотворений о том, что над растоптанными танками фашистскими трупами как напоминание о прошлом стоят «сосны, может быть, времен еще ледовой сечи».
Обращение к Родине, клятва в верности ей чрезвычайно характерны для военной поэзии, но вместе с тем выражение этой сыновней любви в лучших стихах целомудренно, ненавязчиво. Все, что делает боец на войне, он делает для Родины, и необязательно каждый раз говорить об этом, готовность отдать жизнь убедительнее всяких слов. Это чувство очень точно выразил сверстник автора «Слова солдата» поэт Николай Старшинов, написавший с подчеркнутой суровостью, сдержанностью:
Когда, нарушив забытье,
Орудия заголосили,
Никто не крикнул: «За Россию!..»
А шли и гибли
За нее.
Немало стихотворений, раскрывающих тему социалистической Родины, и у Суворова. Поэт не пытается сдержать своих чувств, обращение к Родине в соответствии с его творческой манерой откровенно восхищенное, он не стесняется высоких, пусть не таких уж новых слов любви:
Жизнь дорога! – промолвит он друзьям. —
Но Родина дороже жизни нам!
Пишет Суворов и о славном прошлом страны. Одно из стихотворений он посвящает Георгиевскому кавалеру сержанту М. Стетюхе, вкладывая в его уста такие слова о преемственности боевой доблести:
А он лукаво шевельнет
Заиндевелыми усами
И скажет: «Наш девиз – вперед!
России слава вечно с нами!»
Обращается он и к историческим параллелям и в других своих стихах («Гвардеец»), в некоторых очерках.
Однако своеобразие темы России у Георгия Суворова заключено не в исторических мотивах, которые он использует реже, чем другие, а в особом слиянии темы Родины и темы родной природы, которая как бы вселяет новые силы в бойца, вдохновляет его, говоря шире, поэт вообще видит в природе источник сил человека, его творческой активности. Поэт словно хмелеет от окружающей его красоты, на мгновение забывая о том, что вокруг война, «пламени и стали гулкий вал». Есть строки, где он стремится сформулировать суть взаимоотношений человека и природы:
Природы бессловесный крик
Поймай и всей душой почувствуй.
В ней нет ни мысли, ни искусства, —
Но в ней источник сил твоих.
Но природа не только вселяет силы, она с материнской добротой «принимает» павшего. Поэт отвлекается от суровой простоты человеческой смерти – боец словно успокаивается на груди родной земли, за которую отдал жизнь:
А за гарью, словно снег,
Ландыши без края.
Рухнул наземь человек —
Приняла родная.
Беспокойная мечта
Не сдержать живую.
Землю милую в уста
Мертвые целуют.
А цветы, привлекающие взгляд поэта, «колеблющие живую радугу», воспринимаются им «как память павших здесь в бою за жизнь, за Родину свою».
Органично связана с темой родной природы тема Сибири. В своеобычном переплетении образа «сереброокой Сибири» и фронтовой темы во многом заключается своеобразие поэзии Суворова. Очень точно почувствовал эту особенность земляк поэта Леонид Решетников: «Во многих стихах Г. Суворова просвечивает одна особая окраска, один оттенок. Оттенок этот принесен им из Сибири, из края его детства и юности… Этот оттенок окрашивает многие его стихи».
Расставшись с Сибирью, поэт все чаще обращается к ее образу в стихах. Размышления о Сибири – это размышления о Родине. В малоизвестном письме к П. Драверту в Омск поэт пишет: «Родина! Вот что встало передо мной. Родина – это очень широкое понятие. Тут можно рассуждать. Но когда узнаешь ее в мелочах – это очень трогательно. Я стал писать стихи, связанные с Сибирью. Их получилось много. Отдельные уже напечатаны. А часть попала в мой сборник «Слово солдата», который должен выйти в свет». Речь идет о таких стихотворениях и поэмах, как «Тропа войны», «Сибиряк на Неве», «Косач», «Брусника», «Еще утрами черный дым клубится…», «Здесь все как в Сибири…», «Золото» и другие. Поэт среди военных будней постоянно вспоминает свою Сибирь, ищет в приметах среднерусской природы черты природы сибирской. Так, в глазах поэта «брусника как бы далекой родины привет».
Характерен для лирики Г. Суворова образ таежного охотника, готового платить «ценою крови и лишений за каждый шаг», но горячо мечтающего вернуться к своей тайге, к своим Саянам:
Но снежный вихрь мне не слепит глаза.
Смотрю вперед, смотрю через преграды,
Туда, туда, где черные громады
Гребенчатой дугой подперли небеса.
Характерно в этом отношении стихотворение «Косач», рассказывающее о встрече поэта, отдыхающего после боя, с косачом – птицей, хорошо знакомой охотнику-сибиряку. Не в силах выстрелить в прекрасную птицу, боец откладывает винтовку – он помнит охотничью примету: идя на крупного зверя, не должно стрелять птицу, иначе охота будет безуспешной. Но сейчас все мысли солдата о двуногом звере, уничтожать которого он поклялся «с суровостью сибиряка»:
…Мой выстрел, знаю, меток,
Но птица пусть свершает свой полет.
Охотник я. Я знаю толк в приметах:
Кто птицу бьет, тот зверя не убьет.
Но для поэтов-сибиряков, в том числе и для Суворова, в годы войны типично не только обращение к сибирской природе, важное место в их творчестве занимает рассказ о подвигах своих земляков. «Слово «сибиряк», – пишет Решетников, – являлось синонимом стойкости и сметки, самоотверженности и чувства локтя сражающихся солдат… Об этом необходимо помнить, когда мы обращаемся к нашей поэзии военных лет, и в частности к поэзии сибиряков». Поэтам-сибирякам было свойственно острое и гордое чувство того, что, по выражению Вас. Федорова, «в дни народных бед Сибирь стояла за Москвою». В небольшой поэме «Сибиряк на Неве» Георгий Суворов рассказывает о подвиге своего земляка, который
Как в тайге, по правилам охоты, —
Не убить страстей таежных в нем…
На глазах у всей фашистской роты
Он готов был злить ее огнем.
Герой поэмы погибает, не отступив ни на шаг под натиском фашистов.
Георгий Суворов писал о Сибири не только в стихах, но и в прозе. Как удалось выяснить, он был одним из тех сибиряков, кто откликнулся на появившийся в 1942 году знаменитый очерк Мартынова «Вперед, за наше Лукоморье!». Эти отклики были опубликованы вместе с очерком Л. Мартынова отдельной брошюрой. Вот что пишет Суворов, отвечая своему учителю: «Я слышу родные голоса. Снова я увидел мою сереброокую Сибирь. Увидел моих сибиряков. Увидел мои города. Мой Енисей, мой Иртыш, мой навсегда родной Абакан…
Этого не забыть!
Чем сильнее гул орудий, чем сильнее схватка с противником, тем яснее я в мыслях вижу мою Сибирь. Ее хлеб дает силы моим окопным друзьям. Ее руда тоннами летит на головы врагов. Ее леса мы ощущаем, сжимая глянцевое цевье автомата. Вот она, могучая Сибирь. Мы видим ее здесь, под Ленинградом, ломающую железную блокаду немцев».
Такой переход к образу блокадного города не случаен, ибо в творчестве Суворова темы Сибири и Ленинграда очень близки. Истоки этого поэт ищет в истории страны: «Схватка напомнила о сибиряках – любимцах Петра Первого. Петр Первый жив. Бойцы Ленинградского фронта видят город, ставший стеной на берегах Невы… Мы, сибиряки, снова пришли… Не быть черной блокаде. Рвутся снаряды. Это Сибирь обрушилась на головы немцев. Сибирь пришла, чтобы победить. Она победит!»
Ленинград, который поэт защищает с оружием в руках, как бы становится для него второй родиной. Он пытливо ищет черты сходства между сибирской и северорусской природой:
Здесь все как в Сибири. Гляжу из окна:
Такие ж цветы, такая ж трава.
К реке с возвышений стекаются тропы.
У нас – Енисей, а тут – Нева…
Тема блокадного города, героически выдерживающего натиск фашистских орд, стала одной из ведущих в творчестве Г. Суворова. «Сколько пережили ленинградцы, – пишет он в письмах к сестре. – Сколько испытали! Ты об этом должна знать из кинофильма «Ленинград в борьбе». Смотришь на все это, и сердце наливается от гнева. Никогда мы не простим этого фашистам! Они разрушили наш Петергоф. Они разрушили пушкинский городок. Они били из дальнобойных орудий по прекрасным зданиям самого Ленинграда». Жители окруженного города испытывали невероятные лишения, больше всех страдали дети. Именно к ним – ленинградским детям – обращено стихотворение «Хоть день один, хоть миг один…», написанное, как вспоминает О. И. Мерц, специально для новогоднего вечера в одном из ленинградских детских домов. К ним, маленьким ленинградцам, потерявшим родителей, обращал поэт строки, полные веры в победу света над тьмой:
И мы… хоть день, хоть миг один
Средь этих тягостных годин —
Мы будем петь и славить радость.
Среди крутых дорог войны
Мы встретим светлый день весны —
Мы встретим, дети Ленинграда!
Поэт со светлой верой вглядывается в «острый шпиль Адмиралтейства над багровеющей Невой». Но иногда, рисуя блокадный город, Суворов как бы дает выход накопившейся в сердце скорби, особенно когда он видит, какие опустошения принесла Ленинграду война:
Давно забыт и выветрен покой.
И в огнестрельных ранах тьма.
Одни дома… Дома передо мной,
Громадные дома.
Поэт сознавал, что предстоит еще много жертв во имя Победы. «Что им уже не победить – дело ясное. Но сколько еще жертв потребуется, чтобы свалить Гитлера! Сколько людей погибнет, народного добра, сокровищ культуры», – с горечью говорил Суворов Николаю Тихонову. В одном из своих последних писем он пишет Смердову: «Мне довелось испытать величайшее счастье – быть среди тех, кого обнимали и целовали освобожденные, избавленные от горя ленинградцы. Страшное это было счастье! Чтобы почувствовать все это, надо быть здесь».
Защищали и освобождали город сыновья многих народов нашей страны, и поэт, сам пришедший из далекой Хакасии, часто обращается в стихах к теме дружбы, сплоченности народов Советской страны. Как известно, планируя «молниеносную» войну, фашисты рассчитывали, что их удар мгновенно вызовет междоусобицу среди народов нашей страны и «лоскутное», по их мнению, государство развалится. Фашистская угроза, наоборот, сплотила народы. Выражая эту сплоченность защитников Ленинграда, пришедших из разных уголков страны, Суворов писал:
– Спасибо, мой окопный брат.
Откуда ты – не знаю я.
Ты мстишь, как я, за Ленинград, —
Твоя земля – земля моя!
В стихотворении «Хороший комиссар у нас» поэт рассказывает о бойце-грузине, для которого «месть – закон», в стихотворении «Дым черный, словно черный коршун…» – о пулеметчике-джигите Магдали. В поэме-легенде «Золото» Суворов повествует о своем земляке-хакасе, с которым повстречался на фронте. «Когда молчит военная Нева»… они вспоминают «свой цветущий край, свой Абакан, свой южный Карагай». Но вот закончилась короткая передышка, и земляки снова пошли в бой за Ленинград:
Орудия ударили вдали.
Мы обнялись, как братья, и пошли.
Это чувство братской сплоченности в борьбе с фашизмом составляет пафос стихов поэта, посвященных дружбе народов, – теме, чрезвычайно характерной для фронтовой поэзии в целом.
Проникновенные стихи посвятил Суворов фронтовой солдатской дружбе. Поэт утверждает, что ничто так не сплачивает людей, как боевые испытания, взаимовыручка в минуту смертельной опасности. По его мнению, нет ничего сильнее «любви боями спаянных друзей». С горечью вспоминает поэт о своих товарищах, оставшихся на полях сражений («Вспомним об убитом друге… И не скажем никому…»). Долг оставшихся в живых – отомстить за друга.
Во всей фронтовой поэзии громадное место занимает тема любви, верности. Общеизвестно, какой всенародной популярностью пользовалось стихотворение Константина Симонова «Жди меня», ставшая песней «Землянка» Алексея Суркова. Миллионам людей, разлученным войной, было необходимо слово о верности далекого родного человека. Долгое время считалось, что тема любви не занимала какого-либо значительного места в военной поэзии Георгия Суворова. Однако от этого мнения пришлось отказаться после того, как Решетников опубликовал ранее неизвестные стихи «Из полевой сумки», среди которых были очень характерные образы любовной лирики. Как замечает Леонид Решетников, «в конце 1942 года – в течение 1943 г. он пишет несколько циклов о любви: «Первый снег», «Сны», «Во имя любви». Название одного из этих циклов – «Первый снег» – он хотел даже одно время перенести на обложку своей книги. Правда, стихи эти носят пока еще разведывательный характер. И это понятно: нравственный опыт любви сложнее и тоньше прочего житейского опыта и приходит к человеку позднее, часто – после самой любви».
Поэт утверждает любовь как победу светлого над тьмой смерти. Автор понимает, что на первый взгляд любви «нет места на поле, изрытом войной», что «в мире смертельной тревоги» слово «люблю» звучит как «прости», но в то же самое время он утверждает, что на фронте нельзя без любви, потому что идущая схватка – это, собственно, и есть «сраженье во имя любви».
Верность сражающимся любимым людям – важная тема фронтовых стихов о любви. Боевой товарищ Г. Суворова О. Корниенко сообщает о приписке, сделанной поэтом на стихотворении, которое он подарил другу: «Победы и подвиги наши зависят от верности наших любимых». По мысли автора, любовь – это огромная сила, ведущая человека в бой, во имя приближения встречи с любимой: «Если б я не хотел нашей встречи, разве был бы я в этом краю».
Самая горячая любовь уживалась с самой острой ненавистью – ненавистью к врагам. Суворов изображает врагов как нелюдей, с чувством брезгливого гнева. Вот как описывает поэт схватку бойца И. Герасимова с врагом в очерке «Символ победы»: «Вцепившись в загривок здоровенному откормленному немцу, он поволок его до нашей второй траншеи, пока тот не закатил свои рыбьи зрачки». Гневное сатирическое изображение фашистов Суворов продолжает в своем стихотворении «Последний комендант»:
Все растерял – и китель, и кресты,
По лестнице тряся тяжелым телом…
Суворов показывает бездуховность захватчиков, растаптывающих гусеницами своих танков культуру целых народов, стирающих с лица земли памятники человеческого творчества:
Пустыми жадными глазами
Смотрел немецкий генерал
На то, что есть еще за нами,
На то, что он еще не взял.
Конечно, условия военного времени, агитация в обстановке кровопролитной войны требовали от поэта известной прямолинейности, плакатной символики в показе врага, для изображения которого давалась временем только одна краска – черная. Но обличительный пафос и чувство нравственного превосходства имели реальную основу: советский солдат-патриот был действительно сильнее немца-захватчика. «Немец туп, – писал Суворов в своем последнем очерке «Солдатская сметка». – Действует как заведенная машина. Сломалась машина, и немец «сел». Совсем другое дело – наш русский солдат…» Этот солдат видит свою миссию в том, чтобы не просто изгнать врагов со своей земли, но уничтожить самое логово захватчиков, принести свет «седой ночи Европы»; поэт обращается к фашистской Германии:
Тот день придет, придет тот миг,
Когда тебя, полуживую,
Растоптанную и слепую,
Весь мир навеки заклеймит.
Как и во всей фронтовой поэзии, в творчестве Суворова важное место занимает тема грядущей Победы. Он пишет П. Драверту: «Много еще боев впереди. Но я привык к ним, и грядущее не страшно. Скорей бы очистить дорогую землю от гитлеровской нечисти, вернуться домой в свои леса, в свою… Сибирь». Поэт мечтает о том времени, когда война станет для него уже воспоминанием, он использует своеобразный прием – глядит на войну как бы из мирного будущего:
Когда-нибудь, уйдя в ночное
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое
Бездомной юности моей.
Размышляя о смысле и назначении поэзии, Суворов продолжение своей жизни видит в том,
Что сын героя мой листок подымет, —
И прозвучит ему героя имя
Во всей неповторимой простоте.
Думе о месте поэта, шире – художника – среди сражающихся бойцов посвящено стихотворение Суворова «Художник». По словам Н. А. Румянцевой, оно адресовано конкретному лицу – однополчанину поэта лейтенанту Панкратову. Но тем не менее мы можем утверждать, что в этом произведении Суворов как бы стремился взглянуть на свое творчество со стороны. Стихотворение, без сомнения, автобиографично, хотя герой его не поэт:
Солдат-художник, да он славно колет,
Его талант железом утвержден…
Убеждает в этом и перекличка с мотивами стихотворения «Прощай, Сибирь!», написанного, очевидно, в 1941–1942 годах:
Я видел перед боем на рассвете:
Он рисовал на голубом снегу
Солдатских глаз неудержимый ветер,
Солдатских звезд летящую пургу.
Прощай, – в моих глазах, в моем сознанье
Всегда цвела ты, даже холодна…
И на снегу, как на волне сукна,
Я рисовал свои повествованья.
Война, по убеждению Георгия Суворова, закаляет художественный талант, отданный правому делу. Смысл искусства он видит в том, чтобы вдохновлять воина на бой:
Не ждал он ни похвал, ни восхищенья,
Но он торжествовал, когда солдат,
Взглянув на безымянное творенье,
Сжимал свой вороненый автомат.
Суворов сам ощущал, какой качественный скачок произошел в его поэзии под влиянием военных испытаний. Потом об этом скажут все без исключения исследователи. Но первым это почувствовал он сам, ибо слова «его талант железом утвержден» относятся прежде всего к самому автору.
Говоря об идейно-тематических особенностях фронтовой поэзии Суворова, нужно прежде всего иметь в виду общую направленность советской поэзии военных лет, обусловленную великой задачей разгрома врага, освобождения Родины и порабощенных фашизмом народов. Темы сражающегося народа, героя и подвига, любви и верности Родине были главными, основополагающими в поэзии времен Великой Отечественной войны. К этим темам, решая их с позиций коммунистической партийности и социалистического патриотизма, обращались поэты всех поколений, всех темпераментов, всех стилевых направлений.
Героический пафос, мысль о желанной Победе пронизывают все многообразие тем военной поэзии. Поэты стремятся к философскому осмыслению происходящего. Конечно, с одной стороны, это осложнялось «полевыми» условиями, в которых приходилось творить: фронт требовал оперативности, четкости, определенной направленности поэтического высказывания, но ведь, с другой стороны, в этих стихах как раз и шла речь о таких «вечных вопросах», как жизнь и смерть, герой и подвиг, любовь и ненависть, Отчизна и иноземщина. Сам идейно-социальный уровень задач, стоящих перед военной поэзией, определял ее философскую глубину и значительность.
Этими же высокими целями было определено и жанровое своеобразие поэзии Г. Суворова. Здесь и характерные для гражданской лирики войны клятвы, призывы, отклики, песни, даже частушки:
Ладога, Ладога
Запомнится надолго,
Запомнится надолго
Битым фрицам Ладога.
Здесь и эпические жанры – стихотворный очерк, баллады, поэма.
Поэзия Великой Отечественной войны удивляет своим жанровым многообразием, которое отражает многообразие художественных задач, стоявших перед фронтовыми поэтами. Очень образно и точно пишет о жанровом развитии фронтовой поэзии И. Спивак: «Интересна жанровая «тактика и стратегия» советской поэзии военных лет. Подобно тому как талантливый и вдумчивый полководец ведет глубоко эшелонированную битву с врагом, выпуская на поле брани не сразу все войска, а один эшелон за другим, так и советская поэзия распорядилась своими силами: она вводила в боевой строй один жанр за другим, все шире и глубже охватывая боевые позиции». Общее для всей поэзии развитие в направлении жанрового укрупнения и разнообразия – от лаконичного публицистического отклика-призыва через зарисовки, песню, балладу, стихотворный очерк до поэмы-эпопеи прослеживается в той или иной мере в творчестве всех поэтов, писавших о войне, в том числе и Георгия Суворова.
Особенно характерен для Суворова жанр посвящения: «пулеметчику Магдали»; «военному газетчику Маслину»; «бойцам-комсомольцам Ященко, Ипполитову и Емец»; «старшему сержанту Парамонову и неизвестному бойцу, поцеловавшему вместе с ним землю отбитого у немцев, левого берега Невы». А рассказывают эти стихи о конкретных людях, о подвигах товарищей поэта.
Такое изобилие посвящений объясняется не только тем, что этот жанр был распространен во фронтовой поэзии (вспомните хотя бы симоновское «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…»), но и общительным характером поэта. Михаил Дудин, друживший с ним, вспоминает: «Суворов писал много. Он мыслил стихами. Он не печатал стихи. Он записывал их в самодельные тетради карандашом. Почти каждое стихотворение он от щедрой души посвящал кому-нибудь из товарищей. А в товарищах у него была вся дивизия».
Когда мы говорим о жанре того или иного суворовского стихотворения, не надо забывать и о том, что для фронтовой лирики показательна эволюция жанров, и часто стихотворение-клятва представляет собой сложный синтез на первый взгляд различных жанровых признаков. Например, в стихотворении «Тропа войны» поэт вспоминает о том, как он бродил с охотничьим ружьем по склонам Саян – повествовательная линия сливается с пейзажными картинами. Однако главный пафос произведения составляет клятва, которой заканчивается произведение. Беда разразилась над страной – и он клянется не оставлять ее до Победы.
Такое смещение жанров не случайно; автор берет от каждого наиболее действенные черты: от повествовательного стихотворения – сюжет, увлекающий читателя; от призыва, клятвы – эмоциональную афористичность, врезающуюся в память бойцу.
Говоря о жанрах, хочется подробнее остановиться на поэмах. Прежде всего потому, что обращение к поэме и есть одно из убедительных свидетельств поразительного творческого роста и работоспособности поэта на фронте.
В период войны был создан целый ряд поэм, вошедших в золотой фонд советской поэзии. Как ни удивительно, но именно в этот период, требовавший стремительности, оперативности, не дававший, казалось бы, художнику оглядеться, многие поэты обратились к созданию широких полотен. «В самой общей форме, – пишет Абрамов, – можно сказать, что поэма решала те же проблемы, что и другие жанры поэзии. Но решала их по-своему… поэты не могли удовлетворяться отдельными зарисовками, изображением отдельных эпизодов своей жизни и жизни своих современников. Их волновали и явления, не всегда посильные для лирического стихотворения или баллады: история подвига, многосторонняя связь человека с временем, с развитием страны, более сложно, чем в небольшом стихотворении, раскрывающаяся судьба личности и народа…»
Обращение Суворова к поэме было органическим продолжением его художественного исследования народного подвига. Вспомним, что еще в омский период Суворов работал над поэмой, навеянной мотивами хакасского героического эпоса.
Стремление попробовать себя в героической поэме не оставляло поэта и на фронте. В 1943 году он пишет в письме А. Смердову: «Только что вышли из боя. Частичку о нашем бое ты прочтешь в «Правде» за 10.8.43. Там есть заметка «Гвардейская стойкость – гарнизон Кузнецова». Всех этих людей я знаю как своих друзей и сейчас пишу о них поэму. Ведь я прошел это пекло, и стих продлится –
Нет, не по краткому рассказу,
Не в дымке ало-голубой —
Он встал передо мною сразу,
Кровопролитный этот бой».
Так начинается моя новая поэма «Четыре дня»…»
Действительно, в «Правде» была помещена заметка «Гвардейская стойкость», где рассказывалось о том, как «гвардейцы, зарывшись в землю, вызвали на себя огонь нашей артиллерии. Разрывы снарядов уничтожали немцев, герои-гвардейцы поднимались и добивали немцев штыками…»[4].
Этому событию поэт посвятил маленькую героическую балладу «Хотя бы на минуту на роздых… (полковнику Кузнецову)», рассказал об этом в прозаическом очерке. А поэма, которая мыслилась как героическая повесть о тех днях, так и не была написана, хотя нельзя исключать и вероятность ее утери. До нас дошли две поэмы Суворова – «Сибиряк на Неве» и «Золото»; первая из них была включена в сборник «Слово солдата», вторая опубликована Решетниковым в разделе «Стихи из полевой сумки» в сборнике «Соколиная песня». Оба произведения относятся к жанру лирико-романтической поэмы. Впрочем, очевидно это только для «Сибиряка на Неве», «Золото» же несет в себе черты героико-революционной, лирико-философской, сказочно-легендарной поэмы. Но в конечном счете жанр произведений определяет доминирующая в них тема романтически осмысленного подвига, художественное исследование пути, который ведет героя в бессмертие. Поэмы близки друг другу по замыслу: в их центре – воин-герой, история его подвига. Но в отличие от посвящений, очерков и баллад в поэмах Суворова подвиг дается шире и глубже – на фоне судеб народа, автор стремится проникнуть в историю и условия формирования героического характера.
«Сибиряк на Неве» и «Золото» – это первые шаги Суворова в жанре поэмы, подступы к лирическому эпосу. Незаурядность этих первых опытов, глубокое поэтическое дыхание – все это убеждает, что Суворов мог стать мастером крупной поэтической формы.
Если продолжать разговор об «утверждении таланта» поэта на фронте, нужно остановиться на образности поэтического языка Суворова, ищущего неожиданные сравнения и метафоры («сочная брусничная заря», «острый ветер», «комочком голубого дыма белка пронеслась в тени ветвей»), нужно было бы говорить о разнообразии его строфики, о мастерском использовании громадных возможностей русского силлабо-тонического стиха, о звукописи, о своеобычной суворовской рифме, во многом предвосхитившей рифму поэзии 50-х. Но я остановлюсь лишь на одном примере.
Именно на фронте Суворов обратился к сонету – форме чрезвычайно непростой и емкой. Эта достаточно трудная строфическая форма во время войны как бы была отложена до лучших времен. Единичные обращения к сонету можно отметить у Сельвинского, Лебедева, Дудина. Суворов же написал за время войны более пятидесяти сонетов! С чем же связано обращение поэта к этой сложной форме? Думается, сказалось тут распространенное среди поэтов и во многом справедливое мнение, что у освоившего сонет все остальные формы не вызовут затруднений, появится известная раскованность. С другой стороны, Суворов ставил перед собой задачу наполнить старую форму новым, военным содержанием. Сонет обретет иные краски и мощь, если им рассказывать о походе. Интересно, что в рукописи «Из полевой сумки» весь цикл называется не «Сонеты гнева», а «Походные сонеты».
Восхищаясь мужеством и мелодичностью фронтовой поэзии Суворова, вдумываясь в героические судьбы его героев, можно задать справедливый вопрос: «А что, уж таким ли классиком был Георгий Суворов в свои неполные двадцать пять лет? Что же, не было у него и недостатков, промахов?» Конечно же, различимы и слабые стороны в творчестве поэта. Сказалась отрывочность и торопливость в работе над стихами, да и большинство из них он просто-напросто не успел подготовить к печати, откладывая карандаш для того, чтобы взять в руки автомат. Взыскательный читатель найдет в его строках и неточность в работе со словом, и стилистические промахи, и слабые рифмы, и неудачные сравнения или метафоры. Но, как известно, о поэте судят по его вершинам. Это промахи сложившегося молодого художника, а не начинающего автора, как иногда утверждают. Совершенно верно говорил по этому поводу Сергей Наровчатов: «В статьях и воспоминаниях о Майорове, Кульчицком, Суворове, Когане иногда упускается из виду одно серьезное обстоятельство. О них пишут как о чистых и смелых юношах, погибших на войне и сочинявших стихи, интересные в качестве человеческих документов. Меньше обращается внимания на то, что стихи эти были и лирическими дневниками, запечатлевшими высокие чувства патриотизма и партийности, и серьезным и новым явлением поэзии…»
(Лирическое отступление)
1
А. С. Пушкин заметил однажды: «Нам все еще печатный лист кажется святым. Мы все думаем: как может это быть глупо или несправедливо? ведь это напечатано!»
Увы, бывают случаи, когда исследования, призванные прояснить какой-либо факт, только вводят нас в заблуждение, тем более если они стали достоянием того самого печатного листа, к которому мы, несмотря на предупреждения классика и личный горький опыт, продолжаем испытывать «святые» чувства.
Я не стану останавливаться на ряде неточностей, которые пришлось исправить, выстраивая жизненный и творческий путь Суворова, но на одном сюжете я все же хотел бы задержать читательское внимание. Уж больно он типичен, уж больно здорово иллюстрирует сам механизм возникновения и распространения ошибок и неточностей!
Речь идет о сложившемся убеждении, что первые стихи поэта были напечатаны в красноярской периодике. В начале работы, обрадованный этой подсказкой предшественников, я прилежно изучил красноярскую периодику начиная с 1936 года, но, к своему величайшему изумлению, ни малейших следов Суворова не обнаружил.
Не может быть, подумал я, ведь об этом пишут все исследователи! И снова самым внимательным образом повторил проделанное. Результат тот же. И тогда я решил выяснить, откуда пошло недоразумение: кто-то же был первым!
Вероятнее всего, истоки ошибки следует искать в одной из первых рецензий на книгу поэта, появившейся в пятом номере «Сибирских огней» за 1945 год и принадлежавшей перу его новосибирского товарища А. Смердова, сообщавшего, что первые стихи Г. Суворова стали «появляться незадолго до войны в сибирских газетах – в Омске, Красноярске, в сборниках и альманахах…». Что касается Омска, то Смердов совершенно прав, а Красноярск он, видимо, назвал, следуя естественной логике: раз жил в Красноярске, значит, печатался. Выше я уже высказывал свое мнение, почему Г. Суворов не успел выступить в красноярской периодике.
Мог, впрочем, ввести в заблуждение и другой момент: в 1940 году на «литературной странице» «Красноярского комсомольца» появилось стихотворение некоего Ивана Суворова «Лирическое», по своим индивидуально-стилистическим признакам не имеющее ничего общего со стихами автора «Слова солдата», написанными в то же время. Но совпадение фамилий тем не менее могло ввести в заблуждение автора рецензии, познакомившегося с Георгием Суворовым только в 1942 году: рецензия написана еще во время войны, под свежим впечатлением гибели товарища. Проверять было некогда, да, может быть, и негде.
Однако эту же ошибку совершили составители литературно-художественного сборника «Сибиряки» (Красноярск, 1947), уточнившие в биографической справке к поэтической подборке Суворова, что его «первые стихи были напечатаны в Красноярске в «Красноярском комсомольце», затем И. Гребцов в рецензии «Слово солдата» («Енисей», 1954, № 14) внесет еще большую «ясность» в возникшую путаницу: оказывается, поэт печатался не только в «Красноярском комсомольце», но и в краевой пионерской газете…
А потом и Я. Духан умудрился в своей брошюре «Молодость жива!» (Л., 1970) даже проанализировать суворовские произведения, печатавшиеся в красноярской периодике: «Это были крепкие, по-юношески звонкие стихи, но они мало чем отличались от напечатанных рядом».
И все же в Красноярске Г. Суворов не печатался. Обратное утверждение – плод неточности одних и некритичности других.
2
«Вот они! – Константин Владимирович Кононов с трудом снимает с антресолей несколько пыльных подшивок. – Ну, в 41-м Суворова у нас еще не было, а вот это для вас: 42, 43, 44-й…»
Передо мной на стареньком круглом столе, застеленном кружевной скатертью, лежит то, что я так долго и безуспешно разыскивал, – полная фронтовая подшивка дивизионной газеты «За Родину», в которой работал поэт. Я бегло листаю желтые страницы, и результат превосходит все мои ожидания – суворовские стихи (много стихов!), прозаические очерки, заметки. Совершенно неизвестная сторона его творчества!
Но расскажу все по порядку. О том, что произведения поэта должны были печататься в «низовой» фронтовой периодике, а именно в газете «За Родину», догадаться было несложно. Раз служил в газете, значит, печатался. Но вот найти фронтовые подшивки оказалось делом почти безнадежным. В самой дивизии были разрозненные экземпляры, неудача постигла меня и в хранилищах газетной периодики. Военные журналисты, к которым я обращался за консультацией, разводили руками: «Вообще-то должны эти подшивки где-то храниться. Положено. Но, с другой стороны, сами понимаете – война…» Покручинившись, я продолжил составление полной библиографии произведений Суворова и материалов о нем. И вот в ленинградском «Дне поэзии» 1974 года наткнулся на стихотворение Суворова, посвященное лейтенанту Островскому, повторившему подвиг А. Матросова. Под текстом указывалось, что это публикация гвардии подполковника в отставке К. В. Кононова. А во врезке сообщалось, что стихи перепечатываются из дивизионной газеты «За Родину», где поэт опубликовал немало очерков и стихотворений, посвященных лучшим людям дивизии. Звоню в Ленинград. Оказывается, среди участников войны имя К. В. Кононова хорошо известно: он председатель Совета ветеранов 45-й гвардейской дивизии, в которой служил автор «Слова солдата». Выясняю адрес и пишу письмо. Вскоре приходит ответ, где есть и такие слова: «К счастью, мне удалось сохранить подшивку газеты «За Родину» 1940–1945 гг. В ней и опубликованы его стихи и очерки».
Таким образом я оказался в доме Константина Владимировича в селе Рыбацком, являющемся, несмотря на свое название, теперь районом Ленинграда. Но, по сути, Рыбацкое и вправду скорее походит на большое село: вдоль трамвайной линии неровными рядами, как новобранцы, выстроились деревенские домики, между которыми иногда попадаются сооружения, воздвигнутые в стиле «дачного терема».
У К. В. Кононова я провел несколько дней: снимал копии, слушал рассказы о Суворове, о войне. Константин Владимирович знал поэта лично; и до сих пор, когда речь заходит о той несправедливости, голос его начинает дрожать. По моей просьбе свои воспоминания о Суворове он облек в письменную форму и дал мемуарам очень характерный заголовок – «Гвардии Суворов». Воспоминания К. В. Кононова широко использованы в этой книге.
Уже собираясь и благодаря хозяина за помощь и гостеприимство, я все-таки решился спросить:
«Константин Владимирович, а как же получилось, что единственная известная подшивка оказалась только у вас?»
Он на минуту замялся:
«Ладно, дело прошлое… Когда сообщили о капитуляции Германии, мы на радостях начали палить в воздух – из автоматов, пистолетов, из ракетниц. Одна ракета возьми да и попади в редакционный автобус…»
«В тот самый, про который писал Суворов?!»
«В тот самый. А там и были все подшивки, кроме одной, которую я вел для себя и хранил на квартире. Вот так вот…»
Рукописи не горят… Эти слова из «Мастера и Маргариты» я еще раз вспоминал, разыскивая все, что связано с Суворовым. Вспоминал то с благодарностью, находя безвозвратно, казалось бы, утерянное, то с иронией, выяснив, что та или иная рукопись или письмо утрачены навсегда. И все-таки рукописи не горят! С этого убеждения начинается литературоведческий поиск, в этом и его конечный смысл, потому что рукопись, опубликованная и ставшая достоянием тысяч, уже в самом деле не боится огня!
3
В 1958 году братская могила, в которой похоронен Г. Суворов, была перенесена с берега Нарвы, где должно было разлиться водохранилище, в город Сланцы Ленинградской области. Над могилой воздвигли обелиск, а к нему друзья поэта прикрепили небольшую мраморную плиту с надписью:
«Георгий Кузьмич Суворов – поэт, гвардии лейтенант, родился в 1919 г., пал смертью храбрых при форсировании реки Нарвы 13 февраля 1944 г. «Свой добрый век мы прожили как люди – и для людей». Г. Суворов».
При сланцевской школе № 12 создан музей поэта, ребята ведут большую поисковую работу, у них есть интересные материалы. Об этом мне сказали еще в Ленинграде. Поэтому, сойдя с автобуса, я направился в школу, где и познакомился с пионерами-суворовцами и их учительницей Татьяной Васильевной Афанасьевой. В музее действительно оказались очень любопытные материалы, в частности копия воспоминаний Т. К. Серебряковой (Суворовой) о своем брате. Потом Татьяна Васильевна повела меня к братской могиле. Мемориальный комплекс был вынесен за город, но разрастающиеся новостройки все ближе и ближе подступали к металлической ограде.
Кругом лежали глубокие февральские сугробы, но плиты с вырубленными именами павших воинов были заботливо очищены от снега. В Сланцы я приехал прямо из Нарвы, где несколько дней проработал с суворовским архивом, хранящимся в городском музее. За десятилетие до меня там славно потрудился Леонид Решетников, издавший многие стихи «Из полевой сумки» поэта, со времен войны пролежавшей под стеклом одной из музейных витрин. Но кое-что осталось и на мою долю. Для публикаций удалось выбрать более десяти стихотворений, но больше всего поразила яркость отдельных строчек и строф, вдруг вспыхивающих посреди какого-нибудь по-юношески незаконченного стихотворения, записанного фиолетовыми чернилами в самодельной тетрадке или напечатанного на длинной полоске бумаги на редакционной или штабной машинке.
В ту минуту, возле обелиска, мне вспомнилась строфа из не очень удачного и потому неопубликованного суворовского стихотворения, написанного, вероятно, одновременно со стихотворением «В Павлово» и навеянного теми же событиями:
Я только знаю: если плети
Ветвей склонились на гранит —
То со столетием столетье,
Как жизнь с бессмертьем, говорит.
Все было удивительно созвучно: и немного растрепанные метелью, уронившие ветви на гранит еловые венки, и ощущение глубинной связи моей жизни с бессмертием людей, похороненных здесь.
«А вы еще не встречались с Ниной Александровной Емельяновой, – вдруг вмешалась в течение моих мыслей Татьяна Васильевна. – Впрочем, теперь у нее другая фамилия – Румянцева».
«Нет!» – с удивлением ответил я.
«А вот приезжайте к нам 19 апреля, обязательно встретитесь!»
Имя Нины Емельяновой мне было хорошо известно – именно ей Георгий Суворов посвятил лирический цикл «Во имя любви», которым почти исчерпывается любовная тема в его творчестве. Долюбить, а значит, и дописать об этом предполагалось потом, после Победы…
Вряд ли стоит размышлять, были их отношения юношеской влюбленностью или же единственной любовью на всю жизнь, – все это проверяется временем, а времени-то как раз у них не было. И как бы потом ни сложилась твоя жизнь, счастливо или не очень, та оборвавшаяся в самый прекрасный миг любовь навеки останется самым светлым образом твоей памяти, самой нежной болью твоей души.
Нина Александровна навсегда осталась верна памяти своего фронтового друга. Нет, не в книжно-сентиментальном смысле – впереди была долгая жизнь, обычные человеческие радости и стремления. Образ Суворова стал для Нины Александровны не просто памятью утраты, а как бы нравственным ориентиром в жизни, на примере Георгия Суворова она воспитывала своих детей.
Я написал Нине Александровне письмо, получил ответ, произведший на меня сильнейшее впечатление. Она отвечала на некоторые мои вопросы, уточняла некоторые мои предположения и соображения, но главным было другое – слова о том, что для всей ее жизни значила та давняя и недолгая в общем-то встреча с Суворовым.
«Так бывает каждый год, – снова прервала мои мысли Татьяна Васильевна. – Вот уже много лет в день рождения Суворова Нина Александровна приезжает к нам из Орла, одна или с кем-нибудь из детей. Постоит у могилы, положит цветы и уедет домой. Мы сначала и не знали, что эта женщина с цветами Нина Емельянова, но потом ребята как-то выяснили. О ней даже очерк в нашей районной газете напечатали. Теперь мы с Ниной Александровной постоянно переписываемся…»
Прошло время, и в один прекрасный день я написал стихи. Мне с самого начала было ясно, что рано или поздно я напишу о Георгии Суворове стихи, ибо какая-то грань его личности, судьбы не укладывалась в рамки обычных статей, оставалось чувство недосказанности, не исчезнувшее, впрочем, и после появления этих стихов, которыми мне хочется закончить лирическое отступление.
Говорят, что она каждый год приезжает сюда,
На могилу солдатскую в городе этом неблизком.
И положит цветы, и стоит, вспоминая года,
Что лежат непробудно, как мертвые под обелиском.
Говорят, что покоится тут молодой лейтенант —
Фронтовая любовь, ослепившая сердце когда-то.
Он был весел и смел, он имел неуемный талант
И к стихам, и к войне —
той, что не пощадила солдата…
Летней ночью в округе победно поют соловьи,
Зимней ночью метель дышит с болью, как наша эпоха,
Говорят, ничего нет на свете дороже любви,
А они ее отдали всю – до последнего вздоха!
Из истории знаменитого стихотворения
В Центральном Доме литераторов имени А. А. Фадеева, который находится в столице на улице Герцена, есть мраморная доска с выбитыми на ней именами писателей-москвичей, павших на фронтах Великой Отечественной войны. На ней вы найдете имена Гайдара, Уткина, Кульчицкого и многих других – более ста имен. По сложившейся традиции каждый год, в канун Дня Победы, у мемориальной доски проходит митинг, посвященный памяти погибших, собираются писатели-фронтовики, родные и близкие не доживших до Победы, приходит молодежь. Поэты разных поколений читают стихи, но не свои, а стихи погибших товарищей по перу.
Однажды от имени молодого поколения на таком митинге выступал я, конечно же, решив прочитать из Георгия Суворова самое знаменитое его стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…». Но вот уже перед самым началом, поинтересовавшись, кто что будет читать, я с огорчением обнаружил: еще два уважаемых мною поэта хотят читать то же стихотворение. Тогда я воспринял это как досадное недоразумение и лишь потом подумал о том, что случай свидетельствует о всеобщей известности этих стихов, вошедших, как говорится, в золотой фонд советской поэзии. Без них не обходится ни одна антология, ни один сборник военной поэзии, ни один серьезный разговор о фронтовой лирике. Очень точно об этих стихах написал С. Наровчатов: «Поразительной эпитафией ему, да и не только ему, а всем безвременно погибшим на фронте, послужило стихотворение, сложенное Суворовым за несколько дней до смерти… Все лучшие черты поэзии Георгия Суворова нашли выражение в этом стихотворении».
А вот еще одно свидетельство, вспоминает Михаил Дудин: «Из-под Кингисеппа Суворов на денек заскочил в Ленинград, радостный, возбужденный наступлением. Вместе с ним мы в тот вечер пошли в филармонию на концерт М. В. Юдиной. Играла актриса прекрасно.
– Больше всех я завидую композиторам и музыкантам, – сказал Гоша.
– Почему?
– Их не надо переводить на другой язык. Они понятны всем без перевода.
Суворов задумался, порылся в полевой сумке.
– Хочешь, я тебе подарю? – вдруг сказал он и протянул мне вчетверо сложенный лист бумаги.
Это была наша последняя встреча. Назавтра Суворов отправился под Нарву в свой взвод противотанковых ружей.
Через день из штаба мне принесли телефонограмму:
«Суворов погиб. Его полевая сумка у Черноуса в редакции».
Я развернул вчетверо сложенный лист бумаги и прочел подаренные мне стихи:
Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.
Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра как стекло,
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем туманить грустью ясность дней.
Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей.
В полевой сумке Суворова я нашел три тетради. Четыре раза выходила потом его книга «Слово солдата», из которой сам Гоша не видел ни одного своего стихотворения в напечатанном виде. Он не заботился об этом, он торопился сказать. И то, что он сказал, звучит как реквием всем погибшим и как напутствие всем живым. Слова:
Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей —
можно написать на судьбе всего нашего поколения».
Прекрасные строки! Ни к ним, ни к самим строкам Георгия Суворова на первый взгляд добавить нечего. И все-таки есть что добавить, так как у самого знаменитого суворовского стихотворения оказалась непростая, я бы даже сказал, запутанная судьба. Начнем хотя бы со времени написания стихов.
Всегда считалось, что они написаны буквально за несколько дней до смерти. Но это неверно. 14 января 1944 года началась Красносельско-Ропшинская операция, в которой активное участие принимало и вверенное Г. Суворову подразделение бронебойщиков, – время было горячее, советские войска стремительно наступали. «Стихов пока я не пишу. Но какие я буду писать стихи, когда кончатся бои…» – восклицает поэт в письме А. Смердову, помеченном днями наступления.
Есть и более убедительное доказательство. Стихотворение «Еще утрами черный дым клубится…» автор включил в рукопись «Стихи в дополнение к сборнику «Слово солдата», анализ этого стихотворения мы находим во внутренней рецензии Лениздата, написанной Т. Хмельницкой еще в 1943 году. Таким образом, версия о создании этого произведения за несколько дней до смерти, то есть в феврале 1944 года (именно так, как правило, датируется это стихотворение), в принципе отпадает. Вероятнее всего, эти стихи поэт написал в ожидании готовящегося наступления в конце 1943 года.
Кроме вопроса о датировании, возникает и текстологическая проблема: дело в том, что вошедший в сборники поэта и антологии текст не является полным. В Нарвском городском музее я обнаружил авторский автограф этого стихотворения, существенно отличающийся от общеизвестной приведенной мной редакции. Причем эти различия играют важную роль. В самом деле, в канонической редакции это стихотворение воспринимается как образец философской лирики, написанный в элегическом ключе, – обращение «мой милый друг» воспринимается во многом подобно есенинскому «До свиданья, друг мой…».
«Нарвский» же вариант на восемь строф длиннее пятистрофного канонического текста и представляет собой по жанру посвящение М. Дудину. Причем это не просто посвящение, это как бы ответ на поэтическое высказывание товарища по перу. Г. Суворов имеет в виду известное стихотворение «Соловьи», написанное М. Дудиным в 1943 году и обращенное к будущей Победе, славящее жизнь наперекор всем смертям:
Я славлю смерть во имя нашей жизни,
О мертвецах поговорим потом.
М. Дудин пишет о возможности своей смерти как о необходимой жертве во имя весны-победы, о которой поют соловьи, – традиционный для всей фронтовой поэзии символ грядущего торжества:
И, может быть, в песке, в размытой глине,
Захлебываясь в собственной крови,
Скажу: «Ребята, дайте знать Ирине:
У нас сегодня пели соловьи».
Пускай со временем высохнут слезы, и подруга, говоря словами Б. Богаткова, отдаст свое сердце «честному парню, вернувшемуся с войны». Главное, по мысли автора, это торжество жизни:
Пусть даже так. Потом родятся дети
Для подвигов, для песен, для любви.
Пусть их разбудят рано на рассвете
Томительные наши соловьи.
Перекличку двух поэтов заметила во внутренней рецензии еще Т. Хмельницкая: «Это уже не только дружеский разговор с боевым товарищем, но беседа поэта с поэтом. Интересно, что, вдохновившись образами своего поэтического друга, Суворов подпадает под влияние его стиха, начинает употреблять специфические дудинские выражения, детали…» С последним утверждением едва ли можно согласиться, правильнее, на мой взгляд, вести речь о близком романтическом мировосприятии двух поэтов, об изобразительной силе их дара. Образы Г. Суворова и М. Дудина близки по своей живописности, зримости:
Еще минута. Задымит сирень
Клубами фиолетового дыма…
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи…
Но главное, что сближает два произведения, – это их жизнеутверждающий пафос, разлитая в них вера в торжество света над тьмой, столь характерная в целом для поэзии Г. Суворова.
Теперь, после предварительных замечаний, восстановим по «нарвскому» автографу полный текст стихотворения. Открывается оно выразительной картиной военной разрухи, пепелища:
Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.
Поэт пишет о том, чего лишила людей война, что приходит в снах и мечтах к измученным «чернорабочим войны»:
Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.
Развивая эту тему, Г. Суворов обращается мысленным взглядом к грядущей Победе:
Еще война. Но мы безумно верим,
Что будет день – мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.
В канонической редакции поэт снова возвращается к теме войны – «Последний враг. Последний меткий выстрел…». Но в авторском варианте продолжается развитие темы мира. Причем оно идет в двух планах: что будет делать после Победы сам автор, а что – его друг М. Дудин. Именно в этой части стихотворения наиболее ярко выступает его жанровая природа:
И мы с тобою сразу позабудем,
Что очень много испытать пришлось.
Захочется нам сразу жить как людям,
Усталостью убив крутую злость.
Ты бросишься, как лошадь на отаву,
Куда-нибудь туда за Кострому.
А я охотник, я былую славу
Припомню и ружье свое возьму.
Здесь возникает характернейший для всей поэзии Г. Суворова образ сибирского охотника. Поэт рисует милые его сердцу образы сибирской природы. Начинает звучать мотив «сереброокой Сибири» – важнейший для поэта:
Ты где-нибудь потонешь в вешних зорях
И изойдешься песней вдалеке.
Я затеряюсь в темноперых взгорьях,
В приземистом лохматом сосняке.
Ты будешь петь теченье жизни полной,
Закатов тихих голубую медь.
Передо мною встанет, словно полночь,
Как сон тайги, взъерошенный медведь.
Стихотворение воспринимается в самом деле как доверительный разговор с другом, поэт вспоминает о любимой товарища, мечтает о сибирской охоте:
Ты будешь думать о своей Ирине
Или гулять, быть может, по Москве,
Когда мне будет сниться небо сине,
Заря на темно спутанной траве.
И лишь проснусь, заждавшиеся сосны
Возьмут и солнце склонят мне на грудь,
И я приму расплавленное солнце
И озарю им свой скалистый путь.
Потом вперед. И, где-нибудь заметив
Мелькающее пламя кабарги,
Схвачу ружье… Багряный легкий ветер
Качнет густые облака тайги.
И тут в развитие своей поэтической мысли Суворов прибегает к характерному для него приему: он возвращается к теме войны, но не реальной, как в начале стихотворения, а к иной, как бы увиденной из будущего:
И я скажу: однако был точнее.
Однако раньше бил наверняка,
…Передо мною встанет вновь траншея,
Затянутые мглой зрачки врага.
Поэт высказывает пронзительную по точности и трагической глубине мысль: никогда рука охотника, целившегося в красавца оленя, не будет так беспощадно точна, как в схватке с врагом. Поэт задумывается о том, чем станет в его будущей жизни война, как «тяжело она отложится», пользуясь выражением А. Межирова, в душе. Об этом же задумывались тогда и другие сверстники поэта. Например, М. Луконин в стихотворении «Приду к тебе» писал о том, что среди военных испытаний важно не растерять духовные богатства, полноту ощущений бытия: «Но лучше прийти с пустым врагом, чем с пустой душой».
Последние две строфы представляют собой как бы нерв всего стихотворения:
Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.
Концовка стихотворения многопланова: взгляд на войну из мирного будущего смешивается с печалью человека, понимающего, что он-то, быть может, никогда не взглянет на войну с вершины Победы.
Но если учитывать весь авторский текст, последние строки приобретают более сложное философское звучание. Да, испытать фронтовому поколению пришлось многое: потери друзей, неимоверную тяжесть жизни на передовой. И то, что натуралистические подробности фронтового быта, как правило, оказывались «за кадром» поэзии Суворова, совсем не значит, будто они не влияли на его восприятие мира.
Но незыблемым останется одно: короткий, кровавый, исполненный героики и неизбежной жестокости век был «добрым», и прожили они свою жизнь «как люди», потому что умирали и убивали во имя жизни – «для людей». Именно в торжестве этой мысли заключается выдающееся значение знаменитого суворовского стихотворения в советской фронтовой лирике. Но ярко и определенно эта идея прослеживается лишь в «нарвском», полном варианте.
Вот такой запутанной и неожиданной оказалась судьба самого известного стихотворения Георгия Суворова. И я не берусь утверждать, что строфы, сокращенные уже после гибели поэта (видимо, во время составления и редактирования его первой книги в Лениздате в 1944 году), «испортили» произведение. На многих исключенных строфах лежит печать той самой торопливости и незавершенности, о которой мы уже говорили. Если быть откровенным, объективным, общеизвестные строки лаконичнее, точнее, профессиональнее, что ли… Все это лишний раз подтверждает, как необходим молодому писателю вдумчивый, доброжелательный, но требовательный редактор. И все же что-то ушло из стихов вместе с правкой: ушла свойственная только Суворову романтика охотника-сибиряка, ушло ощущение откровенного разговора с другом-фронтовиком, типичное для его стихов-посвящений, ушли и глубокие, может быть, тогда, в 1944 году, не совсем еще понятные мысли…
Как тут быть? Я, честно говоря, не знаю.
(Вместо заключения)
Когда я только задумывал книгу о Георгии Суворове, то набросал схему будущих поисков: что нужно прочесть, где побывать, с кем встретиться. Открывался тот план двумя пунктами:
1. Съездить в село, где поэт родился, – Краснотуранское.
2. Съездить на место его гибели…
Мне казалось, что, побывав в этих местах, я смогу как бы охватить судьбу Георгия Суворова в целом, найти некий ключ к его судьбе. Это ощущение трудно выразить словами, но без него невозможно написать ничего путного о человеке.
…Но два первых пункта моего первоначального плана так и остались невыполненными, потому что выполнить их невозможно. Красноярское море разлилось теперь там, где было село Краснотуранское – родина поэта. Нет, на карте такое название осталось, но это совсем другое, новое село.
А на том месте, где Георгий Суворов погиб и был похоронен, теперь Нарвское море. Два моря скрыли места гибели и рождения поэта, словно убеждая нас: этими двумя датами не ограничена ни жизнь Суворова, ни его творчество!
…Я испуганно открываю глаза и вижу старшину батареи – прапорщика Высовеня.
– Вставай! Трибунал проспишь! – сурово шутит прапорщик.
За окошком не утро, а знобкая темень. Ежась и застегиваясь на ходу, ребята выбегают на улицу. Сквозь стекло видно, как на брусчатом батарейном плацу топчется несколько солдат – зародыши будущей полноценной шеренги.
В казарме возле изразцовой печки стоит сердитый, со следами сна на лице замполит дивизиона майор Осокин. Время от времени он резко дергает головой, точно отгоняет надоедливую мысль. Это – тик, последствие контузии, полученной в Афгане.
Рядом с замполитом томится наш комбат старший лейтенант Уваров. Он пытается хмуриться, как бы недовольный неорганизованным подъемом вверенной ему батареи, но взгляд у него растерянный. В руках наш нервный комбат мнет и ломает свою гордость – фуражку-аэродром, сшитую в глубоко законспирированном столичном спецателье.
– Давай, Купряшин, давай! – брезгливо кивает мне комбат Уваров. – Спишь, как на первом году! Защитничек…
– А что случилось? – совсем по-цивильному спрашиваю я, потому что часть мозга, ведающая уставными словосочетаниями, еще не проснулась. – Тревогу же на завтра назначали…
Старшина Высовень медленно скашивает глаза в сторону замполита, потом снова смотрит на меня, и в его взоре столько многообещающей отеческой теплоты, что я пулей срываюсь вниз, вмиг обрастаю обмундированием, на бегу опоясываюсь ремнем, вылетаю на улицу и врезаюсь в строй. Шеренга вздрагивает, принимая блудного сына, и замирает.
«Вот черт, – молча возмущаюсь я. – Второй день выспаться не дают!»
– В дисбате выспитесь! – обещает, вышагивая вдоль построенной батареи, старшина Высовень. Нет никаких сомнений, что в школе прапорщиков его обучали телепатии.
– А что все-таки случилось? – спрашиваю я стоящего рядом со мной ефрейтора Зубова, механика-водителя нашей самоходки и неутомимого борца за права «стариков».
Зуб медленно поворачивает ко мне свое злое розовощекое лицо и не удостаивает ответом. Он вообще похож на злого поросенка, особенно теперь, когда остригся наголо, чтобы к «дембелю» волос вырос гуще. Скажите пожалуйста, какой гордый! Дедушка Советской Армии и Военно-Морского Флота! Значит, все-таки вчерашний ночной приговор в каптерке – акция, как говорится, долговременная! Ладно, переживем.
Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?
* * *
Вчера, за час до подъема, меня разбудил чей-то шепот. В розовом утреннем свете казарма сияла, точно ее только что отремонтировали. Около коек, на табуретках, аккуратно лежало обмундирование, в черных петлицах единообразно поблескивали крестики артиллерийских эмблем. Рядом, на полу, стояли сапоги, обернутые вокруг голенищ серыми портянками. Возле каждого табурета – две пары сапог: одна – стоптанная, побывавшая в ремонте, другая – новенькая, с едва наметившимися морщинами. Дело в том, что койки у нас двухъярусные: внизу спят «старики», а наверху – молодежь.
Казарма, словно радиоэфир, наполнена разнообразными звуками: сонными вздохами, сладким посапыванием, тонким, почти художественным свистом, раскатистым храпом, невнятным бормотанием, наконец, отчетливым шепотом, который и разбудил меня. Разговаривали молодые – Малик из взвода управления и доходяга Елин, заряжающий с грунта из моего расчета. Их койки приставлены впритык, поэтому они были уверены, что их никто не слышит, но я разбирал каждое слово.
– Ты бы на сквозняк повесил! – советовал Малик.
– Я и повесил, – безнадежно ответил Елин. – Все равно воротник и манжеты сырые. Зуб теперь орать будет, что я плохо отжимал, а я вот – до мозолей выкручивал! – И он показал однопризывнику ладони.
– Может, обойдется! – успокоил Малик. – Все-таки праздник сегодня!
– Кому праздник, а кому… – Елин не договорил и ткнулся лицом в подушку.
– Терпи, будет и твой праздник!
– Не хочу я, не могу! – почти крикнул Елин.
– Не хочешь – заставят, не можешь – научат! – убежденно ответил Малик.
– Ребята, мы будем спать?! – возмутился из-под одеяла рядовой Эвалд Аболтыньш, еще два месяца назад разгуливавший «по узким улочкам Риги».
Никто не ответил, а через минуту все трое затихли: молодые засыпают мгновенно, им еще, как медным, служить до своего праздника, до своих ста дней!
Кто не тянул срочную, тот не поймет, что такое сто дней до приказа! А это значит, ты уже наполовину гражданский человек. Это значит, министр обороны не только выбрал ручку, которой подпишет приказ об увольнении в запас твоего призыва, но и обмакнул ее в чернила. Не знаю, может быть, маршал подписывает свои приказы каким-нибудь потрясающим «паркером» с золотым пером, но так уж считается: сначала он выбирает себе ручку, потом обмакивает ее в чернила, затем делает несколько пробных росчерков и, наконец, ставит автограф на известном каждому солдату документе, где есть такие священные слова:
«В соответствии с законом СССР «О всеобщей воинской обязанности» приказываю:
1. Уволить из рядов Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск в запас в октябре – декабре 198… г. военнослужащих, сроки действительной военной службы которых истекают до 1 января 198… г.
Затем идет второй пункт – о новом призыве, а за ним третий:
«Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на кораблях».
Трижды, стоя в строю, я слышал эти слова, трижды провожал «стариков» домой.
Через сто дней мой приказ!
Накануне всегда идут разговоры о том, что уж в нынешнем году и приказ, и увольнение будут раньше обычного и что на это имеются веские внутри– и внешнеполитические причины. Слухам верят, хотя они еще ни разу не оправдались. Но так или иначе, а «дембель», говоря словами старшины Высовеня, «неотвратим, как смерть!».
Первыми узнают о приказе писари и сразу сообщают благую весть своим землякам. Под страшным секретом. Естественно, через полчаса об этом знает уже вся часть. Вскоре приказ появляется в печати, и начинается настоящая охота за газетами. Неизвестно, каким образом, но только номера с текстом приказа исчезают даже из подшивок, хранящихся в кабинетах командира и замполита полка. А ефрейтор Симаненок (он уволился весной) просто-напросто делал на этих газетах маленький солдатский бизнес. Примерно через неделю после всеобщего ажиотажа, когда кое-кто отчаивался украсить свой дембельский альбом заветной вырезкой, Симаненок получал из дому здоровенную бандероль, набитую самыми разными газетами от одного-единственного числа. Понятно, от какого. И еще: выпуск с приказом на первой полосе был единственным номером многотиражки «Отвага», расходившимся мгновенно и полностью. В любое другое время нашу газету (ребята называют ее «Стой, кто идет?!») можно наблюдать в самом неожиданном виде и в самом неожиданном месте.
Итак, узнав о приказе, «старики» мчатся в лес – ставить дембельские кресты, сколоченные доски или сучья, к которым прибиты дощечки с надписями. Например:
Мл. сержант Коркин А. Ф.
1982–1984
Служи, сынок, как дед служил,
А дед на службу положил!
Главное – присобачить крест на дереве как можно выше. В прошлом году один «старик»-верхолаз грохнулся и попал не домой, а в госпиталь.
Вечером события разворачиваются следующим образом: у «стариков» к приказу всегда припасены трассеры и сигнальные ракеты, поэтому, как только стемнеет, то в одном, то в другом месте небо прошивают огненные пунктиры. Офицеры бранятся, принимаются искать виноватых, но больше для виду, ибо все понимают: таков давний солдатский обычай.
Но самое главное начинается после отбоя: «старики», которые с этой минуты становятся «дедами», возводят всех остальных в очередные звания неписаной казарменной иерархии. Делается это при помощи обыкновенного уставного ремня. Каждый получает по конкретному месту столько условно-символических ударов, сколько месяцев отдано родным Вооруженным силам.
Когда я учился в школе, у нас был преподаватель истории – жуткий зануда, заканчивавший каждый урок предложением начертить «табличку на полстранички» и таким образом закрепить новый материал. С тех пор я могу свести к табличке все что угодно, даже нашу солдатскую жизнь. Выглядеть это будет примерно так[5]:
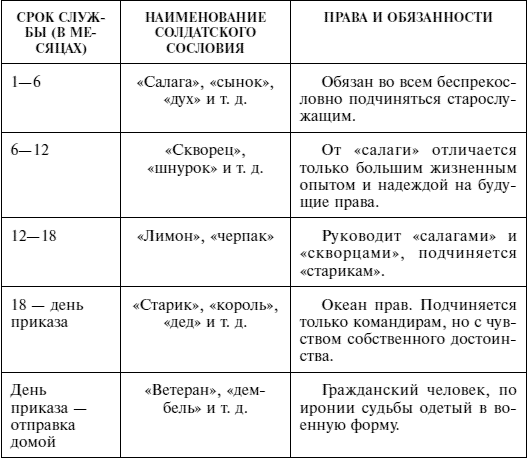
«Старик» – это сладкий сон после подъема (пока не придет старшина), это лучший кусок за длинным солдатским столом, это право не поднимать ногу, когда батарея идет строевым шагом (за тебя колотят подошвами молодые), это полная свобода от мелкого быта и возможность полностью отдаться мечтам о «дембеле» (если надо, подошьет подворотничок или простирнет гимнастерку молодой), это… Это еще десятки различных привилегий, превращающих тебя в особое существо и придающих походке рассеянную величавость, а лицу – сонно-высокомерное выражение. Честно говоря, большинством этих прав я не пользуюсь – не по мне… Не могу, например, как ефрейтор Зубов, заставить молодого всю ночь стирать мое «хэбэ», а потом костерить за то, что гимнастерка к утру не высохла, хотя год назад то же самое проделывали с ним, Зубом. Но самое грустное и непонятное заключается в том, что всего лишь через год этот насмерть перепуганный Елин станет неторопливо-суровым двадцатилетним «стариком» и будет гонять такого же ошалевшего парня – свое сегодняшнее подобие!
Но только ничего этого я не увижу: через сто дней приказ, потом самые томительные дни до отправки партии уволенных в запас, а потом… Я уже чувствую острый, волнующий запах гражданки, и просыпаться, наверное, в последнее время стал так рано, чтобы со вкусом помечтать о ней. Я почти два года не пил газировку из фыркающего автомата, не бродил по осенней Москве! Почти два года… Неужели прошло два года?!
Старшина Высовень останавливается перед строем, потягивается и с лязгом зевает. Но для чего нас все-таки подняли среди ночи?
Выстроившись в две шеренги, мы стоим вдоль освещенных окон казармы. Над головой чернеет брезент ночного неба, весь в маленьких дырочках звезд. В окно видно, как замполит Осокин, дергая головой и наливаясь багровостью, распекает старшего лейтенанта Уварова, а тот молчит, играет желваками и вот-вот сломает маленький, искусно скошенный вниз козырек спецфуражки.
– Это не служба, а цирк зажигает огни! – ворчит старшина Высовень. – Прыгаешь, как клоун.
У прапорщика медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки, которыми, если использовать их в мирных целях, можно забивать сваи.
– Товарищ старшина, – покачиваясь на мысках, ленивым голосом спрашивает рядовой Чернецкий. – Разрешите обратиться?
Валера Чернецкий, мой однопризывник, вычислитель взвода управления, пришел в армию со второго курса института, якобы по причине сложных философско-этических исканий. Но я почему-то думаю, призвался он в результате банальной академической задолженности.
– Обращайся, – разрешает Высовень, несколько удивленный и настороженный уставной церемонностью Валеры.
– В какой связи нас подняли? – интересуется Чернецкий. – Может быть, досрочно увольняют в запас?
– В честь ста дней! – добавляет Зуб.
– Домой теперь только через дисбат! – ласково повторяет старшина свою странную угрозу.
– Не нравится мне все это! – тихо вступает в разговор рядовой Камал Шарипов, наводчик нашего расчета. – Очень не нравится. Елки-моталки!
Когда два года назад мы познакомились с Камалом в карантине, куда он прибыл из высокогорного кишлака, русский язык был ему почти неведом, а теперь Шарипов владеет великим и могучим совершенно свободно и особенно полюбил сильные выражения, уходящие корнями в самые рискованные глубины народного словотворчества.
– А мне, мужики, сегодня дембель снился! – вступаю в общую беседу и я.
Но они словно не замечают меня. Ах, ну конечно, по приговору «стариковского» суда с этой ночи и до первой партии я поражен во всех правах и разжалован в «салаги».
А ведь странный был сон, какой-то вывернутый наизнанку! И Лена… Она не снилась мне давным-давно, с тех самых пор…
– Батарея! – зычно командует старшина Высовень. – Равняйсь! Смир-рно.!!
* * *
…Дома родня еще догуливала на моих проводах, в который раз пропуская перед чаем «по последней». Бабушка и тетя Даша помогали на кухне маме мыть посуду, а дядя Петя, по своему обыкновению выломившийся из компании в самый разгар торжества, лежал на диване и храпел, словно бенгальский тигр. На письменном столе возвышался набитый вещевой мешок, в духовке доходила дорожная курица. Одним словом, от готовности к труду до готовности к обороне оставался всего шаг.
Я пошел провожать Лену до метро. Технички, орудуя большими, похожими на телеантенны, щетками, уже заканчивали подметать мозаичные полы. Взявшись за руки, мы стояли на платформе, ожидая, когда в тоннеле покажутся огни поезда, потом в последний раз поцеловались по-настоящему, и Лена вошла в совершенно пустой вагон. С резиновым стуком сомкнулись двери, молоденький машинист, значительно взглянув на меня, легко впрыгнул в кабину и крикнул кому-то: «Вперед!»
Вернувшись домой, я долго не мог заснуть и даже выходил на лестничную площадку покурить. Когда же я снова лег, в комнату заглянул отец и сказал:
– Ишь, разволновался. Подумаешь – два года! Раньше двадцать пять лет служили! Или ты из-за Ленки?
Недоумевая, как это люди служили по двадцать пять лет, я уснул…
…Наутро, еще затемно, мама, отец и я пришли, а говоря точнее, прибыли на стадион «Замоскворечье». В моем кармане лежала изукрашенная печатями повестка, в которой говорилось, что я призван на действительную военную службу и зачислен в команду № 44. Кроме того, согласно повестке, я был одет по сезону в исправную одежду и обувь (отцовское вытершееся пальто и старые суконные ботинки), имел короткую прическу, а также имел при себе пару нательного белья, полотенце, вещевой мешок для укладки личных вещей, ложку, кружку и туалетные принадлежности. Кроме того, я имел бледный вид человека, которого уносит течением судьбы в неизведанном направлении.
Вокруг пульсировала толпа призывников и провожающих, напоминавшая народные гулянья в районном ПКиО. Бренчали гитары, всхлипывали баяны, временами толпа образовывала круг, в который, визжа, как «Скорая помощь», влетала какая-нибудь тетка и с частотой отбойного молотка исполняла неразборчивые частушки. Периодически кто-то взрывался «не-плачь-девчонкой», но довольно быстро запутывался в словах. Волосатый парень рвал гитарные струны и пел заунывно-тоненьким голосом:
Только две зимы, только две весны
Ты в кино с другими не ходи-и-и…
При этом он умоляюще поглядывал на ярко заштукатуренную подругу.
В толпе, где провожающих собралось в десять раз больше, чем провожаемых, призывника можно было узнать сразу: во-первых, по нелепой, словно из вторсырья одежде, а во-вторых, по выражению лица: «Мол, что же это делается? Жил – не тужил: работал, учился, в магазин бегал, на свиданки ходил… А что дальше будет?» Я выглядел как все, даже, наверное, еще хуже, потому что не было Лены. Даже в такой день она опаздывала. Но все обошлось – сначала приехал мой школьный товарищ Мишка Воропаев, а потом я различил в толпе грустное-прегрустное лицо Лены.
Мишка скорбно обнял меня, сказал несколько ободряющих слов моим родителям, а потом ненавязчиво обратил внимание собравшихся на тот факт, что прямо отсюда он поедет на занятия в институт. Тот самый институт, куда я не добрал полбалла. Потом все вместе мне давали советы, сводившиеся к тому, что ноги нужно держать в тепле и не брать ничего в голову. Мама ни с того ни с сего заговорила про какие-то гостинцы, словно я уезжал в пионерский лагерь, а не в армию. Какой-то дядька с красной, будто бы крапленой, физиономией, заслышав, как меня поучают, отшатнулся от своей группы и тоже дал совет: «Не разевай рта и не лезь, куда не просят…»
Затем мои провожающие деликатно отошли в сторону, создавая условия для прощания с Леной. У нас все было решено: за два года подойдет очередь на кооператив, родители обещали скинуться. Кроме квартиры, все было совершенно определенно и не вызывало никаких сомнений. Временами я чувствовал себя героем популярной песни «Лебединая верность». Писать друг другу мы уговорились два раза в неделю (каждый день – это несерьезно!). Таким образом получалось: 2×104 = 208. Через 208 писем я должен был вернуться. Это Лена здорово придумала – считать не дни, а письма! От нее я получил 38 писем, ровно по два в неделю… И хватит об этом!
Потом мы снова прощались все вместе, пока не появился офицер, подавший команду строиться. Уже в воротах я оглянулся и запомнил навсегда: ссутулившиеся родители, Лена с черной струйкой потекшей туши на щеке, Мишка, переминающийся с ноги на ногу и поглядывающий на часы.
Наконец, решительно и непоправимо оторвав от провожающих, нас загрузили в «КрАЗ» с брезентовым верхом и повезли в райвоенкомат, расположенный недалеко от стадиона. Поначалу мы молча тряслись и подпрыгивали на выбоинах образцового города, а потом вдруг откуда-то из полутьмы крытого кузова раздался нетвердый голос, предупредивший нас, что в военкомате первым делом будут шмонать на предмет спрятанного спиртного. Информация точная и получена от старшего брата этого самого нетвердого голоса… И тут же в разных местах дребезжащего мрака засветились огоньки, запахло горелой пластмассой и послышалось торопливое бульканье. В этот самый миг машина остановилась и, щурясь от яркого света, мы увидели друг друга: нас можно было принять за группу репетирующих горнистов.
– Не опузырьтесь! – равнодушно посоветовал прапорщик, откинувший брезент. Но что самое удивительное: у входа в военкомат совершенно в том же составе толпились провожающие. Я успел разглядеть маму, отца, Лену. Нас построили в длинном коридоре, основательно проверили вещмешки и радостно конфисковали бутылки со спиртным. Затем мы снова набились в грузовик и на глазах у провожающих поехали. Но это была военная хитрость. Повозив по городу, нас доставили назад к военкомату, где теперь не было ни души.
Потом, как ученики за партами, мы сидели в ленинской комнате, и пузатый капитан вручал нам военные билеты. У одного парня вышла какая-то заминка с оформлением документов, и ему было приказано прийти завтра. Мы глядели ему вслед так, как, наверное, смертники смотрят вслед помилованному. До последнего момента я надеялся на чудо и даже отчетливо представлял, как мчусь переодеться домой, потрясаю своим звонком маму и встречаю изумленную Ленку возле ворот техникума. Целый день вольной жизни! Кстати, мои надежды питал реальный факт: фотографию-то для военного билета я не сдавал…
– Купряшин!
Я подошел к учительскому столу толстого капитана.
– Алексей Николаевич. Все верно. Получи!
В билет была вклеена карточка двухлетней давности, когда я оформлял приписное свидетельство. Лицо на снимке, словно сознавая свою предательскую сущность, выглядело нагловато-смущенным…
Тогда мне казалось, я не забуду ничего, ни единой детальки. Но вот еще не прошло двух лет, а многое уже выветрилось. Вообще, я заметил, что память сохраняет только как бы общее впечатление от происходившего и несколько ярких эпизодов, на которых это впечатление держится. И еще я заметил: в зависимости от того, как потом складывается жизнь, меняются и воспоминания – их держат уже иные, выплывшие откуда-то из глубины эпизоды. Не знаю, может быть, и я буду однажды вспоминать все это по-другому, не так, как сегодня…
Двое суток мы сидели на городском пункте, где впервые ко мне пришло знакомое каждому солдату ощущение несвободы, когда твое внутреннее состояние, настроение не имеют никакого отношения к твоему поведению, подчиненному теперь приказам командиров и начальников. И хотя некоторые ребята, рисуясь, говорили, будто до принятия присяги можно выкинуть что угодно – хоть домой сбегать, конечно, никто ничего не предпринимал.
Вскоре прошел слух: деньги в часть везти нельзя – не положено. И в течение двух дней мы не вылезали из буфета, обливаясь «Байкалом» и объедаясь эклерами, изображая из себя кавказских людей, для которых самая мелкая разменная монета – рубль. Особенно наша щедрость сказывалась на благосостоянии парикмахеров, расправлявшихся двумя-тремя движениями жужжащей машинки с самой роскошной шевелюрой. Клиенты все прибывали, а в углу парикмахерской росла метровая куча разномастных волос.
На городском пункте я познакомился с Жориком Плешановым. Ему родители дали с собой громадную жареную утку, а первое время домашней еды было у всех навалом, и он никак не мог найти помощника, пока не обратился ко мне. Поедая водоплавающую, мы рассуждали о жизни. Оказалось, Жорик закончил недавно полиграфический техникум, и все его раздумья о судьбе склонялись к одной мысли: государству невыгодно такого замечательного специалиста, как он, отрывать на целых два года от производительного труда. Очень скоро он убедил, что и в моем случае наше мудрое и гуманное общество совершило непростительную ошибку, не дав мне еще одну попытку для поступления в институт, откуда я несомненно вышел бы уникальным специалистом. Так, незаметно мы чуть не впали в скверный пацифизм, но нашу беседу услышал какой-то офицер и объяснил нам командным голосом, что ни одна страна на военной мощи не экономит и что если мы в самом деле заботимся о выгоде государства, то сначала должны думать, а потом уже говорить…
К концу второго дня появился капитан с длиннющим списком, где были и наши с Жориком фамилии. Мы снова набились в машины с брезентовым верхом и через полчаса оказались в части недалеко от Центра. В военном обиходе это называется «карантин». Из окон казармы была видна муравьиная жизнь города, казавшаяся воплощением головокружительной, ничем не ограниченной воли. Армейский карантин, между прочим, ничего общего не имеет с карантином, запомнившимся по школе и пионерским лагерям. Хотя, в общем-то, нас, зараженных штатской расхлябанностью и легкомыслием, в самом деле нужно было подержать в изоляции, пока лошадиные дозы армейской дисциплины не убьют опасный для военного человека вирус гражданки.
Карантин складывался из медицинских осмотров, экипировки, строевой подготовки и т. д. Помню, как, зазевавшись (обычное мое состояние до армии), я не успел вместе со всеми получить обмундирование и целый день мучился среди новеньких шинелей в замурзанном отцовском пальтеце, пока начальник карантина не приказал «одеть этого разгильдяя».
Ночью, после медосмотра, меня растолкал Жорик и сообщил, что, по разговорам, нас собираются загнать в такую глушь, где, кроме забора, нет никаких достопримечательностей. Выход один – застрять в карантине до следующей партии, которую, по тем же слухам, должны направить в знаменитую дивизию, прошедшую с боями до Померании и со славой вернувшуюся в Подмосковье. Как застрять, Жорик тоже знал: нужно симулировать какое-нибудь серьезное заболевание.
Ни грипп, ни желудочное расстройство, легкомысленно предложенные мной, не подходили. Тут нужно было нечто особенное, парализующее многолетний опыт военврачей. И Плешакова осенило! Всю оставшуюся ночь мы мучительно вспоминали читанные в «Здоровье» и слышанные от пострадавших симптомы спасительного недуга, а утром поскреблись в дверь врача. Жорик, краснея и запинаясь, стал излагать выстраданные нами приметы пикантной болезни. Седой, краснолицый капитан с золотыми змеями в малиновых петлицах слушал нас очень внимательно, сочувственно и даже задавал наводящие вопросы:
– И утром тоже?
– Утром особенно, – признавался Плешанов.
– Та-ак. А у товарища?
– И у товарища.
– Та-ак. А где же вы с ней познакомились?
– В кино.
– Та-ак. И адреса не знаете.
– Не знаем.
– Та-ак. А приметы помните?
– Конечно. Высокая, полная (Жорик выставил вперед два локтя). Справа, на нижней челюсти – золотой зуб.
– Зуб или коронка? – встрепенулся капитан.
– Зуб! – убежденно подтвердил мой приятель.
– А ты как думаешь? – врач испытующе поглядел мне в глаза. И тут с отчетливым ужасом я понял, что капитан давно обо всем догадался и просто-напросто издевается над нами. Подхватив недоумевающего Жорика, я попятился к двери, но, вопреки ожиданиям, военврач не стал нас ставить по стойке «смирно» и вызывать начальника карантина, а только спросил вдогонку:
– Швейка-то вы хоть читали?
– Читали, – ответил еще ничего не понявший Жорик. – Но давно, в детстве.
– В детстве нужно «Буратино» читать! – гаркнул капитан и пристукнул рукой по столу, зазвеневшему никелированными инструментами…
Еще помню, как поздно вечером нестройной колонной нас вели мыться в пустые районные бани, и по пути, умолив сержанта, я, задыхаясь, носился по переулкам, ища работающий телефон. А потом, уже бросив монету и прижав к уху гудящую трубку, никак не мог вспомнить номер. У Лены почему-то никто не подходил, у моих было намертво «занято». В конце концов я дозвонился до Мишки Воропаева и загнанно объяснил, где находится наш карантин, а на следующий день на КПП уже разговаривал с мамой и Леной, жалостливо смотревшими на меня.
– У вас, наверное, плохо кормят? – спросила мама у дежурного по КПП.
– Нормально кормят. Через два года он у вас ни в одни штаны не влезет! – успокоил офицер и попросил закругляться.
Он оказался прав: сегодня со всей ответственностью можно констатировать, что в армии я увеличился на два размера, и роскошные серые брюки «бананы», купленные перед самым призывом, теперь на меня не налезут. Как говорит старшина Высовень, хорошего человека должно быть много!
С едой связана еще одна история. На второй день карантина у меня потерялась взятая из дому ложка. Эта утрата, совершенно незаметная на гражданке, привела к самым тяжелым последствиям. Ели по команде, непривычно быстро. И когда, наконец, дорубав порцию, сосед отдавал мне свою, до блеска облизанную ложку, и я с бешеной скоростью начинал хлебать щи, раздавалась команда: «Встать!» Запихнув в себя самый большой ломоть (выносить хлеб из столовой не положено) и горько взглянув на недоеденное, я выходил строиться. С большим трудом мне удалось отыскать чью-то сломанную пополам супочерпалку с выцарапанными на ней словами: «Бери больше – кидай дальше!» Стянув сломанные концы нитками, я принялся наверстывать упущенное – черпать и так далее. Именно тогда стало ясно, что в армии нельзя разевать рот, разве только в двух случаях: когда ешь и когда стреляешь из пушки.
Еще был у нас в карантине чернявый сержант, и звали его почему-то «Паща» – наверно, из-за того, что сам он вместо «ш» произносил «щ» – «тущи свет». А между двумя рядами коек проходила выложенная керамической плиткой дорожка – «БАМ», которую постоянно кто-то мыл. «Мища» величаво прохаживался вдоль БАМа и зорко высматривал очередную жертву – процесс наведения чистоты не должен был прерываться ни на миг. Поводом могла послужить любая оплошность: сидишь на койке, жуешь в неположенное время, смеешься, тоскуешь и т. д. «Ты – моешь!» – сладострастно констатировал сержант и указывал черным ногтем на провинившегося. За неделю карантина я драил «БАМ» шесть раз…
Еще помню, как трудно и зябко было вставать в 6.00, щурясь на резкий ядовито-желтый свет, и, дрожа от озноба, стремительно одеваться, кое-как наматывая портянки, чтобы потом, после переклички, с неумелой аккуратностью перемотать их раз десять, но так и не добиться уставного результата…
А перед самой отправкой приехал фотограф, чтобы запечатлеть нас, так сказать, на первом этапе армейской жизни. Один добродушный «старик» любезно предлагал желающим сняться в его дембельском кителе – два ряда значков, твердые с золотыми лычками погоны. Теперь, когда я смотрю на фотографию, мне смешно и грустно: очень уж странное сочетание – растерянный взгляд, испуганно-заострившиеся черты и чудо-китель.
Никогда не забуду длиннющий, с фантастическими сквозняками коридор аэропорта и странное обращение: «воины». Стюард показал рукой на кресла и сказал: «Ну что, воины, рассаживайтесь!» Я сначала думал, он смеется, но оказалось, это – официально принятая форма обращения к рядовому и сержантскому составу Советской Армии. «Ну что, воин, поехали!» – сказал я себе, когда «Ил-62», стремительно протрясясь по бетонной полосе, вдруг замер в полете.
– Батарея! – зычно командует старшина Высовень. – Равняйся! Смир-рно!
Из казармы медленно выходит замполит Осокин, он с тяжким укором вглядывается в наши лица. Следом за майором плетется комбат Уваров, похожий в своей суперфуражке на обивочный гвоздь. Выдвинув подбородок и морща тонкий нос, он пристально рассматривает наши сапоги.
Прапорщик мощным строевым шагом подходит к начальству и докладывает:
– Товарищ майор, шестая батарея по вашему приказу построена!
До срока пожелтевший лист, плавно вращаясь, опускается на черный погон командира нашей самоходки невозмутимого сержанта Титаренко. В другую пору его бы непременно пихнули в бок, мол, домой старшим сержантом поедешь! Но сейчас никто не обращает на это внимания, и только ласковый теленок Малик из молодого пополнения двумя пальцами, с почтением, снимает листик с былинного плеча сержанта.
Офицеры тихо совещаются. Мы терпеливо ждем мудрых приказов командиров и начальников.
– Слушайте, а может быть, нас хотят куда-нибудь перебросить? – испуганно шепчет наш каптерщик рядовой Цыплаков.
Цыпленок – приземистый парень, покрытый такими густыми веснушками, что они слились в большие желтые пятна. Кроме того, Цыпленок и двигается как-то по-птичьи: короткими, резкими рывками. Служит он восьмой месяц, но его лично знает даже командир полка, потому что Цыпленок в свои восемнадцать лет женат, имеет дочь, а кроме того, чуть ли не в день призыва обеспечил себе второго беби-киндера и теперь с нетерпением ждет, когда его, как отца двух детей, уволят в запас досрочно.
– Ага, перебросят, – соглашается Шарипов. – Куда-нибудь повыше, где скребутся мыши!
– Парни, я же серьезно…
– Цыпленок, – вздыхает Чернецкий, – у тебя летальная дистрофия мозговой мышцы! Если что – мы бы сейчас под полной выкладкой стояли! А ты бы еще ящик с патронами на горбу держал. Понял?
– Разговоры в строю! – прикрикивает старшина Высовень.
Совет в Филях закончился: замполит Осокин медленно идет вдоль строя, Высовень и Уваров, оказавшись рядом, с пониманием переглядываются.
Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:
– Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?
И я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.
* * *
Наверное, я бы еще долго восстанавливал в памяти тот перелет из гражданской жизни в жизнь армейскую, но тут в мед моих воспоминаний была добавлена ложка дегтя. Внизу, скрежеща пружинами и чертыхаясь, завозился Зуб. Он крутился так и эдак, сворачивался калачиком, перетягивал одеяло с ног на голову и обратно, но никак не мог согреться.
– Е-е-елин! – не выдержав мучений, застонал он.
Ответом ему было молчание.
– Е-елин! – уже с раздражением повторил ефрейтор.
Но «салаги» спят как мертвые.
– Елин! – заорал Зуб и пнул ногой в сетку верхней койки, где спал заряжающий. Тот испуганно свесился вниз:
– Чего?
– Чего! Чего! Не добудишься… Возьми у Цыпленка ключи и принеси из каптерки шинель. Холодно, вот чего!
Елин неумело, ударившись ногой о тумбочку, спрыгнул на пол, морщась, задвинул ноги в огромные сапоги и прогрохотал к двери.
– Тише, чудила, всю казарму разбудишь! – крикнул ефрейтор вдогонку и, повернувшись ко мне, пояснил: – Вчера в кочегарке помылся, никак не согреюсь…
Между прочим, мыться у друзей-истопников под душем, а не в бане вместе со всеми – одна из «стариковских» привилегий.
– Холодновато сегодня, – согласился я. – Зато праздник!
– Да, Лешка, сто дней! Скоро домой… Помнишь, когда дембеля свои «сто дней» отмечали, казалось, у нас такого никогда не будет! А видишь – дождались!
Пока мы беседовали, вернулся Елин, неся в руках сапоги.
– Цыплаков говорит, старшина не велел выносить шинели из каптерки!
– Передай Цыпленку, что я его убью! Понял?
Елин вздохнул и снова ушел.
– «Салаги» пошли бестолковые, – пожаловался Зуб. – Ни черта не понимают, спят на ходу…
Зуба я знал с первых дней службы и хорошо помнил, как он прославился на всю часть, уснув в строю во время праздничного развода, посвященного Дню артиллериста. А что выделывал с молодым Зубом мрачный рядовой Мазаев, уволившийся из батареи год назад!
Однажды, на заре нашей туманной армейской юности, я был свидетелем такой ситуации. Забегаю в казарму и вижу: мохнатая дембельская шинель распялена на швабре и прислонена к печке, а мимо этого чучела грохочущим парадным шагом курсирует Зуб и старательно отдает честь.
– Ты чего? – удивился я.
– Мазаев… – на ходу, держа равнение на шинель, объяснил он. – Я в бытовку не постучавшись вошел. Теперь вот до самого ужина…
Еще Мазаев любил «проверять фанеру» – бить молодых в грудь кулаком. Все мы в синяках ходили, а на Зубе вообще живого места не было.
Это было полтора года назад. А теперь все наоборот: молодым нет покоя от возмужавшего и посуровевшего Зуба.
– Распустились салабоны! – с пенсионерской угрюмостью продолжал Зуб. – Им бы сюда Мазаева, они бы жизнь узнали!
– Да ладно, – успокоил я. – Елин тебе полночи «хэбэ» стирал, а ты еще зудишь!
– Ну и что! А сколько я перестирал, сколько перегладил! Теперь его очередь! Ты, Лешка, молодых жалеешь, как будто сам «сынком» не был, – начал заводиться ефрейтор. Он бы еще долго нудил про «борзость» призывников, про пошатнувшееся единство ветеранов батареи, про наступление замполита на «права стариков», но тут вернулся с шинелью Елин.
– Тебя за атомной войной посылать! – заорал Зуб.
– Цыплаков забыл, куда ключи спрятал, – обидчиво оправдался посыльный и, словно ища поддержки, посмотрел на меня красными от недосыпания глазами.
– Ладно, свободен, – помиловал ефрейтор и, взяв шинель, стал устраиваться потеплее. – Если «хэбэ» будет мокрое – убью! – добродушно зевая, добавил он.
И Елин, который уже почти взгромоздился на свой ярус, обреченно вздохнул, тяжело спустился вниз и поплелся в бытовку…
Я снова остался один, на душе было скверно и, рассматривая синевато-белый потолок, напоминающий бесчисленными трещинками школьную контурную карту, я постарался вспомнить что-нибудь хорошее. И вспомнил…
Однажды мы поехали с Леной за грибами и, хотя лес ломился от опят, возвращались совершенно пустые, но с опухшими от поцелуев губами. В электричке мы рассматривали перегруженных грибников и улыбались друг другу. От любви и свежего деревенского воздуха моя городская голова шла кругом; казалось, я слышу, как шумит бегущая внутри меня кровь.
Потом мы еще долго прощались возле Лениного подъезда. Прощались так долго, что я проспал на работу. Между прочим, перед самой армией, после неудачного поступления в институт, я немного поработал на заводе. После смены мы штурмовали автобус, останавливавшийся возле проходной, и всем скопом ехали до метро. Там толпа знакомых попутчиков уменьшалась, а на первой же пересадке рассеивалась вовсе. Домой я приезжал один. Это очень похоже на путь призывника в часть. Сначала вся партия прибыла в округ, и на сборном пункте мы ждали офицеров, набирающих молодых в свои части. Периодически возникали разговоры о том, что какой-то старший лейтенант подбирает ребят для спортроты: кормежка «от пуза», никаких нарядов, знай тренируйся! Пока шла прикидка своих спортивных возможностей и путем самовзвинчивания полученный давным-давно третий юношеский разряд превращался в первый мужской, выяснялось: искатель чемпионов уже набрал команду и уехал. Потом то же самое повторялось с художниками, танцорами и т. д.
До места назначения мы с Жориком шли неразлучно и уже строили планы совместной службы, как в самый последний момент судьба легким движением руки разрушила все наши надежды: я попал в артполк, Жорик – в дивизионную типографию.
Часа в три ночи мы въехали в ворота части, и сразу же нас отправили в баню – «смывать гражданские грехи», а потом, когда мы застилали койки, в казарму зашел полусонный, в накинутой поверх белья шинели, младший сержант.
– Из Саратова есть кто-нибудь? – поинтересовался он.
Никто не ответил.
– Жалко! В третьей партии ни одного земляка нет, – расстроился гость. – Ладно, спите пока. Завтра службу узнаете!
Позже я заметил, что в армии у ребят всегда обостряется почти исчезнувшее на гражданке чувство землячества. Земляк, по-солдатски «зема», – это близкий человек. Иногда встретишь на учениях парня из неведомой подмосковной деревни Алехново и смотришь на него так, будто всю жизнь прожил с ним на одной лестничной площадке. Редкий старослужащий обидит своего молодого земляка, а уж если вы одного призыва, да еще с одной партией приехали – тут уже дружба на всю жизнь!
На следующий день, как и обещал саратовец, мы узнали службу, потому что началась школа молодого бойца. Не забуду, как умирал во время первого кросса, как на перекладине мог изобразить только одно упражнение, которое прапорщик Высовень назвал «в лапах садиста». А строевая подготовка! Все время забывался и терял ногу, не понимая, зачем по команде «Карантин!» нужно отбивать ноги о брусчатку. Не понимал лишь до тех пор, пока все пятьдесят пар сапог не загрохотали как бы одним гулким и тяжелым шагом, летевшим, отражаясь от стен, по всему городку. А строевые песни! Их не поют, а кричат, и особая прелесть заключается в том, чтобы, поравнявшись с карантином другого дивизиона, перекрыть их слабую песню могучими раскатами нашей. Временами, если не вдумываться в слова, охватывало даже какое-то умильное и торжественное настроение, и, сам не замечая того, я пел на пределе своих голосовых связок.
Майор Осокин проводил индивидуальные беседы с молодыми воинами и предупреждал между прочим: если кто-нибудь из старослужащих будет отбирать личные вещи или обмундирование, заставлять что-либо делать не по уставу – срочно, в любое время суток, докладывать ему. А ночью, после отбоя, наставления замполита комментировал рядовой Мазаев. Он объяснил, что Осокин может лепить все что угодно – ему за это деньги платят и пенсию к сорока пяти годам дают. А мы – «сынки», – если хотим нормальной службы и счастливого возвращения домой, обязаны слушаться «стариков» и жить по незыблемым законам казармы, ибо армия – это не гражданка… В армии свои законы: год тебя дрючат, год ты дрючишь!
Но это я уже и сам понял. Новая жизнь навалилась, словно внезапная болезнь. Постоянно хотелось спать или есть, преследовал страх сделать что-то не так. И мои первые послания домой (обязательно перечитаю, когда вернусь) были полны такой безысходности, что испуганная мама собиралась даже написать гневное письмо командиру части, о чем и сообщила мне. Страх перед таким позором сразу же подавил необходимость поплакаться. В письмах к Лене я старался выглядеть эдаким отданным в солдаты поэтом, тем более что во мне с новой, какой-то болезненной силой вспыхнула остывшая еще в девятом классе страсть к стихоплетству. В голове заерзали рифмованные строчки, вроде таких:
Если у тебя на сердце грусть,
Помечтай про то,
как я вернусь.
Но самое ужасное, что эти стихи я посылал Лене. И еще в письмах к ней я канючил новую фотографию, старую кто-то свистнул, как мне объяснили, для дембельского альбома.
Еще очень хорошо помню, как впервые нас повезли на стрельбище. Я трясся в кузове, сжимая коленями «АКМ», который перед этим неоднократно разбирал и чистил, причем после сборки у меня постоянно оставалась какая-нибудь лишняя деталь. И вот наконец я улегся на брезент, раскинув для упора ноги, поймал в прицел движущуюся мишень и, как мне казалось, очень плавно (на самом деле очень резко) нажал спусковой крючок. Автомат тяжело задергался в руках и заходил из стороны в сторону. В тире я всегда бил зверей без промаха, не мазал и на игровом автомате «Охота в джунглях», поэтому был совершенно уверен, что сейчас изумлю ребят и офицеров своей меткостью. Но поразить мне никого не удалось, так же, как не удалось поразить ни одной мишени, зато чувство уважения к оружию, живущее в душе каждого мужчины с детства, было удовлетворено.
– Рядовой Купряшин стрельбу закончил! – гордо сообщил я, поднимаясь с брезента и неловко направляя ствол прямо в грудь старшему лейтенанту Уварову, в ту пору начальнику карантина. Он спокойно и немного брезгливо отвел автомат в сторону, покачал головой и процедил сквозь зубы:
– Защитничек…
А потом был день принятия присяги. Руки стыли на ледяном металле «АКМа». У стола, покрытого красным, стояли офицеры дивизии, майор Осокин выкрикивал фамилии молодых солдат. Когда наконец подошла моя очередь, я, ужасаясь сделать что-то неправильно, заученными шагами вышел из строя; сжимая одной рукой приклад автомата, другой взял папку, куда был вложен текст присяги, и тоненьким от волнения голосом начал читать: «Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды Вооруженных Сил, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным воином, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников…» Дойдя до строк «если же я нарушу эту мою торжественную клятву…», голос мой вдруг стал таким угрожающим, что офицеры тонко переглянулись, а старший лейтенант Уваров улыбнулся… Труднее всего оказалось расписаться под присягой: негнущимися пальцами я взял ручку и поставил непонятный крючок. Когда присягу принял последний из молодых, карантин влился в общий строй и перестал существовать. Парадным шагом мы отправились на праздничный обед.
– Теперь ты настоящий солдат! – отечески хлопнул меня по плечу Мазаев. – Вешайся!
Иногда мне казалось, что все происходящее со мной – это словно бы кинофильм: вот сейчас, как иногда делают режиссеры, замелькают кадры – осень, зима, весна, лето… И появится титр: «Прошло два года». А вот следующий кадр: я звоню в дверь нашей квартиры, прислушиваюсь к шагам в прихожей, обнимаю ликующих родителей и, не снимая шинели, бросаюсь к телефону, набираю номер Лены и кричу натужно-приглушенным голосом, словно звоню издалека при отвратительной слышимости: «Здравствуй! Как ты там?..» И Лена громко, стараясь перекричать мнимые помехи, отвечает: «Нормально… У нас все нормально. Откуда ты? Когда вас отпустят?!» – «Через пять минут!» – отвечаю я чистым, громким голосом, слетаю вниз, хватаю такси и мчусь к ней!..
Ну вот, довспоминался. Скорей бы подъем! Уснул там, что ли, дневальный?..
…Наконец замполит останавливается и громко спрашивает:
– Кто видел рядового Елина после шестнадцати часов?
Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается Зуб.
По шеренгам пробегает легкое жужжание: каждый прокручивает полученную информацию на своем коротко остриженном и покрытом пилоткой персональном компьютере.
Из темноты появляется библиотечный кот Кеша, хвост он держит строго перпендикулярно. Желтые глаза с узкими, точно прорези прицелов, зрачками смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что появился не вовремя, котофей трясет лапкой, делает уставной разворот и покидает наш батарейный плац.
– Нехорошая примета! – шепчет Шарипов. – Ядрить тебя налево!
Мы осознали серьезность ситуации и ждем продолжения.
– Хорошо, – хрипло говорит майор Осокин, хотя всем ясно, что ничего хорошего ни в вопросе, ни в ответном молчании нет. – Хорошо. Сообщал ли кому-нибудь рядовой Елин о намерении покинуть расположение части?
Майор смотрит прямо на меня, а комбат Уваров наклоняется к старшине и показывает глазами в сторону Зуба. Прапорщик Высовень очень характерно артикулирует губами.
Зуб ежится, делает попытку расстегнуть воротник гимнастерки, но вовремя спохватывается и снова встает по стойке «смирно».
– Ну что, силовик-наставник, доэкспериментировался? – очень тихо и очень зло интересуется Чернецкий.
– Достукались, дятлы, – соглашается Шарипов.
– Тихо! Потом будем разбираться! – шепчет сержант Титаренко.
Я чувствую плечом, как Зуба начинает колотить дрожь.
– Хорошо, – снова повторяет замполит и дергает головой, – значит, никто ничего не знает. Пропал солдат – и никто ничего не знает! Хорошо-о…
В это время к отцам-командирам подбегает запыхавшийся лейтенант Косулич, наш взводный. Он недавно из училища, краснеет, как девушка, носит очки в золотой оправе и вопреки суровой армейской действительности старается выражаться литературно. Не добежав нескольких шагов до замполита, он переходит на старательный строевой шаг, набирает в грудь воздуха для доклада, но Осокин сердитым взмахом руки останавливает его и кивает на место рядом с собой.
– Слушай мою команду, – возвещает замполит, и эхо долго плутает между казармами, складами, ангарами. – Первый взвод прочесывает городок и автопарк. Особое внимание обратить на подвалы и ремонтные ямы. Старший – лейтенант Косулич…
Косулич облизывает румяные губы и поправляет очки.
– Второй взвод, – откашлявшись, продолжает майор, – прочесывает полигон. Особое внимание обратить на рощу. Старший – прапорщик Высовень. Общий сбор возле блиндажа. Докладывать через каждые двадцать минут. Выполняйте!
Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:
– Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!..
* * *
Нет, дневальный не уснул, и вчерашний знаменательный день начался точно так же, как и большинство из шестисот восемнадцати дней моей солдатской службы. Раздался топот, распахнулась дверь, вбежал Цыпленок и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, завопил: «Батарея, подъем!» На мгновение все замерли, ожидая, не последует ли дальше многообещающее слово «тревога». Нет. Значит, наступил обыкновенный армейский день.
С верхних коек с грохотом ссыпались молодые. По неписаному казарменному уставу в их задачу входит: подмести и прибрать помещение, натереть до блеска пол, заправить свои, а также «стариковские» койки. Хитренький Малик побежал к дверям и встал на стреме, чтобы до прихода старшины ветераны батареи могли еще подремать.
Эти пятнадцать-двадцать минут полусонного счастья – наша генетическая память о тех сладко-ленивых домашних выходных днях, когда ты лежишь в дурманящей нерешительности перед необходимостью совершить выбор между запахом яичницы с ветчиной и женственным теплом постели… Но об этом ни слова!
Кроме дозорного Малика, наш заслуженный покой охраняет еще Цыпленок. «На тумбочке» он всегда стоит с таким видом, точно позирует для воениздатовского плаката «Враг не пройдет – граница на замке!». А на самом деле толку от него никакого: все свои силы он вложил в производство потомства и ослабел голосом. Мертвый чихнет и то громче, как говорит старшина Высовень.
Кстати, старшина рассказывал, что три года назад в батарее был солдат-сибиряк, будивший криком чуть ли не весь городок. Умение кричать приходит не сразу: учась этому искусству, я в свое время чуть не сорвал голос, но зато теперь в случае чего могу гаркнуть так, что у самого уши закладывает. В армии, между прочим, все продумано, и забота о развитии голосовых связок молодого пополнения – тоже не блажь. Допустим, в неуставное время, как ветеран батареи, классный специалист и отличник всевозможных подготовок, ты прилег отдохнуть в койку, слегка закемарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он на порог, а тут как из пушки: «Товарищ старший лейтенант…» Морщась от раскатов рапорта, он узнает, что за время дежурства ефрейтора Стремина в батарее ровным счетом ничего не случилось. И к тому моменту, когда старлей заглядывает в казарму, ты сосредоточенно рассматриваешь, сидя на уставном табурете, солдатское евангелие – тетрадь для политзанятий. А на вопрос, почему занимаешься в спальном помещении, задумчиво отвечаешь, что-де зашел за тетрадкой, но вот зачитался последней его, товарища Уварова, политбеседой.
Так бывает, но пока дневальный молчит, и можно спокойно воспользоваться самым приятным, на мой взгляд, «стариковским» правом – полежать в теплой постели после подъема, сквозь полудрему следя за жизнью пробудившейся казармы.
– Е-елин! – раздался недовольный голос.
Это снова проснулся Зуб.
– Где Елин? – не унимался ефрейтор.
– В бытовке «хэбэ» гладит, – доложил Малик, посвященный в драматическую историю зубовского обмундирования.
– Позови быстро!
Преданно взглянув на сурового «старика» печальными черными глазами, Малик помчался выполнять приказ и вскоре воротился с победой, неся на вытянутых руках чистенькое «хэбэ», причем возникло такое ощущение, будто именно он, Малик, всю ночь, не смыкая глаз, стирал и гладил, радостно представляя себе, как суровый, но справедливый Зуб на «сто дней» вырядится во все чистое. Следом приплелся Елин, у него бледное веснушчатое лицо, голубые глаза, обиженные губы и странное имя – Серафим. Кажется, он единственный из пополнения никак не привыкнет к временной утрате шевелюры и на коварный совет причесаться перед поверкой неизменно начинает суетливо искать по карманам расческу. И еще: по моим наблюдениям, он болезненнее других воспринимает взаимоотношения между молодыми и «стариками», может быть, потому, что перед армией работал пионервожатым (лучше бы помалкивал!) и привык руководить.
Зуб невзлюбил Елина с первого взгляда, со дня прибытия пополнения, когда бывший вожак красногалстучной детворы вошел в казарму не постучавшись, что недопустимо для воспитанного «салаги». Вообще я замечал, люди резко делятся на две категории: одни не могут жить без любви, другие – без ненависти; и те, и другие мучаются, если не встречают человека, достойного того, чтобы вылить на него все, накопившееся в душе. Зуб такого человека нашел, и мои попытки заступиться за Елина наталкивались на чугунный ответ: «Ничего. Пусть жизнь узнает. Ему положено!»
Слова «положено» и «не положено» определяют очень многое. Мне, к примеру, не положено спать во втором ярусе, а только – внизу. Зуб из-за этого меня буквально загрыз: я, видите ли, вношу путаницу в строгую армейскую иерархию. Но мне наверху нравится больше. Во-первых, теплее зимой, во-вторых, над тобой чистый, готовый в красках изобразить любую мечту потолок, а не скрипучая продавленная сетка, в-третьих, с верхней полки, как с НП, видна вся казарма. Видно, как крутятся в тяжелом танце, натирая суконками половицы, молодые, а рядовой Шарипов, лежа на койке, задумчиво поучает:
– Трите так, чтоб гор-рэло! Распротак вас всех!
Видно, как заискивающий Малик поднес свежевыглаженное «хэбэ» скривившемуся Зубу: наверное, манжеты все-таки влажные. Видно, как, потупившись, орудует шваброй нескладный Елин. У него вид классического «сынка»: устало-беспомощное лицо, опущенные плечи, огромный – на три размера больше – китель, а голенища сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступах. Елин почти всегда молчит, но как-то несогласно молчит, – со скрытым протестом, что ли… Это и бесит Зуба больше всего.
– Елин! Сюда иди! – скомандовал Зуб. – Сколько дней до приказа осталось?
– Сто.
– А до первой партии?
– Сто двадцать девять, – без запинки ответил Елин. Позавчера он замялся, и я с трудом успокоил разбушевавшегося Зуба. Но сегодня ефрейтор удовлетворен ответом, даже на лице появилось нечто, напоминающее улыбку, и все-таки отвязаться от него не так-то просто:
– Принеси иголку.
Елин достал из-за отворота пилотки иглу с белой ниткой, а Зуб тем временем вынул из кармана маленький календарик с аэрофлотской блондинкой. У любого солдата имеются такие календарики, каждое утро протыкается очередное число, и если поглядеть на свет, то по количеству светлых точек становится ясно, сколько дней прошло, а значит – сколько осталось до дома. Мой календарик уже напоминает мелкую терку.
Зуб, победоносно кряхтя, проткнул новый день и снова впился в Елина:
– Койку заправь. Две минуты. Время пошло!
Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Но этого мало, по краям одеяло «отбивается», то есть его подвернутые края должны выглядеть, как торцевые стороны широкой, ровно отпиленной доски. «Отбивка» наводится при помощи табурета и ребра ладони. Я и сам намучился, пока осваивал технологию. Сначала «отбивка» казалась мне жутким идиотизмом, и, сохранив это убеждение в целом по сей день, я все же должен признаться: если войти в казарму, где в ряд выстроились заправленные, с параллельными стрелками койки, а подушки взбиты и туго обтянуты наволочками, да при этом «гор-рыт» натертый суконками пол – впечатление внушительное…
– Разве так заправляют, чудила! – Зуб раздраженно перевернул неумело убранную постель – плод стараний Елина. – Смотри и учись, Павлик Морозов!
Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку, молниеносно навел стрелки.
– Ровно минута! – полюбовался он своей действительно мастерской работой и снова перевернул постель. – Заправишь свою, а потом мою – для тренировки. Время пошло. Ну…
– Не буду, – чуть слышно проговорил Елин.
– Что?!
– Я вообще не понимаю, зачем это нужно…
– Что?! Что ты сказал?! А тебе и не нужно понимать, понял? Положено так. По-ло-же-но! – И Зуб, схватив страстотерпца за ворот «хэбэ», встряхнул с такой силой, что пуговицы градом застучали по полу.
– Я из тебя борзость-то вытрясу! Понял? Понял?!
Но Елин только помотал головой.
Во время инцидента работа в казарме остановилась: молодые с безысходным сочувствием (лишь Малик с деланым осуждением) следили за подавлением бунта на корабле, но, разумеется, никто и не подумал заступиться за однопризывника – не положено. А ведь только один замерший со шваброй в руках двухметровый Аболтыньш, занимавшийся на гражданке греблей, мог бы хорошим ударом красного, в цыпках и трещинах, кулака вбить Зуба в пол по уши; и случись Эвалду защищать того же Елина от какого-нибудь чужака, он бы так и сделал. Но поднять руку на своего «старика» невозможно.
У «стариков» реакция на происходящее неоднозначная: с одной стороны, их возмущает непокорность «борзого салаги», с другой, раздражает настырная жестокость однопризывника.
А Зуб крепко держал Елина за ворот изуродованного кителя и, судя по выражению лица, прицеливался, куда бы определить завершающую затрещину.
– Зуб, ну почему от тебя столько шума? – вдруг раздался утомленный голос Валеры Чернецкого. – Заколебал ты своей силовой педагогикой!
– Ничего, пусть жизнь узнает! – с клинической убежденностью огрызнулся Зуб.
Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в его игры, но это выше моих сил.
– Отпусти парня! – ласково попросил я прерывистым от наигранного спокойствия голосом и спрыгнул со своего второго яруса. Зуб повернул в мою сторону удивленную поросячью физиономию:
– Не понял!
– Вырастешь, Саша, поймешь! Отпусти его!
По казарме прокатился ропот удивления, который в театре достигается тем, что все начинают одновременно произносить одно и то же слово, например, «восемьдесят девять». Но здесь ропот натуральный: «старики», да еще из одного расчета, ссорятся из-за «салаги». Невероятно! Зуб напряг свою единственную извилину, чтобы отбрить меня какой-нибудь язвительной шуточкой, но слова бывают иногда тяжелее, чем траки, каковыми ефрейтор качает бицепсы к дембелю…
– Смирно! – вдруг раздался вполне приличный вопль дневального Цыпленка, тут же подхваченный старательным Маликом. В казарме произошла мгновенная перегруппировка: молодые принялись усердно наяривать пол, остальные катапультировались из коек и начали стремительно одеваться. Елин полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы. Никаких следов! Офицеров случившееся не касается.
В казарму стремительно вошел своевременно обнаруженный старшина Высовень и, обведя полуодетый солдатский коллектив памятливым взглядом, со словами «сгною на кухне» выгнал личный состав девятой батареи самоходных артиллерийских установок на зарядку. А замешкавшемуся заряжающему из башни рядовому Купряшину вытянул жесткой отеческой ладонью по мыслительной части, туго обтянутой сатиновыми трусами.
…Строй рассыпается. Комбат Уваров сердито и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова:
– Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!
Это скомандовал майор Осокин.
Следом за офицерами мы возвращаемся в казарму. За окном ребята разбираются повзводно и порасчетно, обсуждая, кому где искать. Доносится голос старшины Высовеня:
– Ну что, чэпэшники, допрыгались? Замордовали парня…
Комбат Уваров, играя желваками, снова терзает свою фуражку.
Майор Осокин медленно обводит Зуба взглядом и брезгливо спрашивает:
– Так что у вас произошло с рядовым Елиным?
Зуб молча сопит в ответ. Возможно, вопрос обращен и ко мне, но я тоже помалкиваю. А что говорить? Виноват, хотел предотвратить, встал грудью, но силенок не хватило, не получилось… А что получилось? Пропал солдат. Такое бывает: обиделся и просто убежал куда глаза глядят, а если не убежал…
– Что произошло? Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов?! – угрожающе повторяет замполит.
– Мы с ним поссорились… – вдруг как-то по-детсадовски взблеивает Зуб.
Комбат Уваров судорожно кривит рот и отворачивается.
– Поссорились… – горько передразнивает майор. – С таким бугаем поссоришься! За что ты его избил?
– Нет… Я только…
– Хватит! – обрывает Осокин. – Слушай меня, Зубов, внимательно: всю округу носом вспашешь, а Елина мне найдешь! Упаси бог, с ним что-нибудь случится! Ты меня понял?
– П-понял! – часто кивает совершенно раскисший борец за «стариковские» права.
– Иди!
Зуб неуверенно отдает честь, поворачивается, чуть не потеряв равновесие, а из казармы выскакивает уж как-то боком.
– Ну, Купряшин, – переключается замполит на меня, – куда мог пойти Елин? Земляки у него в других батареях есть?
– Кажется, нет…
– С Зубовым ты из-за него дрался?
– Из-за него, – соглашаюсь я, лишний раз убедившись, что сбор информации у майора Осокина поставлен грамотно.
– Почему ко мне не пришел? – строго спрашивает замполит, хотя сам перестал бы меня уважать, прибеги я к нему с весточкой в зубах.
– Не успел, – вздохнув, отвечаю я.
– Не успел… Теперь, если что… Не успе-ел… Иди, догоняй своих…
Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:
– Товарищ майор, разрешите…
– Не разрешаю! – зло обрывает Осокин.
* * *
Это на гражданке физкультура и спорт – твои личные трудности, а в армии это – важная часть службы, большое общегосударственное дело. Поэтому каждое утро над городком повисает топот сотен бегущих ног во всех направлениях – повзводно – ребята спешат на зарядку. Все эти ручейки, словно огромный темный водоворот, втягивает в себя полковой плац, по которому каждый день мы делаем несколько кругов. Те, кто посильнее, бегут по самому краю, где брусчатка переходит в асфальт, слабые, облегчая себе жизнь, держатся ближе к середине, и кажется, будто их затягивает водоворотом. Получив реактивное ускорение от могучей десницы старшины Высовеня, я полетел на зарядку.
…На этом плацу я когда-то задыхался после первого же круга, а подталкивающий меня в спину сержант поучал: «Не придуривайся! Это тебе не марш-бросок». И действительно, не будь ежедневных пробежек, первого марш-броска я бы не пережил: просто сердце взорвалось бы, как граната. Помню, перед самой командой «Вперед!», когда в последний раз пробуешь плечами тяжесть полной выкладки, кто-то сунул мне в руки каску – мол, на минуту, подержать. И тут все рванули… Я, как идиот, бежал, задыхаясь, с двумя касками и думал только о том, чтобы добежать и шарахнуть с размаху хитреца, облегчившего себе жизнь за мой счет, но о том, что каску можно просто-напросто бросить, я как-то не подумал…
Сделав нужное количество кругов по плацу, боковой дорожкой мы направились в спортгородок, где под командой неумолимого Зуба молодые стали наращивать мускулатуру и качать прессы, а «старики» разбрелись по любимым снарядам. Шарипов с гиканьем делал на перекладине «солнышко», здоровенный Титаренко жонглировал траками, Чернецкий изображал грациозные пируэты некой восточной борьбы, а я, лениво пробежав полосу препятствий, остановил свой выбор на яме с песком, где меня и настигла задумчивость. А поразмышлять было о чем: конечно, я сделал ошибку, при всех связавшись с Зубом из-за Елина, нужно было поговорить потом, с глазу на глаз. И вообще, вся эта история мне не нравилась еще и потому, что была продолжением моих личных неприятностей и переживаний, ознаменовавших первый год службы. Помню, когда собирался в армию, больше всего боялся разных физических испытаний: думал, вот забуду открывать рот во время залпа и лишусь слуха или не выдержу того же марш-броска. Но бег с полной выкладкой меня не убил, рот открывать я не забывал. Самым тяжелым оказалось совсем другое…
До сих пор я с чувством жгучего стыда вспоминаю, как на третий день, ночью, меня разбудил Мазаев и распорядился принести ему попить. Я сделал вид, что не понимаю, и перевернулся на другой бок, но он с сердитой настойчивостью растолкал меня снова и спросил: «Ты что, сынок, глухой?» И я, воспитанный родителями в духе самоуважения и независимости, крался по ночному городку в накинутой на серое солдатское белье шинели затем, чтобы принести двадцатилетнему «старику» компотика, который на кухне для него припасал повар-земляк. Попить я принес, но поклялся в душе: в следующий раз умру, но унижаться не буду!
«Следующий раз» случился наутро. Мазаев сидел на койке и, щелкая языком, рассматривал коричневый подворотничок. Потом он подозвал меня и, с отвращением оторвав измызганную тряпку, приказал: «Подошьешь». И так же, как Елин сегодня, я ответил: «Не буду». И так же, как Елин сегодня, подчинился, успокаивая свою гордость тем, что так положено, не я первый, не я последний, нужно узнать жизнь, придет и мой час, ну и так далее… А ночью с ужасом проснулся от мысли: если бы Лена увидела, как я унизился, она сразу бы разлюбила меня.
А Мазаев еще не раз и не два учил меня жизни, и особенно ему не нравилось то, что я москвич. По-моему, он вообще представлял себе столицу в виде огромного, рассчитанного на восемь миллионов, спецраспределителя!
Все случившееся некогда со мной и все, что переживал сегодня Елин, имеет свое официальное название – неуставные отношения, неуставняк. Несколько раз перед строем нам зачитывали приказы о том, как «кто-то кое-где у нас порой» отправился в дисбат именно за издевательство над молодыми солдатами. А весной нас возили на показательный трибунал. Один из обвиняемых – здоровенный парнюга, покалечивший призывника, после приговора заорал хриплым басом «мама» и зарыдал.
После отбоя в казарме мы долго обсуждали увиденное.
– Пять лет! – стонал Шарипов. – Очертенеть можно!
– Закон суров, но это закон, – спокойно заметил Валера Чернецкий, обрабатывая ногти надфилем.
И тут с неожиданной яростью высказался Зуб:
– Из-за какого-то «салабона» человек пропал!
– Да ведь он чуть не убил молодого-то! Балда… – удивился невозмутимый Титаренко.
– Распускать «сынков» не надо, тогда и бить не придется! – разошелся Зуб. – А если бить – так по-умному…
– Как тебя Мазаев лупил? – простодушно поинтересовался я.
– Хотя бы и так! – огрызнулся Зуб и вдруг заорал: – Цыпленок, свет выключить! Быстро!
И вот почтенный отец семейства, молниеносно соскочив со второго яруса на пол, строевым шагом подошел к выключателю и, согласно сложившемуся ритуалу, трогательно попросил:
– Товарищ выключатель, разрешите вас вырубить!
Немного подождав, словно электроприбор мог ответить, Цыпленок осторожно погасил свет.
Мне всегда хотелось узнать, что думают о «стариковстве» офицеры. И вот как-то я сидел в штабе дивизиона и по распоряжению комбата чертил боевые графики, а рядом что-то строчил в тетрадке прилежный лейтенант Косулич. Честно говоря, сначала мы посмеивались над взводным: командовал он таким тоном, точно извинялся за причиняемые неудобства. Но потом оказалось, наш тихоня знает технику получше комбата – такое впечатление сложилось у меня после тактических занятий и нескольких суббот, проведенных вместе с Косуличем в ангарах, возле самоходок. А громкий командный голос взводный обязательно выработает: на то у него и погоны со звездами, а у нас байковые.
– Товарищ лейтенант, давно хотел у вас спросить, да все как-то неудобно… – профессионально робея, начал я.
– Я вас внимательно слушаю! – отозвался взводный, который даже к Цыпленку обращался на «вы».
– Как вы считаете, откуда пошло «стариковство»?
– Неуставные отношения… – встревоженно повторил Косулич. – Вас это интересует в связи с конкретной ситуацией или теоретически?
– Чисто научный интерес! – успокоил я насторожившегося взводного.
– Вы знаете, – посерьезнел он и поправил очочки, – я тоже часто об этом думаю. Говорят, все началось после сокращения сроков службы в шестьдесят седьмом году. Давайте смоделируем: вы служите три года, а новые призывы – только два!
– Жуть! – возмутился я.
– Не надо драматизировать! – возразил лейтенант.
– Конечно, не будем! – согласился я, потому что офицер, изначально заряженный на двадцать пять лет, никогда не поймет, что значит для солдата прослужить лишний год!
– Но обстоятельства сложились так, – продолжал взводный, – что «трехлетки» стали срывать зло на «двухлетках»… А дальше нечто вроде цепной реакции…
– Я свое огреб, а теперь ты получи! – подсказал я.
– Примерно… – согласился лейтенант. – Но я думаю, что тут дело посложней. Начнем с того, что разделение на возрастные касты было во все времена характерно для замкнутых коллективов, каковыми являются не только армейские подразделения. Так, в пажеском корпусе перед революцией бытовала жестокая шутка: старший воспитанник подходил к младшему и спрашивал: «Каково расстояние от меня до тебя?» – «Аршин…» – отвечал молодой. – «А каково расстояние от тебя до меня?» – снова спрашивал экзаменатор. «Оно настолько велико, что не поддается измерению!» – должен был ответить тот, в противном случае его ждало жестокое наказание…
– Надо запомнить!
– Я рад, Купряшин, что вас тоже волнует эта проблема! – Лейтенант прямо-таки расцвел. – Знаете что – давайте-ка проведем грамотно подготовленное собрание с повесткой «Армейский комсомол – воспитатель молодого пополнения». Попросим замполита выступить, корреспондента из «дивизионки» позовем… Договорились? И вы выступите как член бюро батареи. Значит, я в план включаю? – И Косулич полез в стол за красиво оформленной папкой…
Собрание мы, разумеется, провели, а в «Отваге» о нем поместили заметочку под названием «Мужской разговор». Дело было так: мы с песней подошли к казарме, по команде старшины Высовеня забежали в ленкомнату и расселись. Избрали в президиум Осокина, Уварова, Косулича и поручили вести собрание недавно пришедшему из учебки младшему сержанту Хитруку, который и на полигоне-то ни разу не был, а постоянно курсировал между штабом и клубом. Зато ночевать он приходил в батарею, поэтому отлично понимал, что значит его сомнительное сержантское звание в сравнении с высоким титулом «старика». Хитрук что-то замямлил, опасливо поглядывая в сторону ветеранов батареи, устроившихся на «Камчатке», но они с нарочитым одобрением захлопали, и младший сержант с облегчением передал слово майору Осокину.
Замполит хорошо говорил об отдельных фактах неуважительного отношения к молодежи, о совсем уж единичных случаях издевательства над призывниками. Он подчеркнул, что эти негативные явления, в принципе не свойственные нашей армии, серьезно сказываются на боевой и политической подготовке личного состава, подрывают атмосферу товарищества в подразделениях – поэтому с ними нужно бороться всем жаром комсомольских сердец, активно прибегая как к критике, так и к самокритике…
Лейтенант Косулич ловил каждое слово замполита и даже что-то записывал в блокнот, а комбат равнодушно пересчитывал награды на мундирах наших отцов-маршалов, чьи портреты теснились на стене. Неожиданно слово попросил Валера Чернецкий, встал, раскланялся, точно конферансье, и начал:
– Товарищ майор, если не ошибаюсь, везде у нас пишут о наставничестве. Так?
– Так.
– Должен опытный воин наставлять призывников?
– Должен.
– А опыт закрепляется как? На практике. Значит, чем больше «салабон»… простите… чем больше молодой воин сделает, тем быстрее освоится, переймет опыт. Правильно?
– Н-ну, правильно… – насторожился Осокин.
– Ну а раз правильно, то это никакие не издевательства, а обыкновенное наставничество. И лучших «стариков»-наставников нужно даже поощрять! Я вот, например, еще ни разу в отпуску не был. Правильно?
В ленкомнате раздалось одобрительное хихиканье. Косулич сокрушенно покачал головой, младший сержант Хитрук помертвел, а комбат Уваров нехотя улыбнулся.
– Нет, неправильно! – дернув головой, сердито ответил замполит. – Во-первых, ты забыл, как год назад жаловался, что у тебя старослужащие деньги отбирают. Было? Молчишь. Ну-ну… А во-вторых, в Вооруженные Силы вас, товарищ рядовой, призвали не педагогические таланты выказывать, а Родину защищать! Без армии нет Родины, а без дисциплины нет армии! И ничто так не разъедает дисциплину, как неуставные отношения!
– Товарищ майор, это же просто красивая традиция! – начал оправдываться Валера. – Так время быстрей идет, веселее…
– Нет, Чернецкий, это не забавная традиция, не веселая игра… Это ржавчина, разъедающая армию изнутри! Ведь не дай бог что-то случится – в бой вы пойдете все: и молодые, и «старики» сопливые… На войне, знаете, наставник тот, кто уцелел. Кстати, там «стариками» и называются те, что выжили. Ясно?
– Ясно! – отозвался Чернецкий, всем видом демонстрируя свое уважение к афганскому опыту майора.
– И вот еще: если что-нибудь узнаю про ваши «дембельские» художества, виновный, в лучшем случае, за ворота части выйдет 31 декабря, ровно в 23.59. Это я вам говорю как наставник.
Кстати, угроза майора была вполне реальна. Общеизвестный рядовой Мазаев долго бродил в своей пушистой шинели по городку и пропал в самом деле лишь под Новый год.
Выступая в заключение, младший сержант Хитрук пел о том, что после такого собрания по-старому жить невозможно, что, обновляясь со всем народом, мы каленым железом выжжем скверну неуставных отношений из наших сплоченных рядов, что в эпоху тотальной борьбы за мир особо важна бдительность и боевая готовность… при этом он с извинением поглядывал на «Камчатку», где сидели «старики».
Сначала я тоже хотел выступить на собрании, даже несколько дней обдумывал и мысленно произносил свою речь, суть которой, как я теперь понял, сводилась в основном к призыву кота Леопольда: «Ребята, давайте жить дружно!» В общем, детский лепет на лужайке! Но когда лейтенант Косулич показал глазами – мол, сейчас твоя очередь, я так замотал головой, что чуть не свернул себе шею.
…Выбегая на улицу, я слышу, как комбат Уваров глухо обращается к замполиту:
– Товарищ майор, разрешите…
– Не разрешаю! – обрывает Осокин.
Дрожа от возбуждения, я мчусь в сторону автопарка и вскоре нагоняю Зуба. Он курит на ходу, и ночной ветер выбивает искры из его сигареты. Заметив меня, Зуб хочет заговорить, даже поворачивается в мою сторону, но тут, конечно, вспоминает приговор ночного суда. Не положено: я ведь теперь снова «салага»! Но блюстителю суровых «стариковских» законов страшно наедине с мыслями об исчезнувшем Елине, и он прибавляет шагу ровно настолько, чтоб не отстать от меня и одновременно не идти рядом с презренным парией, между прочим, поощренным недавно благодарственным письмом на родину.
– Эй, подождите! – Из чердачного окна выныривает чья-то голова, раздается грохот на лестнице, и перед нами возникает Цыпленок. Он тут же сообщает, что почти все чердаки и подвалы проверены и что в городке ловить больше нечего, а искать нужно в автопарке, где недавно под самоходкой спрятался и уснул парень из батареи управления, обидевшийся на своего старшину.
Может быть, Елин выплакался и тоже дрыхнет где-нибудь под ракитовым кустом, не зная, какая каша заварилась из-за него. С молодыми такое бывает.
По пути задыхающимся голосом осведомленный папа Цыпа рассказывает нам, что, собственно, произошло. Оказывается, лейтенант Косулич, выполнявший вчера обязанности вождя и учителя кухонного наряда, заметил, что рядовой Елин не работает, но сидит в углу, уткнувшись лицом в колени. На вопрос: «Кто обидел?» Серафим ответил: «Никто». – «Заболел, что ли?» – встревожился добросердечный взводный. «Да, живот схватывает…» И тогда Косулич отправил Елина в санчасть, гуманно рассудив: если заболел – вылечат, а если притворяется, то начальник медслужбы капитан Тонаев быстро мозги вправит…
Цыпленок раздувает ноздри, изображая свирепого начмеда, и возобновляет рассказ: Елин предупредил ребят, что только примет лекарство и сразу вернется. В ответ ему горячо порекомендовали в качестве надежного лечебного средства двухведерную клизму с патефонными иголками. Елин печально улыбнулся, ушел и не вернулся.
* * *
Вернувшись с зарядки, я отправился в бытовку бриться и обнаружил там Елина, с обреченным видом он пришивал выдранные пуговицы. Лучшей ситуации для разговора не придумаешь.
– Послушай, Фима, – начал я задушевным голосом и увидел, как вздрогнул Елин, давно не слышавший своего имени. – Ты особенно не расстраивайся. Зуб, конечно, заводной парень, но его в свое время тоже гоняли, особенно Мазаев… – Говорил я совершенную чепуху, но остановиться не мог. – Скоро мы уволимся, полгода «скворцом» побудешь, а там уже и дембельский альбом готовить надо. Главное, не бери в голову! Дома-то все в порядке?
По тому, как Елин глубоко вздохнул и промолчал, я понял, что дома-то как раз не все в порядке. Вычислить ситуацию было несложно: мама с папой не разлюбят и письмо написать не забудут. Если б кто-то серьезно заболел или, не дай бог, помер, – Елина по телеграмме отправили бы в краткосрочный отпуск. А он – здесь, сидит и орудует иголкой. Остается заурядная, но чреватая тяжелыми осложнениями «салажья» болезнь – разочарование в женской преданности. Ну что же, я прошел через такое и поэтому хирургически точным вопросом коснулся раны:
– Последнее письмо от нее давно получил?
– Месяц назад.
– Подожди, тебе же вчера письмо было!
– Это не от нее.
– Значит, теперь от нее жди!
– От нее больше не будет.
Елин наклонился к гимнастерке перекусить нитку, и на кителе расплылось мокрое пятнышко.
– Почему не будет? – спросил я, словно не понимая.
И тогда он достал залохматившийся по краям конверт с портретом великого русского физиолога и естествоиспытателя И. П. Павлова (1849–1936). Я прочитал письмо. Это была обыкновеннейшая армейская история. Елинская подружка сама написать не решилась, а попросила их общего друга, на которого этот балбес, уходя, оставил свою зазнобу. После сбивчивых предисловий – «сердцу, мол, не прикажешь», «правда, мол, между товарищами прежде всего», тот хмырь сообщал, что «давно любит Люсю» и что неделю назад они подали заявку. Вот ведь какой гад! Нравится – женись, но зачем плевать в душу парня, который, между прочим, охраняет твой блудливый покой. Мне рассказывали один случай: девчонка писала до последнего дня: люблю, жду, приезжай! Он приехал – здрасте! У нее давно муж, и ребенок ползает. Парень, конечно, мужу в торец, ей, я думаю, тоже. И успокоился. А она ему логично объяснила: «Тебе и так было тяжело, не хотела расстраивать…» Может, случай этот – вранье, но уж коли обманывать – как та девчонка.
Но Елину я сказал другое:
– Во-первых, Серафим, рубить лучше сразу – значит, не любила. А то, бывает, гуляет со всем микрорайоном и ждет. Знаешь, у девчонок такая теория появилась: главное – верность духовная. Во-вторых, зема, давай философски. Девчонок тоже в чем-то понять можно. Вот мне одноклассница написала (написала она не мне, а Чернецкому, но в данном случае это значения не имело). Ждала парня два года, а он вернулся и смотреть не хочет: у него, видите ли, за время службы вкус изменился. А ей куда два года домашнего ареста девать? Можно ее понять?
– Можно… Правильно ребята еще в карантине говорили: хочешь спокойной службы – сразу забудь. Я же чувствовал, что-то у них не так! И на проводах тоже. Обидно только!
– А мне, думаешь, не обидно было? – сказал я и осекся. Елин смотрел на меня, ожидая продолжения. Ну уж нет! – В общем, так, – подытожил я. – Выбрось все из головы – этого добра у тебя еще навалом будет! А теперь давай договоримся насчет Зуба. Я, конечно, с ним потолкую, но и ты старайся не связываться. Сам понимаешь, «этот мир придуман не нами…».
– А по-моему, мы сами это свинство придумали и сами мучаемся, – вдруг выдал бывший пионерский вожак. – Но я не буду терпеть!
– Ну, и что ты сделаешь?
– Я? Знаю! Вот увидишь! Я… Я…
– Ладно тебе! Я! Я! Спортивная семья… Лучше скажи, тебя не в честь Шестикрылого Серафима назвали?
– Н-нет! – удивился Елин и улыбнулся, обнажив два заячьих зуба. – Просто у моего дедушки…
Но сколько крыльев было у елинского деда, я так и не узнал: дверь распахнулась, и в бытовку вошли замполит Осокин и комбат Уваров. Мы вскочили.
– Вольно. Занимайтесь своим делом, – разрешил майор и, оглядев бытовку, сказал: – М-да…
Хотя сегодня воскресенье, меня нисколько не удивило появление комбата и замполита: в дни солдатских праздников, таких, как «сто дней», офицеры не знают покоя.
Осокин колупнул пальцем штукатурку, попробовал ногой расходившуюся половицу, еще раз оглядел комнату и остановил глаза на Елине.
– Майский? – спросил он комбата.
– Так точно, – подтвердил Уваров.
– Ну, как служба? Привыкаешь? – тепло осведомился майор у Серафима.
– Привыкаю, – промямлил Елин и, почувствовав, что ответ прозвучал не по-военному, добавил: – Так точно!
Вообще, «так точно» и «отставить» удивительно въедливы. Я, например, замечал, как старшина Высовень, начав что-то делать неверно и заметив это, сам себе командует вполголоса: «Отставить!»
– Дай-ка сюда! – неожиданно потребовал замполит, протянув руку к «хэбэ». – Кто же это тебе все пуговицы с мясом выдрал?
Наступила тишина, нарушаемая только глухим топотом, доносившимся со второго этажа.
– Я вас спрашиваю, товарищ рядовой!
Елин стоял, опустив голову, и крутил в пальцах непришитые пуговицы.
– Купряшин, – дошла очередь до меня, – что здесь произошло?
Я понимал, что нужно оперативно соврать: ну зацепился и так далее. Но выгораживать Зуба мне не хотелось; ей-богу, стоило бы поглядеть, как он будет извиваться перед замполитом, потому что ефрейтор такой храбрый только с молодыми, и то не со всеми: здорового Аболтыньша он, например, старается не «напрягать». Подумав так, я открыл рот и ответил:
– Не знаю, товарищ майор.
– Кто командир расчета? – Осокин дернул головой и повернулся к комбату.
– Сержант Титаренко.
– Это там, где Зубов? – что-то припоминая, спросил замполит.
– Так точно, товарищ майор. Я разберусь и вам доложу! – торопливо заверил комбат и, выходя из бытовки вслед за побагровевшим Осокиным, резанул нас бешеным взглядом.
– Все – хоккей! Да садись ты! – успокоил я разволновавшегося Елина, и тот вернулся к своим реставрационным работам. Но мне-то было ясно, что дело приняло скверный оборот! Комбат не первый год на этой работе и, зная Зуба, как облупленного, конечно, догадался, кто тряхнул Елина. Но сама по себе случившаяся история не стоила бы выеденного яйца, если бы, как говорится, информация не ушла наверх. Поэтому можно представить, из каких слов сейчас состоит внутренний монолог Уварова. И я тоже, чурка неотесанная: «Не знаю, товарищ майор». А что сделаешь? Есть такая заповедь: не заклади! То есть: не заложи! Вот черт, такой день, и так паршиво начался!
– Батарея, выходи строиться! – натужно проорал Цыпленок.
Началось утреннее построение. Обычно первыми выскакивали из дверей и строились «салаги», потом с солидной неспешностью выходили «лимоны», наконец, появлялись уставшие от жизни «старики». Они неторопливо занимали промежутки в строю, заботливо припасенные молодыми. В этот момент обычно появлялся жизнерадостный старшина Высовень, и начиналось:
– Малик!
Молчание.
– Малик!
– Я!
– Головка от крупнокалиберного снаряда. Не спи – замерзнешь!
Но построения по всем правилам не получилось, потому что вместо прапорщика, влюбленного в меткое народное слово, перед шеренгой стоял разозленный комбат Уваров, и встречал он явление личного состава народу таким взглядом, что даже самые лихие «старики» вроде Шарипова менялись в лице, торопливо застегивая воротники, и перемещали ременную пряжку с того места, где обычно расположены фиговые листочки, на плотную дембельскую талию.
– Вот черт, сам поведет, – тоскливо сказал мне Чернецкий. – И чего ему дома не сидится, с женой, что ли, поругался?
Заслышав про комбатову жену, Шарипов лукаво толкнул меня локтем.
– Нет, боится, – ответил вместо меня Зуб. – Помнишь, в день приказа он вообще в казарме ночевал?
– Мать честная! И так двадцать пять лет жить! – покачал головой Камал.
– Отставить разговоры! Батарея, равняйсь! Смирно! – Титаренко строевым шагом подошел к комбату, лихо повернулся и отчеканил: – Товарищ старший лейтенант! Шестая батарея построена. Заместитель командира взвода сержант Титаренко.
– Здравствуйте, товарищи артиллеристы! – недружелюбно поприветствовал нас комбат.
– Ва-ва-ва-ва-ват! – проревела батарея, что в переводе означает: здравия желаем, товарищ старший лейтенант.
Затем Уваров принял из рук Титаренко красную папку со списком личного состава и провел перекличку, в ответ на каждое «Я!» вперяя испытующий взгляд и чувствуя себя в эту минуту, наверное, обалденным психологом. Потом, перестроившись в колонну по четыре, мы отправились в столовую, но путь, обычно занимавший пять минут, на этот раз длился полчаса.
– Батарея! – скомандовал комбат. И тотчас на брусчатку обрушились слабенькие ножки молодых – словно горох по полу запрыгал.
– Отставить! Кругом!
И мы вернулись к родной казарме, остановились и застыли, как декабристы, ожидавшие помощи со стороны несознательных народных масс, участвовавших в строительстве Исаакиевского собора.
Я переминался с ноги на ногу и думал о том, что комбат, хотя и неплохой мужик, но с самодуринкой: то ему на все наплевать, то хочет враз все переделать. Лично мне симпатичнее лейтенант Косулич или даже прапорщик Высовень, они тоже иной раз любят дисциплиной подзаняться, погонять туда-сюда, но делают это без упоения, а, так сказать, подчиняясь суровым обстоятельствам. И хотя взводный при этом утомительно вежлив, а старшина обзывает нас «плевками природы» и «окурками жизни», зла на них никто не держит.
– Батарея! – скомандовал старлей, решив, что мы все осознали, – и строй снова двинулся к столовой.
На подмогу немощным «салагам» и «скворцам» пришли «лимоны», сообразившие, что положение нужно спасать, хотя, в принципе, свое они уже оттопали. Но горох остался горохом, правда, несколько увеличился в размерах.
– Отставить! Кругом!
И опять мы неподвижно стояли возле казармы.
– Хреновые дела, – шепнул Зуб, до сего момента не замечавший меня. – Комбата кто-то разозлил.
Хотел я было объяснить однопризывнику, что этот «кто-то» – он сам, но решил не опережать события.
Наконец, с третьей попытки, когда, забыв свою гордость и вспомнив далекую молодость, приударили ножкой и «старики», дело пошло на лад. В казармах задребезжали стекла; казалось, еще один удар – и вся батарея провалится к черту сквозь вибрирующую брусчатку.
– Запевай!
С песней повторилось то же самое, что и со строевым шагом. Но в более сжатые сроки. И когда уже каждый топал и пел из последних сил, а батарея стала похожа на громыхающий колесами, подающий непрерывный гудок очумевший от расстояния поезд «Владивосток – Москва», – комбат решил, что пайку мы заработали, и повел нас на завтрак.
По команде мы забежали в столовую и, как обычно, расселись за пятью длинными столами – у окошка «старики», а дальше, к проходу, в соответствии со сроками службы, – остальные. В огромном зале висел милый сердцу каждого солдата густой звон мисок и ложек, а на стене красовался знаменитый лозунг, выполненный полковым талантом, клубным деятелем младшим сержантом Хитруком под руководством зампотыла майора Мамая.
ХЛЕБА К ОБЕДУ В МЕРУ ЛОЖИ,
ХЛЕБ – ЭТО ЦЕННОСТЬ, ИМ ДОРОЖИ!
Питание личного состава батареи строилось обычно следующим образом: первыми хлеб, кашу, мясо и прочее «ложили» «старики». Но поскольку у них почему-то аппетит ослаблен, то молодым, которым всегда хочется рубать с жуткой силой, еды в общем-то хватает, разве что чай бывает не приторным или белого хлеба и мяска не достается. Но никто и не говорит, что они в армию жрать пришли!
Главный ритуал «ста дней» в том-то и заключается, что сегодня все происходит наоборот: первыми еду берут «салаги», а мы – под конец. Естественно, они смущаются и стремятся, косясь на ветеранов батареи, взять кусочки поплоше, но картина все равно впечатляет! Затем начинается кульминация: «старики» отдают молодым свое масло. Все это, по замыслу, должно символизировать преемственность армейских поколений. Но когда свою желтую шайбочку я положил на хлеб Елину, тот посмотрел на меня такими глазами, что весь ритуал, казавшийся мне безумно остроумным, представился полным идиотизмом.
Я рубал солдатскую кашу «шрапнель» и думал о том странном влиянии, какое оказывает на меня нескладеха Елин. Или он какой-то особенный, или просто-напросто с ним я снова переживаю свои первые армейские месяцы, когда кажется, будто шинель, гимнастерка, сапоги и т. д. – это уже навсегда, будто домой не вернешься ни за что; когда все вокруг пугающе незнакомо, когда находишься в страшном напряжении, словно зверь, попавший в чужой лес; когда можно закричать из-за того, что из дому снова нет писем, когда от жестокой шутки немногословного «старика» душа уходит в пятки, когда понимаешь, что жить в солдатском обществе можно только по его законам и нельзя купить билет да уехать отсюда, как сделал бы на гражданке, не сойдясь характером с тем же самым Зубом. Армия – это не военно-спортивный лагерь старшеклассников с итоговой раздачей грамот за меткую стрельбу из рогаток. Армия – это долг. У них – повинность, у нас – обязанность, но везде – долг! Значит, нужно смирить душу и вжиться. Сила характера не в том, чтобы ломать других, как считает Уваров, а в том, чтобы сломать себя!.. Стоп. А нужно ли ломать, нужно ли привыкать к тому, к чему приучил себя я? Может быть, прав смешно уплетающий «шрапнель» Елин: сначала мы сами придумываем свинство, а потом от него же мучаемся…
– Встать! Выходи строиться, – скомандовал комбат.
Я выплеснул в рот остатки чая и, разжевывая на ходу комки нерастворившегося сахара, направился к выходу. К сожалению, дисциплина порой несовместима с логическим мышлением.
– Направо! Шагом арш! – продолжил свою воспитательную работу старший лейтенант.
Я шагал и пел о том, что «всегда стою на страже», а сам думал, как после обеда, воспользовавшись законным личным временем, пойду в библиотеку, буду говорить с Таней. Удивительно, но с самого утра, вообразив себя Главпуром и решая актуальные проблемы политико-воспитательной работы в Вооруженных Силах, я почти не вспоминал о Тане. Да, все-таки солдат не должен много думать, иначе, как я сейчас, он теряет ногу и семенит, подпрыгивая, чтобы снова совпасть с родным коллективом.
– Батар-рея! – рявкнул наш трехзвездный Макаренко, и сытый личный состав с такой силой шарахнул о брусчатку, что видавшие виды гарнизонные вороны взвились в воздух и обложили нас пронзительным криком.
– Значит, письмо нашли?! – вскидывается Зуб. – А дальше?
Скотина! Он и сейчас думает только о том, как бы отвертеться, свалить случившееся на кого-нибудь другого, на ту же шалопутную елинскую подружку. Ему хорошо известны случаи, когда молодые делают над собой глупости из-за таких вот писем. В прошлом году один «старик» получил от своей телки письмо, прочитал, разорвал и выбросил в «очко». А ночью повесился в каптерке на своих дембельских подтяжках, за четыре дня до приказа…
Мы бежим по аллее Полководцев – заасфальтированной дорожке, по сторонам которой установлены щиты с портретами славных ратоборцев, начиная с Александра Невского. Аллея ночью освещается фонарями. Мимо нас мелькают рисованные лица – и мне мерещится, что вся героическая история русского оружия с осуждением смотрит нам вслед. А маршал Жуков даже хмурит брови, точно хочет сказать: «Что же это у вас солдаты пропадают?! Распустились?!..»
Аллея Полководцев кончается возле полкового клуба – многобашенного здания, похожего на средневековый замок. В этом замке работает библиотекаршей прекрасная принцесса по имени Таня. Таня – жена нашего комбата. И мне чудится, что налетевший ветер доносит запах ее необыкновенных духов, чье название я никак не запомню, вследствие полного парфюмерного невежества.
– Клевая у комбата жена! – по-птичьи, одним глазом, глянув на меня, сообщает озабоченный Цыпленок. – Я давеча…
– Я тебя, сыняра, спросил, что было после письма? – задыхаясь от злобы и бега, перебивает Цыпленка Зуб. – Ты оглох, что ли?
* * *
Солдатское воскресенье – это изобилие личного времени. Но расположение нашей части таково, что увольнений не бывает: идти некуда, ближайший населенный пункт – в тридцати километрах. Раз в полгода нас возят туда для торжественных смычек с местной молодежью, в основном девчонками-старшеклассницами. Накануне мы обычно долго не спим и страстно обсуждаем тактику и стратегию совращения местных девиц, Цыпленок важно делится брачным опытом, а Зуб, лиловея от нерастраченного солдатского любострастия, рассказывает о своих, по-моему, придуманных, половых подвигах. Обычно дело кончается тем, что ошалевший Шарипов с криком: «Ишаки проклятые!» выбегает из казармы в ночь. Надо ли говорить, что на следующий день, во время смычки, мы стоим у стенок клуба, как замороженные, и только никогда не принимающий участия в наших «военных советах» Валера Чернецкий всегда отхватывает себе школьницу с непременным восьмым номером и исчезает с ней после двух-трех танцев. Возвращаются они через полчаса, и девица смотрит на нашего усталого, но довольного боевого друга с собачьей преданностью.
Вот и все развлечения… Правда, за полигоном у нас расположена железнодорожная ветка, но поезда проскакивают наши палестины, не останавливаясь. Как говорит старшина Высовень, жизнь пронеслась мимо, обдав грязью…
Воскресные дни у нас проходят однообразно: «салаги» пишут письма, «старики» сидят в солдатской чайной или готовятся к торжественному возвращению домой. Днем смотрим по телевизору «Служу Советскому Союзу!», которую у нас называют «В гостях у сказки», вечером в клубе – законный воскресный фильм. Бывают и спортивные мероприятия. Сегодня, например, встреча по волейболу между первым и третьим дивизионами. Но я решил после завтрака заняться своим дембельским хозяйством и отправился в каптерку.
Там уже изнемогал над своей «парадкой» завистливый Шарипов, а у него за спиной примостился услужливый Малик и с упоением наблюдал за превращением обыкновенной уставной парадной формы в произведение самодеятельного искусства.
Камал, поставивший перед собой сложную задачу – модно ушить форменные брюки, походил на сосредоточенного хирурга и, орудуя попеременно то бритвой, то ножницами, властно требовал у ассистировавшего Малика: «Булавку! Бритву!»
Вдоль стены, в два яруса, как в магазине «Одежда», висели «парадки» и шинели. Я снял с вешалок и разложил на длинном столе всю свою экипировку. Шарипов оторвался от работы и сокрушенно зацыкал зубом: моя – пушистая, словно мохеровая шинель была предметом его постоянной зависти. В свое время ему досталась коротенькая шинелька б/у, вытертая, кое-где прожженная – и все старания привести ее в нормальный вид ничего не дали. Тщетными оказались и попытки «махнуться» с кем-то из молодых: мол, тебе все равно, в какой служить, а мне скоро домой, – старшина Высовень строго следил за тем, чтобы новенькое обмундирование не уплывало на гражданку вместе с предприимчивыми «дембелями».
Говоря честно, экипировка – главный предмет забот в последние полгода службы. Спроси любого задумавшегося «старика» – он размышляет о том, как будет одет в день увольнения. Вот почему я смотрел на разложенный почти полный дембельский комплект, как пишут в газетах, с чувством глубокого удовлетворения. Прежде всего шинель, которую, расчесывая специальной металлической щеткой, я сделал по длине и густоте ворса похожей на лохматую шкуру странного серо-защитного зверя. Далее – «парадка». Операцию, над которой мучился Шарипов, я уже провел, и обладал роскошными брюками. На китель были нашиты совершенно новые шевроны, петлицы, а также офицерские пуговицы – они, в отличие от солдатских, густо-золотого цвета. Погоны пропитаны специальным клеем, что делает их твердыми и придает элегантную четкость всему силуэту. Камал, я знаю, подложил под погоны обычные пластмассовые пластины и свалял дурака: их заставят вынуть при первом же построении. Не положено!
Рядом с «парадкой» во фланелевой тряпочке – сияющие значки отличника боевой и политической подготовки, специалиста 2-го класса. Кроме того, совсем недавно мне удалось выменять на офицерские пуговицы комсомольский значок, не прикалывающийся, как обычно, а привинчивающийся, – жуткий дефицит. В слесарке мне уже вытачивают для него латунное оформление в виде взлетающей ракеты. В другой фланельке – пряжка, которую при помощи наждачной бумаги, специальной пасты и швейной иголки я довел до такого совершенства, что, глядя в отполированную поверхность, можно бриться. Нерешенная проблема – ботинки: надо бы нарастить каблуки. Все это отлично делает полковой сапожник, мой земляк, но даже из земляков к нему выстроилась такая очередь, что до меня дело дойдет лишь через месяц.
Чемодан. Он небольшой, потому что везти особенно нечего, но зато на крышке я изобразил взлетающий самолет и надпись «ДМБ-1985». Наивно думать, будто с таким чемоданом меня выпустят за ворота части, но и мы тоже два года не зря служили! Делается это так: рисунок заклеивается полиэтиленовой пленкой, хуже – бумагой (может промокнуть) и закрашивается под цвет чемодана, когда же опасность минует, маскировка срывается. Военная хитрость!
И, наконец, дембельский альбом. Мой – высшего качества, в плюшевой обложке. Он пока девственно чист, хотя я приготовил для него несколько отличных фотографий, запечатлевших мою солдатскую жизнь и ребят из батареи. Я мыслю альбом так: фотографии с пояснительными подписями и несколько страниц для пожеланий и напутствий однополчан. На память. Но чаще всего дембельские альбомы напоминают альбомы уездных барышень, о которых писал А. С. Пушкин. Это соображение я высказал еще в начале службы рядовому Мазаеву. Я вклеивал в его альбом фотографии и умирал со смеху. Нужно знать Мазаева: восемь на семь, глаза в разные стороны, двух слов не свяжет, если только при помощи фигуральных выражений, глубоко чуждых армии и печати.
Альбом у него был такой: на первой странице – сплошные виньетки и надпись: «Слава Советским Вооруженным Силам!» На следующей – вырезанный из «Советского воина» плакат времен Гражданской войны «Ты записался добровольцем?». Под плакатом приклеена подлинная повестка. На следующих страницах – фотографии: Мазаев с автоматом, Мазаев со снарядом, Мазаев в окружении земляков, Мазаев на плацу… Были еще какие-то фотки, но самая умора дальше: фотография очень хорошенькой девушки и письмо, начинавшееся словами: «Дорогой, любимый Антон!» Весь юмор в том, что за два года – это знала вся батарея – Мазаев не получил от девчонок ни одного письма, но главное – имя «Антон» было явно и неумело переправлено из имени «Андрей». Любовную страницу украшали виньетки с целующимися голубками.
В довершение ко всему он оказался любителем поэзии. Из каких журналов и книг взялись эти стихи, не знаю. Однако, помню, заканчивалось:
Мир на белом свете будет —
Я страну свою люблю.
Спи, Отчизна, спите, люди,
Потому что я не сплю!
Я представил себе никогда не спящего Мазаева и захохотал: с койки его обычно поднимала только крупнокалиберная ругань прапорщика Высовеня. Мой работодатель, который к смеху-то вообще относился подозрительно, услышав, как я потешаюсь над его альбомом, дал мне такую затрещину, что теперь на вопросы врачей, имел ли травмы черепа, отвечаю уклончиво.
Первое время все эти мелочные приготовления, споры до хрипоты, в чем лучше прийти: в «парадке» и ботинках или в «пэша» с белоснежным подворотничком и сапогах – казались мне смешными. Главное – дождаться, а там какая разница, в чем ехать домой, лишь бы домой! И только теперь мне стало понятно, что преддембельская суета идет не от дурацкого щегольства, вернее, не только от него, а от стремления заполнить, заглушить томление последних месяцев, которые тянутся, тянутся и не кончатся, кажется, никогда. Ведь первое время, конечно, тоскуешь по дому, мечтаешь о возвращении, но так же нереально, как мечтаешь о бессмертии, потому что с самого начала душа как бы запрограммирована на два года службы, но где-то за полгода до дома этот механизм солдатского терпения вдруг расстраивается: не хочется спать, есть, писать домой… А тут подворачивается возня с экипировкой, и постепенно ты сам себя убеждаешь в том, что без этого не будет настоящего возвращения домой.
Но есть у меня и другая версия. День за днем, месяц за месяцем солдатская жизнь все глубже проникает в душу и постепенно становится естественной, даже единственной формой существования. Прежняя, гражданская пора отодвигается в глубь памяти, покрывается розовой дымкой воспоминаний: минувшее дорого, потому что невозвратимо. И вот однажды ты начинаешь понимать, что служба кончается и скоро нужно будет уходить из этого городка, знакомого до выбоин на асфальте, уходить от друзей-однополчан, от командиров, уходить в ту былую жизнь, где у тебя пока нет места. И мне кажется, что вся наша альбомно-чемоданная суета – только способ заглушить чувство неуверенности, облегчить расставание с армией, ставшей если не родным, то очень привычным домом… Вы скажете, что две эти версии противоречат друг другу. Возможно, но душа солдатская все-таки посложней, чем передовые статьи в нашей дивизионной газете «Отвага».
В минуту глупой откровенности я пытался растолковать свои теории Зубу, но он угрюмо выслушал меня и обозвал идиотом, потому что, имея земляка в типографии, я собираюсь оформлять дембельский альбом общедоступными плакатными перьями. Другое дело – настоящий наборный шрифт! Разумеется, в тот раз я, не задумываясь, послал ефрейтора к чертям собачьим, но теперь… Теперь придется соглашаться и шлепать на поклон к Жорику Плешанову, чтобы выручить этого бунтаря-доходягу Серафима Елина.
Отправившись искать Зуба, я сначала заглянул в штаб дивизиона, чтобы прихватить и свой альбом, хранящийся в шкафу вместе с карандашами, кистями, красками, тушью, рулонами бумаги. До армии, между прочим, я вообще не умел рисовать, а плакатные перья напоминали мне маленький макет лопаты с комплектом сменных штыков. Но служба всему научит. И вот, еще во время школы молодого бойца, когда мы, путаясь в собственных ногах, осваивали поворот на 180 градусов, к нам подошел замполит Осокин, внимательно оглядел щербатый строй и поинтересовался:
– Кто умеет писать плакатным пером?
– Я! – раздался самоуверенный голос, который, как выяснилось потом, принадлежал мне.
И вот с холодного и очень твердого плаца под завистливые взгляды товарищей меня повели в хорошо натопленный штаб дивизиона, где я получил в свое распоряжение тушь, набор перьев и задание переписать на больших листах бумаги несколько мобилизующих и вдохновляющих лозунгов. Майор ушел, и мне оставалось приступить к работе. Тот день я не могу вспоминать без содрогания. Алые полосы выползали из-под пера, извиваясь, точно червяки, тушь брызгала в разные стороны, внезапно бесследно исчезала какая-нибудь буква, и вместо «марша» появлялась некая фрейдистская «маша». Часа через два вернулся замполит, посмотрел на результаты моего вранья, дернул головой и сказал:
– Инициатива наказуема. Трудись, Купряшин!
Говорят, детей учат плавать, швырнув их в воду. Я выплыл: через две недели мне казалось, что я родился с плакатным пером в руке, и запах туши напоминал, извините, молоко матери.
…Наш дивизионный штаб состоит из большого, заставленного казенной мебелью холла и трех кабинетов, принадлежащих соответственно комдиву, отбывшему в отпуск, начальнику штаба и замполиту. Две первые комнаты были заперты и даже по случаю воскресенья опломбированы, а вот из кабинета замполита сквозь неплотно прикрытую дверь доносился разговор, и прелюбопытнейший. Разумеется, я не стал вставлять ухо в щель, мне и так все было слышно. А почему бы и нет? В конце концов, я принимал присягу и умею хранить военную и государственную тайну.
– Послушай, Уваров, ты сам в батарее порядок наведешь или тебе помочь? – сурово спрашивал замполит.
– Товарищ майор, я же вам доложил, – раздраженно объяснялся наш комбат, – ничего не случилось, просто молодые устроили возню… Защитнички!
– А «старики» полезли разнимать? – иронически осведомился майор.
– Да, мне так доложили.
– Удивительное дело: у всех молодые как молодые, а у тебя какие-то игрунчики! То синяк под глазом, то пуговицы с мясом выдраны, то чья-нибудь мамаша пишет мне душераздирающие письма и грозится министру обороны пожаловаться… Неужели ты всерьез думаешь, что дисциплину в батарее можно при помощи «стариков» держать?
– Виктор Иванович, а неужели вы полагаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови… Неужели вы полагаете, если мы назовем прапорщиков нашим «золотым фондом», они будут служить лучше?! Я считаю так: если «неуставняк» существует, значит, это нужно армии как живому организму. Так везде…
– Значит, стихийное творчество масс? – усмехнулся Осокин.
– Да, если хотите… Умный командир не борется со «стариками», а ставит неуставные законы казармы себе на службу… —
– Умный командир – это ты? – полюбопытствовал замполит.
– Во всяком случае за порядок у себя в батарее я спокоен. Это главнее. А пуговицы можно пришить.
– Можно. Но эти заигрывания с казарменной «малиной» плохо заканчиваются… И для солдат, и для офицеров…
– А я думал, у нас просто откровенный разговор! – усмехнулся Уваров.
– Он и был откровенным. А теперь – официальная часть. Я, товарищ старший лейтенант, очень уважаю генерала Уварова, но в академию, считаю, тебе еще рановато! Это во-первых. Во-вторых, пришли ко мне Елина! Прямо сейчас…
– Есть.
– И еще один вопрос… Может быть, некстати… – майор замялся. – Вы помирились с Таней?
– Так точно! – отчеканил комбат. – Разрешите идти?
– Идите…
Кипя так, что из-под фуражки вырывались струйки пара, старший лейтенант выскочил из кабинета и остолбенел, уставившись на меня. Но я смотрел на него совершенно пустыми глазами, как разведчик, работающий по легенде «немого». Решив, видимо, что мне ничего не было слышно, Уваров хлопнул дверью и вылетел на улицу, следом за ним, сжимая под мышкой альбом, слинял и я.
О, если бы такой разговор услышал, например, младший сержант Хитрук, через полчаса о нем знали бы даже неходячие больные из санчасти капитана Тонаева. Но об этом ни слова! А все-таки интересно! Папанька-то нашего Серени, как известно, генерал-лейтенант, и, значит, наш комбат как бы «лейтенант-генерал». Но замполит – победитовый мужик, никому спуску не дает, будь у тебя родитель хоть генерал, хоть адмирал, хоть начальник «Военторга». Впрочем, все равно Уварова пошлют в академию, поэтому меня больше волнует, чтобы Елин Осокину лишнего не наговорил, а то оборвут «старики» моему Серафиму крылышки…
– Я тебя, сыняра, спросил, что было после письма? – задыхаясь от злобы и бега, перебивает Цыпленка Зуб. – Ты оглох, что ли?
Но я и сам могу рассказать Зубу, что случилось потом, после письма…
Лейтенант Косулич выяснил, что в казарму Елин не возвращался, и тут же позвонил домой комбату. Узнав о случившемся, Уваров оцепенел: ведь он-то знал всю предысторию в деталях, у него еще стоял в ушах чреватый последствиями разговор с замполитом. И вот – пожалуйста, как говорится, той же ночью… Комбат, поколебавшись, разбудил Осокина и доложил все, как есть. Майор приказал поднять батарею по тревоге – и цепь замкнулась: в казарму вбежал дневальный и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, крикнул:
– Батарея, подъем! – А потом, после секундной паузы, добавил: – Тревога!
Тревога… Нет, не тревога на душе, а страх перед тем, что могло уже случиться…
Вполоборота к нам, тараторя о глупом Елине, ста днях, беременной жене, вприпрыжку несется Цыпленок. Рядом, тяжело сопя, воткнувшись взглядом в землю, громыхает Зуб. И мне совершенно ясно: если с Елиным что-нибудь случится, я схвачу Зуба за глотку и буду душить до тех пор, пока не заткну это проклятое сопение!
На полном ходу мы влетаем в автопарк. Часовой вместо уставного «стой-кто-идет» приветливо кивает: мол, поищите и здесь, коли вам делать нечего.
В темноте автопарк похож на фантастический зоосад, где в огромных вольерах дремлют гигантские стальные единороги. Когда много времени проводишь возле самоходки, совершенно забываешь о ее назначении – машина и машина. Только иногда, зацепившись взглядом за отполированный пятидесятикилограммовый снаряд, вдруг понимаешь: да ведь это же – смерть, которую ты будешь отмерять, в случае чего, собственными руками, составляя заряд. И ведь тоже на первый взгляд все безобидно: набитый порохом стержень, а на него нужно надеть, в зависимости от дальности цели, несколько начиненных взрывчатой смесью «бубликов». Вот и все. Потом прозвучит команда, и одна за другой, словно рассчитываясь по порядку, самоходки с грохотом тяжело припадут к земле и окутаются клубами дыма. В небе раздастся шелест, именно шелест снарядов, и где-то, километрах в пяти отсюда, взлетят на воздух позиции «воображаемого противника».
На крыле нашей самоходки, скрестив по-турецки ноги, сидит Шарипов и привычно, словно перебирая четки, полирует суконочкой дембельскую пряжку. Перед Камалом, вытянувшись, стоит преданный Малик.
– Все ангары проверил? – спрашивает Шарипов.
– Все! – со вздохом отвечает Малик.
– Под брезент заглядывал?
– Конечно!
Шарипов сокрушенно цокает языком, задумчиво оглядывается и тут замечает нас.
– Елина здесь нет! – сообщает он. – Совсем пропал!
– Я же говорил, нужно искать на полигоне! – радостно подхватывает Цыпленок.
– Не знаю, не знаю… – качает головой Шарипов. – Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бегал! Что б мне провалиться…
* * *
Зуба я нашел на волейбольной площадке, он был в своем репертуаре: орал на молодого за то, что тот неправильно закручивает при подаче мяч, и обещал открутить ему голову. На меня ефрейтор сначала вообще не обратил внимания – обиделся, видите ли! Я показал ему издали свой альбом и спокойно наблюдал, как на сердитом зубовском лице борются два чувства: презрение к нарушителю традиций и желание оформить дембельский альбом по высшему классу.
Спустя несколько минут мы уже сидели в солдатской чайной и в знак нашего примирения распивали бутылочку молока, закусывая песочными пирожными. В армии кормят однообразно. Это естественно: попробуй угодить на все вкусы тысячной ораве, поэтому солдат постоянно испытывает желание съесть «что-нибудь вкусненькое». Я, например, выяснил, что жить не могу без творога, который особенно и не любил на гражданке. А теперь мне даже по ночам снится вкус творога.
Я терпеливо слушал занудливые разглагольствования Зуба. Сначала он жаловался, что во времена его далекой армейской молодости «сынкам» вообще запрещалось ходить в чайную, а теперь – о времена, о нравы! – любой «салабон» может спокойно вломиться сюда и кайфовать, сколько влезет. Поэтому и очередь к прилавку появилась, а ведь раньше не было! Потом ефрейтор с туманной угрюмостью стал распространяться об одном нарывающемся на неприятности «старике», которому сопливые «салаги» дороже, чем однопризывники. Наконец он дошел до Елина…
– Слушай, Санек, – дипломатично приступил я к делу. – Не трогал бы ты парня. Ему и так тошно.
– Ничего с ним не сделается, пусть жизнь узнает!.. Еще огрызается! Да я «старику» в глаза боялся смотреть. Он меня еще узнает. Пионер-герой!
– Санек, – зашел я с другого бока, – ну помордовали тебя на первом году, лучше ты, что ли, от этого стал?
– Жизнь узнал! – стукнул он себя в грудь.
Я задумался: с Зубом нужно быть терпеливым. Вот вообразил он себя выдающимся учителем жизни, и хоть ты застрелись. Оставалось последнее – бить на жалость, и я мысленно попросил у Елина прощение за разглашение секрета его личной жизни.
– Санек, ты же видишь, с ним что-то происходит, а после вчерашнего письма он вообще ничего не соображает.
– Из-за крысы, что ли?
– Точно. А ты психолог! Понимаешь, старый, девчонка его бросила – замуж выходит… Елин-то, балбес, доверил другу приглядывать. Ну и сам знаешь, как бывает.
– Знаю! – презрительно бросил Зуб и с сочувствием добавил: – На первом году из-за такого и глупостей наделать можно. Да-а…
Итак, мой расчет оказался правильным, я ведь знал, что где-то в Пензе почти два года Зуба ждала девушка, его однокурсница, писала письма, наверное, любила по-настоящему. И теперь, проведав о горе Елина, ефрейтор почувствовал к нему сострадание, конечно, не без тени самодовольства.
– Ладно, – подытожил Зуб, допивая молоко, – я об этом не знал. В принципе, он парень неплохой, по специальности, опять-таки, старается. Я вообще-то доволен, что он у нас теперь заряжающий. Нет, какие все-таки крысы бывают, а? Ладно, больше трогать не стану. Но и его предупреди. А то: «Не буду!» Я ему не буду! И ты тоже, заступник нашелся. Я тебе, Лешка, прямо хочу сказать: кончай с этим. А то знаешь…
Зуб из того типа людей, которых в народе называют «псих-самовзвод», и если бы в ту минуту я не заверил его в полной преданности, разговор бы пропал даром.
В конце концов мы расстались нежными друзьями, и я, зажав под мышкой два альбома – свой и зубовский, зашагал по направлению к дивизионной типографии, всерьез размышляя, не пойти ли мне после службы учиться на дипломата. Есть ведь такой институт, и учатся там, наверное, тоже люди.
В том, что печать – огромная сила, я убедился на примере своего друга Жорика Плешанова, угодившего с дивизионного распределительного пункта прямиком в типографию солдатской газеты «Отвага». Сначала он страшно возмущался: мол, его, «уникального специалиста», сделали простым наборщиком! Но поскольку редактор – должность офицерская, а Жорик начал свою армейскую карьеру со звания рядового, пришлось ему смириться. Очень скоро мой друг энергично включился в газетную жизнь, отличительная черта которой – тайное противостояние сотрудников редакции и работников типографии, ведь каждые считают, что газету делают именно они! Поэтому, всякий раз усаживаясь за рычагастый линотип, Жорик скраивал такую физиономию, будто хотел сказать: «Ну и что вы сегодня нацарапали, писатели?» Первое время, набирая тексты, он даже пытался редактировать заметки, но это продолжалось до взбучки, устроенной ему редактором капитаном Деревлевым.
О капитане стоит сказать особо. Когда бы я ни заглянул в редакцию, он, как-то странно вжав голову в плечи, расхаживал по комнате, курил одну папиросу за другой, стряхивая пепел по углам, и комментировал международную обстановку. Сотрудники внимательно кивали головами, даже задавали наивные вопросы, но я уверен – ни одно капитаново слово не застревало у них в голове. Увидев меня, редактор говаривал: «А-а, Купряшин! Привет военкору. Стой и слушай». Я стоял и слушал о безнадежной борьбе подточенного коррупцией правительственного аппарата Италии с мафией, о трудных путях португальской революции, о коварном насаждении «американского образа жизни» в Западной Европе, о фашистских недобитках, скрывающихся в бескрайних латифундиях Бразилии… Если где-то недавно в результате взрыва террористов погиб правящий кабинет, то капитан тут же перечислял имена усопших министров, излагал их краткие биографии, не забывая проанализировать политические убеждения, а в довершение набрасывал возможный список нового кабинета – и никогда не ошибался!
Совершенно уморительно Деревлев распекал свой личный состав, того же Жорика. Поставив провинившегося по стойке «смирно», редактор начинал: «Ну что, ребенок в погонах, доигрался? Гайдар в шестнадцать лет полком командовал. Рембо в двадцать лет уже бросил писать стихи. Галуа в твоем возрасте был гениальным математиком. Моцарт в пять лет сочинял музыку…» Это перечисление могло продолжаться сколько угодно, в зависимости от тяжести вины, и в конце концов так изматывало нарушителя дисциплины, что традиционный наряд вне очереди казался избавлением. В довершение всего редактор «Отваги» писал роман под названием «Кремнистый путь». Первые три тома были перепечатаны редакционной машинисткой и переплетены Жориком в красный ледерин. Шла напряженная работа над четвертым томом. Как всякий писатель, Деревлев пристально вглядывался в жизнь, но ведь ни один воинский начальник не желал, естественно, стать прототипом отрицательного героя. Этим, возможно, объяснялся тот факт, что капитан сидел на газете давным-давно и повышения не ожидал…
Редакционная дверь была по-воскресному закрыта, но, судя по звукам, доносившимся из-за нее, там кто-то трудился. Я постучал условленным образом. Внутри затихли: Жорик всегда забывал пароли, которые сам же придумывал накануне. Наконец дверь отворилась, и Плешанов поманил меня черной от типографской краски рукой.
– Привет! – сказал он и смахнул пот со лба, оставив тень на коже. – Никакого отдыха. Начфин заменяется, готовим прощальный адрес – золотым по белому.
– Может, я не вовремя?
– Да брось ты! Они тут все время заменяются. А человек ведь без чего угодно может уехать, хоть без жены, только не без прощального адреса! Так что давай альбом… У тебя что, два альбома?
– Да нет…
– Ну я понимаю, когда у человека два паспорта! А два альбома-то зачем?
– Второй – Зуба.
– Не люблю я твоего Зуба. По-моему, он приличная сволочь!
– Это точно, но, землячок, надо! Тактика!
– Та-актика! – передразнил Жорик. – Ладно, давай оба и сиди жди. Можешь подшивочку полистать, успокаивает…
Жорик продолжал свою деятельность золотопечатника, и я подумал о том, каким большим человеком стал он в последнее время, его благосклонности ищут многие «старики». Представьте себе: вы открываете альбом, а на первой странице не тушью, не какой-нибудь, я извиняюсь, гуашью, а настоящим типографским шрифтом оттиснуто: «ДМБ-1985». Эффект потрясающий! Надо отдать должное Плешанову, он не превратил свои возможности в «кормушку» или источник нетрудовых доходов, а помогает лишь друзьям и хорошим людям, имеющим отношение к хранению продовольствия и обмундирования. Честно говоря, я бы никогда не попросил Жорика, если бы не Елин.
До обеда оставалось еще часа два, и я, усевшись на ящик с отработанным типографским металлом, принялся перелистывать годовую подшивку «Отваги». В нескольких местах под заметочками я с удовольствием отметил свою подпись «рядовой Купряшин» – это был мой скромный военкоровский вклад в дело пропаганды передового армейского опыта. В одной из статеек я пофамильно упомянул весь наш расчет, и тщеславный Зуб тут же отправил газету своей пензячке. Думаю, от восторга вся Пенза бурлила несколько дней…
Просматривая подшивку, я дошел до номеров, посвященных весенним учениям, и натолкнулся на материал «Точность – обязанность артиллеристов» о расчете сержанта Муханова из соседней батареи. Он и его ребята действительно работают классно, нам до них далеко. Читаем:
«– Ну как, все в экипаже нормально? – спросил у подчиненного сержант Леонид Муханов.
– Порядок! Не подкачаем!
Артиллеристы волновались. «Трудный день! – думали они. – Большая ответственность, ведь нам поручено выполнить сложную задачу». Но вдруг размышления были прерваны: переправа! Через приборы наблюдения виднелась водная гладь.
– «Первый»! – услышал в наушниках сержант голос командира батареи. – «Противник» – на том берегу. Обеспечь переправу.
– Взвод, к бою! – скомандовал Леонид.
Самоходные артиллерийские установки перестроились в боевую линию и вышли к урезу воды. Бой за переправу был коротким. Благодаря внезапности удара, умелому маневру огнем, машинами воины, израсходовав минимальное количество боеприпасов, уничтожили все цели, расчистили путь своим товарищам.
В итоге подразделение получило отличную оценку. Проверяющий тепло поздравил батарею с очередной победой».
Я тоже помню ту переправу, но только по-своему – как заряжающий, замурованный в тесном, полутемном и задымленном нутре самоходки, о маневре которой можно догадываться только по резким толчкам, кидавшим меня из стороны в сторону.
Разверзшийся казенник принимал очередные снаряд и гильзу, вместе похожие на стократ увеличенный автоматный патрон, затем в шлемофоне звучало повторенное Титаренко вслед за комбатом «Огонь!». Нас встряхивало, и дышать становилось еще тяжелей… Когда условный противник обратился в бегство, мы откинули люк, вылезли наружу, и небо показалось таким ярким, а воздух таким чистым, как в детстве, когда после двух недель болезни впервые выходишь во двор и дышишь до слез…
Потом мы шли по безжизненному, изрытому воронками полигону и выбирали из земли осколки: сегодняшние – теплые еще, нестерпимо блестящие, и давешние – уже порыжевшие по краям. Перед тем, как положить в пилотку, я взвешивал очередной осколок на ладони и представлял, как он мог бы войти в меня, прямо в сердце.
Оказалось, над подшивкой я провел больше часа, потому что Жорик уже закончил адрес для начфина и доделывал альбомы, при этом он сокрушался, что из нового пополнения пока не подобрали молодого наборщика. Был, правда, один из Гомеля, но набирал все по-белорусски – через «а», пришлось отправить в подразделение. И сейчас он, Жорик, уникальный специалист и ветеран типографии, вынужден, как на первом году службы, подметать пол и собирать мусор. За жалобами прошло еще полчаса, и наконец Плешанов протянул мне готовые альбомы:
– Годится?
– О! Ты настоящий друг!
– Ладно, ладно! Это подарок тебе к ста дням!
– Спасибо! А помнишь, как мы в санчасть ходили?
– Дураками были!
– А помнишь, как мы в карантине утку ели?
– Утку! – Жорик зажмурился. – Разве можно про утку перед обедом. Нет в тебе чуткости, Леша!
Вернувшись в батарею перед самым построением на обед, я вручил ошалевшему от счастья Зубу его альбом, а потом отловил Елина, который бродил вокруг казармы живым укором женскому вероломству, и тихонько спросил:
– Был у Осокина?
– Бы-ыл… – удивленно ответил он, поднимая на меня свои несчастные глаза.
– Ну и как? Следствие ведут знатоки: припомните, кто, где, когда и при каких обстоятельствах оторвал вам голову?..
– Нет-ет, – покачал головой мой подопечный. – Замполит спрашивал, откуда я приехал, кто родители, трудно ли работать пионервожатым?..
– А про пуговицы?
– Нет…
– О чем еще говорили?
– О празднике «Прощание с пионерским летом…».
– Молодец! – Мне захотелось обнять парня. – Я бы тебя взял с собой в разведку!
– Меня уже взяли… В кухонный наряд… – сообщил Елин и радостно улыбнулся, словно шел не котлы драить, а получать переходящий вымпел за победу в межобластном трудовом пионерском рейде под девизом «Хлеба налево, хлеба направо».
– Не знаю, не знаю… – качает головой Шарипов. – Не к добру ты, Зуб, вчера с альбомом бегал! Чтоб мне провалиться!
– Да что вы из меня жилы тянете! – вдруг тонким заячьим голосом вопит Зуб. – Если что-нибудь случилось, все загудим! Все! Понял?..
– Почему – все? – удивляется Шарипов. – Вот Малик не загудит! Можешь ему свою дембельскую шинель подарить, она ему раньше, чем тебе, понадобится, – Камал кивает на зардевшегося «сынка», – Купряшин не загудит – он умный. Я не загу… Не загу-жу… Скажу им: «Я русский не знай… Ничего не понимай…» – меня и отпустят…
– А меня? – взволнованно спрашивает Цыпленок.
– Тебя? – Шарипов пытается пустить отполированной дембельской пряжкой тусклого лунного зайчика. – Тебя, как отца двух детей, амнистируют. Ладно, хрен редьки не слаще… Пошли на полигон!
Он спрыгивает с самоходки на землю, и мы двигаемся по направлению к выходу, но у самых ворот налетаем на комбата Уварова. Разговаривая с часовым, старлей держит перед собой свою широкоформатную фуражку и платком протирает ее изнутри, точно кастрюлю.
Однажды после действительно бездарно проведенных учебных стрельб комбат пообещал нам «небо в алмазах» и в тот же день, после отбоя, пьяный вусмерть шумно ввалился в казарму, чтобы устроить маленький «блиц-подъем» с построением. Мы посыпались на пол и, дрожа от полночного холода, одевались, теряя накопленное под одеялом тепло. А комбат, покачиваясь, стоял посреди казармы, освещенный тревожным желтым светом, и следил за секундной стрелкой: мы должны были уложиться в минуту. Раза два мы не укладывались, и он хмельным голосом говорил: «Стоп!» Значит, нужно было раздеваться и лезть назад, в остывающие койки. Ребята старались улечься полуодетыми, чтобы сократить время, и наконец выстроились перед казармой. Знобило. Комбат плел что-то о расхлябанности и разгильдяйстве. Потом он неожиданно, чтобы застать врасплох, крикнул: «Отбой. Минута. Время пошло!» Все ринулись в казарму, в дверях образовалась пробка. Передние еще успевали раздеться, а последние бросались на койки в полном обмундировании. Когда последний солдат укрылся одеялом, вошел утомленный Уваров, оглядывая казарму тяжелым взглядом, так же, как сейчас, вытер фуражку, устало буркнул «отбой», выключил свет. Он еще поворчал за дверью на дневального и в свете фонарей прошел мимо окон нарочито твердым шагом. После этого случая примерно на неделю комбат увял: во время построений рассматривал в основном наши сапоги, заводил с солдатами душевные разговоры, а на политзанятиях интеллигентно обходил вопросы укрепления воинской дисциплины.
И вот сейчас, словно не замечая нас, он сурово выпытывает у часового совершенно бессмысленные вещи: знает ли тот рядового Елина из шестой батареи, не видел ли его вблизи автопарка… Наконец, так ничего и не добившись, Уваров поворачивается к нам, надевает свою знаменитую фуражку и командует:
– Ефрейтор Шарипов, постройте людей!
Мы мгновенно оформляемся в куцую колонну по двое.
– Бегом марш! – командует Уваров.
И мы, громыхая сапогами, устремляемся в сторону полигона, откуда доносятся хриплые гудки ночного товарняка.
– Раз-два-три… – командует комбат. – Раз-два-три…
* * *
Может быть, самое приятное время в армии – послеобеденное ожидание писем. В курилке (этим словом обозначается врытая в землю железная бочка и скамейки вокруг нее) нас собралось человек пятнадцать, и мы терпеливо ждали, пока неторопливый полковой почтальон (а куда торопиться – служить еще год) разберет сегодняшние письма. Почта расположена как раз напротив нашей казармы, и обычно, закончив сортировку, он высовывает голову в форточку и кричит: «Шестая батарея!»
Армейские письма! Благодаря им солдат живет как бы в двух измерениях: здесь, в данной в/ч, и там – дома! И сколько раз было так, что мое тело сноровисто выполняло очередной приказ командира, а душа жила тем временем на гражданке – в строках полученного письма. Две эти жизни – реальная и воображаемая – кровно связаны, и тяжелее всего бывает, когда обе они складываются паршиво, как случилось у Елина. Он даже не подошел к курилке, а стоял один в стороне, прислонившись спиной к стене казармы, и тоже, наверное, надеялся получить письмо хоть от кого-нибудь. Действительно, в таком состоянии лучше всего занять себя работой, а на кухне ее навалом.
Мы ждали. Шел обычный, ничего не значащий треп, пересыпанный анекдотами. Через равные промежутки времени курилка взрывалась хохотом. Уморительную историю рассказал Валера Чернецкий. Все якобы произошло на самом деле.
Общеизвестно, что главная проблема для «дембеля» – обновление личного гардеробчика. За два года сильнее всего изнашиваются шапка и ремень. Шапка вытирается, теряет форму, а ремень лоснится и становится скользким, как змея. Понятно, никакой старшина нового обмундирования специально для «дембеля» не выдаст. А тут приезжают молодые: шапочки, словно одуванчики, ремешки новенькие, покрытые шоколадной корочкой. Так вот, одному «старику» позарез нужна была новая шапка – свою он на учениях прожег. Думал он, думал и придумал вот что. В их части «зеленый домик» стоял на отшибе, да еще неэлектрифицированный. Днем ничего, а вечером, того гляди, – утонешь! Выследил этот парень, когда перед сном туда молодой заглянет, выследил – и за ним. Усек в темноте скорчившийся силуэт, хватанул – есть шапка! Но «старики» – люди справедливые: нельзя же молодому без шапки – простудится. Со словами: «Носи, сынок!» – он нахлобучил молодому свою замурзанную ушанку, выбежал на волю, отмахал метров триста и под первым же фонарем решил полюбоваться на приобретение. Взглянул и обледенел: шапка – цигейковая – офицерская! Оказывается, одновременно с молодым о жизни размышлял ротный, которого настолько возмутило наглое нападение, что он тут же поднял подразделение по тревоге и построил на плацу, рассуждая, вероятно, так: или вор в офицерской шапке, или простоволос. Провели перекличку – все на месте, все при своих шапках, и никаких следов пропавшего головного убора: каптерщик выручил… Чем же, вы думаете, все кончилось? Правильно: ротный на следующий день приказал электрифицировать сортир!
И снова – хохот.
Наконец принесли письма. Больше всех, как обычно, получил Шарипов – четыре! Зуб, не получивший ни одного, раздраженно заявил, что у Камала весь кишлак – родственники, даже ишаки.
Нисколько не огорченный отсутствием писем, я заскочил в бытовку, полюбовался на себя в зеркало, взял из тумбочки книжки и уже видел, как поднимаюсь по скрипучей лестнице в библиотеку, но вдруг перед казармой появился Уваров. Он был в штатском – отличных вельветовых джинсах, замшевой куртке – и вел за руку дочку, четырехлетнюю Лидочку. Подобные явления в части не редкость: офицеры и прапорщики живут рядом, в полукилометре от казарм, и прогуливаются иногда в сторону вверенных им подразделений, сочетая моцион с проверкой обстановки.
Разумеется, ребенка сразу же подхватил подхалим Цыпленок и принялся подбрасывать вверх, приговаривая: «Гоп-чуки, гоп-чуки!» Лидочка, выросшая в военном городке и привыкшая к вниманию рядового состава, смотрела на мучителя кротко и обреченно. Комбат поинтересовался у Титаренко, как дела, сообщил, что послезавтра ожидается учебная тревога, потом исподлобья глянул на меня с Зубом:
– Пойдемте. Поговорим.
Оставив дочь на руках чадолюбивого каптерщика, Уваров направился на середину нашего батарейного плаца, мы поплелись следом. Неожиданно комбат остановился и, резко обернувшись к нам, спросил:
– Так что произошло с рядовым Елиным?
Зуб засопел и побагровел. Я молчал.
– Я вас спрашиваю, ефрейтор Зубов. – Комбат шевельнул резко вырезанными ноздрями. Если Уваров переходил на «вы», это означало одно: он в бешенстве.
Я смотрел на модные ослепительно белые штиблеты комбата. Мне всегда нравились его щеголеватость, азартность, умение «завести» ребят. И все-таки мне кажется, он не до конца понимает, что командует живыми людьми, каждый из которых ревностно следит за любым командирским шагом, дает ему ежеминутную оценку. Вот и сейчас, присматриваясь к комбату, одетому во все цивильное (а форма делает человека старше, мужественнее, что ли), я по-настоящему почувствовал, какой он молодой… Старше нас лет на пять-шесть!
– Что у вас, товарищ ефрейтор, произошло с рядовым Елиным? – грозно повторил Уваров.
– Я его не трогал…
– А пуговицы у него сами собой отлетели? – ядовито усмехнулся комбат.
Зуб мстительно поискал глазами Елина.
– Ну так вот, – подытожил старший лейтенант. – Не умеешь молодых тихо воспитывать – я буду тебя воспитывать. Три наряда вне очереди.
– Есть три наряда вне очереди, – угрюмо повторил Зуб.
– Домой собираешься? – Комбат иронически оглядел ефрейторскую стрижку. – К последней партии отрастут в самый раз!
Зуб дернулся и уперся взглядом в землю. Поехать с последней партией – самое большое наказание для «старика». Это значит – прибыть домой на месяц, а то и на полтора позже, чем другие. О таком даже думать невозможно!
– А ты, Купряшин, – дошла очередь до меня, – не делай вид, будто тебя ничего не касается. В расчете – бардак, а его из библиотеки за уши не вытащишь. Ты меня понял?
– Не понял, товарищ старший лейтенант.
– Поймешь, – пообещал комбат. – Кругом!
Мы повернулись по-уставному, сделали несколько шагов и остановились, дожидаясь, пока Уваров отберет у Цыпленка окончательно утомленную Лидочку и нервным шагом покинет плац. Все это время Зуб раскалялся, как кусок железа на углях, так что к моменту, когда комбат скрылся из виду, ефрейтор был уже весь белый и шипел.
– Ну, гадина, ну, стукач! Убью! – заорал он наконец. Я рванулся следом за ним, пытаясь на ходу объяснить: Елин не жаловался, комбат сам все понял или ему капнул кто-то другой, я даже попытался схватить Зуба за руку, но он оттолкнул меня в сторону и так дернул ничего не понимающего Елина за ремень, что тот чуть не переломился, а его пилотка отлетела далеко в сторону.
– Ну… ну, салабон, – сказал, задыхаясь от ненависти, ефрейтор. – А я его еще пожалел… Крыса его бортанула! Ай-ай-ай! Так тебе, гаду, и надо!
В подобных случаях пишут: «Его словно что-то толкнуло», но меня и в самом деле будто толкнуло, и я с такой силой вклинился между Зубом и Елиным, что оба отскочили в стороны.
– Не трогай его! – заорал я.
– Ты что, обалдел? – опешил ефрейтор и тут же шарахнул меня в челюсть. Споткнувшись о лавочку, я кувырком полетел в кусты, росшие вокруг курилки. Земля рванулась навстречу, точно конец незакрепленной доски. Удар был несильный, и тотчас, вскочив, я засветил Зубу кулаком в живот, а после того, как он присел от боли, еще – по затылку. После проделанного я вдруг на мгновение воспарил над землей, а затем довольно грубо был отброшен в сторону. Это Титаренко вмешался в наш честный поединок и, взяв меня за шиворот, дал команду: «Брэк!» И, надо сказать, чрезвычайно своевременно, потому что одетый как на парад лейтенант Косулич с повязкой дежурного уже направлялся к нам, чтобы построить и увести солдат, идущих в кухонный наряд. Сквозь очки он поглядел на бурно дышавшего Зуба добрыми глазами и спросил:
– Боролись?
– Вся жизнь – борьба… – ответил я за ефрейтора, закрывая пальцами царапину на щеке.
Слава богу, командир взвода не видел нашей схватки, а то бы сидеть нам на «губе» – в отрезвляюще прохладной комнатушке с местом для заслуженного отдыха, похожим на маленькую деревянную сцену.
– Раз-два-три, – командует Уваров, – раз-два-три…
Комбат бежит сбоку от нас, бежит легко, но лицо его неподвижно. И я представляю себе, как сегодня ночью он проснулся от телефонного звонка, включил ночник и хрипло отозвался в трубку: «Старший лейтенант Уваров слушает… Что?! Как пропал?!..»
От шума, наверное, проснулась Таня, она села на кровати рядом с комбатом и, щурясь от света, испуганно спросила: «Кто пропал? Сережа, что случилось?..»
Нет. Не так. Вместе им спать совершенно не обязательно.
Сквозь закрытую дверь Таня услышала звонок и громкий голос Уварова. Она подняла голову, покосилась на тихо посапывающую Лидочку, потом накинула халат и выглянула из своей комнаты:
«Кто пропал? Уваров, что случилось?»
«Солдат пропал», – не повернувшись в ее сторону, отозвался комбат.
«Какой солдат?»
«Какой, какой… Елин!»
«Елин? – переспросила Таня. – Это которого Зубов избил?»
«Ну что ты лезешь не в свое дело! – закричал на нее Уваров. – Сиди в своей библиотеке – и не лезь!»
От мысли, что жене известно все, происходящее в батарее, комбату сделалось стыдно. Так бывает и со мной, когда, бреясь в умывалке, начинаешь строить перед зеркалом рожи и лопотать разную слюнявую чепуху, а сзади, за спиной, незаметно появляется кто-нибудь и, ухмыляясь, наблюдает за тобой. Потом ты оглядываешься…
«Что же теперь будет?» – с тревогой спросила Таня.
«Ничего не будет! Я им устрою веселую жизнь! Защитнички…»
– Раз-два-три, – командует комбат. – Шире шаг…
Мы выскакиваем за ворота городка и поворачиваем к полигону.
* * *
– Ну а с тобой, друг индейцев, я еще поговорю! – пообещал Зуб и ушел зализывать раны. Испугал ежа голыми руками! Мы одного призыва – как-нибудь разберемся, даже если накрутит против меня «стариков». Но какая он все-таки сволочь, ткнул Елина в самое больное место, да еще пригрозил: из наряда, мол, лучше не возвращайся! Не нравится мне, как Елин среагировал – оглянулся затравленно, даже безысходно, а на меня поглядел с укором: мол, эх ты, трепло… Вот так считаешь себя умным человеком, а потом выясняется, что ты балда балдой и только все портить умеешь: додумался, с кем елинским горем поделиться… «Дебил в четвертом поколении», – как говорит старшина Высовень.
Размышляя таким образом, я снова отправился в бытовку привести себя в порядок. Протравил одеколоном царапину на щеке, убедился, что синяк на скуле проявится лишь к вечеру, почистил гимнастерку, выкурил, чтобы успокоиться, сигарету и, наконец, отправился в наше книгохранилище.
Путь мой пролегал через полковой плац.
Сколько разводов отстоял я на этом брусчатом поле, сколько раз строевым шагом, вывернув голову до отказа вправо, прошел мимо дощатой трибуны, мимо командира полка, замершего с приложенной к козырьку ладонью, прошел, нещадно лупя сапогами камень в такт ухающему где-то за спиной большому полковому барабану. Скоро мой последний развод!
…В библиотеку ведет узкая скрипучая лестница. Достаточно встать на первую ступеньку, а наверху уже знают, что сюда движется новый читатель, и невольно поглядывают на дверь…
За столами, перелистывая журналы, сидели несколько солдат. Между стеллажами бродил библиотечный кот Кеша и наворачивался на ноги всем входящим. Пахло старой отсыревшей бумагой, но иногда пробивался вдруг острый запах свежей типографской краски.
Последние месяцы я проводил в библиотеке все свободное время. Не только потому, что люблю читать и «завалился», между прочим, не куда-нибудь, а на исторический факультет. Была еще одна причина. Ее – не причину, конечно, – зовут Таня Уварова. Раньше библиотекаршей у нас работала одна вольнонаемная дама, она так страдала, глядя на копавшихся в книжках солдат, словно они рылись в ее интимном дневнике. За настоящих читателей дама признавала только офицеров не ниже майора.
Но вот однажды, заявившись в библиотеку, я застыл на пороге: за столом сидела девушка в пушистом свитере, чем-то неуловимо похожая на Лену. Не пойму чем: то ли мальчишеской прической, то ли грустными серыми глазами, то ли особенной манерой улыбаться, чуть подымая уголки губ. Это внезапное сходство прострелило навылет мое разочарованное солдатское сердце, и с той минуты при первой же возможности я шел в библиотеку, садился в дальнем углу и смотрел на нее, загородившись подшивкой газет. Постепенно живая боль по Лене превращалась в воспоминание о боли. Один только вид Тани, которая, утопив пальцы в густых темных и, наверное, очень жестких волосах, склонялась над книгой или терпеливо разъясняла кому-нибудь, что детективов пока нет, а про любовь обязательно есть в любом художественном произведении, совершал в моей душе некую просветляющую работу: я не так скучал по дому, мне просто было радостно жить. Постепенно Таня стала замечать книголюбивого солдатика и удивленно поглядывала в мою сторону.
Офицерские жены невольно воспринимают солдат как массу одетых в защитную форму молодых парней, которыми их мужья командуют по долгу службы, о которых все время говорят и помнят. Естественно, заботы офицеров передаются их женам, они тоже думают о подчиненных мужа, но не конкретно, а про всех скопом, лишь иногда запоминая имена: Кузюкин, мол, отстрелялся на «пять», не подвел, а Мусюкин, паразит такой, как написали бы в «Отваге», попался «при попытке употребления алкоголя», и теперь мужу врежут за слабую воспитательную работу в подразделении. Но даже тогда и хороший Кузюкин, и плохой Мусюкин остаются всего-навсего символами доблести или разгильдяйства. Конечно, обидно, но понятно: нас в полку сотни, не запоминаем же мы в лицо и по имени тех, с кем – пусть даже часто – ездим на работу в одном автобусе.
Но года три назад в нашем полку случилось невероятное! Один «старик» увел жену у своего же взводного: у супружников что-то не ладилось, поженились наспех, не разобравшись, как часто бывает после училища, а парень – солдат – был симпатичный, в полковом ансамбле играл. Артист! Одним словом, дембельнулся вместе с командирской женой. И говорят, очень хорошая семья получилась!..
Однажды, когда в библиотеке никого не было, я осмелился заговорить с Таней. Точнее, она, утомленная моими восхищенными взглядами, иронично заметила:
– Товарищ воин, глазами нужно есть командиров, а не их жен!
– Это смотря по какому уставу! – неожиданно для себя схамил я.
– Скажите пожалуйста, – удивилась Таня, – он еще и остроумный.
– А вы полагали, солдат вместе с паспортом и мозги в военкомат сдает?
– Нет… А вообще-то немного – да! – улыбнулась она уголками губ. С тех пор мы стали разговаривать.
Первое чувство солдата к офицеру: несправедливо! Вроде такие же люди, но живут вольно, с семьями, получают хорошую зарплату, развлекаются, а для тебя – жесткая дисциплина. Но, взглянув на эту «сладкую жизнь» Таниными глазами, я стал сочувствовать людям, существующим по принципу «нынче здесь – завтра там». Оказалось, Таня недавно окончила экономико-статистический институт, ее подруги по факультету работают, учатся в аспирантуре, а она сидит здесь, за забором, и даже начинает забывать специальность. Одна надежда, что мужа пошлют в академию, но Уваров вдрызг рассорился с отцом-генералом, и тот пока от помощи воздерживается. В городке Таня ни с кем близко не знакома, наверное, потому что наш комбат, гордый, как горный орел, с людьми сближается очень туго и прекрасно обходится без друзей, но зато часто заглядывает в офицерское кафе. Из-за этого вся их семейная жизнь – одна перманентная ссора…
Изголодавшись по откровенности, Таня делилась со мной всем, точно с лучшей подругой, а я отключал слух и смотрел, как она говорит, как поправляет волосы, как пожимает плечами, недоумевая, о чем думает ее муж и думает ли он вообще?!
Уваров иногда заходил в библиотеку. Он знал, что у его жены сложились дружеские отношения с неким рядовым Купряшиным из небезызвестной ему шестой батареи, но вряд ли догадывался об искренности наших разговоров, воспринимая – и, наверное, справедливо, – наши отношения как дружбу взрослой женщины с каким-нибудь безобидным семиклашкой. Да и у меня самого было странное ощущение: не то чтобы я не чувствовал себя парнем или там мужиком, нет, но я не чувствовал себя кавалером – есть такое почти забытое слово. Мне мешало все: и вкус солдатского обеда во рту, и тяжелые сапоги, и залоснившиеся галифе, и несвежее белье на теле… А Таня, наверное, понимая мое состояние, относилась ко мне еще добрее. Когда же я рассказал ей про Лену, она грустно улыбнулась:
– Знаешь, Лешенька, может быть, это самая большая удача в твоей жизни, что получилось у вас именно так!
У нас был договор: пока в библиотеке кто-то есть, своих дружеских отношений не показывать, поэтому и сегодня я подошел к ее столу с равнодушным, как у деревенского гармониста, лицом. Она взглянула на меня снизу вверх и вопросительно показала пальцем на щеку. Непередаваемой игрой бровей я ответил, что потом все объясню.
– Вам что-нибудь почитать? – бесцветно поинтересовалась Таня.
– Что-нибудь новенькое.
– Вот, здесь есть про армию. – Она протянула свежий номер молодежного журнала.
Рассказ назывался «Письмо без марки». Краткое содержание: воин-разгильдяй тянет назад все подразделение, никого не хочет слушать, боится только свою девчонку-доярку, которая героически ждет его на гражданке. Командир взвода – хмурый, но добрый человек – сначала не знал, что ему делать с разгильдяем, но потом к командиру приехала жена, вникла в проблемы подразделения и додумалась. Она написала письмо разгильдяевой подруге и попросила повлиять. Та взяла отпуск на ферме и приехала к своему недисциплинированному другу. О чем они говорили в ленкомнате, никто не слышал, но вскоре, на учениях, бывший разгильдяй первым ворвался в расположение воображаемого противника, о чем и сообщил своей далекой подруге в письме без марки.
Я не заметил, как опустела библиотека, как досвиданькнув, ушел последний читатель.
– Ну, так что же у тебя случилось? – откинувшись на спинку стула, спросила Таня.
– С Зубом я подрался.
– Это который на поросенка похож?
– Да.
– А из-за чего?
– Из-за одного молодого. Из-за Елина.
– Бедненький, – сказала она ласково и вдруг подошла ко мне какой-то таинственной походкой. – Несчастный, поцарапанный! – Таня провела холодными пальцами по моей щеке. У меня перехватило дыхание, я задержал ее руку и посмотрел в ее потемневшие, ставшие очень внимательными глаза. И вдруг заметил, что у Тани очень много маленьких родинок – почти точечек, они начинались на щеке, сбегали ниже, вдоль шеи, и пропадали за пушистым воротом свитера. Я, задыхаясь, смотрел на эту тропинку из родинок и крепче сжимал ее прохладные пальцы…
Застонала первая ступенька, и через минуту, опережая собственный грохот, в библиотеку ввалился запыхавшийся сержант. Подкатив к столу, он вынул из-за ремня растрепанную книжку и спросил:
– Я не опоздал?.. Еркин – моя фамилия… Батарея управления.
– Нет! Не опоздали…
Таня нашла его абонемент и вопросительно глянула.
– Мне бы опять что-нибудь про любовь! – заискивающе пробормотал тот.
– А вам про какую: про счастливую или несчастную? – улыбнувшись уголками губ, уточнила Таня.
– Про любую! – не задумываясь, ответил сержант Еркин.
– Шире шаг! – командует комбат.
Мы выскакиваем за ворота гарнизона и поворачиваем к полигону. Бежать трудно, ноги проваливаются в колеи и рытвины, оставленные гусеницами «самоходок». На горизонте появилась узенькая светлая полоска, точно кто-то, замерзнув к утру, натянул на голову черное байковое одеяло ночи и обнажил при этом сероватое солдатское белье.
Возле блиндажа, похожего в полутьме на огромную болотную кочку, толпятся солдаты во главе с лейтенантом Косуличем. Увидев комбата Уварова, он вздыхает, поправляет пальцем очки и бросается к начальству, чтобы доложить результаты поисков. Чернецкий и Титаренко уже здесь. Они стоят немного поодаль, вид у них хмурый, от бравой стариковской самоуверенности не осталось и следа.
– Не журись, хлопец! – жалобно просит Камал и утыкается лицом в гранитное плечо Титаренко.
Среди тех, кто собрался возле блиндажа, есть и малознакомые парни из батареи управления. Оказывается, с вечера они залезли в подвал и в честь ста дней решили приготовить в походном котелке настоящий узбекский плов. Там их и обнаружил лейтенант Косулич. Повинуясь душевному порыву, а также искупая грех чревоугодия, парни из батареи управления горячо включились в поиски Елина.
– Вон из-за того кошкодава дергаемся! – кивает кто-то из них на Зуба. – Морду ему набить!
Комбат Уваров, рассеянно поправляя на голове свою беспримерную фуражку, слушает обстоятельный доклад лейтенанта Косулича. А мы топчемся на одном месте, ежимся от предутренней прохлады и обсуждаем, куда все-таки мог исчезнуть Елин и где еще можно поискать. И в этот миг, словно светящиеся трассеры, темноту пронзают огоньки курьерского поезда. Раздается хриплый, как звук саксофона, гудок.
И тогда, не сговариваясь, без команды мы бросаемся мимо мишеней, мимо деревянных макетов танков туда, на край полигона.
– Рассредоточиться вдоль железнодорожного полотна! – торопливо командует Уваров. – Дистанция – десять метров!
Я мчусь, не разбирая дороги, спотыкаюсь, падаю, вскакиваю, снова бегу… И только ухнув с размаху в глубокую дренажную канаву, останавливаюсь, перевожу дух и, внимательно оглядываясь, бреду вдоль железной дороги. Я холодею и вскрикиваю, наткнувшись на брошенный и окаменевший мешок цемента, напоминающий очертаниями человеческое тело. Во мне крепнет уверенность, что Елина найду именно я…
Но кто же мог подумать, что Елина найдет Цыпленок?!
* * *
Во время ужина я старался не смотреть в сторону Зуба – не хотелось портить того чувства веселого всесилия, которое переполняло меня после разговора с Таней. И все-таки боковым зрением я заметил, как ефрейтор, округлив глаза, что-то горячо доказывал хмуро кивавшему Титаренко. Поев, я заглянул в мойку и обнаружил там Малика. С выражением страдания на интеллигентном лице он очищал алюминиевые миски от остатков пшенной каши.
– А где Елин? – удивился я.
– В санчасти.
– Где?! А что случилось? – Я невольно обернулся и поискал глазами Зуба, неторопливо допивавшего свой чай.
– Кажется, живот заболел. Скоро придет…
– Ну, живот не голова. Слушай, Малик, когда Фима вернется, скажи ему: пусть не психует и ничего не боится. Все будет нормально. Понял?
– Понял, – ответил он с чуть заметной иронией воспитанного человека, услышавшего несусветную чушь, но, в силу своей тактичности, удержавшегося от комментариев…
«Может быть, и вправду не стоит лезть во всю эту свару?» – рассуждал я, сидя в полковом клубе и созерцая кинофильм про войну. За спиной кто-то спорил о том, из чего сделаны немецкие «тигры» – из фанеры или настоящие. Сначала я тоже на полном серьезе обдумывал эту проблему, но потом мои мысли снова вернулись к Елину: «Странно… Днем не жаловался, а вечером вдруг побежал в санчасть!»
Затем я принялся ломать голову, как мне вести себя во время объяснения со «стариками», а оно, судя по той бурной агитационной деятельности, какую развил Зуб, не за горами.
Мне припомнилось, как год назад «старики» под председательством Мазаева судили одного «лимона» за то, что тот воровал из тумбочек жратву, а сваливал вину на якобы всегда голодных «сынков». «Лимона» разжаловали в «салаги» – и уже на следующее утро он драил вместе с молодежью казарму, заправлял Мазаеву койку…
Наступая в темноте на ноги, я выбрался на воздух покурить. В темноте терялись черные объемы автопарка. Стояла трескучая цикадная тишина, нарушаемая воем авиабомб и стуком пулеметов, словно недалеко шел бой. А бой-то шел на белой натянутой простыне, но чувство все равно такое, будто война вот-вот может шагнуть сюда. Из клуба донеслись победные крики. Очевидно, взяли рейхстаг. В черном небе беззвучно плыл крест, составленный из разноцветных огоньков, с пульсирующей точкой посредине…
После вечерней поверки и отбоя, когда все уже лежали в койках, старшина Высовень, подозрительно поводя носом, несколько раз обошел казарму, словно старался разнюхать, какой сюрприз готовит ему целый состав батареи по случаю ста дней до приказа. Он даже толкнул притворно похрапывающего Шарипова.
– А? Что?! Товарищ прапорщик… – вскинулся тот, будто внезапно разбуженный.
– Смотри, казанская сирота! Ох, смотри! – пригрозил старшина.
– Вы о чем?
– Все о том же!
Камал недоумевающе пожал плечами и, картинно уронив голову на подушку, закрыл глаза. Прапорщик пробубнил еще что-то дневальному, сходил наверх в каптерку, видимо выискивая спиртное, и наконец ушел. Как только Высовень мелькнул мимо окон, Шарипов открыл один хитрющий глаз, потом другой, подмигнул мне и громко сообщил, имитируя гнусавое вокзальное радио:
– К сведению «стариков»: через десять минут в каптерке состоится торжественный товарищеский ужин, посвященный ста дням. Приглашаются все, кому положено.
Мне положено, но я решил не ходить, остался лежать в койке, прислушиваясь к топоту, доносившемуся со второго этажа, из каптерки, и даже начал засыпать, когда меня растолкал Шарипов:
– Вставай, турок, «дембель» проспишь!
– Я не хочу, гуляйте без меня…
– Э-э! Вставай, Черт Иваныч! – настойчиво повторил он. – Разговор будет…
Делать нечего, я спрыгнул на холодный пол, быстро оделся и поплелся в каптерку. Завидев меня, стоящий на «тумбочке» Аболтыньш предостерегающе приложил к погону два пальца и показал глазами наверх. Все это означало: здесь офицер! Я было дал задний ход, но тут из бытовки торопливо вышел лейтенант Косулич. Я приготовился к подозрительным расспросам: куда, мол, одетый, откуда и почему, даже придумал правдоподобную «дезу»… Но встревоженный взводный только рассеянно кивнул мне…
– Что он хотел? – спросил я у дневального, когда стукнула входная дверь.
– Не знаю… Спрашивал про Елина, – ответил Аболтынып.
– Елина? – удивился я. – Он же в санчасти…
– А-а… Наверное, госпитализировали…
– Наверное…
В центре каптерки, напоминающей склад «Военторга», стоял стол-многоножка, сооруженный из четырех табуретов. Вокруг него сидели наши батарейные «старики» во главе с могутным Титаренко. Прислуживал им Цыпленок. Когда я вошел, в комнате царил басовитый гвалт.
– А вот и друг индейцев! – с издевкой показал на меня раскрасневшийся Зуб. – Без особого приглашения не идет – брезгует! А может, он себя уже и «стариком» не считает? А?!
– Ладно, погоди! – морщась, перебил ефрейтора Титаренко и подвинул мне табурет. – Садись… Праздник сегодня!
– А ну-ка, Леха, махани! – потребовал веселый Шарипов и налил мне из алюминиевого чайника бражки.
Я сел, без всякого удовольствия поздравил ребят, потом подцепил вилкой волокнистую тушенку, закурил и стал ждать продолжения разговора. Табачный дым плавными слоистыми облаками поднимался к потолку. Висевшие вдоль стены «парадки» казались какой-то фантастической, словно спрессованной, колонной солдат.
– Конечно, день сегодня не такой, чтобы… – после долгого молчания медленно начал Титаренко. – Но давайте, мужики, все-таки разберемся…
– А что разбираться! – быстро отозвался Шарипов. – Два «старика» из-за «сынка», как собаки, сцепились… Позор!
– Ты, Купряшин, конечно, зря в драку полез, – согласился сержант. – Но и ты, Зуб, тоже меры не знаешь…
– Значит, я виноват? Я?! – взвился ефрейтор. – Хорошо. Дайте мне сказать. Я, выходит, скотина, а Купряшин заступничек? А за меня кто-нибудь заступался, когда я день и ночь на Мазаева ишачил?.. Я только говорил себе: «Терпи, Саша, «стариком» будешь…» Так почему же я честно отмотал свой год «салагой», а какой-то паршивый Елин хочет дуриком прожить, да еще этот (он показал на меня) за него заступается? Или, может быть, так и нужно? Тогда давайте с завтрашнего дня жить по уставу: все вместе вкалывать… Чернецкого пошлем сортир мыть, Шарипова – окурки по территории собирать… Наплевать, что «салабонам» еще два года служить, а мы уже «парадки» приготовили. Полное равенство! Как в Конституции. Замполит нас всех расцелует да еще благодарственные письма домой отправит: «Ваш сын проявил чудеса героизма в борьбе с неуставняком». Вы так хотите? Давайте. Давайте прямо с утра и начнем: я побегу к Елину прощение просить, а вы…
– Не ори! – оборвал его Титаренко. – Не ори… Мы не глухие. Кто еще хочет сказать?
– А что говорить? – снова встрял Шарипов. – Пусть подадут друг другу руки… Такой день сегодня, елки-моталки!
В ответ я демонстративно заложил ладони за ремень, а Зуб непримиримо ухмыльнулся. Мы помолчали. Шарипов гонял по тарелке скользкий кусочек селедки, Титаренко барабанил пальцами по колену, Чернецкий выкладывал из хлебных шариков цифру 1, Цыпленок, попавший на нашу тайную дембельскую вечерю по праву каптерщика, делал страшные глаза и, шевеля губами, согласно мотал головой, словно от его мнения что-то зависело.
– Дай-ка я теперь скажу, – прервал тишину Чернецкий. – Сначала – о Зубе… Знаешь, Саня, ты не обижайся, но в тебе столько злобы накопилось, такие стратегические запасы… Ты уж постарайся – распределяй равномерно между всеми молодыми. Я Купряшина поддерживаю: что ты в Елина вцепился? Доведешь парня до точки, потом будешь, как тот мордоворот на суде, «мамочка!» орать… И мы с тобой влипнем.
– Значит, опять я виноват! А ну вас всех… – Зуб с грохотом рванулся к двери.
– Сядь! – вернул его на место Титаренко. – Сам разговор начал – теперь слушай!
Дожидаясь, пока восстановится тишина, Чернецкий катал из мякиша серые горошины и вслед за единицей стал выстраивать ноль.
– Несколько слов о моем друге Купряшине, – наконец продолжил он. – Скажи мне, Леша, скажи честно: против чего ты борешься? Чего ты хочешь? Елина защитить или всех «стариков», как класс, уничтожить?
– Я хочу справедливости! – послышался мой ответ.
– Какой?
– Что значит – какой? – не понял я.
– А то и значит, – с готовностью объяснил Чернецкий. – На словах у нас одна справедливость, а в жизни – совсем другая! Ты думаешь, люди на «стариков» и «салаг» только в армии делятся? Ошибаешься. Разуй глаза: эти на работу пехом шлепают, а те в черных бутрезовых ездят, эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются, эти… Или вот пример: меня из института, дело прошлое, за прогулы поперли – заигрался в любовь с одной лялькой. А мой однокурсничек, сынок председателя горисполкома, даже на сессиях не показывался, однако окончил институт с красным дипломчиком и за границу стажироваться поехал… Выходит, он – «дед», а я – «сынок». Вот так! Запомни, Купряшин: там, где появляются хотя бы два человека, сразу встает вопрос – кто командует, а кто подчиняется.
Я сидел и ошалело смотрел на Валерку, развернувшего передо мной целую неуставную философию, а ведь это был тот самый парень, который всего год назад изображал гудок в излюбленном казарменном представлении «Дембельный поезд». Делалось это так: рядовой Мазаев блаженно возлежал на койке, а несколько молодых раскачивали ее с ритмичным перестуком, создавая полную иллюзию мчащегося вагона. Другие «салаги» бегали вокруг, размахивая зелеными ветками, и обозначали убегающий дорожный пейзаж. Валера через равные промежутки рожал протяжный железнодорожный звук. А я был свежим встречным ветерком…
– И последнее, – помолчав, прибавил Чернецкий. – Я допускаю, Лешенька, что «стариковство» идет вразрез с твоими нравственными принципами. Я уважаю твои убеждения, но тогда у меня вопрос: как мы будем жить дальше? Если ты не будешь «стариком», придется быть «салагой», третьего не дано. Вольные стрелки только в сказках бывают… подумай хорошенько! На этом, полагаю, можно закончить нашу профилактическую беседу. Все-таки праздник сегодня!
Чернецкий замолчал, хмыкнул и снова стал катать хлебные шрапнельки.
– Ты будешь говорить? – спохватившись, спросил меня Титаренко, за долгим монологом он совершенно забыл о своих председательских обязанностях.
Говорить… В розовощеком детстве я очень любил смотреть телевизор, особенно взрослые фильмы, где постоянно кто-то с кем-то спорил. Конечно, мне были непонятны причины их разногласий, меня волновало другое: кто прав? Я спрашивал об этом отца, он, не задумываясь, указывал пальцем на мечущийся по экрану серо-голубой силуэт и объяснял: вон тот! Тогда у меня возникал другой вопрос: если «вон тот» прав, то почему же этого никак не хотят понять другие люди из телевизора? Почему? С возрастом я понял: мало знать истину, нужно еще иметь луженое горло, ослиное терпение и крепкие, как нейлоновая удавка, нервы…
– Ребята, – с соглашательской гнусавинкой заговорил я, обводя взглядом «стариков», – пусть каждый из нас останется при своем мнении… Пусть! Но ведь нужно быть человеком независимо от того, сколько ты прослужил.
– Человек – это звучит гордо! – заржал Зуб.
– Заткнись, кретин, – взорвался я, понимая, что все порчу, но остановиться не мог. – Тебе, как человеку, про Елина рассказали, а ты что сделал, подонок?!
– А что Елин сделал? – передразнил ефрейтор. – Бегал жаловаться Осокину!
– Кто тебе сказал?
– Видели…
– За стукачество наказывать надо! – сокрушенно покачал головой Шарипов.
– В самом деле, Леха, такие вещи прощать нельзя! – поддержал Чернецкий, отрываясь от хлебных шариков. – Чтоб другим неповадно было!
– Пусть только из наряда вернется! – Зуб стукнул ребром ладони о табурет.
И я понял, что теперь нужно спасать не абстрактную идею казарменного братства, а конкретного рядового Елина с редким именем Серафим.
– Он не жаловался. Это точно! – твердо сказал я.
– Откуда же комбат все знает? – ехидно поинтересовался Зуб.
– А ты думаешь, у Уварова мозгов нет и он не догадывается, кто больше всех к молодым лезет?
– А почему комбат раньше молчал?
– А ему так спокойнее: ты молодых держишь, он – тебя, и порядок. Только вот накладочка вышла: майор засек, как Елин выдранные пуговицы пришивал… Понял?
– Понял! Ты сам комбату и настучал!
– Что-о?!
– Малик видел, как ты в штаб бегал! – торжественно сообщил Зуб.
Повисла тяжелая, предгрозовая тишина. Хорошо телевизионным героям, они в конце концов доказывают свою правоту, в крайнем случае дело заканчивается оптимистической неопределенностью! А что делать мне? Оправдываться, суетливо пересказывать разговор Уварова и Осокина, а потом снова уверять, что Елин не ябедничал… Можно… Но мной овладела какая-то парализующая ненависть ко всему происходящему, какое-то черное равнодушие…
– Леха, почему ты молчишь? – тревожно спросил Чернецкий. – Зачем ты ходил в штаб?
– Стучать, – коротко и легко ответил я.
– Ты соображаешь, что несешь? – медлительно опешил Титаренко.
– Могу повторить: сту-чать…
– Купряшин, не выделывайся, не ври! Скажи, что ты врешь! – почти попросил меня Валера Чернецкий. – Он сейчас скажет!..
Я молчал. Ребята сидели потупившись. Цыпленок смотрел на меня с ужасом. За обоями скреблись мыши. Титаренко встал:
– Какие будут предложения?
– Гнать его из «стариков»! – сладострастно крикнул Зуб.
– Будем голосовать? – неуверенно спросил сержант.
И мне стало смешно. Голосовать! Даже сейчас не нашлось никаких других слов! Может быть, они еще постановление станут читать?
– Единогласно… – обведя взглядом поднятые руки, продолжал Титаренко. – Принято решение: считать Купряшина… Ну, в общем, с завтрашнего дня до «дембеля», Леш… Купряшин – «салага». Кто будет относиться к нему иначе, накажем точно так же… Ясно!
– Отваливай! – с холодным удовлетворением глядя мне в глаза, скомандовал Зуб. – Тебе здесь больше делать нечего. Здесь «старики» гуляют!
Я встал. Титаренко смотрел в сторону. Цыпленок ерзал от страстного желания помчаться вниз и сообщить однопризывникам потрясающую новость. Чернецкий выложил из серых хлебных комочков цифру 100…
– Ну, так чью койку мне завтра заправлять? – спокойно спросил я членов высокого суда.
Никто не ответил.
Но кто же мог подумать, что Елина найдет Цыпленок?!
Я слышу испуганное «идите сюда!» и, путаясь ногами в мокрой траве, бросаюсь на голос. Возле подпрыгивающего на одном месте Цыпленка стоит запыхавшийся Титаренко. Следом за мной подбегает Чернецкий, он застывает рядом, и я щекой чувствую его прерывистое дыхание. Наконец, тяжело сопя, подваливает Зуб.
– Во-он валяется! – поясняет Цыпленок, тыча пальцем.
Мы всматриваемся: Елин лежит во рву, скорчившись калачиком и уткнувшись лицом в землю, на месте головы зияет густая тень, отбрасываемая разлапистым кустом. При свете луны виднеется спичка, забившаяся в рифленую подошву сапога, из-за голенища белеет уголок портянки.
– Иди к нему! Иди, тебе говорят! – Титаренко с силой выталкивает Зуба вперед, но тот, заслоняя рукой лицо, отскакивает в сторону, а потом его сопение раздается уже за нашими спинами. Никто не решается приблизиться к Елину, точно и не его мы искали всю ночь. Шарипов печально цокает языком.
…Однажды я ехал в метро, и вдруг посреди подземного перегона поезд затормозил и остановился. Приноровившиеся к дорожному грохоту, пассажиры еще некоторое время продолжали говорить в полный голос, будто старались перекричать внезапную тишину. Потом все разом замолчали и принялись тревожно перешептываться. Минут через пять поезд тихонько тронулся и ехал очень медленно, мы буквально выползали из темного тоннеля на свет. Во всю платформу, обступая что-то лежащее на полу, теснились люди, сквозь толпу продавливались санитары с носилками. «Человек на рельсы упал!» – догадался кто-то из пассажиров, и несколько любопытных, выскочив из вагона, присоединились к толпе. Мне нужно было выходить на той станции, но я прижался спиной к стеклу с надписью: «Не прислоняться» и успокоился лишь тогда, когда поезд снова въехал в гулкую темноту тоннеля…
К Елину неуверенным шагом приближается… нет, – крадется Цыпленок. Сердце, словно чугунное ядро, тяжко раскачивается в моей груди. Кажется, еще минута, и оно, с треском проломив ребра, вырвется наружу. Валера Чернецкий больно сжимает пальцами мой локоть. Зуб уже не сопит, а стонет. Подбегает комбат. Фуражку он где-то потерял.
– Спит? – шепотом спрашивает Уваров и вытирает пот.
– Как мертвый, – отвечает Шарипов.
Цыпленок медленно опускается перед Елиным на колени…
* * *
Воротившись из каптерки в казарму, я тихонько разделся, сложил на табурете обмундирование и полез на свой верхний, «салажный» ярус. Глаза у меня слипались, рот раздирала мучительная зевота, но уснуть я не мог. Казалось, вот сейчас перевернусь на правый бок и отключусь, но ни на правом боку, ни на левом, ни на спине и никак по-другому забыться не удавалось: перед глазами стояла торжествующая рожа Зуба.
«Подумаешь, трагедия! – успокаивал я себя. – Трибунал для бедных… И не такое случалось! Завтра на свежую голову разберемся».
А что, собственно, со мной случалось в жизни? Да почти ничего.
Впрочем, именно в армии я впервые попал в настоящую переделку. Во время апрельских учений мы несколько раз меняли расположение лагеря, и однажды какой-то идиот второпях сунул в машину со снарядами «буржуйку», из которой не были выброшены раскаленные угли. Мы уже разбивали палатку на новом месте, когда Шарипов застыл с колышком в руке и проговорил:
– Ну, сейчас шибанет!
Из-под брезента, закрывавшего кузов, валил густой дым, изнутри светящийся огнем. Не помню, кто бросился первым, но на несколько секунд нас опередил комбат, он-то со страшной руганью и выбросил печку из кузова, а мы лихорадочно тушили занявшиеся, в струпьях обгорелой краски, ящики, стараясь не думать о том, что в любое мгновение можем превратиться в пар. Страх пришел потом, когда, закурив трясущимися руками и путая слова, мы наперебой описывали друг другу случившееся, как дети пересказывают содержание только что увиденного фильма. А перепачканный пеплом Уваров сидел на траве, тряс головой и повторял, точно заевшая пластинка: «Ну, чэпэшники, мать вашу так! Ну, в/ч ЧП…»
Да-а, еще минута – и было бы ЧП на весь округ, а в газете «Отвага» появился бы большой очерк капитана Деревлева под названием «Сильнее смерти и огня», где наши героические, овеянные пороховым дымом силуэты решительно заслонили бы нелепые, разгильдяйские причины чрезвычайного происшествия. Возможно, и Лена со временем узнала бы, что ее несостоявшийся спутник жизни погиб, спасая боеприпасы от разбушевавшейся стихии.
Но ничего этого не произошло, и мы – Титаренко, Шарипов, Чернецкий, Зуб и я – стояли, бессильно обнявшись, нервно смеясь и ощущая себя братьями… Интересно, откажутся они завтра от своего приговора или нет?
И мне приснился сон, но какой-то странный, вывернутый наизнанку: не я убываю на гражданку, а все мои домашние – мама, отец, Лена – приезжают к нам в часть с чемоданами, в дембельской форме, а у Лены на груди даже медаль. Зуб рассказывает моим родителям что-то очень хорошее про Елина. Я подхожу к Лене и спрашиваю:
– Разве за это дают медали, Лена?
– Лешенька, ты что, меня не узнал?! – удивляется она. – Это же я, Таня. Только ты не волнуйся, глупенький, главное – ты уже дома…
Но в это время раздаются голоса, топот, и запыхавшийся сержант Еркин с растрепанной книжкой за ремнем кричит во весь дух:
– Батарея, подъем! Тревога!
И все начинают приплясывать и грохотать сапогами об пол, а Таня сильно тормошит меня за плечо – мол, танцуй с нами!
Я открываю глаза и вижу старшину Высовеня:
– Трибунал проспишь! – сурово острит прапорщик.
На дне, между камнями, застыл пучеглазый морской ерш. Он и сам был похож на вытянутый, покрытый щетиной водорослей камень. Бурая подводная трава моталась в такт прокатывающимся на поверхности волнам и открывала пасущихся в чаще разноцветных рыбок. А еще выше – там, где, по мнению придонных жителей, находилось небо, – проносились эскадрильи серебристых мальков. И совсем высоко-высоко, на грани двух миров, ослепительное золото омывало синие тени медуз. Но на солнце даже из-под воды смотреть было невозможно.
Человек в маске и ластах зажмурился, потому что после взгляда вверх дно показалось темно-зеленым шевелящимся пятном. Потом, одной рукой крепче ухватившись за жесткие стебли водорослей и чуть-чуть выдвинувшись над скалой, он стал медленно подводить наконечник гарпуна к окаменевшему ершу. Чтобы выстрелить наверняка, острие нужно приблизить почти вплотную (очевидно, завод, где изготавливаются подводные ружья, – коллективный член Общества охраны природы).
Но в тот момент, когда, дернувшись в руке, ружье метнуло гарпун, ерш с реактивной скоростью рванулся с места и, оставляя за собой мутный след, исчез в расщелине. Гарпун, звякнув, отскочил от камня, и белый капроновый шнур, медленно изгибаясь, начал опускаться на дно.
Из дыхательной трубки с бульканьем взвились крупные пузыри: охотник выругался. Запас воздуха в легких кончался, но, прежде чем всплывать, человек обвел вокруг взглядом, запоминая место, где укрылся ерш, и вдруг снова вцепился в водоросли: на краю расщелины сидел здоровенный краб, похожий на инопланетный шагающий вездеход. Черными глянцевыми клешнями-манипуляторами он подносил что-то к шевелящемуся рту.
Сдерживая подступивший к горлу вздох, ныряльщик изо всех сил сжал зубами резиновый загубник трубки. Десять лет он занимался подводной охотой, но такого громадного черноморского краба не видел, кажется, ни разу! Только бы не потерять скалу! Наверху – волны, пока отдышишься, может отнести в сторону. Обманывая задыхающуюся плоть, охотник делал частые глотательные движения, но это уже не помогало.
Все! Сильно оттолкнувшись от скалы, вытянувшись в струну и до судороги в икрах работая ластами, он понесся вверх, к воздуху. Выскочив из воды по пояс, человек выплюнул загубник и несколько раз глубоко, до боли в легких, вдохнул. Перед глазами, застилая жаркое синее небо, плыли фиолетовые пятна, а к вискам приливала пугающая слабость. Постепенно взгляд прояснился, неуверенность исчезла, но дыхания все же не хватало, а сердце колотилось неестественно быстро и гулко.
Чтобы успокоиться, человек осмотрелся: в метрах двухстах от него виднелся пустынный каменистый берег, три парня волокли выброшенную морем корягу, а далеко справа горбилась гора Ежик, из зеленых колючек которой поднималась белая башня пансионата. У подножия Ежика, между волнорезами, был большой пляж. Чем дальше от берега, тем ярче и драгоценнее становился цвет моря. Возле оранжевых буйков, болтая в воздухе ластами, охотились за разноцветными камешками, мелкими рапанами бесстрашные ныряльщики.
Еще дальше, покачиваясь на пестрых надувных матрацах и чувствуя себя, наверное, в открытом море, несколько смельчаков получали солнечные ожоги. Через равные промежутки времени усиленный мегафоном хриплый мужской голос с южным акцентом настойчиво звал их вернуться к берегу. А на горизонте, где, как двояковыпуклая линза, смыкались море и небо, виднелся силуэт теплохода.
Человек глубоко вздохнул, поправил маску, вставил в рот загубник и, погрузив лицо в воду, сразу отыскал знакомые очертания скалы. Так, распластавшись на волнах, он старался отдышаться, при этом не упуская из виду найденное место.
Это надо же! Весь отпуск проплавать там, где подводная мелочь вспоминает о ершах и крабах, как мы о мамонтах, и вот за три дня до отъезда напасть на такой заповедник! Черт с ним, с ершом, но краб-то, краб! Боевая клешня чуть не с ладонь, если упустишь – никто не поверит. Надо попытаться схватить рукой, а если не получится – выстрелить, хоть и жалко портить панцирь.
Подумав об этом, охотник упер рукоять пневматического ружья в живот и с натугой вдавил гарпун в дуло, потом втянул через трубку воздух, сложился пополам и, вскинув над поверхностью длинные черные ласты, ввинтился в воду.
Краб сидел на том же месте. Осторожно приблизившись, человек медленно и незаметно подвел к нему сзади руку и резко махнул ружьем перед черными стебельками крабьих глаз. Стебельки тут же нырнули в глазницы, а сам краб, словно неопытный вратарь перед прорвавшимся форвардом, широко распахнул объятия, но тут же был крепко схвачен между растопыренными и потому безопасными клешнями.
Охотник начал уже всплывать, но вдруг увидел, как, быстро перебирая суставчатыми ногами, к расщелине бочком убегает такой же громадный – или даже поболее – крабище. Закусив загубник и выбросив вперед руку с ружьем, человек извернулся за ним, выстрелил и проломил насквозь толстенный панцирь, потом за шнур подтянул к себе гарпун: краб сучил когтистыми ногами, а клешнями пытался перегрызть стальной прут. Из пробоины клубилось бурое облачко крови.
«Это уже я зря…» – хотел подумать охотник, но в голове что-то скрипнуло, рот наполнился соленой водой, а тело сделалось до дурноты легким и беспомощным. Через мгновение, выброшенный на поверхность, он увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать…
На далеком берегу маленькие люди еле слышно кричали, но еще страшней, чем недостижимость берега, была четырехметровая толща воды – теплая, светлая у поверхности и холодная, мрачная в глубине. А тем временем ум никак не мог объяснить плоти, что нужно делать. Тяжелое фиолетовое небо словно хотело вдавить человека в воду, и он, закричав, рванулся, отшвырнул все, что было в руках, и опрокинулся на спину. Сердце уже не билось, а сотрясало тело, и точно так же сотрясали сознание слова: «Нет-нет-нет-нет-нет…» Солнечный свет дрожал и мерцал перед глазами, точно перегорающая электрическая лампочка. Казалось, одно резкое движение – и наступит темнота.
Еле шевеля ластами, человек на спине поплыл к берегу, один раз было оглянулся, и ему почудилось: суша не только не приблизилась – даже отдалилась. Тогда снова тело свела судорога беспомощности, а душу охватил утробный ужас. Больше уже не оглядываясь, даже зажмурившись, он все плыл и плыл, чуть перебирая непослушными ногами. Когда же спина коснулась скользких прибрежных камней, он замер, потом сел по пояс в воде и наконец повернул голову.
Прямо перед ним, суетясь на скрипучей гальке, двое парней пристраивали над огнем котелок. Третий, вскрывавший консервные банки, с любопытством уставился на подплывшего и улыбнулся:
– Ты, земляк, извини! Мы из твоих брюк сигареты взяли, а то тебя нет и нет. Петька уж смеялся: «Бери, мол! Он… то есть ты… теперь не куришь, потому как утоп…»
И парни жизнерадостно заржали над своей шуткой.
Человек ничком лежал на раскаленных камнях и пытался понять случившееся. Но, перебивая все остальное, словно громкая соседская музыка, в голове пульсировало: «Нет-нет-нет-нет-нет!» Выключить эти слова было нельзя – можно лишь отодвинуть в глубь сознания. Человек повернулся на спину, и на сомкнутые веки легла алая пелена полуденного солнца.
Оказывается, все очень просто. Не сумей он справиться с оцепенением – моря, неба, скал, ребят у костра, неудобного камня, вдавившегося в поясницу, – ничего этого уже не было бы никогда. Как это? Наверное, как в армии, когда громким криком вызывали из темного кинозала заступающих в наряд, а фильм крутился дальше, и обо всем, что произойдет после твоего ухода, можно лишь догадываться.
Интересно: а быстро бы его нашли? В пансионате скоро не хватятся, наверное, только к ужину или даже к завтраку. Скорее всего первыми сообразят эти любители чужих сигарет: действительно, одежда давно лежит, а хозяин пропал… Дальше – загорелые джинсовые мальчики со спасательной станции, ненадолго оставив разомлевших от солнца и курортного обхождения девиц, прыгнут в лодку и сразу отыщут в прозрачной воде отдыхающего, который, говоря словами инструктора по плаванию, вздумал «шутить с морем»… Затем апатичные курортные врачи привычно повозятся с посиневшим телом, а спасатели, стараясь разогнать разбухающую толпу любопытных, примутся кричать: «Отойдите! Воздух… Ему нужен воздух!» Но люди будут все прибывать и прибывать, вставая на цыпочки, даже подпрыгивая, чтобы лучше видеть… Потом «Скорая помощь», уже без сирены, увезет утонувшего, но обитатели пляжа, вывернув к солнцу труднозагораемые места, еще долго и горячо станут обсуждать случившееся:
– Это тот высокий шатен из Москвы. У него еще подводное ружье было. Донырялся…
– Говорят, жена и дочка маленькая в Москве остались. Еще ничего не знают!
– Ужас! Тоже моду взяли – поодиночке отдыхать… С ними приехал бы, может, и ничего!
– Начальство всегда поодиночке отдыхает. Он ведь, хоть молодой, а начальством работал. Говорят, секретарь райкома!
– Партии?
– Нет, комсомола, но все равно!
– А какого района?
– Говорят, Красно… Красно… Краснопролетарского. Есть у вас такой?
– Господи, это же наш район! Ой, надо мужу рассказать – он из райкома их всех знает! А фамилия как?
– Мишулин или… Шумилин, кажется…
Потом? Потом какие-нибудь формальности, связанные со смертью человека, затем обратная дорога, как в том бунинском рассказе, – и ты единственный пассажир, которому наплевать на крушения и катастрофы… Затем – некролог в «Комсомольце» и похороны. Траурный митинг (наверное, в клубе автохозяйства), грустное многословие, вызывающее мысли о том, как без такого человека может развиваться дальше мировая цивилизация? Духовой оркестр с печально ухающим большим барабаном. Венки от организаций и частных лиц. Потом удары молотка – и всегда ощущение, будто могут поранить лежащего внутри. Потом стучащие о крышку комья земли… Первые горсти бросят одетые в черное мама и жена. Интересно, как поведет себя Галя, ведь формально они еще не разведены. Разумеется, будет держаться, словно ничего у них не случилось, а слушая прощальные речи, удивится, почему не ужилась с таким прекрасным мужем! Лизке же Галя скажет, что папа уехал далеко-далеко и вернется, когда дочь вырастет. «А что он привезет?» – спросит Лизка…
Шумилин почувствовал, как закипают на солнце выступившие слезы. Ладно – хватит! По техническим причинам похороны переносятся на неопределенный срок. Нужно достать ружье и бежать на обед.
Он быстро нацепил маску и ласты, вставил в рот трубку, пятясь, вошел в воду, опрокинулся и отплыл на спине несколько метров, потом перевернулся лицом вниз. Пронизанный зелеными лучами подводный мир снова обступил его: колыхались водоросли, яркая, синеперая зеленуха металась между камнями, перебирала ножками прозрачная, словно стеклянная, креветочка.
«Опыт спасения утопающих у меня уже есть, – пошутил сам с собой Шумилин. – Главное, чтобы снова не оцепенели ноги…» Но едва только мелькнула эта мысль, как в теле появилось знакомое чувство беспомощности и пульсирующий страх, а в сердце со страшной быстротой заколотились слова: «Нет-нет-нет-нет-нет…» Беспорядочно лупя ластами, он вернулся на сушу, выкурил, чтобы успокоиться, несколько сигарет, побродил вдоль берега и дрожащей рукой пустил по воде вприпрыжку десяток плоских камней. Тридцать лет ему казалось, что его тело, его сознание как будто вплавлены в этот бесконечный кусок янтаря под названием «мир», а получается, с жизнью тебя связывает лишь тоненький, звонко натянутый волосок. И что самое печальное: тело – всего лишь капризная оболочка, ненадежное вместилище души. Конечно, все это было известно и раньше, но одно дело – знать, и совсем другое – почувствовать…
К пансионату вела кипарисовая аллея, упиравшаяся прямо в двери прозрачного, как аквариум, пищеблока. Сегодня кипарисы пахли борщом.
Обеденное время давно кончилось, поэтому в столовой уже никого не было, кроме хмурых официанток, носивших на мойку грязную посуду и вытиравших столы. Шумилин принялся хлебать холодный, как свекольник, борщ, жевать затвердевшие котлеты, вспоминая прошлый сезон, когда отдыхал здесь с женой и, занырявшись, часто опаздывал к столу. Галя обычно до конца стерегла его порции, но встречала мужа злым-презлым взглядом. Он виновато ел, а она громко недоумевала, почему должна целыми днями загорать одна и, как от мух, отбиваться от пляжных приставал. Потом обычно следовало обещание утопить, к чертям, все эти ласты, маски, ружья. Приходилось отшучиваться, говоря, что лучше утонуть самому, чем утопить ружье. Теперь Шумилин так не пошутил бы.
Надо сказать, Галя злилась часто: не только из-за подводной охоты и не только во время отпуска. Впрочем, ее можно понять. Реже всех видят своих мужей жены разведчиков, заброшенных в тыл врага и натурализовавшихся. На следующем месте после них – супруги комсомольских работников. И тем не менее Галя все время твердила, что ее единственная мечта – хотя бы несколько дней отдохнуть в одиночестве. Но тот генеральный скандал разразился именно потому, что Шумилину пришлось на несколько дней раньше вылететь в Москву. В нынешнем году торопиться некуда, только это уже не имеет никакого значения. И, честно говоря, отзови его сейчас из отпуска, кажется, он был бы доволен. Отдыхать надоело.
«У человека всегда есть цель, – рассуждал Шумилин, выходя из столовой, – три недели назад не терпелось в отпуск, сейчас хочется домой».
…Наверное, ни одно желание в жизни первого секретаря Краснопролетарского РК ВЛКСМ не сбывалось так быстро: в холле спального корпуса его окликнула дежурная и протянула бланк срочной телеграммы:
РАЙКОМЕ ЧП ЗВОНИ КОМИССАРОВА
«Что же могло случиться?» – нервничал Шумилин, пробиваясь на междугородную станцию, державшую глухую оборону от абонентов. Но дозвониться все-таки удалось, и Москву дали на удивление быстро.
– Алло, райком? Надя? – закричал он изо всех сил, хотя слышимость была вполне приличная. – Что у вас случилось?
– Алло, Коля… Николай Петрович… алло! – ответил тревожный голос. – Коля, представляешь, какой ужас: сегодня ночью кто-то забрался в райком, в зал заседаний, и нахулиганил…
– Что значит – нахулиганил?
– Это не телефонный разговор. Ковалевский уже знает. В горкоме тоже…
– Вот так, да? А милиция?
– Милиция уже была. С собакой. Коленька, прилетай скорей, я же одна за всех. Мы слет готовили, а здесь такое! Ты же знаешь, Кононенко раньше времени забрали, я одна осталась…
– Не рыдай. Вечером вылечу, завтра буду в райкоме. Сегодня что, суббота? Вызови с утра весь аппарат. Разберемся. Пока.
Шумилин повесил трубку, потом узнал телефон местного горкома комсомола и позвонил первому секретарю, тот внимательно выслушал просьбу столичного коллеги, записал паспортные данные и обещал выбить броню. Из телефонной кабины, куда несколько минут назад вступил расслабленный отдыхающий, вышел энергичный, сосредоточенный ответственный работник.
«А пашут они тут, как мы! – с запоздалым недоумением подумал он. – Сегодня же суббота!»
Привыкший по роду деятельности иметь перед носом перекидной календарь, в отпуске Шумилин прежде всего сбивался со счета, но какое число сегодня, все-таки сообразил: утром он видел черноволосых школьников, несущих букеты, – таких неожиданных для курортного городка, где, оказывается, тоже учатся. Тогда все ясно: первого сентября Шумилин сам был бы на работе.
– Ты куда пропал? Худеешь, что ли? – улыбаясь, остановил его томившийся тут же в телефонной очереди сосед по столику – завотделом из Вологодского обкома.
– Да ты понимаешь: какие-то идиоты ночью в райком залезли…
– Махновцы балуют!
– Я серьезно. Надо лететь… Так что будешь в Москве – заглядывай к нам в Краснопролетарский. Только не спутай: есть еще Краснопресненский и Пролетарский. Бывает, ошибаются.
– Не спутаю… Дак я думал, ты смеешься… Это ж на весь город ЧП!
– Вот так, да? Ты мне объясняешь?
– Дак я думал… Может, тебе помочь собраться?
– Спасибо – я успею.
– Ну, тогда счастливо! Ты, старик, держись: может, все обойдется…
И наверное, оттого, как помрачнело и напряглось лицо этого, в общем-то малознакомого парня, с краснопролетарского руководителя окончательно слетело курортное благодушие.
Поднявшись в номер, Шумилин вытащил из-под кровати запылившийся чемодан, нарисовал пальцем на крышке печальную рожицу и начал укладываться – по-мужски все комкая и кидая в одну кучу. В голове прочно засели неизвестные хулиганы, но при этом почему-то в деталях встала перед глазами прошлогодняя ссора.
Год назад, вот точно так же после разговора с Москвой, он собирал вещи, а Галя молча лежала на кровати, отвернувшись к стене: накануне они объяснялись по другому поводу. Сборы мужа она поняла по-своему:
– Я тоже думаю – нам пора развестись…
– Не говори ерунды! Я звонил в райком: Кононенко на военную переподготовку забрали, а Комиссарова в больнице с аппендицитом. Некому слет вести. Ты со мной полетишь или останешься?
– На слет?
– Да.
– Неужели без тебя не обойдутся?
– Ты же знаешь, что нет!
– Ну конечно, во всем – первый!
– Мне не смешно.
– И мне не смешно. Только, знаешь, Коля, – подозрительно ласково заговорила она, переворачиваясь на спину и глядя в потолок, – отстань ты от моей жизни! Ну тебя к черту с твоими постоянными авралами и ЧП. Ты мне иногда напоминаешь чайник из учебника: кипишь не потому, что горячий, а потому, что высоко подняли. Оттого, что ты Первого мая на трибуне стоишь, мне жить не слаще. А если ты такой большой деятель – живи на трибуне! Зачем тебе семья, ребенок? Я хочу нормального мужика, который в семь часов дома, умеет гвоздь вбить, может ребенком заняться…
– Такой муж, какого ты хочешь, не существует как вид. И потом с мужем, вбивающим гвозди, ты бы сейчас не в санатории ЦК…
– Мне от тебя ничего не надо!
– Ну, в конце концов, ты знала, за кого замуж выходишь!
– Я выходила за студента, а получила мальчика на побегушках… Только не изображай из себя стоп-кадр, давай беги, а то без тебя весь райком развалится и твоя карьера вместе с ним!
– Галя!
– Я двадцать восемь лет Галя – и из них семь лет дура, потому что с тобой связалась, но теперь хватит…
– Замолчи!
– Я сказала: хватит!
– Только не передумай, пожалуйста!
– Это я тебе обещаю!
– Вот так, да?
– Да!
– Ну и отлично! – закрыл прения Шумилин и, надавив коленом на крышку чемодана, стал запихивать под нее торчавшие во все стороны шмотки.
Когда-то они учились в одном институте, поженились еще студентами в результате, как тогда казалось, нестерпимой любви, но жили плохо. А все несчастные семьи, вопреки утверждению классика, похожи друг на друга. И еще одна странность: чем решительнее Шумилин шел вперед и выше, тем хуже становились семейные отношения. Сам для себя он объяснял это так: жены ответственных работников – куда большие карьеристы, чем их мужья, расплачивающиеся за продвижение по службе каждодневной нервотрепкой, постоянной круговертью, невозможностью даже дома отключиться от дела. Женам же выпадает непростая, но приятная и, к сожалению, однобоко понятая обязанность – соответствовать очередному положению своего спутника жизни. Они где-то слышали, что мужчину на девяносто процентов делает женщина, и всеми силами стремятся к стопроцентным показателям. Мало того, они хотят, чтобы их незаурядные и ответственные супруги, вернувшись с работы, превращались в обыкновенных домашних мужчин, готовых к активному внутрисемейному труду. Моральные и физические силы мужа вступают в противоречие с семейными отношениями – и наступает разводная ситуация. И однажды, наскоро собрав чемодан, мужчина решительно направляется к двери и лишь на пороге, не повернув головы, констатирует:
– Я пошел.
– Пока, – уткнувшись в подушку, отвечает женщина…
В прошлом году Шумилин улетел один, потом они, конечно, помирились, затем снова поссорились… Месяцев пять-шесть их брак пребывал в неустойчивом равновесии, наконец они разъехались, но на развод пока не подавали: то ли на что-то надеясь, то ли просто откладывая неприятную процедуру. К счастью, свобода не обернулась для Шумилина необходимостью решать жилищную проблему: он вернулся к матери, к себе в комнату, и даже частично перевез свою, как в старину говаривали, со вкусом – а значит, с большим трудом – подобранную библиотеку. Одним словом, они разошлись интеллигентно, и расставанье их обещало впереди если не встречу, то во всяком случае нормальные отношения чужих людей, у которых из общего осталось только одно, зато самое главное, – ребенок…
В аэропорту все произошло, как обычно, по-комсомольски: здесь слыхом не слыхивали о брони для секретаря райкома из Москвы. Вспомнив прошлогодний опыт, краснопролетарский руководитель больше часа метался между начальником аэровокзала, дежурным по транзиту и кассой брони, совал красное удостоверение, безнадежно звонил в горком. В конце концов он опустился на скамью для ожидающих, положил голову на чемодан, закрыл глаза и стал ожидать.
«И в воде не тону, и в воздухе не летаю!» – хотел было сам с собой пошутить Шумилин, но сразу же вспомнил сегодняшний случай в море, о котором не давали забыть какая-то смутная тревога и появившееся недоверие к собственному телу. И к тому же неотвязно крутились мысли про хулиганов, залезших в зал заседаний.
Надо же умудриться за один день чуть не утонуть и получить известие, что в своем родном райкоме – ЧП! Можно представить, какая там сейчас паника, если третий секретарь Комиссарова отбивает телеграмму и умоляет скорее прилететь. И что значит – «не телефонный» разговор? Может быть, хулиганы в финхозсектор забрались или картотеку попортили? Нет, Комиссарова только про зал заседаний говорила. А что бы она, интересно знать, стала делать, если бы первый секретарь взял да и утонул?
Но следом за несерьезной даже мыслью о происшедшем появилось непонятное чувство беспомощности и страха. Чтобы переключиться, приходилось развлекать себя разговорами, как женщину.
Кстати, о женщинах. С Галей нужно было развестись еще до рождения Лизки, не зря все-таки они так долго тянули с ребенком. Но легко расходиться со стервами, тут все понятно: она дрянь – и от нее нужно бежать. А что прикажете делать с приличной, семейной женщиной, которая просто тебе не подходит. Почему? Потому что не подходишь ей ты. Но ведь восемь лет назад они удивительно подходили друг другу.
Вот в чем штука! Главное – пусть даже не совпадать в самом начале, а потом изменяться в одну сторону. Тогда и у разных людей появляется общее, а не наоборот! Нужно будет по возвращении переговорить в обществе «Знание» и организовать для молодежи беседы о браке и семейной психологии, пригласить лектора, но не трепача какого-нибудь, а специалиста. Может, разводов в районе станет поменьше. Кстати, о разводе. Где-то написано, что при разрыве, как правило, женщина уходит к другому, а мужчина в никуда. Возможно… Но жизнь, как говорится, еще не кончена в тридцать лет, вот только надо разобраться с хулиганами да провести слет! Развод, конечно, объективку не украсит, но, слава богу, в последнее время стали понимать, что работоспособность и душевное равновесие функционера (почему некоторым не нравится это слово?) гораздо важней лишних штампов в паспорте и несложных финансовых операций по отчислению алиментов. Да и Лизка будет только крепче любить отца, а то она уже было начала пересказывать родственникам и гостям, что кричала мама и как ответил папа. Вот так-то!
Честно говоря, Шумилин сосредоточился на своих житейских проблемах еще и затем, чтобы не думать о происшествии в райкоме (действительно, махновцы какие-то!). У него был принцип, выработанный многолетним опытом: не расстраиваться заранее, иначе никакие нервы и никакое сердце не выдержат. Ведь складывались же в работе ситуации, когда доводил себя до отчаянья, а все оказывалось не так страшно!
Бывало, правда, и наоборот. Так что сейчас самое главное – улететь и разобраться на месте, тогда станут ясны и подробности, и причины, и последствия.
Уткнувшись в чемодан, он забылся той странной дремотой, когда снится, будто не можешь заснуть. Разбудил его трубный голос, разнесшийся по всему залу ожидания:
– Товарища Шумилина из Москвы просят пройти к дежурному по аэровокзалу.
Непонятно: или отыскалась запись о его брони, утерянная при передаче смены, или опамятовавшийся после первосентябрьской круговерти местный секретарь все же позвонил сюда, или же весть о ЧП в Краснопролетарском районе столицы достигла Черноморского побережья, но в результате через несколько минут он держал билет на самолет, вылетавший в. 01.40. Однако рейс отложили, и только около пяти часов утра Шумилин поднялся по трапу «Ту-154», вдохнув последний раз теплый и влажный, как в предбаннике, южный воздух. Кругом еще стояла густая кавказская ночь, а над головой чернело небо, усеянное стеклянным крошевом звезд.
В иллюминатор было видно, как подозрительно вибрирует заиндевелое крыло самолета. Между креслами, разнося газеты и воду, с профессиональной грацией двигалась стюардесса, а за ней, словно запоздавшая звуковая волна, накатывался парфюмерный запах.
Во время полета можно многое: спать, есть, читать, думать о жизни… Шумилин размышлял. О ЧП в райкоме, следуя своему принципу, он усиленно старался не вспоминать, а перебирал мелочи, случившиеся с ним за последнее время, – курортные встречи и знакомства; хорошие книги, купленные перед отпуском и оставшиеся непрочитанными; нового участкового врача – симпатичную молодую женщину по имени Таня, с которой умудрился завести роман; красные, большие и как бы отлакированные яблоки, впопыхах купленные для дочери по пути в аэропорт… Кстати, собираясь отдыхать, он заезжал проведать Лизку и неожиданно заговорил с Галей о разводе, а та в ответ насмешливо удивлялась, что это ему так не терпится испортить себе карьеру и вернуться к прежней специальности. Галя работала учителем физики и не без оснований считала: держать в повиновении какой-нибудь сорокогорлый 9-й «Г» не легче, чем руководить многотысячным районным комсомолом. Но сознавала она и другое: человека, поработавшего первым секретарем райкома и возвратившегося к прежней профессии, можно как редкость выставить в музее, только вот посетители все равно будут принимать его за макет.
Хотя… всякое, конечно, может произойти, и готовым нужно быть ко всему, особенно после случившегося. По правде говоря, в последние годы судьба Шумилина складывалась так, что вопрос «кем быть?» за него в основном решали другие. До сегодняшнего дня решали поступательно… И чтобы снова не думать о хулиганах, дорисовывая в воображении зловещие подробности, он принялся вспоминать, куда после переезда к матери засунул папку с набросками диссертации.
Внесем ясность.
Первый секретарь никогда не мечтал о профессиональной комсомольской работе и после армии пошел на истфак пединститута только потому, что хотел быть историком. Но ничего не поделаешь: склонность к общественной деятельности Шумилин впитал буквально с молоком матери. Она вечно после смены пропадала на заводе, то готовя очередное собрание, то организуя митинг, то репетируя концерт художественной самодеятельности, на котором сама обязательно выступала со стихами Маяковского или Щипачева. Жили они тогда в заводском общежитии, отец мотался по командировкам – и очень часто Колю кормили ужином и укладывали спать соседи. Нынче таких соседей уже нет, они остались там, в общежитиях и коммунальных квартирах пятидесятых – шестидесятых годов.
С самого начала Колина мать, Людмила Константиновна, общественные поручения сына принимала к сердцу куда ближе, чем домашние задания и отметки, не опускавшиеся, между прочим, ниже твердой четверки. А в школе и товарищи, и учителя всегда знали: если подготовка сбора или КВНа поручена Шумилину, можно не волноваться и не контролировать. Но, унаследовав от матери общественный темперамент, сын, в отличие от нее, командовать не любил: сознание, что от него зависят другие, наполняло Колю не торжеством и самоуважением, а заботой и беспокойством. Короче, в лидеры он не рвался, и это решило его судьбу: он последовательно избирался председателем совета отряда, комсоргом класса, секретарем комитета ВЛКСМ школы, потом роты, а позже курса и факультета. Наконец, защитив диплом и поступив в аспирантуру, стал освобожденным секретарем комсомольской организации педагогического института. Впрочем, нет: сначала его решили избрать секретарем, а потом уже оставили в аспирантуре.
В педагогический Шумилин поступал из-за истории, но уже на первом курсе увлекся педагогикой – и не теорией, которую, надо сказать, читали чрезвычайно занудно, а именно практикой. Он сразу же стал непременным участником педагогического отряда, шефствовавшего над детским домом и базовыми школами. А на третьем курсе, уже почувствовав себя незаурядным воспитателем, взялся за индивидуальное шефство – выражаясь проще, решил исправить некоего Геннадия Саленкова, который в свои четырнадцать лет был хорошо известен инспекции по делам несовершеннолетних, школой квалифицировался как трудный подросток, а семьей – как «раздолбай». Матери своего подшефного Шумилин почти не видел. Судя по обрывкам разговоров, она занималась коммерцией: записывалась в различные списки, стояла в очередях за дефицитом и окончательно запуталась в цепи «товар – деньги – товар»… Саленков-старший, пивший все, что горит, открывая дверь замусоренной квартиры настойчивому студенту, обычно со слезой приговаривал: мол, меня не смогли, хоть сына вытащите. Но с Генкой, к сожалению, тоже ничего не получилось: его отправили в колонию.
На последнем курсе Шумилин стал заместителем секретаря институтского комитета ВЛКСМ и снискал известность тем, что на отчетно-выборной конференции бросил призыв: «Педагогический для педагогов!» Если кто-нибудь думает, будто пединституты готовят исключительно учителей, он глубоко ошибается. Курс, на котором учился будущий краснопролетарский руководитель, дал стране поэта и инспектора ОБХСС, радиодиктора и чемпиона республики по дельтапланеризму, библиотекарей, редакторов, экскурсоводов, журналистов, офицеров, домашних хозяек… Были, правда, и учителя, они любили свою профессию, но всякий разговор начинали и заканчивали тем, что с нынешними детьми, в нынешней школе, по нынешней программе работать невозможно. И работали.
Тогда будущий первый секретарь еще не думал о профессиональной комсомольской работе – утвердил тему диссертации по новым формам нравственного воспитания и в перспективе видел себя молодым, вдумчивым, снисходительным, особенно к хорошеньким студенткам, доцентом. И тут-то отечественной педагогической науке был нанесен серьезный ущерб: Шумилину предложили место в горкоме комсомола. Пришло время определяться: с кем ты, деятель науки? Он много советовался. Отец, который тогда еще был жив, ответил в своем духе:
– Раз уж ты пошел в мать, все равно этим будешь заниматься, только на общественных началах. Тогда лучше за деньги…
Людмила Константиновна, разумеется, была «за», Галя воздержалась, она уже поняла: быть одновременно комсомольским руководителем и главой семьи непросто. В конце концов он согласился, и дальнейшая его жизнь потекла по узким извилистым коридорам горкома.
Энергичный, но сдержанный, инициативный, но знающий, даже внешне Шумилин подходил для роли комсомольского вожака: высокий рост, улыбчивое лицо с серьезными глазами, модная, но аккуратная стрижка, строгий, хорошо сидящий костюм… У него была слегка неправильная речь, и, хотя логопеды в свое время потрудились, в некоторых словах он неуловимо смягчал твердый «л». Но даже дефект, как ни странно, еще больше располагал к нему: во-первых, людей без недостатков не бывает, а во-вторых, человек, говорящий с трибуны как теледиктор, настораживает. Правда, новому замзаву больше приходилось заниматься учетом и контролем, чем выступлениями, и тем более живым делом. Потом в декретный отпуск ушла заведующая отделом – он стал исполнять ее обязанности, и это тоже не способствовало занятиям теорией. Проводя же различные общегородские мероприятия, он заметил: семинары, слеты, совещания, конференции, которые, по идее, организуются для выработки общей линии в работе, превращаются в самоцель. И организаторов уже гораздо больше тревожит неудачно составленный список докладчиков, чем тот факт, что от перемены мест выступающих жизнь не изменяется.
В горкоме нового замзава ценили, ведь чужая трудоспособность, даже раздражая, все равно вызывает уважение. А вскоре в Краснопролетарском районе, где Николая еще помнили по пединституту, освободилось место первого секретаря РК ВЛКСМ – прежний перешел на профсоюзную работу. Кандидатура Шумилина пошла на ура. Будем откровенны: тут он уже не раздумывал и не советовался.
Отгремели поздравления, примелькался большой кабинет, стала привычной служебная машина у подъезда, приелось значительное слово «первый» со всеми вытекающими из него приятными последствиями, и началась тяжелая, изматывающая работа с постоянным недовыполнением чего-то, с криком, с нагоняями, с ноющими болями в левой стороне груди, редкими субботами и воскресеньями, проведенными дома. Руководитель районного комсомола себе не принадлежал, он принадлежал народу. А все-таки Шумилин был доволен, и, что еще важней, вышестоящие товарищи были довольны им. Нелепо утверждать, будто он не задумывался об открывшихся перспективах: первый секретарь одного из центральных столичных райкомов – это уже большое плавание, предполагающее заходы в самые неожиданные гавани, да и люди, работавшие рядом, росли, уходили выше, подавая достойный пример.
И только чтобы не сложилось впечатление, будто наш герой в своем поступательном движении не знал преград, добавим: трудностей у него хватало. К тому же отдельным мнительным товарищам его энтузиазм несправедливо казался всего лишь средством обратить на себя внимание, выдвинуться. По этой причине, например, резко и прочно не сложились у него отношения со Шнурковой, тогдашним третьим секретарем. Слава богу, она вскоре ушла на повышение в райком партии, а нынешний третий Надя Комиссарова при всей своей инициативной наивности полностью разделяет стремления первого. Любому же беспристрастному человеку сразу ясно: карьеру в том смысле, о каком с жестокостью обиженной женщины говорила Галя, наш герой никогда не делал, по сути своей оставаясь тем же Колей Шумилиным, который мог вместо беготни во дворе целый вечер, высунув язык, рисовать стенгазету, заранее радуясь тому, что завтра возле свежего номера столпятся одноклассники. А похвалит учитель – тоже хорошо.
Читатель, если ты убежден, будто таких людей в жизни не встретишь, а попадаются они только на страницах отражающей действительность художественной литературы, – можешь сразу отложить мою повесть.
– Вот так, да? – переспросил бы, услышав эти слова, Шумилин.
– Вот так!
Когда колеса пружинисто ударились о бетон и самолет, перед этим спокойно плывший в воздухе, помчался вдоль посадочной полосы, пассажиры по-родственному переглянулись.
Из Внукова в Москву таксист гнал машину с такой скоростью, что, казалось, еще немного – и они взлетят.
Дома никого не было, но это понятно: на выходные Людмила Константиновна постоянно уезжала к своей подруге на дачу. Удивляло другое: судя по разбросанным игрушкам и детским вещам, Галя впервые после того, что случилось, сдала Лизку на хранение свекрови. Впрочем, ей тоже нужно личную жизнь устраивать, а тесть и теща, наверное, в отпуске.
Шумилин сел на диван и первым делом собрался позвонить Комиссаровой – выяснить подробности, но, уже набирая номер, вспомнил, что «разговор-то не телефонный».
Во всем теле ощущалась знобящая ломота, а в невыспавшихся глазах – резь. Но всего неприятнее было непривычное недоверие к собственной плоти, заставлявшее тревожно прислушиваться даже к стуку сердца.
Ерунда! Ответственный работник, как артист или спортсмен, обязан властвовать собой. Душ. Густой черный кофе. Вместо легкомысленных джинсов и тенниски – строгий серый костюм и галстук. Ну вот, можно отправляться к месту происшествия и работы.
Райком комсомола помещался в особняке, уцелевшем еще от пожара 1812 года и выкрашенном нынешними знатоками старины в зеленый цвет. Перед революцией дом принадлежал известному чайному купцу. После Октября, утоляя жажду справедливости рядовых потребителей чайного листа, дом эксплуататора экспроприировали и отдали комсомольцам. А спустя шестьдесят с лишком лет Шумилин водил по райкому изнемогавшую под тяжестью бриллиантов мумифицированную красотку – дочку бывшего владельца особняка – и пояснял:
– Здесь у нас зал заседаний…
– Боже мой! – восклицала старушка нерусским голосом. – У папы тут была спальня, и в пятнадцатом году случился огромный скандал: мама застала здесь балерину Соболинскую! Вам что-нибудь говорит это имя?
– Конечно! – отвечал первый секретарь, печалясь классовой неразборчивости звезды русского балета.
Провожая гостью, он, поколебавшись, пожал протянутую, как для поцелуя, сморщенную ручку. Старушка выразила настойчивое желание купить на память отеческий дом, потом села в кинематографически сияющий «Мерседес» и укатила.
– Значит, спальная! – задумчиво повторил заведующий организационным отделом райкома Олег Чесноков. – То-то, я смотрю, иной раз на планерке такая чепуха в голову лезет.
На другой день Чесноков принес к себе в кабинет огромный чемодан и стал собирать вещи, а на все вопросы с горечью отвечал:
– Пришла телефонограмма. Особняк продан за двести тридцать семь тысяч долларов. По частям будет вывозиться в Бразилию.
С этой вестью к Шумилину влетела третий секретарь райкома Надя Комиссарова. Раскрыв честные голубые глаза и теребя пуговку учительского костюма, она спрашивала, что же теперь будет.
Он отсмеялся, потом вызвал Чеснокова, сказал, что ценит его остроумие и именно поэтому назначает руководителем бригады пэтэушников, отправляющихся в воскресенье на районную овощную базу.
О базе нужно сказать особо: с неумолимой регулярностью, как Минотавр, она требовала жертв – молодых парней и девушек, ведь должен же кто-то по выходным дням разгружать вагоны и сортировать корнеплоды. «Витамины все любят, а кто мешки таскать будет?» – говаривал румяный, с ног до головы одетый в кожу директор овощехранилища, хотя его самого за склонность к натуральным изделиям никто по воскресеньям не гонял на кожевенные предприятия столицы. Но тем не менее бригады комсомольцев постоянно работали на базе, а время от времени Шумилин выводил потрудиться и весь аппарат райкома во главе с членами бюро – чтоб не отрывались от масс.
Вспоминая о всякой всячине, первый секретарь старался не думать о случившемся, но мысль эта, как боль, которую стараешься не замечать, сверлила и сверлила сердце. Вокруг шумела по-выходному неторопливая Москва, а он все ускорял шаг и по ступенькам райкома поднялся почти бегом.
С первого взгляда было понятно, что весь аппарат в сборе и трепетно ждет прибытия первого секретаря: вот приедет и всех рассудит. Интересно, как?
Шумилин привычным движением распахнул стеклянные двери приемной. Хорошенькая, виртуозно покрашенная секретарь-машинистка оборвала электрический стрекот.
– Здравствуйте, Николай Петрович! Как вы загорели!
– Здравствуй, Аллочка, замуж еще не вышла? Это, наверное, за тобой к нам забрались.
Плотный слой пудры не выдержал, и стало видно, как покраснели Аллочкины щеки. К концу рабочего дня она обязательно сообразит, как надо было ответить веселому начальнику.
Из приемной дверь вела прямо в зал заседаний, в свою очередь соединявшийся с кабинетом первого секретаря. В зале – большой комнате с лепным потолком и рудиментарным камином – за длинным полированным столом понуро сидели Комиссарова, Чесноков и незнакомый молодой мужчина с волевым лицом и ранней, нежной лысиной. А загрустить было отчего: кругом царил разгром. Казалось, только минуту назад последний из налетчиков, пустив пулю в потолок, перемахнул через высокий мраморный подоконник. На полу валялись черепки и обломки сувениров и подарков, полученных райкомом от различных коллективов и делегаций. Какая выставка была, во всю стену! Специальные стеллажи заказывали. Одно из знамен, стоявших в углу, наполовину сорвано с древка, на столе запеклась коричневая лужа. «Кровь?!» – подумал Шумилин.
– Портвейн розовый, – перехватив взгляд, успокоил проницательный незнакомец и отрекомендовался: – Инспектор следственного отдела РУВД капитан Мансуров-Михаил Владимирович.
– Значит, портвейн? – переспросил первый секретарь, пожимая руки капитану и своим подчиненным.
– Так точно, – подтвердил инспектор. Для себя он, видимо, решил, что перед ним хоть и комсомольское, а все-таки начальство, и говорил поэтому подчеркнуто официально, но с иронией специалиста, вынужденного объяснять элементарные вещи. – Одна бутылка под столом, вторая разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады, один кубок исчез. Возможно, украден.
– Больше ничего не украдено?
– Ваши сотрудники уверяют, что остальное цело… Точнее, на месте, не украдено.
– А что у нас красть! – усмехнулся Чесноков.
– Как что? А хрусталь – чехи подарили! – вмешалась Комиссарова.
– Подростки, как правило, не придают особого значения материальным ценностям. Ваш хрусталь они просто расколотили. – И капитан показал на усыпавшие пол осколки.
– А почему вы решили, что это – подростки? – обидчиво уточнил Шумилин, совсем недавно принимавший из рук первого секретаря горкома грамоту за хорошую организацию в районе работы с подростками.
– Потому что взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов.
– Вот именно бессмысленных! – подхватил заворг. – Зачем лезть в райком – это же не квартира директора «комиссионки».
– А откуда, товарищ Чесноков, вы знаете, что ограблена квартира директора комиссионного магазина? – осведомился Мансуров.
– Я не знал, я к примеру сказал. А кого обчистили?! Понял: служебная тайна.
– А если это провокация?! – вдруг вскинулась Комиссарова, распахнув длинные, покрытые комками туши ресницы.
– Конечно, – серьезно подтвердил Чесноков. – Наглая попытка спровоцировать вооруженный конфликт между двумя районами столицы.
– Олег Иванович! Шутки такого рода неуместны! – оборвала третий секретарь тоном, каким объявляют выговор с занесением в карточку персонального учета.
– Провокация? Не думаю. Но этой версией тоже занимаются, – веско сказал инспектор.
– Вот так, да? Значит, вы считаете, это подростки? – снова уточнил Шумилин.
– Считаю. И не только я, – усмехнулся капитан. – Но если у вас есть сомнения, можете позвонить старшему следователю майору Ботвичу. Вот телефон. Если же вас просто интересуют подробности, товарищ первый секретарь, то объясняю: вчера по вызову здесь была оперативная группа с Петровки, работали следователь, эксперт, кинолог с собакой, а теперь этим делом занимаемся мы. После осмотра места происшествия многое уже ясно: судя по следам, к вам забрались двое. Один, высокий, был одет в темно-синий свитер (нитка зацепилась за трещину в стеллаже). Преступники проникли через незакрытое окно между девятью и десятью часами вечера, распили две бутылки вина и в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, пытались совершить кражу, хотя, правда, при осмотре места происшествия намерение проникнуть в другие помещения, скажем в бухгалтерию, не подтвердилось.
– Я же говорю: нечего красть! – встрял Чесноков.
– Погоди, – поморщился Шумилин.
– Объясняю, – продолжил капитан. – Возможно, преступников кто-то спугнул. Собака взяла след и довела до трамвайной остановки «Новые дома». Остановка видна из вашего окна. Свидетелей пока нет. Вот все, что мы имеем на сегодня. Если без профессиональных подробностей. К нам подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Следователем возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения кражи.
– Ясно, – начал Шумилин, которого задела снисходительная манера инспектора. – Все это неожиданно…
– Преступление – всегда неожиданность, – отозвался Мансуров. – На первый взгляд…
– Вот так, да? – в тон ему переспросил первый секретарь. – Но для нас, товарищ капитан, это еще, если хотите, вопрос чести…
– … Это надругательство над героической историей комсомола, – вдохновенно подхватила Комиссарова, – вызов каждому, кто носит комсомольский значок, это тень на всю районную организацию – одну из лучших в городе. А для работников аппарата это еще и нравственная травма. Представьте, что к вам в РУВД забрались…
– Извините, не могу. От нас обычно хотят выбраться.
– Эмоциональность Надежды Григорьевны понять можно, – раздраженно взглянув на третьего секретаря, снова заговорил Шумилин, – это действительно вызов, поэтому очень важно привлечь к поискам наш районный оперативный отряд.
– Один из лучших в городе! – гордо добавила Комиссарова.
– Краснопролетарское – значит, лучшее, – пробормотал в сторону заворг.
– Ну, об этом мы сами догадались, – улыбнулся капитан. – С вашим оборонно-спортивным отделом все обговорено, дружинники уже опрашивают подростков в микрорайоне, кое-где дежурят.
– Хорошо. А что еще можно сделать?
– Можно мусор убрать – специально до вашего приезда держали. Что еще? Окно не забывайте на ночь закрывать. Если б заперли – может, они бы и не залезли. А я пока с вашего разрешения побеседую с работниками райкома…
Инспектор попрощался и по осколкам захрустел к двери.
– Кто открыл окно? – грозно спросил Шумилин, когда он вышел.
– Я! – скромно признался Чесноков.
– Ты?! Когда?
– Еще в мае, во время аппарата. Помнишь, ты сказал: «Олег Иванович, солнышко-то совсем летнее, вскрой, пожалуйста, окошечко!»
– Что ты мелешь?
– А ты спрашиваешь, как будто не знаешь, что окно у нас все лето настежь.
– Но на ночь-то закрывать нужно!
– А ты сам сколько раз последним уходил – всегда закрывал?
– Н-нет… Ну ладно. Теперь другое: вы бы хоть при инспекторе постеснялись! Ты, Олег, соображай, когда острить.
– Виноват, командир.
– Дальше: кто первый увидел все это?
– Я, – выступила из-за спины заворга Комиссарова. – Я субботу рабочим днем из-за слета объявила, прихожу в девять часов, открываю дверь – со мной плохо. Кононенко уже не работает. Ты – в отпуске. А я ни разу в жизни милицию не вызывала. Позвонила по ноль-два, а потом тебе телеграмму дала.
– Так. В райком партии сами сообщили?
– Сами.
– Молодцы. Как первый отреагировал?
– Ему на дачу дежурный позвонил, Ковалевский сказал, что с комсомолом не соскучишься.
– Он знает, что меня из отпуска вызвали?
– Наверное, знает.
– Хорошо. Что с горкомом?
– Я сама в приемную звонила.
– Ладно. Все нормально пока. Дальше жить будем так: Надя…
– У меня совещание по пионерскому приветствию.
– Совещайся. Олег, через двадцать минут ты мне доложишь о подготовке слета, в половине первого соберем аппарат. Пока пусть все обзванивают членов бюро, кого найдут, – до двенадцати люди еще дома, если с пятницы из города не уехали. В два часа экстренное заседание бюро. А до этого проведите маленький субботник – пусть ребята быстренько зал заседаний уберут. Все понятно?
– Что говорить членам бюро? – спросил Чесноков.
– Ничего. Говорите: я прошу их срочно приехать.
…Из-за неплотно прикрытой двери было слышно, как сметают в совок осколки и скрипят влажной тряпкой по полировке, двигают стулья – уничтожают следы позавчерашнего происшествия.
– Мети лучше! – командует Чесноков. – Видишь, стекло остается!
– За один раз все равно не выметешь, – оправдывается Аллочка. – Осколки в паркет забились, нужно уборщицу предупредить, а то все руки порежет…
«Об эти осколки не только руки порежешь!» – зло подумал Шумилин и набрал номер дежурного по райкому партии, сообщил, что прилетел, разбирается на месте, и узнал: завтра утром его хочет видеть первый секретарь Краснопролетарского РК КПСС Владимир Сергеевич Ковалевский.
Через полчаса краснопролетарский руководитель выяснил, что по вверенному ему райкому имеют место быть два ЧП: налет, совершенный неизвестными хулиганами (этим занимается милиция), и срыв традиционного слета, осуществленный известными работниками аппарата (чем предстоит заняться самому Шумилину). Причина, как всегда, крылась в кадрах. Четыре года его правой рукой был Виктор Кононенко, умный, опытный парень и, что совсем редко для заместителя, верный товарищ. Кононенко прошел путь от инструктора до второго секретаря, аппаратное дело знал до тонкостей. Уходя в отпуск или отбывая по линии «Спутника» за границу во главе туристской группы, первый за райком был спокоен – Витя не подведет. И вот теперь, в такую трудную минуту, нельзя ему даже позвонить: бывший второй теперь ворочает комсомолом на одном из участков БАМа. Впрочем, в комсомоле внезапных переходов не бывает – все заранее обговаривалось, да и сам Кононенко, инженер-строитель по образованию, давно рвался на оперативный простор.
А Шумилин, которого настораживала все возраставшая любовь Ковалевского ко второму секретарю райкома комсомола, немало поспособствовал, чтобы это назначение состоялось. Если бы он только знал, что Кононенко заберут так рано! Во время отпуска! Да, это – прокол: первый обязан предвидеть все!
Дальнейшие печальные события восстановить было несложно.
Оставшись в райкоме за старшего, третий секретарь Комиссарова потеряла голову из-за пионерского приветствия участникам слета и пустила все на самотек. Сложилось обманчивое впечатление, будто что-то делается, кипит работа, берутся намеченные и определяются новые рубежи, а по сути, слет, мероприятие общегородского масштаба, оказался на грани срыва. И если хоть что-нибудь сделано, то благодарить нужно вышедшего из отпуска несколько дней назад заворга Чеснокова. В распахнутом кожаном пиджаке, со свистом рассекая воздух тугим животом, он носится по райкому, звонит одновременно по двум телефонам, озадачивает сразу двух инспекторов, диктует машинистке свой кусок доклада… А может, его – на место Кононенко? В горкоме советовали.
В настоящий момент кудрявый Чесноков стоял перед первым секретарем, смотрел преданными черными глазами и, сверяясь с «ежедневником», докладывал о подготовке к слету.
– Первая позиция. Президиум. Точно будут: Ковалевский, секретарь горкома комсомола Околотков, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Панков, Герой Социалистического Труда ткачиха Саблина, делегат съезда – она же член нашего бюро – Гуркина, ректор педагогического института Шорохов… Пока все. Нужно пригласить, только уж сам звони: космонавта, узнаваемого актера из драматического театра и обязательно ветерана, но такого, чтобы выступить не захотел, а то, помнишь, на прошлогоднем слете дед из Третьей Конной час рассказывал, как ногу в стремя ставил…
– Олег Иванович! – Шумилин невольно улыбнулся и нахмурил брови.
– Понял. Не повторится. Вторая позиция. Твой доклад. Все отделы, кроме Мухина, свои куски сдали, я их свел, Аллочка допечатывает, можешь пройтись рукой метра.
– Фактуру по работе с подростками не забыли?
– Обижаешь, командир! Локтюков и Комиссарова расстарались. Особенно о подростках и нашем детдоме получилось здорово!
– Вот так, да? Дальше.
– Плохо с выступающими. Пропаганда пока никого не подготовила – с Мухиным разговаривай сам. Мои ребята ведут печатника, строителя и двадцатичетырехлетнего кандидата наук, представляешь? По другим отделам будут: студент из педагогического (первокурсник – ты его не знаешь), спортсмен, солдатик, от творческой молодежи, как всегда, выступит Полубояринов. Да-а, совсем забыли: от майонезного завода будет этот… как его?..
– Кобанков?
– Точно. Он к своему отчетному собранию хороший текст подготовил. Со слезой! Самородок!
– А когда у них собрание?
– Завтра. Первыми проводят.
– Вот так, да? Надо к ним съездить. – Шумилин сделал пометку на перекидном календаре.
– И последнее: школьный отдел пишет выступление на тему «За партой, как в бою!».
Краснопролетарский руководитель снова улыбнулся и спросил:
– Сколько всего выступлений?
– Девять. Из них два резервные.
– Сколько подготовлено?
– Два: Кобанков и Полубояринов…
– А слет в среду! С этого и начинал бы. Дальше.
– Третья позиция. Пригласительные билеты. НИИ ТД отпечатал еще в начале недели, уже разослали. Вот образец.
И Чесноков положил на стол красные глянцевые корочки с золотым тиснением.
– Красиво, – покачал головой первый секретарь. – Райком, выходит, не готов, зато билеты готовы. Дальше.
– Четвертая позиция. Скандирующая группа. Взяли молодых ребят из драматического театра; когда их слышишь, хочется встать и запеть…
– В день слета в спектакле они не заняты?
– Кто?.. Нет, наверное…
– Проверь.
– Понял. Пятая позиция. Плакаты пропаганда еще не сделала, с Мухиным разговаривай сам, у него на все один ответ: решим в рабочем порядке. Кстати, кино – в рабочем порядке – он тоже до сих пор не заказал. В последний момент, боюсь, привезет какой-нибудь «Центрнаучфильм». Ты бы позвонил, может, недублированный дадут? Актив побалуем.
– Не дадут.
– Почему?
– Вредно это!
– Понял, командир. Но тогда тех, которые для нас фильмы покупают, надо отстранять!
– Зачем?
– Потому как отравлены буржуазной идеологией: они ведь все фильмы – и недублированные! – смотрят. Жуть! Шестая позиция. Транспортом для пионеров занимается Шестопалов. Я ему сказал, если не решит вопроса с автобусами, повезет на себе…
– Письмо в автохозяйство отправили?
– Нет еще.
– Из скольких школ пионеры?
– Из пяти.
– Где собирать будете? Где репетировать?
– Во Дворце.
– С директором договорились?
– Кажется, да…
– Кажется… За три дня до слета знать нужно! Кажется… Дальше.
– Седьмая позиция. Сцена, президиум, контакт с ДК автохозяйства, звукорежиссура – всем занимается Мухин, обещал решить в рабочем порядке, разговаривай с ним сам.
– Значит, тоже не сделано, – еще больше помрачнел Шумилин.
– Восьмая позиция. Рассадка в зале. Этим занимаются мои ребята, студенческий и школьный. Заяшников приведет первые курсы педагогического, мои обеспечат делегации предприятий и организаций, подстрахуемся школьниками. Если в зале останется хоть одно свободное место, можешь расстрелять меня при попытке к бегству. Девятая позиция. Дружинники. Локтюков все сделал. Тридцать районных каратистов придут на дежурство в поясах всех цветов радуги. Шучу. Десятая позиция. Буфет. Я договорился: трест столовых организует два лотка. Будут киоски с книгами и пластинками, посмотри список – там интересное есть… Одиннадцатая позиция. Корреспондента из «Комсомольца» я пригласил, звонил от твоего имени, с радио тоже будут. Телевизионщики ответили, что снимали нас в прошлый раз – сколько можно? Кстати, сделать это должен был Мухин, но средства массовой информации я никому не доверяю. Ты, например, давно себя в газете на фотографии видел?
– А что?
– Ничего. Двенадцатая позиция. Приветствие пионеров. Разбирайся сам: Комиссарова, как всегда, сварганила целую мистерию. Барабаны, фанфары, дети трудного возраста читают стихи, под конец весь президиум с красными галстуками на шеях.
– У тебя все? – снова нехотя улыбнулся Шумилин.
– По слету – все.
– Ладно. Узкие места сейчас на аппарате обговорим. Ты с Комиссаровой к завтрашнему дню подготовь подробный сценарий. Еще что?
– Подлещиков опять письмо прислал.
– Про выставку?
– Нет, про выставку ему давно ответ отправили – успокоился.
– А теперь что?
– Народный театр пантомиму по «Алым парусам» поставил.
– Интересно!
– Так вот, Подлещиков возмущается, что по сцене «Ассоль в одной комбинации бегает», а капитан Грэй «до пояса голый».
– А почему этим твой отдел занимается?
– Поручи Мухину, если неприятностей хочешь.
Шумилин задумался: Подлещиков имел воинское звание старшего прапорщика и, выйдя в отставку, весь свой не растраченный на строевых занятиях потенциал обрушил на эпистолярный жанр. В основном его интересовали литература и искусство, но при случае он мог высказаться также по вопросам экономики, морали, права… Райком вел с ним давнюю, изнурительную переписку.
– Ладно, – согласился краснопролетарский руководитель после размышлений. – Ответь, как обычно: письмо обсудили в райкоме, с художественным руководителем проведена беседа. Напиши, что режиссер, мол, ничего плохого не думал, а просто хотел передать обнаженность чувств и романтичность гриновских героев. Ну и поблагодари его за внимание к молодежи.
– Понял, командир.
– Еще что?
– В НИИ ТД есть ставка младшего инженера – сто тридцать рублей. Я от твоего имени разговаривал со Смирновым, он согласен, можно брать «подснежника»…
– Вот так, да? И в чей же отдел?
– Ну не в мухинский же! Ты же знаешь, у меня каждый инструктор ведет столько организаций, что…
– Хорошо, я подумаю. Но от моего имени на будущее позволь разговаривать мне самому.
– Понял, Николай Петрович.
– Больше ты ни с кем от моего имени не разговаривал?
– Н-нет.
– Слава богу. Скажи мне, ты знаешь, что горком тебя на место Кононенко рекомендует?
– Меня?
– Тебя.
– Знаю, конечно.
– Ну и что ты по этому поводу думаешь?
– Всегда готов!
– А по-моему, Олег Иванович, ты еще не готов, по крайней мере не всегда… Ладно, продолжим после. А теперь скажи мне: по-твоему, хулиганы случайно к нам забрались или тут что-то другое?
– Уверен, случайно, но как раз это – самое противное!
– Вот так, да? Ну зови аппарат.
Пока собирались сотрудники, Шумилин раздумывал о том, что Чесноков совсем не похож на ушедшего Кононенко, представлял, как, став вторым, заворг начнет рваться в первые, и, хотя к тому времени, скорее всего, сам Шумилин перейдет на другую работу, мысль об этом была неприятна. Еще он думал о предстоящем разговоре с Ковалевским. Даже делая разнос, Владимир Сергеевич никогда не кричал, а словно бы вышучивал провинившегося, но, раз и навсегда разочаровавшись в сотруднике, решал его судьбу быстро и жестко. Такую особенность замечаешь у многих фронтовиков.
Завтрашняя встреча с Ковалевским не радовала: что бы ни случилось в районе, первый виноват всегда, это закон. Кроме того, Шумилин не один год горел на комсомольской работе, привык считать себя неплохим функционером, и нелепая выходка напившихся малолеток била по его самолюбию. Почему именно в моем районе? Что, мало в городе райкомов, почти не занимающихся молодежью?! И еще одно: поселившееся в душе после спасения на водах чувство тревожного ожидания смешивалось теперь со смутным ощущением собственной вины, ощущением беспричинным и потому неодолимым.
Шумилин вышел в зал заседаний: чистота и порядок, будто ничего не произошло, только непривычно выглядели опустевшие стеллажи для сувениров.
Работники райкома расселись вокруг длинного полированного стола по однажды заведенной системе: инструкторы группировались вокруг своих заведующих, причем у каждого отдела было установленное место. Занимать чужие стулья считалось дурным тоном.
По правую руку от возглавлявшего стол первого секретаря, на место Кононенко, поколебавшись, сел Чесноков, по левую руку, как обычно, расположилась прибежавшая с совещания Комиссарова. Далее, в окружении инструкторов, как штатных, так и нештатных, сидели заведующие отделами: студенческим – Надя Быковская, оборонно-спортивным – Иван Локтюков, заведующая сектором учета Оля Ляшко, с другого конца стола на первого секретаря беспокойно смотрела заведующая финансово-хозяйственным сектором Нина Волковчук. Многочисленный организационный отдел неуютно сбился вокруг незанятого стула своего руководителя Чеснокова.
– А где Мухин? – спросил Шумилин, заметив пустое место заведующего отделом пропаганды и агитации.
– В организацию уехал, – неумело стал выгораживать своего шефа инструктор Хомич.
– В какую организацию? Сегодня воскресенье!
– Значит, заболел…
Краснопролетарский руководитель решил обратиться к аппарату с серьезной мобилизующей речью, но не смог вначале удержаться от язвительного укора, что, мол, в его присутствии никто ночью в райком не лазит, а стоило уехать в отпуск, начались ЧП. Справившись с раздражением, он охарактеризовал происшествие как досадную случайность, требующую от сотрудников умения держать себя в руках, а язык за зубами. Кроме того, случай с хулиганами невольно бросает тень на славные дела райкома – и поэтому так важно на высочайшем уровне провести традиционный слет!
Затем Шумилин рационально перераспределил некоторые задания по принципу: сложнейшее – опытнейшим, и под сдержанный ропот большинство позиций пропаганды передал другим отделам.
Потом по сложившейся традиции первый секретарь поздравил очередного новорожденного – инструктора Тамару Рахматуллину, вручив своевременно подсунутые ему цветы и подарок – керамическую вазу, из тех, которые годами стоят на полках магазинов, пока их не купят отчаявшиеся профкомовцы. Наконец он распустил аппарат, а сам вернулся к себе в кабинет и на всякий случай набрал номер жены: в информационно-бытовых целях они все-таки общались. Но телефон молчал.
Чтобы не терять времени, пока соберутся члены бюро, Шумилин разложил перед собой машинописные странички и принялся просматривать текст доклада на слете.
Умение хорошо говорить с трибуны, даже по написанному, дано не каждому. Во-первых, сам текст должен быть ясным, но не упрощенным; серьезным, но не сухим; аргументированным, но не перегруженным цитатами; критическим, но не мрачным. Во-вторых, читая доклад (наизусть свои выступления учили только древние ораторы, которым рабовладельческий строй оставлял много свободного времени), нужно регулярно отрывать глаза от страничек и посматривать в зал, хорошо несколько раз как бы отвлечься и сказать нечто будто бы от себя, вызвать улыбку у слушателей. Наконец, говорить нужно внятно, не глотать окончаний, делать логические паузы, не путать слова, правильно ставить ударения: «средства́» и «ква́рталы» недостойны современного руководителя!
Ораторскому искусству Шумилина нигде не учили, оно пришло вместе с холодным потом и дрожанием в ногах после первых выступлений. Страницу за страницей он просматривал доклад, исправлял опечатки, ставил на полях вопросы и злился. Лентяи! Даже не потрудились отредактировать или пересказать другими словами. Вот кусок из выступления на совещании молодых специалистов, а вот абзацы из доклада на пленуме. И еще недоработка: не предусмотрены «забойные» места, вызывающие аплодисменты. Придется брать домой – дорабатывать. Остальное вроде нормально. И все же чего-то не хватает.
Первый секретарь хорошо понимал: участники слета обязательно узнают про случай в райкоме и, уверенные заранее, что ни слова о происшествии в докладе не будет, все равно станут ждать – а вдруг?
Никаких «вдруг».
Из тринадцати членов бюро дозвониться удалось только до троих. Секретарь комитета комсомола автохозяйства Алексей Бутенин, резкий парень со старомодной стрижкой полубокс, сидел дома со своими двумя детьми. Комсомольская богиня хлопчатобумажного комбината Светлана Гуркина готовилась к завтрашнему занятию в системе политической учебы. Это была серьезная, приятная и хорошо одевающаяся девушка, в последнее время любой разговор начинавшая со слов: «Вот когда мы на съезде…» Секретарь комитета драматического театра Максим Полубояринов отсыпался после вечернего спектакля. Зритель знает его по роли Дантеса в семисерийном телефильме «Черная речка».
Все они по-военному ответили «есть» и к четырнадцати ноль-ноль приехали в райком.
Кворума не было, но в сложившейся ситуации об уставе думать не приходилось. Усадив членов бюро, Шумилин сразу же рассказал о причине экстренного заседания и передал разговор с инспектором.
– То-то я смотрю: все стеллажи пустые! – догадался Полубояринов. – А какой хрусталь был!
– При чем тут хрусталь?! – возмутилась Гуркина. – По всему городу разговоры теперь пойдут, а если на бюро горкома вопрос поставят – минимум два года никаких мест занимать не будем. А почему? Мы-то в чем виноваты? Мне на съезде один делегат из Сибири рассказывал: к ним в райком медведь залез – и ничего!
– Неприятно, конечно, но это как несчастный случай – никто не застрахован. С таким же успехом они могли и к нам в театр залезть, – поддержал Максим.
– Товарищ Бутенин, не вижу активности! – оживился Шумилин.
– Активность раньше была нужна. Я, Коля, понимаю: в ситуацию ты попал паршивую, одним словом, на разных коврах объясняться придется. На нас можешь положиться – бюро всегда поддержит, но сейчас я тебя успокаивать не стану. Не может человек просто так в райком полезть. Когда говорят: «Спьяну взбрело!» – это неправильно: пьяный делает то, что у трезвого в голове уже было.
– Алексей Иванович! Вернемся к нашим хулиганам, а то я на спектакль опоздаю, сегодня как раз «Преступление и наказание», – сработал на публику Полубояринов.
– Я ж об этом и говорю! В комсомол мы принимаем, будто главное – билет выдать и взносы собрать вовремя. А кто, что – дело десятое.
– А тебя никто не заставляет неподготовленную молодежь принимать! – привычно возразил Шумилин.
– Это ты сейчас так говоришь! – усмехнулся Бутенин. – А когда тебя в горкоме за пушистый хвост возьмут, мы другое слышим: «Давай! Давай! Давай!»
– Ты, Леша, ревизионист! – мечтательно произнес Полубояринов.
– Да! И в ревизионной комиссии горкома, в отличие от тебя, не только числюсь. Недавно по письму ездил: сообщили, что в комитете комсомола рафинадного завода активисты вечерами пьют, а потом на столе заседаний трахаются. Подтвердилось!
– А хулиган-то здесь при чем? – покраснела Гуркина.
– А при том, что такого еще никогда не было – райком громить! Одним словом, если б они комсомол уважали, в райком не полезли бы.
– Разговор на уровне «ты меня уважаешь», – поддел Полубояринов.
Члены бюро замолчали. Было слышно, как за окном по переулку проезжают редкие воскресные автомобили. Шумилин понимал, что от него ждут решения.
– Мне бы хотелось, – начал он, еще не зная до конца, что скажет, и чувствуя какую-то трибунность взятого тона, – чтобы произошедшее оказалось случайностью, хотя и за случайность отвечать придется. И мнение мое такое: в связи со слетом очередное бюро у нас будет не в среду, а во вторник. К этому времени, надеюсь, прояснится что-то и у милиции. Давайте отложим все другие вопросы – они терпят – и вернемся уже в полном составе к этому разговору, разберемся, что тут закономерность, а что случайность, что произошло из-за незакрытого окна, а что по другим причинам. Договорились!
Члены бюро с шумом отодвинули стулья и начали собираться.
– На вот тебе для коллекции, – вернувшись от двери, протянул Бутенин тоненький сборничек. – В командировке купил.
Оставшись один, Шумилин закурил и поймал себя на том, что за годы общественной работы приобрел навыки эдакого миротворца, укротителя страстей. А может, именно Бутенина нужно брать на место второго? Правда, у него ни образования, ни опыта аппаратной работы, но зато комсомол для него – комсомол, а не ступеньки в жизни, этим он и похож на Кононенко. И парень Леша хороший, только резковатый… А почему, собственно, мы стали любить разных молчаливых насмешников, смотрящих на наши недостатки и несуразицы, словно воспитанные иностранцы, с ироническим удивлением: почему, мол, аборигены порядок у себя навести не могут? А ведь они никакие не интуристы, а соотечественники, граждане, не в обиходно-транспортном – в главном смысле этого слова, они люди, от которых все и зависит! Почему человека, с болью и виной называющего вещи своими именами, мы, внутренне соглашаясь, все-таки воспринимаем как возмутителя спокойствия? Слава богу, что он покой возмущает! С покоя, вернее, с успокоенности, вся безалаберность и начинается. Тут Бутенин абсолютно прав! Тогда получается: ощущение вины есть не у одного краснопролетарского руководителя, а то он уже решил, что это последствия его последней подводной охоты. Шумилин невольно прислушался к себе и сразу уловил знакомое тревожное ожидание – казалось, даже сердце бьется с какими-то перебоями, словно спотыкается. Ерунда! Он взял в руки книжицу, подаренную Бутениным. Почти всем в районе было известно, что Шумилин собирает первые сборники поэтов – и в его коллекции есть почти все классики, не говоря уже о нынешних стихотворцах. Но мало кто знал о том, что начало коллекции положила книжечка шумилинского однокурсника, ко всеобщему изумлению вышедшего в поэты.
Итак, Верхне-Камское книжное издательство. Иван Осотин. «Просинь». Название настораживало. На фотографии – здоровяк с мужественным прищуром. Аннотация сообщает: молодой поэт (тридцать семь лет) «пристально вглядывается в лица современников и вслушивается в беспокойный пульс эпохи…». В предисловии уважаемый лауреат, представляя автора, вяло уверяет, будто «за стихами Осетина чувствуется судьба, а в стихах чистое лирическое дыхание… Особенно близка ему комсомольская тема…». Это интересно. Открываем.
Надо сказать, Шумилин особенно внимательно и ревниво следил за тем, что пишет отечественная литература о комсомоле. И это понятно: врачи с желчным любопытством читают романы про медиков, работники правоохранительных органов недоумевают над книгами о сыщиках, деятели торговли смущаются сцен из жизни рядовых продавцов… Краснопролетарский руководитель не был исключением, и нередко, отложив недочитанную повесть о своих коллегах, он изумлялся: «Если то, что изобразил писатель, – комсомол, где тогда, простите, состою я сам?!»
Разумеется, сборник Ивана Осотина Шумилин раскрыл на комсомольском стихотворении:
Когда
мой день
особенно тяжел,
Когда
пути не видно
в стуже лютой,
Я говорю:
– Товарищ Комсомол,
Ты
помоги мне в трудную
минуту!
И
чувствую
надежное плечо,
И
вижу в тучах
яростное солнце,
И
слышу,
сердце бьется
горячо,
И
знаю:
это
верностью
зовется!
«Лихо», – подумал Шумилин. И главное: ни к чему не придерешься, все правильно, но вот интересно – почему чем меньше в стихах искренности, тем больше в «лесенке» ступенек?
– Папа-а-а-а! – бросилась навстречу отцу Лизка, ребенок с плаката «Спасибо Родине за счастливое детство!» – Ты в море купался и не утонул?
– Купался и не утонул, – удивленно ответил Шумилин и, посадив дочь на плечи, совершил круг почета, потом достал из дорожной сумки здоровенные, красивые яблоки – есть жалко! Лизка как-то сразу поняла, что теперь она продавщица фруктовой палатки, и стала зазывать покупателей.
– Лиза, дай нам поужинать, – строго сказала бабушка Людмила Константиновна.
Она два года назад ушла на отдых с умеренно руководящей работы и никак не могла отвыкнуть от побуждающе-наставительных интонаций.
Лизка начала торговать сама с собой, а Шумилин сел за стол.
– Почему ты раньше вернулся? – спросила мать, когда сын стал расчленять ножом обескровленные сосиски – основное блюдо в доме Людмилы Константиновны, отдававшей ныне все силы ЖЭКу, так по привычке она называла ДЭЗ. А странно: как ни сокращай, все равно получается нечто, похожее на имена гриновских героев, которых абсолютно не волновали жилищно-бытовые проблемы.
– Отозвали, как всегда, – объяснил Шумилин.
– Что-нибудь случилось в райкоме? Сначала прожуй…
– ЧП. Хулиганы залезли в зал заседаний, побили сувениры…
– Нашли?
– Нет еще, но милиция говорит: какие-то подростки.
– Вот именно – подростки. Ты знаешь, мне кажется, если бы у нас свободно продавали огнестрельное оружие, мальчишки друг друга перестреляли бы. Детская преступность – самое страшное!
Обиженная общим невниманием, Лизка умчалась в другую комнату и принесла, как иллюстрацию к бабушкиным словам, пластмассовый пистолет.
– Что же ты думаешь делать? – укоряюще спросила Людмила Константиновна. Как многие из отошедших от дел ответработников, она не верила в безвыходные ситуации.
– Заявление на стол класть не собираюсь! – обиделся он.
– Я не об этом… А впрочем, если б такое случилось в мое время, я бы ушла… Разобралась бы с ЧП и ушла!
– Ты и так ушла.
В пятидесятые годы она была третьим секретарем Краснопролетарского райкома комсомола и по призыву ушла на производство на небольшой завод, где и проработала до пенсии. Возможно, переходу способствовал и ультиматум мужа, Петра Филипповича Шумилина, догадывавшегося о существовании супруги лишь по некоторым предметам женского туалета в квартире. О косметике и парфюмерии речь не идет: в те времена комсомольские богини были убеждены, что «Шанель» № 5 – это улица и дом в Париже, где живал Владимир Ильич Ленин. И в один прекрасный день Колин отец поставил вопрос ребром: или я, или райком! Тогда брак обладал еще таинственной крепостью и долговечностью средневекового цемента, секрет которого ныне утрачен. И Людмила Константиновна подчинилась.
– А почему ты ушла бы? – после молчания недовольно переспросил сын.
– Потому, что, если такое может произойти в райкоме, грош цена тебе как первому секретарю.
– Вот так, да? Это максимализм, мама!
– Это единственно возможное отношение к делу, – отрубила Людмила Константиновна, восемь лет избиравшаяся секретарем парткома, правда, неосвобожденным. – Сначала мы не обращаем внимания на мелочи, а потом удивляемся, что начальством становятся люди, которым руководить противопоказано.
– Это ты в масштабах своего завода? – поинтересовался Шумилин, знавший о сложных отношениях матери с нынешним директором ее родного предприятия.
– Не паясничай!
– Значит, ты считаешь, мне нужно уходить?
– Во всяком случае, задуматься, как вы работаете.
– А вы работали лучше?
– Мы работали, может быть, и хуже – не так сноровисто, но зато бескорыстнее и честнее!
– И молодежь за вами шла?
– Шла!
– И на собраниях спорила?
– Спорила!
– И на субботниках горела?
– Горела!
– И колбаса в ваше время из мяса была?
– Была… Не паясничай!
Лизка, изнемогавшая от равнодушия засерьезничавших взрослых, полезла в холодильник и достала кусок высохшей докторской колбасы.
– Умница. Положи на место, – сурово похвалила бабушка. – Помощница растет. И вот что еще, Коля, ты должен окончательно решить с Галей. Так, как вы, нельзя! Я никогда не вмешивалась, но если вы боитесь за ребенка, она, пока вы разберетесь, побудет у меня.
– А что это ты вдруг?
– Вдруг? Полгода врозь – это, по-вашему, вдруг?!
– Ты с ней разговаривала?
– Разговаривала. Галина привезла Лизу и закатила истерику, сказала, что разводится с тобой. По-моему, она хочет помириться. Подумай, Коля, хорошенько! Жену ты себе найдешь, если уже не нашел, но не только в этом дело…
– Я понял. Галя Лизку надолго привезла?
– Завтра заберет. Ей куда-то нужно съездить, а теща твоя, как всегда, на юг укатила!
– Ну и правильно: на море сейчас хорошо. Ты не хочешь съездить?
– Мне некогда…
Потом Людмила Константиновна с грохотом мыла на кухне посуду. Шумилин, сидя в кресле, смотрел по телевизору передачу о новом способе термообработки металлических труб широкого диаметра, а Лизка, опутавшись прыгалками, словно проводом, и приставив к губам в качестве микрофона кулачок, томно раскачивалась, подражая эстрадным дивам, и пела: «Все-о пройдет, все-о-о-о пройдет…»
Шумилину приснился детективный сон, будто бы он, предупрежденный о готовящемся налете хулиганов, прихватил с собой подводное ружье и устроил ночью в зале заседаний засаду, но именно в тот момент, когда первая тень появилась в оконном проеме, а он тихонько сдвинул предохранитель, раздался оглушительный телефонный звонок. «Идиоты», – заскрипел зубами Шумилин, стал нащупывать в темноте трубку и нажал кнопку будильника.
Было утро. В солнечной полосе, пробившейся между занавесками, клубилась пыль. Испуганное звонком сердце колотилось очень быстро и громко. «Надо сходить в поликлинику, – подумал первый секретарь. – А Таня, наверное, меня уже забыла».
До начала рабочего дня оставалось полтора часа – как раз чтобы потрудиться над захваченным домой докладом. В восемь сорок пять он вышел из дому. На дворе стоял ясный, совершенно не осенний день, только листва на деревьях была уже по-сентябрьскому усталая. Краснопролетарский руководитель сел в поджидавшую его пожарного цвета «Волгу», закрепленную за райкомом, и распорядился: в Новый дом.
Райкомовский водитель Ашот, молодой модный армянин, плавно тронулся, всем видом давая понять, что только злая судьба заставляет его ездить на казенном автомобиле вместо собственного. Шофер больше всего не любил лихих мальчиков, красиво рассевшихся за баранками папиных лимузинов; сын честных и небогатых родителей, Ашот каждую свободную минуту тратил на использование служебной «Волги» в корыстных целях, и, если бы не женщины – четвертый свет его светофоров, – а также отсутствие запчастей на автобазе, машину он давно бы купил. Обычно день начинался с рассказа про то, сколько личных средств пришлось израсходовать, чтобы машина вышла на линию. «Волга» была старенькая – и Ашот действительно крутился, как мог, но сегодня его интересовало другое.
– Поймали этих козлов? – первым делом спросил он.
– Пока нет, но поймают.
– А что тебе будет? – На «вы» Ашот обращался только к незнакомым красивым женщинам средних лет.
– Не знаю. Может, последние дни ездим, – усмехнулся Шумилин.
– Э-э, тебя не снимут: ты с райкома имеешь меньше, чем я с этого тигра! – И он хлопнул ладонью по баранке. – Слушай, если можешь, дай сегодня на обед часа два. Дома кушать нечего!
– Интересно, у тебя же зарплата, как у меня, – двести двадцать.
– Двести десять.
– Еще ты халтуришь!
– Халтурят музыканты. Строители калымят. Продавцы наваривают. Мы, шофера, крадем – чтобы ты знал.
– Вот так, да? Буду знать. Но мне моей зарплаты хватает.
– Поэтому тебя так жена и любит.
– А это с чего ты взял?
– Умный человек, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего обзора имеет.
– Мне стыдно, что ты меня возишь, а не я тебя…
– Никто бы не одолел героя, не будь вина и женщин! – вздохнул Ашот, тормозя на красный свет.
– Кто же так сказал?
– Я и мудрость народа. А ты, Николай Петрович, не герой – с тебя одной женщины хватит и этих твоих подростков.
– Это ты тоже через заднее зеркало увидел?
– Райком – та же деревня, – пояснил водитель, трогаясь на зеленый. – Знаешь, как тебя девочки из сектора учета зовут?
– Как?
– Никола-угодник.
– Не смешно.
– Тебе не смешно, а им смешно. По сравнению с картотекой все смешно… Приехали, товарищ секретарь…
Райком партии, недавно построенный красивый белый дом, стоял на площади в окружении голубых елей. В отличие от старого здания, где теперь помещались роно и другие учреждения, в аппаратных кругах его называли Новым домом.
Здороваясь, как заведенный, Шумилин поднялся на третий этаж, кивнул знакомому постовому милиционеру и около приемной первого секретаря столкнулся с инструктором отдела пропаганды и агитации Шнурковой.
Три года назад она перешла на партийную работу из Зеленого дома и была твердо уверена, что с ее уходом райком комсомола покатился по наклонной плоскости, чему немало способствовал лично товарищ Шумилин. Эту мысль она настойчиво и с выдумкой внедряла в сознание работников Нового дома.
– Здравствуйте, Николай Петрович, – поприветствовала она, глянув из-под тяжелых век. – Наслышаны, с чем районный комсомол к слету пришел! Мы в свое время другим встречали.
– Мы тоже, Зинаида Витальевна, к слету неплохо подготовились, а тем досадным происшествием занимается милиция.
– Ну что ж, может быть, и милиции пора комсомольскими делами заняться.
– Что вы имеете в виду?
– Полагаю, в скором времени мне предоставится возможность пояснить свою мысль.
– Как угодно, – пожал плечами Шумилин и, обойдя Шнуркову, зашел в приемную, справился у технического секретаря и стал ждать.
Наконец из кабинета выскочил энергичный, румяный зампредисполкома Компанеец и, увидев комсомол, покачал головой со смешанным чувством осуждения и сочувствия.
– Как первый? – спросил, пожимая протянутую руку, краснопролетарский руководитель.
– Философски настроен, но, кажется, неважно себя чувствует.
Шумилин вошел в большой, обшитый полированным деревом кабинет. Первый секретарь райкома партии Владимир Сергеевич Ковалевский, подвижный шестидесятилетний человек с усталым лицом и синеватыми губами сердечника, стоял у окна и держал в руке трубочку валидола.
– Садись, – сказал он, оборачиваясь. – Может, и правда лучше вместо сердца пламенный мотор иметь, а? Впрочем, ты еще молодой – не понимаешь, я тоже на фронте в себя больше, чем в двигатель своего танка, верил, ну да ладно… Как же вы это, братцы мои, дошли до того, что у вас райком грабят? Скоро секретарей начнут похищать, как Альдо Моро. Нехорошо! Милиция говорит: пацаны – значит, твоя недоработка. Что молчишь?
– Да вы и так, Владимир Сергеевич, все знаете.
– Все даже Маркс не знал. Что вы за поколение, братцы мои, со всем готовы соглашаться, лишь бы чего не вышло, только бы лишнего не сказать!
– Владимир Сергеевич, этим вопросом занимается РУВД.
– Понятно, что не Скотленд-Ярд.
– Наш оперативный отряд помогает, но независимо от того, кем окажутся хулиганы, я с себя ответственности не снимаю, мы соберем специальное бюро, будем делать выводы…
– Дело нужно делать, а не выводы. Со слетом-то зашиваетесь?
– В общем, да.
– Конечно, такой фейерверк непросто устроить! Это все, братцы мои, фронтовые операции, а что делаете вы в наступлении местного масштаба, о чем в центральных газетах не пишут?
– Разве мы мало делаем, Владимир Сергеевич! Мы…
– Да ты не отчитывайся! То, что комсомол лучше всех отчитываться умеет, я знаю. Иной раз в президиуме, братцы мои, аж слезу уронишь. Недоволен я тобой. Недоволен! Если новости будут, сразу звони – лично приду на этих басмачей посмотреть…
– Мы обязательно их найдем! – твердо сказал вспотевший Шумилин.
– Ладно, иди – работай, – подытожил Ковалевский, отпуская Шумилина, но у самых дверей остановил его неожиданным вопросом: – Как думаешь, зря мы, наверное, Кононенко отпустили? На связь-то он выходит?
– Нет пока, но обещал написать или позвонить, как только устроится.
– Привет ему передавай. А может, и тебе, Николай, штабную жизнь на передний край сменить? Встряхнуться?! Ты ведь у нас педагог по образованию?.. А школа, сам знаешь, теперь какая – пореформенная… Что молчишь?..
«Что самое серьезное в службе?» – любил спрашивать старшина роты, в которой некогда служил сержант Шумилин. И сам же отвечал: «Самое серьезное в службе – это шутки старших по званию!»
Будем правдивы: неожиданное предложение Ковалевского задело Шумилина. Нет, он не боялся панически за свое кресло, тем более что Владимир Сергеевич, как выяснилось, крови не жаждет. Но было до слез обидно, а винить некого, кроме самого себя. Это чувство запомнилось еще со школы, когда привыкшему к похвалам, благополучному Коле Шумилину неожиданно вкатывали «пару» – и он возвращался домой, зло задевая портфелем стволы встречных деревьев…
«Почему все объясняют мне то, что я сам отлично понимаю?!» – возмущался Шумилин, сдерживая желание садануть «кейсом» о фонарный столб.
Таким раздражительным в райком идти нельзя, и он остановился возле афиши. Последние годы краснопролетарский руководитель смотрел в основном те фильмы, которые крутили по окончании различных массовых мероприятий, так сказать, «на закуску». «Вот развяжусь с этим хулиганьем, проведу слет, а потом – актив, – мечтал Шумилин, с интересом читая афишу. – И схожу в кино! С Таней! Нельзя же, на самом деле, встречаться только в постели!..»
В райкоме комсомола имелось два входа – парадный и служебный. Парадный, со старинной дубовой дверью и симметричными вывесками, вел с улицы прямо в приемную; служебный находился во дворе, и, чтобы через него попасть в свой кабинет, Шумилин должен был пройти через все здание; так он и делал, периодически обходя свои владения и проверяя работу аппарата. Не подумайте, будто краснопролетарский руководитель мелочно следил за подчиненными! Нет, просто он достаточно хорошо знал дело, сотрудников и мог по обрывкам разговоров, группировке лиц в кабинетах, расположению бумаг на столе определить, кто чем занят и занят ли. Человека, прошедшего все основные ступеньки аппаратной деятельности, обмануть трудно. Если, допустим, к нему приходил печальный инструктор и жаловался, что не может решить вопрос с арендой зала для вечера молодых учителей, Шумилин уже по интонации знал, натолкнулся работник на непреодолимое препятствие или не напрягался как следует. В первом случае он помогал, не вдаваясь в подробности, во втором спрашивал, звонил ли халтурщик, скажем, в клуб автохозяйства. «Звонил, но не дозвонился…» Это означало: и не собирался. Тогда первый секретарь брал служебный справочник, снимал трубку и за минуту обо всем договаривался, потом распоряжался подготовить соответствующее письмо на имя директора ДК. В дверях провинившийся останавливался и начинал клясться, будто и вправду не смог дозвониться, но краснопролетарский руководитель наставительно замечал: «Первое, что должен уметь инструктор, – работать с людьми, второе – работать с телефоном…» И третье, но уже не имеющее отношения к описанной ситуации: нужно уметь не только просить, а еще и благодарить. Комсомольцы – ребята веселые: то, за что, например, профсоюзы выкладывают денежки, они умудряются получить за «спасибо», будь это зал для молодых учителей или знаменитый теледиктор, автобусы для экскурсии (их оплатит, как ни странно, само же автохозяйство) или новые горны для пионеров. А вот сказать «спасибо» некоторые деятели забывают. Случалось и хуже: однажды с огромным трудом – в ногах валялись – уговорили приболевшего ветерана приехать на конференцию и… забыли дать ему слово. За такую забывчивость Шумилин наказывал беспощадно.
Но если не считать отдельных недостатков, которые только оттеняют наши достоинства, райкомовский коллектив в целом его устраивал, Шумилин сам в основном формировал его, и ругать собственный аппарат – значило ругать самого себя. Шумилин первосекретарствовал четвертый год, недовольные его стилем с миром ушли или, как говорят в комсомоле, трудоустроились. Другие – большинство – приноровились к начальству. Новых же сотрудников он брал осторожно, подолгу приглядываясь, предпочитая разочароваться в человеке прежде, чем утвердит его в должности горком. «С номенклатурой не шутят!» – это был жизненный принцип.
Вместе с тем – как пишут в комсомольских постановлениях, когда хотят перейти к недостаткам, – у него было два несчастья, две боли, два креста: заведующий отделом пропаганды и агитации Мухин и заведующая методическим центром Мила Смирнова. Мухин стал завотделом еще до прихода Шумилина. Как такое случилось – одна из тайн природы, над которой можно биться всю оставшуюся жизнь. «Решим в рабочем порядке!» – обещал Мухин, получив очередное задание, и оказывался прав: задание выполнялось в рабочем порядке или инструктором, безропотным Валерой Хомичем, или, если одному не под силу, с помощью других отделов. В особо скандальных случаях Мухин заболевал и возвращался уже после проведения чудом спасенного мероприятия. Телефонную связь он не любил и постоянно находился «в организациях», но, в отличие от остальных, никогда не забывал сделать запись об убытии в контрольном журнале. По-своему правдивый, заведующий пропагандой никогда не говорил: «Я был в организации», – а только: «Я выезжал в организацию», – чтобы в случае проверки уточнить: мол, выехать-то выехал, но не доехал.
Трудоустроить Мухина было невозможно, потому что свое будущее он связывал с экспортом и импортом, мечтая поступить в Академию внешней торговли. Продавать высококачественные советские товары за падающую с постоянным ускорением иностранную валюту – вот, считал он, работа, достойная настоящего мужчины! Избавиться от нерадивого сотрудника путем его повышения – способ испытанный. Изнемогающий краснопролетарский руководитель пошел проторенным путем. Имелся и другой путь, решительный, но опытный аппаратчик, Шумилин знал: в каждом бездельнике дремлет высокоталантливый жалобщик и трудолюбивый составитель писем в инстанции.
Академия внешней торговли находится, как известно, в Москве, и комсомольский вожак запросил помощи у Ковалевского. «Не уверен я, – ответил осведомленный Владимир Сергеевич, – что этот ваш Мухин нам что-нибудь приличное у империалистов наторгует! В других странах за большое несчастье считается – за границей, на чужбине, братцы мои, работать, а у нас загранпаспорт – прямо ключи от рая… Не додумываем!»
В конце концов нынешним летом, рекомендованный со всех сторон, Мухин уже почти держал академию в руках, но срезался на экзамене, чего вообще никогда не бывает! Этот удар Шумилин перенес тяжелей даже, чем сам провалившийся.
Вторая беда первого секретаря находилась в данный момент за дверью с табличкой «Информационно-методический центр». Мила Смирнова – симпатичная стройная девушка, страстно увлеченная современными бальными танцами, попала на работу в райком волей своего отца, директора крупнейшего НИИ ТД, выручавшего комсомол своей могучей печатно-множительной базой, ведь бесчисленные постановления, рекомендации, планы, разработки, «методички» нужно было довести до каждой организации, а их в районе – двести сорок семь!
Дальновидный родитель, умудренный жизненным опытом, ответственным постом и докторской степенью, понимал, что фигурный вальс – для жизни неплохо, но и отметка в трудовой книжке о работе в райкоме в дальнейшем не помешает. Мила Смирнова была не просто бедой Шумилина, она была его грехом, потому что отказать директору НИИ ТД он не смог.
Доверие своего собственного отца Миле оправдывать не приходилось, это она уже сделала, родившись, и потому к делу относилась спокойно. Вкалывавший с юных лет Смирнов-старший обеспечил ей изобильное детство, веселую молодость, престижный вуз, впереди Милу ожидала благополучная зрелость. Многодетный директор НИИ ТД походил на хороший мотор, приводивший в поступательное движение судьбы еще трех таких же чад (разных полов), и они существовали, совсем не думая о том, что движок когда-нибудь остановится – и тогда окажется: за проваленное дело могут не только нежно пожурить, но и выгнать со службы; окажется, что жить и общаться с людьми, не чувствуя за спиной могучего дыхания родителя, очень не просто, по крайней мере мозги нужно использовать не только затем, чтобы формулировать очередную просьбу к папе. По наблюдениям Шумилина, оставшись без поддержки, подобные чада перестроиться не умели и оставшуюся жизнь донашивали, как вытершуюся дубленку, некогда привезенную папой из Стокгольма. Однажды, на загородной комсомольской учебе, расслабившийся Николай Петрович попытался объяснить Миле все это, но она в ответ поглядела с тем недоуменно-холодным выражением, с каким разорявшиеся чеховские барыньки выслушивали советы дальновидных управляющих.
Короче, разговора не получилось – и это понятно: выездная комсомольская учеба не место для душеспасительных бесед. Судите сами: раз в год, обычно весной, районный актив во главе с аппаратом грузится в автобусы и выезжает в пустующий пионерский лагерь, чтобы за два-три дня научиться новым формам работы, а главное – сплотить ряды. В клубе, украшенном символикой красногалстучной детворы, первый секретарь кратко и деловито говорит вступительное слово о том, что рост духовных запросов молодежи предъявляет высокие требования к комсомольским активистам. Затем начинаются лекционные занятия, ораторы говорят, активисты обогащаются, а аппаратчики, приводящие в движение весь механизм учебы, сбиваются с ног, дабы привезти из города и – что еще важней – отправить назад очередного докладчика. Потом лекции сменяются семинарами, деловыми играми, к вечеру плавно переходящими в игры неделовые. Заканчивается все спаиванием актива. Время пролетает мгновенно – и вот уже, грузно просев, автобусы увозят отяжелевших от знаний активистов.
Но вернемся к Миле Смирновой. В последнее время до Шумилина доходили разговоры, будто Смирнова приносит с собой «Панасоник» и тихонечко разучивает на работе новые танцы. Первый секретарь прислушался: из-за двери доносились приглушенная музыка и легкие ритмичные пошаркивания. «Выгнать ее к чертовой матери!» – в бессильном гневе подумал он, понимая: такой шаг навсегда отрежет райком от печатно-множительной аппаратуры НИИ ТД.
…В большой комнате организационного отдела, бывшей танцевальной зале (дьявол забери эту Милу!), трудились чесноковцы – Петя Конышев, Боря Гольдман, Витя Шестопалов, Тамара Рахматуллина. В углу расчетливый заворг уже приготовил стол для будущего сотрудника. Организаций много, отдел не справляется, а вопрос о нештатном сотруднике опять-таки упирается в НИИ ТД и бальные танцы.
У Чеснокова все работали неплохо, он умел и научить, и заставить. Шумилин, как бы это выразиться, невольно залюбовался: профессионально прижав телефонную трубку к уху плечом, одной рукой роясь в документах, другой держа дымящуюся сигарету и по памяти набирая номер, инструкторы бранили первичные организации из-за срыва запланированного приема в ВЛКСМ, переноса отчетно-выборных собраний, задержки взносов, ведомостей, сверок, отчетов, неправильного оформления характеристик и дел на бюро, из-за плохой явки комсомольцев на овощную базу, недостачи дружинников в оперативный отряд, посещаемости совещаний, многочисленных выбывших без снятия с учета и еще по поводу десятка важнейших вопросов.
Обрывки фраз, как слои табачного дыма, наползали друг на друга и таяли под высоким лепным потолком:
– Это не отговорки…
– Для таких случаев есть телефон…
– А для чего у тебя актив…
– Заставляй работать комитет…
– Тогда я звоню к вам в партком…
– Объясни это Шумилину…
– Последний срок был вчера…
– Это ваши трудности…
– Ведомости привезли, а где квитанции сберкассы?..
– Лика, ты же обещала сегодня… Я и билеты купил…
На другом конце провода, если не считать последней фразы, в это время обещали, каялись, спорили, оправдывались, лезли в бутылку, жаловались, отговаривались, били себя в грудь, упирались, соглашались, покорялись секретари первичных организаций, которым, кроме комсомольских дел, нужно было еще выполнять основную работу, а после заботиться о семье или устраивать личную жизнь, растить детей, вести домашнее хозяйство, учиться, повышать свой культурный уровень и даже отдыхать.
Проще приходилось с освобожденными, получающими зарплату в райкоме секретарями. Они руководили большими организациями, но и спросить с них всегда можно по большому счету – мол, не задаром работаете, – хотя Шумилин в последнее время стал замечать, что многие люди, получающие сто двадцать – сто сорок рублей в месяц, убеждены, будто работают именно задаром.
Из орготдельцев первому секретарю больше других нравился Петя Конышев. Тощий, лохматый, с лицом внезапно разбуженного человека, он сочинял стихи, изредка печатавшиеся в «Комсомольце», а в первый месяц своего пребывания в райкоме всех уморил справкой «Об организации досуга молодежи хлопчатобумажного комбината». Помнится, там шли обычные канцелярские фразы: «В результате работы комиссии выявлено… На предприятии создана сеть кружков, которые укомплектованы квалифицированными руководителями и охватывают столько-то процентов молодежи – из них женщин столько-то, мужчин столько-то, членов ВЛКСМ и несоюзной молодежи столько-то… В том числе действуют на комбинате и при общежитиях 3 кружка кройки и шитья, 4 туристические группы, 5 спортивных секций и всего одна литературная студия. Это безумно мало! Такое отношение к литературе преступно!!» Члены бюро, истомленные трехчасовым сидением, повалились друг на друга и смеялись до судорог. Когда же, захлебываясь, Шумилин дома пересказал случившееся Гале, она ничего забавного не обнаружила. Вероятно, то был чисто профессиональный юмор, понятный только аппаратчикам.
…В отделе учащейся молодежи Комиссарова посадила перед собой инструктора Наташу Потапенко, заведующую пионерским кабинетом Шилдину и режиссера районного Дома пионеров и школьников Борщевского. Комиссарова вдохновенно импровизировала на тему приветствия слету:
– Нет… Не так. Стойте! Я вижу!! В левом проходе фанфаристы, в правом – барабанщики, на балконе поднимаются буквы «ВСЕГДА ГОТОВ!». А можно еще в центре огонь из красных платочков?
– В принципе, можно, – отвечал режиссер.
– Прекрасно! Значит, зажигается огонь, и выходит группа чтецов. Что с текстом?
– Текст готов, – успокоила Потапенко.
– Хорошо получилось! – добавила Шилдина. – Прозу сами написали, стихи переделали из приветствия позапрошлой отчетной конференции.
– А не узнают стихи?
– Кто же текст слушает? – удивилась Наташа. – Все на детей смотрят.
– Детей-то хоть толковых набрали? А то в прошлый раз девчонка от испуга со сцены убежала, а фонограмма орет: «Мы, ребята-октябрята…» Кошмар!
Шумилин усмехнулся и пошел дальше по коридору. В отделе студенческой молодежи оказалось сразу три заведующих: хозяйка кабинета Надя Быковская, Иван Локтюков и Олег Чесноков.
Надю краснопролетарский руководитель знал еще по пединституту и, возглавив райком, забрал ее к себе. Сейчас она уже сдала кандидатский минимум и рвалась на преподавательскую работу, но первый ревниво не отпускал. Иван был широко известен району, особенно мальчишкам, не столько как глава спортотдела, сколько как руководитель секции самбо и человек, расшибающий кирпичи ребром ладони. У Быковской с Локтюковым, судя по всему, дело шло к комсомольской свадьбе, Чесноков, надо полагать, рвался в свидетели.
– Хуже всего, если это какие-нибудь… – осекся завспорт, увидев в дверях начальство.
– Не звонил Мансуров? – поинтересовался у него Шумилин.
– А что ему звонить, он у меня в отделе с оперотрядниками беседует, тебя, по-моему, ждет. Я нужен?
– Пока нет. А ты, Олег Иванович, зайди ко мне перед аппаратом.
– Понял.
– Вы тут слет не прообсуждаете? Смотрите, на планерке по всем позициям проверю.
Шумилин вышел и дальнейшего разговора слышать не мог, а жаль.
– Что-то наш командир невесел, – посмотрел на закрывшуюся дверь Чесноков. – Видно, ему Ковалевский основательно вломил! Некстати это первому сейчас, ой, некстати…
– Сейчас? – переспросила Быковская. – А что такое?
– Чем вы только на работе занимаетесь! – пожал плечами заворг. – В горком на место Шпартко его хотят взять.
– Я не знала… Ну и правильно! Там как раз такой, как Шумилин, нужен.
– Пока Коля с хулиганами не разберется, я думаю, он нигде нужен не будет.
– А почему он должен отвечать за каких-то негодяев? Они, наверное, к нашему району и отношения не имеют!
– Во-первых, на то и ответработники, чтобы за все отвечать, а во-вторых, для того, чтобы выяснить, кто эти хулиганы, их нужно найти сначала! – заметил Чесноков.
– Так я и говорю, – вернулся наконец к прерванной мысли Локтюков. – Самое худшее, если это какие-нибудь случайные ребята, приезжие например, – тогда труднее всего найти.
– А ты своих спрашивал? – Надя имела в виду подростков из локтюковской секции.
– Они говорят: если б знали – сами привели.
– У меня до сих пор в голове не укладывается… – Быковская приложила пальцы к вискам. – Какими же негодяями нужно быть!
– Ты, Наденька, плохо психологию учила, – улыбнулся Олег. – Есть такое понятие – ролевое поведение. Возможно, наши налетчики окажутся образцовыми комсомольцами. Просто в пятницу после работы они взяли на себя роль хулиганов и хорошо ее исполнили. Шучу!
– Ничего себе роль! – пристукнул по столу каменной ладонью заведующий спортотделом. – Что-то непонятно…
– А что тут непонятного? Всякое бывает: человек может и в райкоме работать, руководить себе подобными, а вышел за порог – и уже совсем другая роль. Не бывает так разве?..
– Подожди, – начала Надя, – значит, одна сцена – райком, вторая – семья, третья…
– А если еще малые сцены считать! – улыбнулся Чесноков.
– Значит, везде роли? А где же сам ты? Что-то ведь в человеке всегда постоянно!..
– Не меняется роль, которую он придумал для себя. А обществу прежде всего важно, как ты владеешь социальной ролью, и только потом – что ты при этом думаешь и чувствуешь.
– Интересно, а какую роль в таком случае исполняем мы?
– Лично я сейчас исполнял роль циника и тайного карьериста, – нашелся Олег, которому разговор уже перестал нравиться. – Как, ничего?
– Очень хорошо, как в жизни! – серьезно похвалил Локтюков.
…А Шумилин тем временем направился было в спорт-отдел, но задержался возле пропаганды. Стол Мухина мемориально пустовал. Хомич говорил с выступающим на слете печатником из типографии «Маяк». Шумилин мысленно пробежал глазами список ораторов и вспомнил, что зовут парня Сергей, а фамилия не то Полухин, не то Полунин.
– Как ты начнешь? – допытывался тем временем инструктор.
Парень разводил руками.
– Начнешь ты, как все: «Товарищи!» – объяснял Валера и разборчиво записывал на листе бумаги. – Вы откликались на призыв хлопчатобумажного?
– А как же!
– Пишем: «…подхватив пламенный призыв комсомолии хлопчатобумажного комбината, я и мои товарищи взяли обязательства…» Какие обязательства вы взяли?
– Выработку, значит, с одиннадцати до одиннадцати с половиной тысяч листов-оттисков в час довести, а экономия бумаги – одна тонна в квартал… А вот про то, что директор, когда мы ансамбль хотели…
– Подожди! Про недостатки в конце скажешь. Пишем: «…тонна в квартал. Сегодня мы можем рапортовать слету, что…» Что мы можем рапортовать слету?
– Значит, выработка у нас теперь двенадцать тысяч листов-оттисков, а экономия – две тонны… А про ансамбль?
– Подожди-подожди! Пишем: «Две тонны в квартал. (Аплодисменты.)».
Увидев первого секретаря, оба встали: инструктор по-аппаратному, нехотя, а печатник по-солдатски, резко, – наверное, недавно из армии пришел.
– Над выступлением работаем, Николай Петрович, – доложил Хомич.
– Вижу, Валера. Да ты садись. И ты, Сергей, садись! – разрешил краснопролетарский руководитель в традициях комсомола тридцатых годов, когда все – от секретаря ЦК до рядового члена ВЛКСМ – были на «ты».
– Так что у тебя все-таки с директором вышло – не поддержал?
– А то поддержал! – возмутился парень. – Как комсомольцы повышенные обязательства берут – так порядок, а как мы с просьбой какой-нибудь – так его нет! Вы бы, Николай Петрович, ему позвонили!
– Вот так, да? Позвоню.
…Возле сектора учета, как всегда, была очередь. Здесь вставали на учет, снимались с учета, выбывали из комсомола по возрасту. Девочки из сектора быстро находили в многотысячной картотеке рыжеватую картонку, ставили дату, штамп – и районная организация уменьшалась на одного человека, но тут же свои документы протягивал другой комсомолец – и среднее арифметическое торжествовало. Шумилин давно задумал разработать ритуал под названием «Прощание с комсомольским билетом». А то принимаем по возможности торжественно, прощаемся же с двадцативосьмилетними деловито, буднично, словно не с комсомольской молодостью они расстаются, не билет в райком сдают, а книжку в библиотеку. «Разберусь с хулиганами, – пообещал себе Шумилин, – сядем с Ляшко и поднапряжем мозги».
В отделе оборонно-спортивной работы первый секретарь увидел вчерашнего инспектора, беседовавшего с двумя квадратными парнями из оперативного отряда.
– А я как раз вас жду, – раскованно поздоровался освоившийся капитан.
– Тогда пойдемте ко мне, – пригласил Шумилин и по пути, пропустив Мансурова вперед, попросил Аллочку соединять только в экстренных случаях.
В кабинете он устроился за своим столом, на который в случае необходимости мог приземлиться небольшой самолет, и, предложив сесть гостю, поинтересовался, что новенького.
Оказалось, новенького пока ничего нет, но, по убеждению инспектора, скоро будет. Например, должен всплыть кубок спартакиады.
– А как вы думаете, Николай Петрович, – словно невзначай поинтересовался инспектор, – могли преступники залезть к вам в отместку за какую-нибудь несправедливость?
– В отместку? А за что мстить райкому?
– Ну мало ли что! Наказали строго или еще что-то.
– Н-не думаю… Да и строго наказывать, если честно говорить, мы разучились. Умеем понять людей.
– И все-таки, если возможно, я хотел бы познакомиться с персональными делами за последние год-два.
– Как угодно. – Шумилин нажал кнопку и вызвал по селектору Ляшко.
Через минуту в кабинет зашла Оля, маленькая, серьезная, задерганная путаницей в картотеке.
– Ты что такая печальная? – спросил участливый руководитель.
– Да ну, Николай Петрович, нужно годовую сверку раздавать, а бланки еще не отпечатаны.
– А как с не снявшимися с учета?
– Как всегда, одни выпускники чего стоят! Вы скажите школьному отделу, чтобы занимались этим. У Комиссаровой одно приветствие в голове, а за цифры потом мне отвечать!
– Вот так, да? Скажу. И подбери, пожалуйста, для товарища Мансурова персональные дела за два года. Прямо сейчас подбери.
– Спасибо, – встал капитан, помедлил и, дождавшись, когда Ляшко выйдет из кабинета, снова уселся. – А знаете, Николай Петрович, я чем дальше вашим делом занимаюсь, тем все больше убеждаюсь: никакая это не попытка совершения кражи! И если бы они в чужой сад залезли, а не в райком, ситуацию можно было бы квалифицировать как озорство.
– Знаю. Но я озорство себе по-другому представляю…
– А я и говорю, что у вас случай особый.
– Для чего же тогда персональные дела?
– Обе версии нужно проверить, хотя, скорее всего, хулиганы просто выпили, увидели открытое окно и от нечего делать залезли…
– Погром тоже от нечего делать устроили?
– От безделья, Николай Петрович, и не такое натворить можно! Объясняю. Цепочка элементарная: безделье – выпивка – происшествие. Мальчишка вернулся с завода; рабочий день укороченный, в вечернюю школу его пока не запихнули, жены-детей нет, по дому помогать не приучен. Куда себя девать? Принял с таким же сопляком пол-литра и начал выкаблучиваться, потому что ни пить не умеет, ни по-человечески отдыхать!
– Да, с досугом непросто, вы в нашей дискотеке были?
– Конечно. А вы-то сами часто туда заглядываете?
– Заглядываю, – уклончиво ответил Шумилин. – У нас программа интересная разработана, билеты мы через комитеты комсомола распространяем, постоянный пост дружинников там…
Первый секретарь с раздражением почувствовал, что оправдывался перед капитаном.
– Очень хорошо, – согласился Мансуров, – а вы знаете, что эти ваши дискотеки становятся начальной школой для спекулянтов?
– Спекулянтов? Наша дискотека? У меня таких данных нет, – сухо ответил Шумилин.
– Объясняю: я не имел в виду конкретно вашу дискотеку, но в другом районе был случай, когда вокруг молодежного кафе кормилась целая группа подростков, занимавшихся перепродажей билетов. У них даже чуть ли не военизированная организация сложилась, с разделением обязанностей, со строгой дисциплиной, с единоначалием. А у главного кличка любопытная оказалась – Оберет… Вы понимаете?
– Понимаю… И про ту группу знаю. Этими вещами нужно серьезно заниматься!
– Мы-то со своей стороны занимаемся, а вот разными «оберстами» и праздношатающейся молодежью, товарищ первый секретарь, вам заниматься надо!
– А вы, товарищ капитан, не желаете в комсомоле поработать? Нам как раз второй секретарь нужен.
– По званию не подойду, – съязвил инспектор и встал. – Если будет что-то новое, я позвоню. Мои координаты у вас есть.
– Да, я переписал, – проверил Шумилин, перевернув листок календаря.
Мансуров ушел. Шумилин потер ладонями уставшее лицо, подвинул к себе стопку истомившихся без визы документов и начал подписывать, механически пробегая текст глазами. Человек, чей росчерк обладает руководящей силой, относится к автографу серьезно и исполняет его с чувством ответственности, не допуская, чтобы по законам сомнительной науки графологии он менялся в зависимости от настроения. Вот и сейчас: любой сказал бы, что шумилинская подпись такая же, как всегда, – и лишь сам первый секретарь различал в своем росчерке некий новый оттенок. Растерянность, что ли?
– Аллочка, – сказал Шумилин вошедшей секретарше, – можешь меня со всеми соединять и перепечатай, пожалуйста, помеченные страницы. Правку мою разберешь?
Первая половина распоряжения была равносильна военному приказу о прекращении перемирия – на первого секретаря обрушился шквальный огонь телефонных звонков. Он отвечал, объяснял, оправдывался, уточнял, гарантировал, советовался, поздравлял, консультировал, сочувствовал, координировал, поучал, проверял, назначал, отменял, давал выволочку, почтительно слушал, жаловался на жизнь, обещал незамедлительно исправить, просил связаться с ним через несколько дней…
…Прежде всего Шумилина волновало положение дел со слетом. После вчерашних мер оно уже не казалось таким безнадежным. Кое-что сотрудники успели выправить, но по транспорту и аренде помещения звонить и договариваться пришлось самому. Квартальный запас обаяния и настойчивости он потратил, чтобы заполучить в президиум космонавта и знаменитого актера, а также чтобы выбить еще не попавший на афиши фильм. Потом прочитал и забраковал тексты готовых выступлений, разругался с Комиссаровой из-за пионерского приветствия. Сошлись на том, что Петя Конышев постарается быстро обновить устаревшие стихи. Тот сначала отказывался, объясняя, что, мол, в душе он лирик, но несколько убедительных примеров из истории отечественной лирики сломили его сопротивление. Затем Шумилин связался с инспекцией по делам несовершеннолетних, где его хорошо знали, и обсудил случившееся. Потом он позвонил секретарю комитета ВЛКСМ пединститута, члену бюро райкома Сергею Заяшникову, и попросил к поискам хулиганов подключить студентов, занимающихся подростками. Не успел Шумилин положить трубку, как к нему прорвался заместитель редактора «Комсомольца» Липарский, разбитной сорокалетний газетчик, уже, видимо, до пенсии застрявший в молодежной прессе. При встрече и по телефону они всегда разговаривали, как нежные друзья, хотя не только дружбы, даже приятельства между ними не было. Имелось, правда, другое обстоятельство: редакция располагалась в Краснопролетарском районе, поэтому все характеристики на журналистов шли через Шумилина. Таким образом, огромная сила, присущая комсомольской печати, прочно уравновешивалась могущественной резиновой печатью, которую первый секретарь периодически прикладывал к соответствующим документам.
– Порядок, старичок! – застрекотал Липарский. – Поставили в завтрашний номер. На первую полосу. Но скажи своему заворгу, чтобы он твои просьбы передавал не в последний момент – я не фокусник!
– Что поставили? – осторожно удивился первый секретарь, обшаривая закоулки памяти. – Ты извини – я в отпуске как-то отключился…
– Как что? Фотографию на четыре колонки!!! С подписью, как вы героически к слету готовитесь.
– А-а! Да-да! Спасибо! – сердечно поблагодарил Шумилин и волком взглянул на своевременно вошедшего в кабинет Чеснокова. – А когда же вы щелкнули? Без меня, что ли?
– В прошлом году, когда о вас фоторепортаж делали. Вспомнил?
– Но тогда же еще Кононенко вторым был.
– Старичок, не учи отца щи варить! На место Кононенко мои ребята твоего заворга, Чеснокова, вклеили. Очень у него мордализация фотогеничная.
– Вот так, да? Спасибо.
– А у меня к тебе встречное «пожалуйста»: тут нашему пареньку нужно характеристику скоренько оформить. Прохлопал ушами, ну ты понимаешь.
– Сделаем.
– Спасибо, старичок! Читай завтрашний номер! Отбой – четыре нуля.
Чесноков терпеливо дожидался, пока начальство закончит разговор.
Шумилин бросил трубку и тяжело посмотрел на заворга:
– Какие ты еще просьбы от моего имени передавал? Может, скоро за меня бумаги подписывать начнешь?
– Если вторым возьмешь, придется подписывать, а снимок к слету не помешает, командир. Наоборот, разговоров будет меньше: у нас же фотография в газете, как Доска почета… Ты когда-нибудь видел, чтобы групповой снимок очковтирателей или растратчиков печатали?
– Видел. Только про то, что они очковтиратели, потом стало известно.
– Ну вот! И вообще, Николай Петрович, в твоем положении эта фотография – находка, а ты вместо «спасибо»… Обижаешь!
– В каком таком положении?
– Только не надо своим ребятам голову морочить, весь райком говорит, что ты на место Шпартко уходишь!
– Я?.. Им что, делать больше нечего?!
– Они между делом говорят…
– Вот так-то вы слет и проговорили! Теперь слушай: через десять минут планерка. Сценарий готов?
– Обижаешь! И есть, Николай Петрович, одна обалденная идея. Представляешь, детдомовцы благодарят районный комсомол за заботу, а мы им вручаем большой золотой ключ. Из пенопласта.
– От чего?
– Что «отчего»?!
– Ключ, спрашиваю, от чего?
– От детдома! Там же почти все готово – одна отделка осталась. А ключ символический.
– Ладно, готовься к аппарату, – закончил разговор Шумилин и записал на календаре про ключ.
А Чесноков тем временем медленно дошел до двери, остановился и непривычно робким голосом спросил:
– Как там мои дела? Будут со мной решать?
– А что тебе не ясно? – ехидно ответил краснопролетарский руководитель. – Об этом весь райком говорит. Иди послушай.
Потом Шумилин просматривал сценарий и одновременно анализировал новую информацию. О том, что секретарь горкома комсомола Шпартко собирается уходить, он знал не первый месяц. Постоянно становились известны все новые и новые имена возможных преемников, теперь, значит, дошла очередь и до краснопролетарского руководителя. Есть такая уловка: когда на освободившееся или освобождающееся место хотят взять человека, которого вышестоящая организация наверняка не утвердит, то вокруг вакансии устраивают искусственную бурю (как в кино при помощи аэродинамической трубы). Громогласно предлагаются и отвергаются многочисленные претенденты – у одного не тот диплом, у другого – в семье неблагополучно, у третьего и диплом подходящий, и семья образцовая, но возраст неудачный (или слишком молод, или слишком стар), у четвертого… И так далее. Наконец вышестоящие товарищи не выдерживают и сердито одергивают: «Решите вы свой кадровый вопрос или нет?!» Вот тут-то, как засадный полк из дубравы, на поле битвы врывается тот, кого хотят взять. У него и диплом подкачал, и семьи нет, и возраст изумляющий, и еще что-нибудь, но именно его, потеряв терпение, утверждают наверху. Видно, кандидатура Шумилина – очередной порыв этой аэродинамической бури, а может быть, и нет… «Весь райком говорит…» Ничего удивительного! Если человечество в целом волнуют проблемы: кто мы? откуда мы? куда мы? – то основной вопрос, беспокоящий аппаратчиков: кто, куда, почему и как уходит? Причем существует строго разработанная, очень гибкая и, конечно, неофициальная система оценок, квалифицирующая перемещения сотрудников. Так, уйти из инструкторов райкома в инструкторы горкома – неплохо; из заведующих отделом райкома в инструкторы горкома – хуже, вернуться затем из горкома секретарем райкома – хорошо: самостоятельная должность; а вот перейти с рядовой должности из аппарата райкома или горкома на некомсомольскую работу, скажем в профсоюзы, – плохо, преждевременно (еще не набраны инерция и авторитет). Но поглядите: какой-то чудак ушел с должности заведующего отделом райкома на место освобожденного секретаря завода. «Не правильно, – объяснит специалист. – Он через год-два вернется первым секретарем!» И точно!
Дожидаясь, пока соберется аппарат, Шумилин думал и о Чеснокове. Возможность перешагнуть из заворгов во вторые секретари случается редко, так что, можно сказать, сейчас решается судьба Олега. Конечно, последнее слово всегда остается за райкомом партии, но есть ведь и первое слово, а оно за Шумилиным, не торопящимся произнести его.
Да, Чесноков – работящий, энергичный, напористый парень, немного – для равновесия – изображающий из себя разгильдяя. Да, он справится, не подведет, не сорвет работу, ему дорого дело, но не потому, что это – дело, которому он служит, а потому, что это – дело, которое служит ему. Чесноков не халтурит, как Мухин, честно вкладывает в работу силы, ум, нервы, время, честно рассчитывая на будущую прибыль в виде ответственной и престижной должности, большой зарплаты, положения… Комсомол для Олега не возраст и не судьба, а ступенька некоего жизненного эскалатора, который и сам по себе движется, а если еще по нему побежать!..
Итак, взять вторым Олега – дать, говоря грубо, ход честному карьеристу. Не брать – неизвестно еще, кого пришлют. Упаси бог, внешнеторгового мечтателя, вроде Мухина! А если все-таки поговорить с Бутениным? Но пока он освоится, с ним намучишься: аппаратной работе, как музыке, нужно учиться, а то некоторые считают, будто можно усесться за начальственный стол и с ходу сбацать фортепьянный концерт. Люди потом в себя годами приходят.
Аппарат был в сборе. Опустевший стеллаж, отметил про себя Шумилин, уже начал заполняться: появилось несколько красиво оформленных рапортов слету, с полки стартовала очередная плексигласовая ракета. Шумилин дотошно проверил по позициям, как идет подготовка. Затем был прочитан и общими усилиями откорректирован подробный поминутный план-сценарий. Был создан штаб слета во главе с Чесноковым. Неожиданно выяснилось: не на что покупать цветы и бутерброды для президиума, и краснопролетарский руководитель попросил зайти к нему после аппарата Волковчук, которая при этих словах тяжело вздохнула в предчувствии нарушения финансовой дисциплины. Потом Шумилин еще раз проинструктировал, как работать с выступающими.
– Главное, чтобы они говорили дельно, а потом уже складно. Пока у меня такое ощущение, будто все выступления, как в анекдоте, брали из одной бочки…
И, уже распуская сотрудников на обед, поинтересовался: где же все-таки Мухин?
– На бюллетене, – хором ответили ребята.
В столовой, выстояв небольшую очередь, Шумилин уставил поднос тарелками и, вежливо кивая знакомым работникам райкома партии и исполкома, поискал глазами свободное место, нашел и стал осторожно пробираться между столами.
За последнее время здесь утвердился обычай есть по-европейски, не снимая тарелки с подноса. Сидящие напротив две секретарши-машинистки обсуждали какое-то страшное убийство на почве ревности. Теряя аппетит и ощущая, как к сердцу, пульсируя, приливает тревога, он вслушался и наконец понял, что речь идет о новом западном фильме.
Столовая была отделана очень уютно и, чтобы не выводить аппаратчиков из рабочего состояния, как бы имитировала кабинетную систему: столики обособлялись один от другого декоративными перегородочками. По стенам размещалась чеканка на гастрономические сюжеты. Из-за ближней перегородки, как, впрочем, и отовсюду, доносились знакомые голоса, но Шумилин не обращал на них внимания, пока не услышал свою фамилию.
– Первый не дурак! – утверждал бойкий голос скромняги Хомича. – Он пойдет только в Новый дом.
– Я бы на его месте пошел на место Шпартко, – не соглашался Гольдман.
– Ты сначала окажись на его месте! – съязвила Рахматуллина. – Помнишь, Базлов в горком пошел? Где он теперь?
– Базлов не справился, а Шумилин – мужик толковый, он далеко двинет!
– Никуда он теперь не двинет, – встрял голосок Милы Смирновой. – Папа говорит, что после случая с хулиганами ему нужно скоренько возвращаться в свою аспирантуру…
– Ерунда! – возразил Гольдман. – Людей на злоупотреблениях накрывают и то без понижения переводят. Конечно, история неприятная, но первый-то здесь при чем? Он вообще в отпуске был.
– Папа говорит, что человека легче всего съесть, когда он болеет или в отпуске.
– Твой папа говорит, прямо как Евгений Шварц!
– Почему Шварц? Какой Шварц? Чего вы смеетесь?
– Просто так, – объяснила Рахматуллина. – И хватит вам делить шкуру неубитого Шумилина, меня больше волнует, кто вторым будет.
– Как кто? Чесноков! – убежденно ответил Гольдман. – Он от первого не вылезает, в горкоме трется, в Новый дом все время советоваться бегает. Он и будет!
– Чесноков переактивничал и вторым не будет! – с раскованностью сотрудника другого отдела сообщил Хомич. – Человек придет из горкома. Скорее всего – Фолинский.
– Почему?! – хором спросили остальные.
– Вы по фамилии догадаетесь или на пальцах объяснить нужно?
– А-а-а!
Фолинского действительно рекомендовали на место Кононенко, но Шумилин наотрез отказался. «Все, черти, знают, – думал он, допивая компот из черной смородины. – Когда до них про мои семейные дела дойдет, можно на неделю райком закрывать из-за разговоров. Интересно, что папаша этой балерины скажет? Здорово они ее со Шварцем приложили…»
Шумилин отнес грязную посуду на мойку и, уже направляясь к выходу, специально прошел мимо спорщиков, те оборвали разговор и уставились на первого усталыми, но преданными глазами.
На улице Ашот обольщал статную милиционершу и появление начальника воспринял с легким раздражением.
– В горком едем? – уточнил он.
– Откуда ты знаешь?
– Я не знаю. Я чувствую.
Первого секретаря горкома ВЛКСМ на месте не было: он с делегацией творческой молодежи улетел в ГДР. Второй секретарь что-то где-то кому-то вручал и обещал быть к вечеру. Шумилин решил заглянуть к секретарю по промышленности Околоткову, которого знал еще первым секретарем соседнего райкома. Два года назад они встречались на совещаниях и выездных учебах, выручали друг друга в сложных ситуациях, даже как-то обменялись семейными визитами. Потом Околоткова после удачного выступления на слете выдвинули в секретари горкома, и дружить домами ему приходилось теперь на новом уровне, но он остался тем же простым парнем и при встрече с таким же наигранным размахом лупил по протянутой руке, однако научился говорить медленнее, раздумчивее, весомее, реже обещал помочь и чаще ссылался на необходимость посоветоваться.
Шумилина он поприветствовал, выйдя из-за стола и сказав, что отпускник загорел, как негр, выглядит, как актер с неприличной фамилией Бельмондо, что вообще краснопролетарцы – молодцы и он очень сожалеет о досадном происшествии.
– Понимаешь, Коля, – Околотков закурил, задумчиво затянулся и стал похож на учителя жизни, – страшного, конечно, ничего нет, но разговоры пошли – и это плохо!
– А как первый отреагировал?
– Первый к тебе хорошо относится и сказал, что все это – неприятное недоразумение. А если начистоту… – с приливом хорошо продуманной откровенности сообщил Околотков, – Шпартко почти ушел. На его место несколько кандидатур, но твоя, по-моему, самая реальная! Ты и у нас в аппарате был, и на самостоятельной работе почти четыре года. Район – один из лучших. Первый по возвращении, я знаю, хочет с тобой поговорить, а прилетает он сегодня ночью. И мой тебе дружеский совет: ты с хулиганами разберись, но спокойно; самокритично, но без истерики, а то у тебя, я замечал, склонность к самобичеванию имеется. Во-вторых, слет нужно провести по гамбургскому счету! И уж нашу просьбу как следует выполнить!
Речь шла об изготовлении блокнотов с тиснением для участников общегородского слета.
– Уже в работе!
– Молодец! Обо всем сразу звони – посоветуемся.
Шумилин вышел из кабинета, сунул хронически улыбающейся секретарше фирменный календарик НИИ ТД и начал традиционный обход горкома. Смысл этого обхода можно выразить словами: «А вот и я! Я всех помню и совершенно не теряю голову из-за того, что первый в районе. Город есть город!»
Краснопролетарский руководитель шел из отдела в отдел, из кабинета в кабинет, делился новостями, выслушивал новости или просто перекидывался шуткой, попутно решал вопросы, заручался поддержкой, снимал напряжение, сам в свою очередь обещал в чем-то помочь.
– Какие люди! – приветствовали его на очередном пороге.
– Такой человек, и без охраны! – улыбались в другом кабинете.
Спускаясь по лестнице к выходу, он лицом к лицу столкнулся с пресловутым Шпартко. Грузный, лысеющий, явно пересидевший на комсомольской работе, тот тяжело поднимался к себе в кабинет и, судя по тому, как обстоятельно принялся расспрашивать о жизни, о семье, чего раньше за ним не водилось, – в самом деле собрался уходить. Признак безошибочный!
У Шумилина было важное преимущество: несмотря на то что в район он ушел почти четыре года назад, в горкоме его не переставали считать своим – «наши кадры!» – и краснопролетарский руководитель умело пользовался выгодной двойственностью. И этим тоже нередко объяснялись первые места, грамоты, переходящие вымпелы и прочие знаки отличия. Кроме того, исторически сложилось так, что в горкоме комсомола скопилось немало выходцев из Краснопролетарского райкома. Сам первый секретарь, хоть и пришел из другого РК, в свое время окончил тот же пединститут. А Шумилин еще по армии знал, какая могучая сила – чувство землячества.
Задумавшись, он вышел на улицу и, подойдя к пустой машине, огляделся: Ашот, непринужденно облокотившись о стену, охмурял выбежавшую в соседнее здание околотковскую секретаршу. В руках он держал бумажку с телефоном, и это не оставляло ни малейшего сомнения в дальнейшей судьбе девушки. Увидев начальника, водитель кивнул, что можно было понять и так: заводи, сейчас поедем. Наконец, договорившись и потрепав секретаршу по мордашке, Ашот подошел к «Волге», открыл двери, сел и сладострастно воткнул ключ зажигания…
Ашот довез начальство до ворот майонезного завода и был отпущен до завтра. Шумилин открыл липкую дверь проходной и сразу же почувствовал тяжелый, жирный запах – достопримечательность местного производства. На пороге его встречала заместитель секретаря комитета ВЛКСМ завода Валя Нефедьева – плечистая лимитчица с неторопливыми движениями и плавной деревенской речью. Пройдет несколько лет, и она станет настоящей горожанкой, резкой, нервной, стремительной, прошедшей огонь магазинных очередей и общественного транспорта, ледяную воду равнодушия положительных холостых мужчин и медные трубы уважения заводской администрации – вплоть до фотографии на Доске почета и однокомнатной квартиры с окнами на Окружную дорогу. Но это случится не скоро, а сейчас Валя боязливо, но твердо пожала руку первого секретаря и робко спросила: «Пойдемте, что ли?»
В маленьком заводском клубе, где на люстрах еще заметишь остатки новогоднего серпантина, все было готово к началу: на сцене стояли накрытый зеленым стол и старинная, много чего слыхавшая на своем веку трибуна. На стенах размещались схемы, диаграммы и фотомонтажи… Из черного, похожего на футляр аккордеона, усилителя доносилась некогда знаменитая светловская «Комсомольская песня»:
И глубь земли, и ширь небесных странствий
Ты на высокой скорости пройдешь,
И скажет космос: «Кончилось пространство,
Куда еще ты, комсомолец, прешь?»
Постой, постой, ты комсомолец? Да!
Давай не расставаться никогда!
На белом свете парня лучше нет,
Чем комсомол шестидесятых лет.
По залу между рядами, хлопая откидными сиденьями, с отчетным докладом в руках метался секретарь комитета ВЛКСМ Борис Ноздряков – худой, жидковолосый парень. Постепенно прибывали комсомольцы, и он, подскакивая то к одному, то к другому, совал исписанные бумажки, объяснял что-то на ухо. За происходящим – подергиваясь в ритме песни – философски наблюдал Цимбалюк, инструктор, ведущий в орготделе промышленность. Спокойный, следящий за собой, модно (в рамках аппаратных приличий) одевающийся, он относился к работе с тем самообладанием, которое неопытный глаз может принять за равнодушие. Но, заметив начальство, инструктор молниеносно «ушел в народ», по-свойски внедрившись в кучку разговаривающих комсомольцев. Ноздряков же, улыбаясь разнокалиберными зубами, пошел навстречу высокому гостю.
– Поздравляю с праздником! – прояснел лицом первый секретарь и пожал влажную руку волнующегося Ноздрякова.
Не успели они разговориться, как появились приглашенные на собрание – главный инженер завода Головко (директор уехал в министерство), секретарь партийного комитета Лешутин и известная на весь район ударница Старикова. Широко, по-комсомольски улыбаясь, Шумилин обменивался приветствиями, расспрашивал, как, мол, комсомол, не подводит.
– Да как вам сказать? – с шутливой загадочностью отвечал Лешутин и лукаво поглядывал на смущенного комсорга. – Скорее нет, чем да…
Майонезный завод – маленький, в районе неприметный, и визит первого секретаря был неожиданностью, значившей для местного руководства немало.
– Если б вы заранее предупредили, директор не поехал бы на совещание. Он у нас комсомол любит! – монотонно сокрушался Головко – человек с гладким неподвижным лицом и масленым пробором.
Зал стал заполняться. В первом ряду на краешках кресел сидел, ожидая приглашения, будущий президиум.
– Внимание! – призвал Ноздряков в потрескивающий микрофон. – Внимание! На учете в нашей комсомольской организации состоит шестьдесят три человека. Присутствуют… – он обвел глазами десятка три человек, островками рассевшихся по залу, – присутствуют пятьдесят четыре комсомольца. Девять отсутствуют по уважительным причинам. Какие будут предложения?
– Начать собрание! – крикнули из зала.
– Поступило предложение начать собрание. Ставим на голосование. Кто – за? Против? Воздержался? Единогласно! Для ведения собрания нам необходимо избрать президиум. Какие будут предложения? – спросил Ноздряков и выжидательно уставился на хорошенькую девушку в третьем ряду.
Та сразу вскочила и, уткнув носик в бумажку, звонко зачастила:
– Предлагаю избрать президиум в следующем составе: главный инженер товарищ Головко, секретарь партийного комитета товарищ Лешутин, ударница коммунистического труда кавалер ордена Трудового Красного Знамени Александра Ивановна Старикова, инструктор райкома комсомола товарищ Цимбалюк, секретарь бюро ВЛКСМ гаража Саша Яковлев. Председателем собрания предлагаю Валю Нефедьеву…
– Товарищи! – взмолился оплошавший Ноздряков. – Нам выпала большая честь – на собрании присутствует первый секретарь Краснопролетарского районного комитета комсомола Николай Петрович Шумилин!
Раздались жидкие аплодисменты. Единогласно избранный президиум проследовал на сцену, вокруг стола произошло вежливое замешательство, наконец, после того как из зала принесли недостающий стул, все расселись.
– Товарищи, – легко окая, начала Валя. – Есть предложение утвердить повестку дня: отчетный доклад, выступления в прениях, выборы нового состава комитета ВЛКСМ, разное. Какие будут дополнения? Голосуем. Единогласно! А теперь слово для отчетного доклада…
– Регламент! – страшно прошептал Ноздряков.
– Ой… Ну да… – испугалась Нефедьева и заглянула в шпаргалку. – Товарищи, для ведения собрания нам необходимо установить регламент. Докладчик просит сорок минут. – Сдержанное негодование в зале. – Выступления в прениях – десять минут. Закончить работу в течение двух часов.
Утвердили регламент, и слово получил Ноздряков.
Деревянным шагом он подошел к трибуне, разложил странички, отпил воды из стакана, ухватился руками за микрофон и, тряся от волнения ногой, что было видно только из президиума, начал:
– Товарищи! Победным шагом идет комсомол…
Шумилина охватило привычное президиумное оцепенение. Все, что случится дальше, он знал наизусть, потому что отсидел не одну сотню таких собраний, а раньше сам готовил и проводил их. Изредка к нему сзади наклонялся Цимбалюк и шептал, что доклад он выправил, что выступления в прениях подготовлены, что Ноздряков, конечно, не подарок, но организацию тянет, с руководством, особенно с главным инженером, ладит. Лешутин его, правда, недолюбливает…
Боковым зрением Шумилин оглядел своих соседей по президиуму. Головко затвердел и стал похож на человека, которому в голову пришла большая государственная мысль. Утомленное лицо секретаря парткома выражало миролюбивую иронию: мол, если хочешь погубить хорошее дело – поручи его комсомолу. Старикова добродушно разглядывала молодежь усталыми глазами. Валя, шевеля губами, готовилась продолжить свои председательские обязанности.
Изредка главный инженер и первый секретарь обменивались ничего не значащими руководящими репликами: «Хорошо сказал!», «Они вообще у нас ребята неплохие…». Лешутин отмалчивался. Шумилин всмотрелся в зал: первым рядам, простреливающимся из президиума, приходилось слушать. В глазах у ребят была давняя, загустевшая тоска. Дальше – легче: судя по ритмично ходившим плечам, некоторые девушки вязали, заочники трудились, положив тетрадки на колени, временами отрывались от писанины и пристально вглядывались в докладчика, то ли демонстрируя внимание, то ли силясь что-то вспомнить. Длинноволосый паренек приладил под гриву наушники и наслаждался карманным магнитофоном, несколько человек, склонив головы, подтверждали, что наша молодежь самая читающая в мире. В дальнем углу, кажется, конспиративно играли в шахматы.
А между тем докладчик после пространного перечисления успехов комсомолии майонезного завода со сдержанным трагизмом перешел к отдельным недостаткам, которые, надо отдать ему должное, были так искусно подобраны, что воспринимались как продолжение достоинств. Преодолеть эти недоработки Ноздряков настойчиво завещал будущему составу комитета ВЛКСМ. Наконец оратор перевернул последнюю страничку, эффектно вплавил в заключительную фразу общеизвестную цитату и вышел из-за трибуны, неожиданно напомнившей Шумилину пляжную кабинку для переодевания.
– Какие вопросы к докладчику? – поинтересовалась Валя.
Собрание единогласно промолчало.
– Переходим к прениям, – решительно продолжила Нефедьева.
– Редакционная комиссия! – плачущим голосом подсказал Ноздряков.
– Ой… Ну да… Товарищи, для выработки проекта решения нам необходимо избрать редакционную комиссию. Какие будут предложения?
Комсомол безмолвствовал.
– Осипов, у тебя же было предложение! – все-таки установил контакт с залом Ноздряков.
– Да. Было, – опомнился здоровенный парень и, вскочив, стал шарить по карманам. – Вот! Значит, так: Яковлев – председатель, Полторак и Салуквадзе – члены…
– Голосуем! – призвала Валя. – Единогласно. Комиссия, можете приступить к работе.
Обрадованные члены редкомиссии вскочили с мест и, прихватив с собой три странички давно составленного и даже отпечатанного текста, отправились в комнату за сценой, чтобы напиться минеральной воды, выправить опечатки и ждать своего выхода.
Потянулись томительные прения, произошедшие, как подумал Шумилин, от слова «преть». На трибуну один за другим выходили симпатичные девчата и парни, хорошие, наверное, работники, и, путаясь в полузнакомом тексте, говорили одно и то же. Чувствовалось, что и критика, и самокритика, и новые предложения – все заранее обговорено, согласовано, сформулировано, обесцвечено. Порадовал электрик Кобанков: звонким, хорошо поставленным голосом самодеятельного артиста он с чувством говорил о заводе, о своих товарищах и наставниках, обкатывая будущее выступление на слете.
На патетической ноте закончив речь, Кобанков по-свойски переглянулся с районным руководством: мол, не первый краснопролетарский руководитель мог в деталях рассказать, что произойдет дальше. После комсомольцев выступят Головко и Лешутин, они призовут к еще большей боевитости и попрекнут некоторых лодырей, секретарь парткома, может быть, иронично пожурит безынициативный комитет ВЛКСМ и его вожака. Потом ожидается торжественное слово первого секретаря о больших задачах, стоящих перед краснопролетарской многотысячной комсомолией и ее скромным, но достойным отрядом – молодежью майонезного завода. Наверняка вызовет оживление мысль о том, что коль скоро майонезцы первыми в районе проводят отчетно-выборное собрание, то и по всем другим показателям обязаны быть впереди! Затем проголосуют за прекращение прений, и Яковлев старательно прочтет проект решения. Сначала его примут за основу и сразу же – в целом, и в зале никто не задумается, зачем это двойное голосование. Дальше, почуяв близкую свободу, с торопливым единогласием комсомольцы выберут новый состав комитета и «Комсомольского прожектора». Нефедьева сообщит, что повестка дня исчерпана, поступит восторженное предложение закрыть собрание.
Голосуя на ходу, ребята рванутся к выходу, образовав в дверях пробку. Оплошав в последний раз, забывчивая Валя крикнет им вдогонку объявления. Тут же сойдется новоиспеченный комитет и выберет секретарем согласованного во всех инстанциях Ноздрякова.
Так бы оно и случилось, если бы Шумилина не начала раздражать, как говорят в комсомоле, «незадействованность» зала.
Терпение краснопролетарского руководителя лопнуло, когда он увидел, как один парень в пятом ряду просто-напросто спит, уперев в переднее кресло оплетенные набухшими венами руки и положив на них черную, кудрявую голову. Шумилин обернулся и поинтересовался у Ноздрякова, кто этот спящий красавец.
– Где? А-а… Бареев, наладчик из упаковочного цеха. В прошлом году после ПТУ пришел… Сейчас разбужу!
И когда на трибуне сменялись выступающие, майонезный лидер громко и ядовито заметил:
– Бареев, спать нужно дома, а не на собрании!
Наладчик вскинулся, обвел зал красными, непроснувшимися глазами, опомнился наконец, встал и извинился. Тут бы Ноздрякову успокоиться, но его, как и древних римлян, погубило излишество.
– Стыдно, Бареев! – возвысил он карающий голос. – Перед товарищами стыдно, перед районным комитетом стыдно!
– Извините, – раздражаясь, повторил парень.
– Ладно, садись. Мы потом с тобой поговорим!
– Почему же это потом? – вдруг дерзко спросил Бареев, и первый секретарь заметил, что у него по-хорошему упрямое лицо. – А мне не стыдно! Я третьи сутки с линией колупаюсь. Но даже если бы я трое суток подряд дрых – все равно бы на вашем собрании заснул! Это – трепология какая-то, а не собрание!
Зал очнулся.
Головко забыл про терзавшую его большую государственную мысль и оторопел. Лешутин подался вперед. Шумилин почувствовал спиной, как похолодел Цимбалюк. Ноздряков утратил родную речь.
– Отчетный доклад, – кипел наладчик, – фигня! «Мы подхватим! Мы оправдаем! Мы еще выше поднимем!..» Чего же не поднять? От слов не надорвешься. Ноздряков целый день по залам бегал, кудахтал: из райкома приедут, из райкома приедут! Вот и хорошо, что приехали, – пусть послушают. У нас половина молодежи в общаге живет, прямо за воротами. Занимается комитет общагой? Не занимается. Про совет общежития, в котором я сам якобы состою, только здесь на собрании и услышал. Нам три тысячи на спорт выделено, а завком на эти деньги уже который год новогодние вечера устраивает. А в результате получается: ребята у нас работают, пока прописку не получат, а потом – до свиданья, на комбинат уходят; даже по комсомольским путевкам придут, осмотрятся мало-мало – и бежать…
– Правильно! Крышу в общаге почините! – вскочил парень из дальнего угла, и с его колен посыпались выигранные шахматные фигурки. – Дайте мне сказать!..
И тут началось.
– Веди собрание! – сквозь шум голосов прокричал Вале посеревший Ноздряков.
– Сам веди! – огрызнулась она.
– Да они как с цепи сорвались! – с возмущением повернулся к секретарю парткома Головко.
– Не буди лихо… – усмехнулся Лешутин.
Собрание закончилось, и разгоряченные комсомольцы нехотя разошлись. В зале остались только заводские руководители, Шумилин и новый комитет ВЛКСМ, в котором начисто отсутствовал согласованный во всех инстанциях Ноздряков, но зато наличествовал красноречивый наладчик, сам не ожидавший такого оборота, от изумления он прочно замолчал – тем более что ребята предлагали в секретари именно его. Но лидера так и не выбрали, Головко решительно заявил: кандидатуру сначала необходимо обговорить с директором.
Когда стали прощаться, первому секретарю, словно заезжей знаменитости, вручили гвоздики, украшавшие стол президиума, но он тут же передарил букет засмущавшейся Вале Нефедьевой.
У самой проходной его догнал Цимбалюк.
– Николай Петрович! – задыхаясь, проговорил он. – Цветы забыли! Просили передать…
– Со второй попытки, значит… Мне их уже один раз вручали.
– Я не видел. Я Ноздрякова успокаивал.
– Переживает?
– Не понимает!
– А ты сам-то понимаешь?
– Естественно. Нужно было Бареева заранее в список выступающих включить.
– Вот так, да? Или просто не будить.
Цимбалюк вдумчиво улыбнулся, показывая, что юмор начальства оценен, и поинтересовался:
– А кто будет секретарем? В кадровом резерве у нас Нефедьева.
– Народ хочет Бареева.
– Головко никогда не согласится!
– Слава богу, Витя, не все в жизни зависит от Головко. А Бареев эту майонезную комсомолию расшевелит! Хотя, конечно, незапланированная смена – маленькое, но ЧП…
– Николай Петрович, а не много ли у нас ЧП?
– Для спокойной жизни многовато, но ведь покой нам только снится! А?
– Естественно! – согласился инструктор, которому покой был прекрасно знаком не только по сновидениям.
Отпустив Цимбалюка домой и обнаружив, что в райком возвращаться уже поздно, первый секретарь стал медленно пробираться сквозь вечернюю уличную толчею, ощущая то беспокойное недоумение, какое нападает на очень занятых людей в минуты внезапной праздности.
Нависая над остановкой, большие квадратные часы показывали одной стороной циферблата 19.41, а другой – 19.58. «Очень удобное место для свиданий!» – решил краснопролетарский руководитель и, запихнув цветы в «дипломат», втиснулся в троллейбус. Пристроив кейс между поручнем и задним стеклом, стоя, разглядывал автомобили, обгонявшие его электрический дилижанс; снаружи пошел редкий дождь, и «дворники» вылизывали на ветровых стеклах удивленные полукружья.
…С Таней он познакомился полгода назад. Однажды днем она позвонила в дверь его квартиры, решительно вошла, сбросила ему на руки пальто, одернула стянутый в талии белый халат и спросила: «Где больной?» А узнав, что пациент перед ней, удивленно пожала плечами: мол, если вы такой галантный, могли бы и сами прийти на прием.
– Ложитесь. Я вымою руки, – распорядилась она. – Где ванная?
Но Шумилин при виде молодой светловолосой докторши, пришедшей по вызову вместо старенькой Фриды Семеновны и смотревшей на него строгими темными глазами, молча показал куда-то в сторону кухни. Гостья пожала плечами и сама направилась в ванную, благо в нынешних квартирах не заблудишься.
Больной улегся на диван, а врач, с интересом скользнув по корешкам секретарской библиотеки, приставила холодный стетоскоп, сосредоточенно сжала губы и принялась выслушивать, что же случилось с материально-технической базой этого рассеянного мужчины. Когда диагноз – ОРЗ – был поставлен и она стала выписывать рецепты, Шумилин обратил внимание: обручальное кольцо у нее на левой руке. «Или заранее купила (так делают), или в разводе!» – определил он.
– Где вы работаете? – спросила докторша, заполняя больничный лист.
– В Краснопролетарском райкоме комсомола.
– Кем? – с чуть заметной иронией уточнила она.
– Секретарем…
Еще начиная свою общественную деятельность, краснопролетарский руководитель заметил: люди так называемых жизненно важных профессий, медики к примеру, на комсомольских работников часто смотрят как-то свысока – мол, взрослые люди, а несерьезными вещами занимаетесь! Другое дело – мы: держим человеческую жизнь на кончике шприца!
Закончив писать, врач резко встала, еще раз одернула халат, надетый поверх джинсов и черного свитера, коротко объяснила, как нужно принимать лекарства, и посоветовала меньше ходить. Но больной тем не менее поплелся провожать и, подавая в прихожей пальто, наконец решился:
– Простите, а что с Фридой Семеновной?
– Фрида Семеновна на пенсии. Теперь у вас буду я.
– Вот так, да? А как вас зовут?
– Зовут меня Татьяна Андреевна Хромова. До свидания, выздоравливайте…
И она ушла, оставив в квартире будоражащие флюиды красивой и уверенной в себе женщины, а Шумилин вздохнул, порылся на полках и, завалившись, как предписано, в постель, стал перечитывать ахматовский «Вечер».
Через неделю, собираясь в поликлинику выписываться, он так долго выбирал галстук, что Галя (они тогда доживали вместе последние дни) хмыкнула и сказала: настоящий мужчина нравится женщине и без галстука, но раз дело зашло так далеко, то за появившуюся у него пассию муж должен: во-первых, приклеить отломанную ножку к детскому столику, во-вторых, посадить на раствор отвалившуюся в ванной плитку, в‑третьих, выдать сумму на приобретение французских духов, а еще лучше – достать их через секретаря комитета комсомола Краснопролетарского универмага. «Это программа-минимум, над программой-максимум я подумаю», – пообещала она. Как многие люди, не обладающие проницательностью, Галя имела талант предвидения.
Однако галстук не помог.
Татьяна Андреевна узнала пациента, дружелюбно поздоровалась, привычно осмотрела и несколькими росчерками пера вернула его к активной трудовой деятельности. Шумилин вышел из ее кабинета с закрытым бюллетенем в руках и чувством незавершенности в душе. Направляясь домой, он еще строил хитроумные планы продолжения знакомства, но на следующий день приступил к работе, завертелся – и образ нового участкового врача переселился в ту область памяти, которая ведает приятными мимолетными встречами.
Но вот как-то раз, делая традиционный вечерний рейд по коридорам райкома, первый секретарь услышал совершенно обыкновенный разговор. Тамара Рахматуллина, курирующая в орготделе медицинские учреждения, с монотонным раздражением объясняла:
– Сверьте список в секторе учета. У вас в ведомости пятьдесят человек, а по картотеке сорок девять.
– Если бы мы недоплачивали, а то ведь переплачиваем, – кротко оправдывалась попавшая в непривычную ситуацию решительная Татьяна Андреевна Хромова.
– А я вам говорю: сверьте! Переплата – такое же нарушение, как и недоплата.
– Простите, но я не знаю, как сверять. Меня просто попросили завезти ведомость – я живу недалеко.
– А где ваш секретарь?
– У нее прием сейчас, а вы обещали главврачу позвонить, если не привезем…
– И позвоню.
– Ну и звоните, – разозлилась докторша и, повернувшись к двери, увидела Шумилина.
Она хотела было пожаловаться, но запнулась (врачи редко помнят имена пациентов) и только пожала плечами: мол, сами видите, что получается.
– Здравствуйте, Татьяна Андреевна! – обрадовался он. – Комсомольское поручение выполняете?
– Пытаюсь.
Тамара тем временем молча взяла со стола ведомость и с сознанием неудовлетворенной правоты сама отправилась в сектор учета.
– На будущее, пусть взносы все-таки привозят те, кому положено. Передайте, пожалуйста, своему секретарю, – мягко попросил бывший больной и тут же уточнил: – Значит, вы рядом живете?
– Да, в Балакиревском переулке.
– Мы почти соседи. Если вы сейчас домой, нам по пути! – предложил Шумилин и пожалел, что отпустил Ашота. – Мне нужно только взять портфель, пойдемте, посмотрите, как я тут устроился.
И краснопролетарский руководитель повел ее в приемную с законной гордостью человека, которому доверена большая должность и еще больший кабинет.
Позже, по дороге к дому, испытывая острый дефицит тем для разговоров, он поинтересовался, почему его новая знакомая носит обручальное кольцо на левой руке, не католичка ли она? Таня некоторое время внимательно разглядывала асфальт под ногами, потом чему-то про себя улыбнулась и спокойно объяснила: два года назад разошлась с мужем – и перевела разговор на шумилинскую работу.
Шумилин проводил ее до подъезда и заверил, что если теперь заболеет, то к врачам обращаться не станет; она ответила что-то в том же духе и, прощаясь, академично, как принято у медиков, называла его по имени-отчеству. Но Николай Петрович, доказывая, что Татьяна Андреевна хоть врач, но одновременно и комсомолка, предлагал отчества отбросить.
Грехопадение состоялось на очередной комсомольской учебе, куда Шумилин под видом активистки вывез и Таню. Обычно такие «учебные» романы заканчивались у него в тот момент, когда автобус с разгулявшимся активом пересекал Окружную дорогу и въезжал в столицу. Но в этот раз все вышло по-другому. Встречались они на квартире холостого шумилинского приятеля, который при их появлении однообразно хлопал себя по лбу, вспоминая внезапно о каком-нибудь срочном деле, и убегал, незаметно уточнив, сколько ему придется болтаться по улице, а также предупредив, что в ванне у него замочено белье. Остается добавить, что свои отношения они любовью не называли и, встречаясь, обсуждали все, что угодно, даже здоровье и проказы детей, но перспективы совместной жизни – никогда…
…Вдохнув продезинфицированный воздух поликлиники, Шумилин неожиданно почувствовал, что разом исчезли все неприятные симптомы. «Сильна родная медицина!» – недоумевал он, заказывая в регистратуре свою карточку. Прием шел к концу, и очереди совсем не было.
Краснопролетарский руководитель заглянул в комнату: Таня склонилась над столом и, поправляя челку, быстро заполняла пухлую, с многочисленными вклейками и вкладышами, историю болезни. «Вот уж книга судеб!» – грустно подумал Шумилин.
Таня подняла глаза на вошедшего и улыбнулась.
– Ты? Загорел…
– Только не говори, что поправился. Сейчас, когда хотят сделать комплимент, говорят: похудел.
Она оперлась щекой на руку, еще раз внимательно посмотрела на пациента и добавила:
– Волосы выгорели… А почему не позвонил? Что-нибудь случилось?
А ему стало вдруг неловко пересказывать свои хвори, но делать было нечего, и он, по возможности с юмором, поведал про то, как, бороздя черноморские воды, чуть не потерпел аварию и не затонул во цвете лет и как после этого его начали посещать не очень-то приятные ощущения. «Умоляю спасти!» – закончил он. Но Таня не разделяла веселья: по ее словам, сначала, видимо, у него было обычное кислородное голодание от длительного пребывания под водой, но потом он сильно испугался, а это уже нервный срыв, хотя, по правде сказать, ничего страшного.
– Жить буду – петь никогда! – неожиданно для себя повторил Шумилин одну из чесноковских прибауток.
– Петь можно, а вот нервничать нужно меньше, полнее отключаться от работы и ни в коем случае не фиксироваться на неприятных ощущениях. Да еще и отдыхать мы не умеем! – вздохнула Таня.
– Вот так, да? А как нужно отдыхать?
– Это индивидуально: одному нужна тишина, а другому – музыка, шум…
– Музыка? Хорошо. Я приглашаю тебя в дискотеку – будем отдыхать!
– Ты знаешь, сегодня…
– Нужно отключаться.
– Усвоил! А тебе-то можно в дискотеку? Со мной…
– Необходимо!
– Ну хорошо. Только я маме позвоню, чтоб Тишку из сада забрала… А может, все-таки в другой раз?
Но Шумилин уже доставал из кейса гвоздики.
Молодежное кафе «Черемуха», при котором два года назад открылась дискотека, занимало нижний этаж хорошо отремонтированного старого дома и сияло на всю улицу витражными окнами. Дискотека была первой крупной акцией Шумилина в Краснопролетарском районе. «Хотим дискотеку!» – заявили комсомольцы на отчетно-выборной конференции. «Сделаем!» – самонадеянно пообещал неопытный первый секретарь и потом не раз жалел.
Оказалось, на словах все за правильную организацию досуга молодежи, но попробуй выбить деньги, получить и отремонтировать помещение, купить аппаратуру. Самое трудное заключалось в том, что никто не отказывался помочь, понимая важность райкомовского начинания, но в этом доброжелательном равнодушии дело вязло, как грузовик в трясине. А тягач на весь районный комсомол один – первый секретарь.
Шумилин постоянно «напрягал» Ковалевского, теребил горком, сам ездил в область выпрашивать на никому не известном заводике мраморную плитку для облицовки, организовывал субботники и воскресники, выбивал в торге хорошую электронику, на общественных началах приглашал знаменитых дизайнеров, а про то, как добыл стекло для зеркального потолка, можно написать фантастический роман с авантюрным сюжетом! Наконец почти через два года после обещания первый секретарь обыкновенными канцелярскими ножницами разрезал алую ленточку, произнес речь, а вечером посмотрел себя по телевизору в городских новостях и убедился, что людям свойственно переоценивать собственную внешность.
Еще несколько недель он вздрагивал при слове «дискотека», но потом новое стихийное бедствие обрушилось на него: начали расширять районный музей истории комсомола и пионерии. О том, что дискотека живет и трудится на благо молодежи, Шумилин помнил: отдел пропаганды принимал участие в подготовке тематических программ, билеты распространялись через комитеты комсомола, в дискотеке дежурили дружинники.
Иногда райком на один вечер абонировал всю «Черемуху» и устраивал аппаратные торжества. Скажем, по поводу успешного проведения отчетно-выборной конференции или Восьмого марта. И тогда, привычно встав на председательское место, будто бы ведя очередное заседание, краснопролетарский руководитель с рюмкой в руке давал краткий застольный очерк достигнутого, признавал недостатки, высвечивал перспективу. Без политически грамотного, мобилизующего и вдохновляющего тоста комсомол бражничать не привык! В комсомоле, как известно, работают не только головой, но и печенью. А потом, охваченные хоровым восторгом, аппаратчики запевали любимых «Добровольцев» – в собственном, районном варианте:
Комсомольцы, п р о л е т а р ц ы —
Мы сильны нашей верною дружбой…
Случалось, Шумилин заглядывал в дискотеку и для проверок, о которых заранее откуда-то все узнавали, но до разговора с инспектором первому секретарю как-то не приходило в голову явиться в «Черемуху» обычным посетителем и насладиться плодами своих же трудов: во-первых, времени постоянно не хватало, а во-вторых, и возраст вроде бы уже не дискотечный.
Возле дискотеки стояла длинная очередь безбилетников – человек сорок. У последних двадцати шансов попасть сегодня в кафе не было, но уж лучше, считали они, провести свободное время в дружественной очереди, чем нигде. Юноши выглядели по-разному: кое-кто напялил свитерок прямо на форменные школьные брюки, зато девушки, как одна, были модно, даже дорого одеты – и Шумилин, вспомнив свою Лизку, тяжело вздохнул в предчувствии грядущих расходов.
– А как мы пройдем? – простодушно поинтересовалась Таня. – У вас билеты есть?
– Решим в рабочем порядке! – неожиданно для себя ответил он. – Сапожник всегда без сапог…
Билетов у него, разумеется, не было. Направляясь сюда, краснопролетарский руководитель рассчитывал на служебное удостоверение и на то, что многие дружинники знают его в лицо, но сквозь такую толпу, да еще вместе с дамой, продираться как-то неудобно, несолидно, что ли. Шумилин остановился в стороне от входа и принялся соображать: можно, пожалуй, позвонить в дискотеку и вызвать на улицу кого-нибудь из дружинников, но номер телефона вместе с записной книжкой остался на работе… Еще можно… Тем временем вертлявый хмырь в застиранном добела джинсовом костюме несколько раз изучающе прошел мимо, затем приблизился вплотную и спросил напрямик:
– Билеты нужны?
– Нужны! – ответила Таня, с улыбкой посмотрев на своего задумавшегося кавалера.
– Пять.
– За два билета?
– Штука.
– Вы что, обалдели? – возмутился в ней врач-терапевт, получающий сто двадцать рублей в месяц.
– Как хотите, – пожал спекулянт плечами и повернулся на мушкетерских каблуках.
– Погоди-ка, – остановил его Шумилин, полез за бумажником и вынул новенькую, будто бы пахнущую типографской краской десятку. – Не обрежься!
Парень хмыкнул и, взяв деньги, передал два пригласительных билета; рядом с ценой «один рубль» стояла отчетливая печать Краснопролетарского РК ВЛКСМ.
– Так сапожник и без штанов остаться может! – задумчиво проговорила Таня.
Показывая билеты, они постепенно протолкались ко входу, попросили посторониться прилипшую к стеклянным дверям пару и, помахав в воздухе картонками, привлекли внимание дежурившего за дверью незнакомого (видно, из нового набора) оперотрядника. Дружинник взял билеты, внимательно осмотрел, чуть ли не понюхал и – тоже мне, сыщик! – спросил как бы невзначай:
– Вы в какой организации покупали?
– Ни в какой, – простодушно ответил первый секретарь, – мы здесь, около входа, по пятерке за штуку взяли…
– Что? Я сейчас! Стойте здесь… – выпалил оперотрядник и метнулся к гардеробу, где, облокотившись о барьер, мирно беседовали Иван Локтюков и широкобородый, с купеческим пробором гардеробщик, рассказывавший, наверное, о своем участии в Брусиловском прорыве.
– Николай Петрович? – удивился заведующий оборонно-спортивным отделом и руководитель районного оперативного отряда. – Проверяешь? А разве сегодня…
– Нет, я отдыхаю. А ты?
– Проверяю.
– Вот так, да? Молодец. Значит, Мансуров с тобой тоже о спекулянтах беседовал.
– Беседовал.
– Ну, тогда с тебя червонец… нет, восемь рублей. В зарплату отдашь…
Выяснив приметы добровольного распространителя билетов, дружинники высыпали на улицу и скоро вернулись ни с чем. А Шумилин тем временем повел Таню в зал, где оглушительно пульсировала музыка и в такт ей мерцал свет: на мгновенье вспыхнув, он выхватывал фигуры танцующих из темноты, и от этого их движения казались фантастически резкими. Диск-жокей что-то выкрикивал в микрофон, и прыгающая толпа отзывалась восторженными возгласами.
Перед танцевальным залом располагался бар, а перед баром – столики. На стульях висели и лежали курточки, сумки, полиэтиленовые пакеты – так что сесть было некуда. Наконец они высмотрели столик, одной стороной приставленный к стене: на двух стульях из трех ничего не висело и не лежало. Усевшись, Таня попыталась пристроить гвоздики в пустой стаканчик для салфеток, но потом просто положила цветы возле стены.
Музыка оборвалась, и столики стали заполняться. На экране вспыхнули и начали сменяться один за другим ослепительные слайды, на них рекламно улыбались суперзвезды мировой эстрады, а диск-жокей, захлебываясь, рассказывал о заблиставших недавно новых светилах музыкальной вселенной. С таким же восторгом, наверное, в двадцатые годы чумазые парни рапортовали о том, что ими установлен новый мировой рекорд по добыче угля за смену.
К только-только устроившимся Тане и Шумилину подошла молодая пара, одетая в единообразные вельветовые джинсы и фирменные майки с рисунками. Девушка была рыжеволосая, с веселыми глазами и нежно-розовой, словно обожженной на солнце, кожей. Ее приятель обладал высокомерным взглядом, выполненной, очевидно, в домашних условиях модной стрижкой и физиономией со следами вулканической деятельности молодой плоти. После танца оба глубоко дышали, под мышками расплылись темные круги.
– Это наши места! – обиженно сказала девушка.
– Все три? – уточнила Таня.
– Все три, – надменно подтвердил парень. – Мы ждем человека.
– Слушайте, ребята, – миролюбиво предложил Шумилин. – Мы скоро уйдем, а стул себе я сейчас принесу. Договорились?
– Ладно, – легко согласилась девушка.
Ее друг непримиримо промолчал. Но тут снова обрушилась музыка – и они умчались танцевать.
Краснопролетарский руководитель между тем притащил стул и отправился к стойке. Незнакомый бармен (прежнего после проверки трудоустроили), мордастый мужчина лет тридцати в массивных очках-«хамелеонах», статью напоминал выпускника института международных отношений, получившего несколько странное распределение. Он дал посетителю внимательно изучить по прейскуранту ассортимент и принялся брезгливо что-то перемешивать в стаканах, а потом сообщил, что имеется только «шампань-каблер». Затем с отвращением воткнул в напитки полиэтиленовые соломинки и метнул сдачу.
Исхитрившись, неопознанный первый секретарь за один раз перенес все четыре стакана на стол и два из них подвинул ребятам, вернувшимся с танца.
– Спасибо! – обрадовалась девушка, которую Таня уже называла по имени – Аня.
Юноша именовался Андреем.
Попробовали коктейль: любимыми ингредиентами бармена оказались вода и лимонная кислота.
– Мы вас тут раньше не видели. Вы – кто? Мы из педагогического, с инфака, – легкомысленно начала знакомиться Аня.
– Я – врач, а Николай…
– Учитель… Я учитель… – быстро перебил Таню глубокозаконспирированный краснопролетарский руководитель.
– Наш институт заканчивали? Какой факультет? Когда?
– Наш. Истфак. Закончил, когда вы еще в школе учились.
– А кто у вас педагогику читал?
– Шуринов.
– И у нас Шуринов. Здорово! А в школе почему работаете? Распределили?
– Распределили.
– Я сразу догадалась, что вы учитель. По костюму и галстуку!
– Вот так, да? А как у нас в институте с билетами сюда? – осторожно приступил к следствию Шумилин. – В очереди стоять не приходится?
– Бывает! – ответила девушка, щебетавшая и за себя, и за своего приятеля.
– Мы здесь в первый раз, – продолжила светскую беседу Таня, – а вам тут нравится?
– Нравится! – сообщила Аня. – Если б еще не эти из райкома – совсем бы здорово было…
– А что им нужно? – равнодушным голосом спросил подобравшийся первый секретарь.
– Да-а… лезут не в свое дело, программу недавно сняли. Им, понимаете, процент советской музыки подавай!
– Ну и что в этом плохого?
– А вы пробовали под «Трех танкистов» танцевать? – прорвало наконец и Андрея.
– Во-первых, танцуют не под все песни, под некоторые и в бой идут, – патетически начал Шумилин, а закончил с обидой: – И дискотеку, между прочим, для вас райком комсомола выбил!
– А зачем ее «выбивать»? – зло удивился парень. – Если есть спрос, нужно строить, пока очередей не будет, как делают на Западе. Это же прибыль! А то, подумаешь, подвиг райком совершил – дискотеку открыл! И вообще комсомол себя изжил…
– Вот так, да? – переспросил первый секретарь. – Это почему же?
– Конечно, изжил! – легкомысленно подхватила Аня. – Представляете, все, кому от четырнадцати до двадцати восьми, – в комсомоле. И мы с Андреем, наверное, и вы с Таней, и восьмиклассники, которые перед входом толкутся…
– А чем тебе это не нравится?
– А тем, что молодежь нужно по интересам объединять, а не сгонять в одну организацию.
– А ты в какой организации хотела бы состоять? – заговорила Таня.
– Я? Ну, например, Союз Музыки и Танца – СМТ! – полусерьезно заявила Аня.
– А потом? – тихо спросила Таня.
– Что потом?
– Потом, когда ты выйдешь замуж, родишь ребенка, начнешь работать – и будет не до СМТ. Тогда перейдешь в СМЖ – Союз Матерей и Жен? Да? А если, не дай бог, разведешься или совсем замуж не выйдешь, тогда куда? В какой-нибудь СОД – Союз Одиноких Девушек…
– Я же к примеру сказала! – обиделась девушка.
– И я к примеру.
– А все-таки, – мрачно вмешался Андрей, – почему комсомол не спрашивает, как мы хотим жить, а вспоминает про нас, когда нужно взносы заплатить, собрание провести или субботник? Почему, например, у комсомола нет своих кинотеатров, где бы только для молодежи фильмы крутили? Почему?
– А почему ты говоришь о комсомоле как о какой-то посторонней благотворительной организации? – профессионально возразил Шумилин. – Ты сам и есть комсомол, от тебя самого и зависит, как жить. И потом, почему ты все время про развлечения рассуждаешь? Комсомол, между прочим, не только собрания или субботники организует – деньги от субботников, кстати, потом на детские больницы идут, эту дискотеку тоже без субботников не построили бы. Комсомол и на БАМе работает, и на…
– А вы меня БАМом не пугайте! На Западе не хуже дороги строят, и молодежь этим не попрекают!
– Что ты все: Запад, Запад… Запад не потерял двадцать миллионов на войне, на Западе такой разрухи в глаза не видели!
– Вы и через сто лет все на войну валить будете? А мы ведь победители. Немцы войну проиграли, а у них в магазинах все есть!
– У них другого нет…
– Давайте-давайте, теперь про безработицу среди молодежи, но тогда и про пособия не забудьте. Они там больше нашей зарплаты.
– А ты был на Западе-то?
– А вы были?
– Я-то был, – твердо ответил Николай Петрович, роскошно прокатившийся с молодежными делегациями в Испанию и ФРГ. – А вот ты с разных голосов нахватался.
Парень насупился и молча старался проткнуть гнущейся пластмассовой соломинкой вишенку на дне стакана.
– Вы не учитель, – задумчиво произнесла Аня, – вы тоже из райкома. А мы из педагогического, с инфака, курс вам тоже сказать?
– Это мы сами выясним, – нахмурился Шумилин. – Татьяна Андреевна, запишите и завтра к институту подошлите решетчатую карету и пять мотоциклистов с пулеметами.
Все засмеялись, даже Андрей, продолжая злиться, захмыкал.
– Ой, Татьяна Андреевна, – по-женски ловко сменила тему Аня. – У вас же гвоздики совсем поумирали! Андрюша, попроси у бармена вазу – букет жалко.
– Мне он не даст…
Первый секретарь сделал многообещающий жест, отправился к стойке, купил бутылку шампанского и попросил вазу.
– Хрустальную или из чешского стекла можно? – поиздевался бармен. – Бутылку выпьешь и воткнешь…
– Можно бы и повежливее…
– Иди-иди, перестарок! – громко крикнул вдогонку «выпускник МГИМО».
– Не получилось, – садясь, объяснил Шумилин. – Ладно, нам уже уходить пора, тем более мы обещали недолго посидеть.
– Да что вы! – раскраснелась Аня. – Давайте еще поспорим, а?!
– Хватит уж, – буркнул Андрей.
А тем временем у стойки разворачивались драматические события: угрожающей походкой, словно собираясь ударить в ухо, Локтюков подошел к бармену и что-то сказал, кивнув в сторону краснопролетарского руководителя. Лицо укротителя коктейлей окаменело, под наморщенным лбом началась борьба самолюбия и расчета, но поскольку у схватившихся сторон оказались разные весовые категории, бармен после колебаний полез под стойку, долго там копался, потом его побагровевшее лицо снова появилось на поверхности. Он аккуратно вытер полотенцем блестящий сосуд, приблизился к столику, с уважительным укором глянул на начальство:
– Вазы, честное слово, нет. Может, это подойдет?
И поставил на середину стола сияющий никелированный кубок городской спартакиады, три дня назад похищенный неизвестными хулиганами.
– Откуда это у вас? – ошеломленно спросил Николай Петрович.
Барменское самолюбие сделало последнюю попытку вырваться из стального захвата, но было окончательно прижато к ковру.
– Какой-то парень вместо денег впарил: не поднимать же шум из-за полтинника!
– Локтюков! – закричал Шумилин на весь зал.
Посчитав, что первого секретаря бьют, глава оперотряда, расшвыривая стулья, выскочил из вестибюля и замер, увидев знакомый серебряный сосуд, в который ничего не подозревавшая Аня уже поставила понурившиеся гвоздики.
Благосклонно глядя на себя в зеркало и пританцовывая, Шумилин ездил по щекам трескучей электрической бритвой. Выпадают редкие дни, когда чувствуешь себя победителем жизни, сегодня у него был именно такой день: он даже проснулся с ощущением легкости, чего с ним давно уже не случалось.
Весь вчерашний день здорово напоминал счастливую концовку плохого детектива: примчавшийся по звонку инспектор Мансуров опросил бармена и нескольких ребят, постоянно пасшихся, чуть не ночевавших в дискотеке, заверил райкомовцев, что остальное – вопрос техники, и обещал позвонить утром. Прощаясь, он пожимал руку краснопролетарского руководителя с каким-то особенным уважением.
Шумилин пошел провожать Таню домой, и они еще долго бродили по темным улицам, сгрудившимся у подножья сияющего стеклом проспекта. Несколько раз им встречались дружинники; некоторые оперотрядники узнавали первого секретаря и поглядывали на него с тем выражением, какое бывает у детей, вдруг выяснивших во время турпохода, что учительница тоже очень любит сладкое и до смерти боится лягушек.
Потом они сидели на широкой и низкой скамье, передвинутой кем-то с автобусной остановки в глубь заросшего, почти поленовского дворика. Шумилин вновь и вновь рассказывал Тане о происшествии в райкоме, не переставая изумляться, что кубок отыскал именно он.
– А если бы эта Аня не вспомнила про цветы? Представляешь?
– Представляю… А что будет тем, когда найдут?
– Плохо будет. Статьи я не помню – надо у Мансурова спросить.
– А от тебя это будет зависеть?
– Все, что зависело от меня, я сделал.
– Все? Я думала, ты добрее. Что же поделаешь?
– Наверное, ничего. Я замечала, когда врачи становятся большими руководителями, обычно это отражается на их пациентах. За все приходится платить. Я слышала, тебя в горком приглашают?
– Приглашают в гости. Работу в горкоме мне пока никто не предлагал. А за свою карьеру – тебя не смущает такое слово? – я расплачиваюсь собой… Понимаешь, собой, а не другими.
Холостой приятель, увидев их на пороге в половине двенадцатого, так оторопел, что даже забыл ударить себя по лбу. Этой ночью Шумилин и Таня впервые заговорили о совместном будущем…
…Шумилин добрился, струей одеколона, как из маленького огнетушителя, немного остудил жар воспоминаний, затем долго одевался перед зеркалом и натер себе шею, подбирая галстук, а когда выглянул в окно, обнаружил, что водитель подал машину с редкой пунктуальностью. Прыгая через ступеньку и легкомысленно размахивая кейсом, первый секретарь выпорхнул на улицу и, ослепленный солнцем, остановился, дожидаясь, пока рассеются синие пятна перед глазами.
– Какого человека катаю! – уважительно покачал головой Ашот, открывая перед начальством дверь «Волги», не пожарной, как обычно, а блистательно-черной, с розовыми занавесочками.
– А где наша машина? – полюбопытствовал Шумилин, усаживаясь.
– Коробка полетела. Начальник колонны плакал, когда этого орла давал… Слушай, а как ты его нашел?
– Кого?
– Ладно, не притворяйся! Бокал этот…
– А-а, кубок! В общем, случайно…
– Э-э, не надо своим ребятам-то вкручивать!
– Понимаешь, Ашот, – задумчиво начал первый секретарь, – у умного человека, кроме переднего стекла, еще зеркало заднего вида должно быть…
Они так громко захохотали, что гаишник, стерегущий перекресток, долго всматривался в номер их «Волги».
Приехав в райком, Шумилин назначил планерку на одиннадцать часов, передал черный футляр с печатью Комиссаровой и помчался на стройку, куда давно уже собирался.
Проспект, переходящий в шоссе, пролетели мгновенно, потом тряслись по грунтовке и наконец влипли в месиво, каковое всегда окружает место, где человек вознамерился возвести себе жилье. Ашот затормозил у плаката с надписью: «Ударная комсомольская стройка Краснопролетарского района», открыл дверцу, посмотрел на землю и выходить не стал.
Шумилин вылез и по обломкам стройматериалов, как по кочкам, запрыгал к вагончикам, возле которых расселись на бревнах строители. Они курили, грелись на доходящем осеннем солнышке и давали советы таскавшим мусор стройотрядовцам:
– Да ты резче носилки отпускай, а то руку вывихнешь!
Увидев в окно подкатившую «Волгу», бригадир вышел из вагончика:
– Николай Петрович! Из отпуска – и прямо к нам! А мы уже штукатурим!..
– А почему только наши бойцы работают?
– У нас как у Райкина: раствор – йок, сижу куру. А у бойцов – энтузиазм молодых!
– Вот так, да?! Тогда придется позвонить в трест и узнать, почему потери рабочего времени должны покрываться за счет энтузиазма молодых… На субботу и воскресенье я к вам сам с активом приеду. Ждите.
Шумилин обошел холодные, пахнущие свежим цементом коридоры почти готового здания, взглядом старого стройотрядовского волка засек парочку «расцветающих» дверных проемов, переговорил со знакомыми ребятами и, уже подходя к машине, увидел, как бригадир, размахивая руками, поднимает с бревен свою отяжелевшую гвардию. По пути в город им встретилась машина с раствором – значит, в трест можно не звонить. Нет, положительно, день складывался удачно!
С дороги, из автомата, Шумилин пытался дозвониться до Тани, но телефон был занят.
Когда Николай Петрович в сопровождении Ашота вошел в приемную, Аллочка внимательно посмотрела на измазанные ботинки краснопролетарского руководителя, медленно сравнила их с сияющими штиблетами шофера и наконец сообщила, что недавно звонили из РУВД.
Первый секретарь метнулся к телефону.
– Все в порядке: один уже у нас, – доложил капитан.
– Ну и… Кто он? Из нашего района?
– Объясняю: Семенов Юрий Сергеевич. – В трубку было слышно, как инспектор шуршит бумагой. – 1967 года рождения, русский, учащийся десятого класса 385-й школы нашего района, проживает в нашем же районе: Нижне-Трикотажный проезд, дом 14, квартира 127. В комсомоле не состоит, инспекция по делам несовершеннолетних его, оказывается, знает, уже встречались. Семья нормальная: отец – шофер в НИИ ТД, мать – воспитательница в детском саду. Утром, когда мы зашли, спокойно собирался в школу, но – догадливый! – сразу все понял и даже удивленных глаз делать не стал…
– А второй?
– Второго пока не установили. Семенов говорит, познакомился в магазине, когда покупал портвейн, никогда его раньше не видел и потом не встречался, где живет, не знает, как зовут, не помнит. Наверное, врет, хотя все берет на себя. Сознался, что идея влезть в райком – его. Сначала собирались выпить в скверике перед райкомом, но потом Семенов заметил открытое окно и предложил продолжить в помещении – так сказать, с комфортом! В общем, цепочка, о которой я вам и говорил: безделье – выпивка – хулиганство…
– А где он сейчас?
– Отдыхает.
– Товарищ… – Шумилин быстро полистал календарь и нашел имя инспектора, – Михаил Владимирович, у нас просьба: члены бюро хотели бы поговорить с этим Семеновым, высказать ему свое отношение, может быть, для себя какие-то выводы сделать. Бюро у нас сегодня в два.
– Доставим. Только не думаю, что из разговора с ним толк выйдет. Обыкновенный хулиган! Я спрашиваю: «Зачем же вы в райкоме погром устроили?» А он: «Ничего не помню – пьяный был…»
– Привезите его, пожалуйста, к половине второго. Я сам сначала на него хочу поглядеть.
– Пожалуйста! Но воспитывать его нужно было раньше.
Аппарат прошел быстро и слаженно. Как часто бывает в комсомоле, дело, только вчера казавшееся безнадежно проваленным, вдруг набрало силу.
Шумилин, довольный, вернулся в кабинет и только собрался пообщаться с Таней, как по прямому телефону ему позвонил осведомленный Околотков:
– Ходят слухи, что тебя Петровка в кадры забрать хочет?
– Уже заявление пишу!
– Не торопись! Первый вернулся и, как утром обо всем узнал, так на тебе зациклился. «Какие люди!» – говорит. Кстати, ты этого налетчика сам-то видел или, как Шерлок Холмс, занимаешься только интеллектуальным сыском, а техническую сторону милиции оставляешь?
– Еще пока не видел, но сегодня на бюро его привезут, хочу, чтобы с ним ребята потолковали – он ведь из нашего района.
– Та-ак… Грамотный ход! Я сегодня у пищевиков на отчетно-выборной конференции, это рядом с тобой. Обязательно заеду, посижу у вас на бюро, заодно обсудим, как тебе лучше с первым на собеседовании держаться… С одной стороны, ты, конечно, герой! А с другой… Да, чуть не забыл: тебя тут телевидение хочет. Стройкой твоей интересуется. Режиссер тебе должен вечером позвонить. Когда сниматься будешь, не забудь причесаться! Кстати, звезда экрана, ты с Галей-то помирился?
– Нет.
– А вот это зря. Ты меня понял? До встречи.
Шумилин перевел дух и связался с Ковалевским.
– Все уже знаю, – ответил Владимир Сергеевич. – Ну вы, братцы мои, даете: сами хулиганов разводите, сами ловите. Он из какой школы?
– Из триста восемьдесят пятой.
– И школа-то хорошая. Надо разобраться.
– Я хочу, Владимир Сергеевич, чтобы с этим Семеновым члены бюро поговорили, разобрались. Его сегодня к нам из милиции привезут, секретарь горкома Околотков будет. В два начнем.
– Директора школы пригласите обязательно! Постараюсь к вам прийти – погляжу на вашего громилу. Очень мне интересно, как ваше замечательное общество такие некачественные продукты производит. А второго еще не нашли?
– Нет еще.
– Ну, ты уж, Николай, поднапрягись: у тебя, говорят, это хорошо получается! И вообще загляни ко мне на неделе, пора нам, как говорят в «Кинопанораме», о твоих творческих планах потолковать.
Шумилин положил трубку и, нажав кнопку селектора, попросил Комиссарову пригласить на бюро директора 385-й школы.
– Бедная Ирина Семеновна! – посочувствовала сердобольная Надя. – У них лучшая успеваемость по району…
– Ничего, – сурово ответил первый секретарь. – Теперь дисциплиной займутся.
И опять начал набирать Танин телефон, но тут, гремя развернутой газетой, в кабинет влетел Чесноков.
– Командир! Слава когтистой лапой стучится в дверь!
– Вот так, да? – заинтересовался Шумилин и, положив трубку, расправил газетный лист на столе.
Большая, хорошо пропечатавшаяся фотография на первой полосе изображала заседание Краснопролетарского бюро: подретушированный первый секретарь неподвижно уставился на Бутенина и, что-то объясняя, фехтовальным движением направил ему в грудь авторучку. Речь, помнится, шла о своевременной сдаче взносов. Члены бюро старательно демонстрировали внимание. Сбоку, ломая все представления о времени и пространстве, прилепился Чесноков, действительно очень хорошо получившийся на фотографии.
Шумилин вздохнул и позвонил Липарскому.
– Видал? – победно спросил тот.
– Видал. Спасибо. Парню твоему все оформили. А кстати, вам нужен острый материал о работе с подростками?
– Острый материал всегда нужен, но только такой, чтобы не проколоться…
– Мы сегодня на бюро будем с одним несовершеннолетним беседовать…
– С тем самым?
– С тем самым.
– Ну ты отважен, старик! Это надо бы с главным переговорить. И с горкомом тоже. А впрочем… Ты меня понимаешь? А?! Придет корреспондент. Обнимаю. Отбой – четыре нуля…
Закончив разговор, Шумилин глянул на Чеснокова и подумал, что он чем-то похож на Липарского – умеет решать вопросы, как говорят в комсомоле. Заворг стоял потупившись, заранее приготовившись к поощрению.
«А ведь и правда: удачно получилось», – с досадой подумал краснопролетарский руководитель, а вслух спросил:
– Как там у нас с явкой на бюро? Смотри, Околотков приедет, и Владимир Сергеевич обещал…
– Ковалевский?! Вот это – да! Гора идет к Магомету…
– Ладно, потом будешь острить. Пусть в комнатах приберутся и не курят. В коридоре надо промести, и чтоб около сектора учета хвоста не было!
– Понял, командир! За кворум не бойся: с такой повесткой дня у нас аншлаг будет! Первый раз за два года олимпийского чемпиона Колупаева увидишь. Я просил его с олимпийской медалью на шее прийти. Шучу. Еще звонили из Краснопролетарского универмага – есть серые финские костюмы, пятые роста! Такое бывает раз в сто лет. Я беру. Твой размер прихватить?
– Я подумаю, – ответил он Чеснокову.
– Если покупатель станет думать – ему носить будет нечего, хватать нужно, а не думать! И потом: думай не думай, сто восемьдесят рублей – не деньги!
– Ладно, пойдем в конце дня примерим…
– Может, ты еще в список запишешься, недельку на переклички походишь, а потом сутки в очереди постоишь? Эх, Николай Петрович, не умеешь ты своими правами и обязанностями пользоваться. Или не хочешь пока? Шучу.
Олег ушел, а Шумилин связался с майонезным заводом. Лешутина убеждать по поводу кандидатуры нового секретаря не пришлось.
– Пусть поработает, – согласился он. – Что нужно делать, Бареев знает, сам на собрании об этом кричал. Я-то – «за», но, по-моему, Головко уже успел директора накрутить.
– Вот так, да? А на месте директор?
– В министерство уехал. Там он на месте.
– Ну, ничего, с ним мы договоримся.
– Договоритесь. Он у нас тоже на повышение идет…
«Все все знают! Парапсихология какая-то!» – удивлялся краснопролетарский руководитель, набирая номер комитета комсомола педагогического института.
– Послушай, Андрей, – спросил он у Заяшникова, – кто у нас секретарь на инфаке?
– Медковский. А что?
– Смену планируете в этом году?
– Нет. А что?
– Пусть он послезавтра в четыре часа подойдет.
– Что-нибудь случилось?
– Пока нет. А ты-то сам доволен, как у тебя инфак работает?
– В общем не очень. А что?
– Ничего. Я с ним хочу в общем поговорить. Не опаздывай на бюро!
– Не опоздаю. У нас уже весь комитет знает, подробностей ждут! Николай Петрович, а можно тебе задать один нескромный?
– Если по поводу моего перехода, то ты про это лучше меня знаешь. Вот так-то!
Посмотрев на часы, Шумилин помчался обедать и весь взмок, отшучиваясь от добродушных, насмешливых и злых поздравлений с большой служебно-розыскной победой. Даже девчонки на раздаче смотрели на него восторженными глазами и выбирали кусочки получше.
Ровно в половине второго он вернулся в райком и узнал от взволнованной Аллочки, что звонили из Тынды.
– Кононенко?
– Виктор Иванович! – подтвердила она. – Спрашивал, как у нас дела!
– Ну и что ты ответила?
– Ответила – «нормально»: вы же предупреждали…
– А телефон он свой оставил?
– Нет, сказал, еще будет звонить…
«Как дела? Как дела? – сокрушался Шумилин, заходя в кабинет. – Тут не дела, а целое дело – уголовное!»
Следом в комнату проникла Аллочка и, прикрыв за собой дверь, сообщила, что по телефону Николая Петровича еще спрашивал женский голос.
– Она просила что-нибудь передать? – забеспокоился Шумилин, вспомнив, что так и не поговорил с Таней.
– Нет. Сказала, будет дозваниваться. По-моему, это ваша жена! – скромно добавила секретарша, но по интонации стало ясно, что своеобразие личной жизни руководителя известно ей до мелочей. «Значит, в самом деле решила разводиться, – рассуждал первый секретарь, наблюдая, как к райкому подруливает патрульная машина. – Ну и ладно. А в общем-то, странно…» Звонок действительно был неожиданным, потому что с тех пор, как они разъехались, Галя ни разу не воспользовалась служебным телефоном мужа…
Семенова привезли Мансуров и незнакомый сержант милиции. На пороге кабинета, озираясь, парень остановился.
– Что, знакомые места? – с суровой насмешливостью поинтересовался Шумилин. – Проходи, побеседуем…
Семенова усадили перед столом-аэродромом, а инспектор с сержантом сели на стульях возле стены.
Не зная, с чего начать, первый секретарь разглядывал пойманного с его помощью хулигана. Какой там школьник! Перед ним, откинувшись на стуле, сидел здоровенный мужик, зачем-то одетый в ученическую форму. Широкое темное лицо, бритый наждачный подбородок, равнодушные до наглости глаза и большие красные руки, замком сцепленные между колен. Рубашка расстегнута, и на груди видны густые черные волосы. Акселерат чертов! Но все-таки по движениям, посадке было заметно, что парень еще до конца не привык к своему стремительно повзрослевшему телу. Так не сразу свыкаются с новым костюмом. Да и его вызывающее спокойствие, если приглядеться, было ненастоящее.
Сначала обличительно настроившийся Шумилин ничего этого не заметил.
– Рубашку застегни, – тихо потребовал он. – Ты все-таки в районном комитете комсомола.
– Для него это не аргумент, – усмехнулся Мансуров.
Парень застегнулся и выжидательно выпрямился.
– Вот что, Семенов, – медленно и грозно начал Шумилин. – За свое преступление, да-да, именно преступление, ты ответишь по закону, но сегодня тебе придется отвечать перед членами бюро, перед работниками аппарата, перед всеми краснопролетарцами, на которых ты бросил тень своей выходкой. Пригласили мы и директора твоей школы – школу, Семенов, ты тоже опозорил! А сейчас скажи мне – я просто хочу твою логику понять! – почему тебе взбрело лезть именно в райком? Только потому, что было окно открыто, или есть другая причина?
– Нет.
– Вот так, да? Значит, увидел открытое окно и захотел посмотреть?
– Захотел, – угрюмо ответил парень.
– Ну, если ты такой любознательный, мог бы и днем через дверь зайти!
– Я не комсомолец.
– Как же так случилось? – с ехидной участливостью спросил Шумилин.
– Не приняли.
– И правильно сделали – ты бы тогда в райком каждый день стал лазать, может, и ко мне заглянул бы: я иногда допоздна засиживаюсь.
– А я к вам уже заглядывал.
– Что ты говоришь? По какому же вопросу, можно узнать?
– По личному.
«Я же предупреждал вас: наглец он!» – взглядом подтвердил инспектор свои утренние слова.
– Что-то я не припоминаю нашу встречу. Это когда было? – с иронией уточнил краснопролетарский руководитель.
Семенов пожал плечами.
– Молчать проще всего, ты лучше напомни, – встревожился Шумилин.
– А зачем? Вы же опять забудете…
– Не морочь людям головы! – по-милицейски повысил голос Мансуров. – Спрашивают тебя – отвечай!
Но настырный парень безмолвно разглядывал в окне тополиную ветку. Капитан тем временем с раздражением барабанил по коленям пальцами. Сержант недоуменно смотрел на прикрепленный к стене мамонтовый бивень, подаренный райкому подшефными полярниками. А первый секретарь натужно вспоминал.
Людская память обладает двумя качествами: человек может забыть очень многое, и вместе с тем он никогда ничего не забывает. Если захотеть, можно вспомнить все, любую мелочь: например, какого цвета были глаза у пассажира, который в позапрошлом году в одном купе с тобой ехал на юг. Конечно, при условии, что ты заглядывал ему в глаза.
И Шумилин вспомнил.
В тот день бюро, как всегда, началось с приема в комсомол.
– Триста восемьдесят пятая! – крикнул за дверью дежурный инструктор, и в зал заседаний боязливо вступила группа восьмиклассников – девочки в негнущихся белоснежных передничках, мальчики в застенутых на все пуговки белых рубашках, один даже в отцовском галстуке, широком и коротком, как римский меч.
«Прямо первое сентября, только что без цветов, – подумал Шумилин. – Молодец, Ирина Семеновна!»
А то в последнее время взяли моду являться на бюро в чем вздумается, и он со всей резкостью говорил об этом на недавнем совещании директоров школ в роно.
– Садитесь, ребята! – важно пригласила Шнуркова, в ту пору третий секретарь райкома.
Школьники скромно расселись, стоять осталась лишь секретарь комитета ВЛКСМ 385-й Леночка Спиридонова, аккуратненькая десятиклассница, хорошо усвоившая, что общественная работа и средний балл аттестата зрелости – сосуды сообщающиеся. Кукольным голоском она читала заявления, содержание которых в основном сводилось к законному желанию вступающих оказаться в авангарде советской молодежи; скороговоркой сообщала анкетные данные и передавала очередной бланк первому секретарю. Тот проверял правильность заполнения анкет и делал отметки, утверждающие решение собрания.
А тем временем члены бюро беседовали со вступающими.
– С уставом ознакомился? – доброжелательно спрашивал кто-нибудь из сидящих за длинным столом.
– Д-да, – четко отвечал испытуемый.
– Тогда скажи, что такое принцип демократического централизма?
И вступающий говорил, иногда бойко, иногда с паузами, в которых был слышен отработанный на уроках шепот подсказок. Если ответ оказывался неуверенным, человека оставляли в покое, если же он проявлял твердое знание предмета, то могли еще поинтересоваться успеваемостью или правами и обязанностями члена ВЛКСМ. Но основательно расспрашивали только в самом начале двух-трех ребят: за дверьми ждали своей очереди учащиеся других школ, а в повестке дня значилась еще масса проблем.
Если группа вступающих оказывалась небольшой, каждому члену бюро доставалось по одному вопросу, знакомому, что называется, до слез, но когда – как в тот день – в зале заседаний случалось сразу человек по двадцать, надо было спрашивать по второму и третьему кругу. Приходилось с помощью вступающих выяснять политическую обстановку в мире, углубляться в историю комсомола, выпытывать, что же это за такое общественное поручение в восьмом классе – «консультант», в крайнем случае интересоваться, какую последнюю книгу прочитал испытуемый? Для ребят уж совершенно спортивного вида приберегали спасительную задачу: «Какие у комсомола ордена?» И вот удивительно: вместо того, чтобы пересчитать тут же на стене развешанные фанерные макеты, некоторые, уперев глаза в потолок, тужились вспомнить награды, изображаемые на первой полосе «Комсомольской правды».
В безнадежных случаях, когда вступающий молчал так упорно, будто хотел сберечь военную тайну, ему рекомендовали серьезно подготовиться и прийти в другой раз. Но шли на такое нечасто, ибо цифра приема – как говорится, лицо любого райкома.
В тот день, пока шел разговор со вступающими, Шумилин, не поднимая головы, визировал анкеты, подписывал уже готовые билеты и персональные карточки тех, кого утвердили полчаса назад: сектор учета трудился бесперебойно. Обработав очередную партию документов, он оглядывал членов бюро и просил, например, Гуркину: «Светочка, поздравь, пожалуйста!» Та незаметно выходила из зала, в кабинете кого-нибудь из секретарей пожимала руки новым членам ВЛКСМ, вручала билеты и тихонько возвращалась.
В тот день 385-я школа постаралась и прислала на прием гораздо больше, чем планировалось, – поэтому к тому времени, когда Спиридонцева вызвала Семенова и передала первому секретарю последнюю анкету, каждый задал уже по три вопроса, дошло дело и до орденов. Наступила пауза, какие бывают на собраниях, если докладчик перепутает странички выступления.
Семенов испуганно вскочил и, ожидая, взволнованно гнул длинные прозрачные пальцы.
Удивленный тишиной, Шумилин поднял глаза, сразу уловил ситуацию и задал самый простой вопрос, какой только пришел на ум:
– А почему ты вступаешь в комсомол?
– Я? – переспросил паренек.
– Ну не я же!
– Я… Так ведь все вступают.
– Что значит «все вступают»? Ты-то сам почему решил стать комсомольцем?
Испытуемый молчал.
– Как ты учишься? – зашел с другого бока первый секретарь.
– Без троек.
– Общественные поручения есть?
– Есть. Стенгазета.
– А кто тебя рекомендовал?
– Елена Александровна… Классный руководитель.
– Ну вот видишь, все у тебя в порядке, а ты не можешь повторить то, что сам же в анкете написал! – улыбнулся Шумилин.
– Могу повторить… Но это ведь все написали! – вернулся в исходное положение паренек, видимо убежденный, будто от него ждут какого-то особого, исповедального ответа.
– Вот так, да? Опять – «все». Вы под диктовку, что ли, писали?
– Н-н-нет, – ответил Семенов, оглянувшись на застывшее лицо Спиридонцевой. – Нет, нет!
– Кто у тебя родители? – резко вмешалась в разговор Шнуркова.
– Папа – шофер, мама – воспитательница в детском саду…
– Интеллигентная семья! Что же они тебя мыслить самостоятельно не приучили? «Как все» – не ответ. Пойми, комсомол – это огромное событие в твоей судьбе, это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу! Комсомолец – не звание, не красивый алый билет, это – жизненная позиция! Ты понял меня?
– Понял…
– Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумает хорошенько свой шаг, подготовится! – директивно закончила третий секретарь.
– Подождите! – остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. – Ты хочешь быть комсомольцем?
– Хочу… – проглатывая слезы, ответил Семенов.
– Ты читал речь Ленина на третьем съезде комсомола?..
– Читал! – ожил он и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи.
– Хватит… Хорошо! – остановил его Бутенин. – Учится нормально, общественное поручение есть, документы знает… Одним словом, я считаю: можно утверждать…
– Я категорически против! – непримиримо возразила Шнуркова. – Это же формализм! А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества! Если же человек не знает, зачем идет в комсомол, – хорошая память убежденности ему не заменит. Я против!
Все посмотрели на Шумилина.
Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напоминавшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колючками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими, секунду он различал ее, но потом навсегда потерял из виду.
Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но, с другой стороны, как ни в чем не бывало принять человека, не ответившего, почему он вступает в комсомол, тоже нельзя. Да еще эта Шнуркова… Надо бы не Кононенко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря бог послал: чуть что – в Новый дом бежит! Ладно, через месяц примем парня, а ему впредь наука: мужчина всегда себя должен в руках держать.
– Голосуем. Кто за то, чтобы отложить? – призвал он и сам поднял руку.
Против проголосовал Бутенин. Полубояринов воздержался.
– Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоем приеме, – отечески объяснил первый секретарь. – Но ты не расстраивайся: мы тебе не отказываем, через месяц ждем на бюро. До свиданья, можешь идти…
После того как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил встать ребят и привычно поздравил их со вступлением в комсомол, пожелал хороших дел, отличной учебы и посоветовал не забывать, что членами ВЛКСМ они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы, и попросил задержаться Спиридонову.
– Что же вы так готовите вступающих! – возмущенно спросил он поникшую Леночку. – Анкеты – я потом посмотрел – как под копирку написаны.
Умненькая Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание – лучший довод в споре с руководством.
– Я предлагаю, – возвысила голос неутомимая Шнуркова, – строго указать комитету ВЛКСМ триста восемьдесят пятой школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через два месяца заслушать отчет о принятых мерах… А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю!
После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипит ему в лицо.
В задымленной комнате он застал громкий спор.
– Что же получается! – возмущался Бутенин. – Прокатили парня только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем глубоко личного отношения?
– Я ему этот вопрос не задавала, – спокойно возразила Шнуркова.
– Да я тебе про другое говорю. Вопрос можно любой задать. Одним словом, парня мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется: мол, правду говорить себе дороже? Так?!
– Останется, что нельзя быть начетчиком! – отрубила третий секретарь и ввинтила в пепельницу искуренную до фильтра сигарету.
– Да сама ты начетчица! – взорвался Бутенин. – Для мальчишки же это трагедия, он просто растерялся.
– Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется. А принимать людей, идейно не подготовленных, нам никто права не давал!
– Ты это серьезно? – опешил Бутенин.
– Более, чем…
– Ну, тогда тебя не переспоришь…
Шумилин еще долго помнил про тот случай, а когда через три месяца Спиридонцева докладывала о принятых мерах, поинтересовался, как там Семенов, почему его не приводят на бюро.
– А он не хочет! – обиженно сообщила Леночка. – И вообще последнее время он учиться хуже стал, безобразничает. Родителей в школу вызывают…
– Работать нужно с несоюзной молодежью, – нахмурился первый секретарь.
– А мы работаем!
– Вот так, да?.. – строго переспросил Шумилин, но тут его соединили с городом, и он начал ругаться из-за стендов для расширяемого районного музея истории комсомола и пионерии.
А потом он забыл. Так вылетает из головы номер ненужного телефона или имя случайного знакомого. Забыл на два года. А теперь вспомнил…
– Михаил Владимирович! – попросил Шумилин. – Я хотел бы поговорить с молодым человеком с глазу на глаз. Извините.
Инспектор пожал плечами, взглядом показал сержанту на открытое окно, и они вышли.
– Значит, говоришь, по личному вопросу приходил? – спросил первый секретарь после того, как дверь закрылась.
– Приходил.
– А что же ты потом не пришел? Обиделся?
– Мне подачек не надо, – ответил парень, удивленный, что его все-таки вспомнили.
– Обиделся! А жизнь самому себе испортил. Да-а, Юра, Юра, ты даже не понимаешь, что натворил!
Краснопролетарский руководитель почувствовал себя мудрым и добрым человеком из какого-то очень знакомого, шедшего недавно по телевизору фильма. Насколько запомнилось содержание, Семенов должен был расплакаться, как мальчишка.
И он заплакал. Но не по-ребячьи, распустив нюни, а по-мужски, без слез, закусив губы и сотрясаясь всем телом.
– Успокойся! – строго сказал Шумилин и опять же, как в том фильме, налил парню воды. – Приведи себя в порядок. Я сейчас вернусь…
Он вышел в зал заседаний и подсел к нетерпеливо дожидавшемуся инспектору:
– Сколько же ему могут дать?
– Ну, это уж суд решать будет, – удивленно ответил Мансуров.
– А по вашему опыту?
– Смягчающих обстоятельств нет. Сначала в колонию для несовершеннолетних отправят – может быть, и со взрослыми досиживать придется. Вы же за него ходатайствовать не собираетесь?!
– Нет… Не знаю… Спасибо. Можете забрать его.
Шумилин дождался, пока капитан уведет Семенова, вернулся к себе и снова почему-то решил позвонить Тане, но, задумавшись, так и замер, прижимая к уху гудевшую трубку. Нужно было решать.
…Допустим… Допустим, даже если кто-то и узнает в этом взрослом парне того растерянного мальчишку или вспомнит давнюю историю с Семеновым из 385-й (что в присутствии Ковалевского и Околоткова очень некстати) – все равно ничего страшного не произойдет. Кашу заварила Шнуркова, бюро, в сущности, поддержало; в крайнем случае райкому придется разделить, как говорится, с семьей и школой вину за одного из упущенных подростков. А персонально первого секретаря вслух не сможет упрекнуть никто!
В дверь заглянула Аллочка:
– Николай Петрович, члены бюро собираются.
– Пусть рассаживаются. Я иду.
…Так вот… Никто, кроме самого же первого секретаря, который, как известно, не привык расплачиваться за свою карьеру чужими судьбами. Не привык… Но тогда…
В кабинет ворвался энергичный, как паровой молот, Чесноков:
– Командир! Ковалевский и Околотков…
– Где?! – бросив трубку, вскочил Шумилин.
– У подъезда, друг друга вперед пропускают. Если ты сегодня с ними обо мне договоришься, вопросов не будет.
– Очень ты суетишься.
– А у меня нет папы-начальника, чтобы я не знал, куда руки от скромности девать, пока он бы мне по телефону жизнь устраивал!
Торопясь к двери, Шумилин хотел возразить, но тут грянул прямой телефон, и он быстро вернулся.
Звонила Галя. По-семейному, как ни в чем не бывало, только немного заискивающе, она просила привезти от свекрови Лизку «к нам домой» и, если можно, освободить вечер, чтобы поговорить…
Такого поворота событий первый секретарь не ожидал.
– Алло, что ты молчишь? – тревожно спросила жена.
– Подожди, – ответил он и закрыл трубку ладонью: в дверь шумно входили Ковалевский и Околотков.
– Ну, братцы мои, заработались! – улыбнулся Владимир Сергеевич. – Городское начальство встретить некогда.
– Ничего, это болезнь роста! – в тон ему шутил Околотков.
– Командир! – одними губами умолял Чесноков.
– Алло, Коля, что ты молчишь?! – ладонью, зажимающей трубку, слышал Шумилин голос Гали.
Он встал навстречу вошедшим, шагнул из-за стола и увидел вокруг окаменевшую и накренившуюся зыбь моря. Вверху, на фоне безоблачного, цвета густой грозовой тучи неба сияло зеленое с кровавым ободком солнце. И еще человек почувствовал, что больше не умеет плавать…
Много лет подряд на встречах с читателями мне задают один и тот же вопрос. Звучит он по-разному, но смысл сводится к следующему:
– Не раскаиваюсь ли я в том, что своими повестями «ЧП районного масштаба», «Работа над ошибками» и «Сто дней до приказа» способствовал развалу СССР и крушению социализма?
Вопрос – прямой, но не простой.
В молодости у меня был заготовленный ответ: я, мол, вам не горный мальчик, который, стегая прутиком Терек, думает, будто именно по этой причине река несется, воя и пенясь. С возрастом пришло понимание: каждый человек в той или иной степени участвует в истории. Виновата ли капля дождя в том, что наводнение снесло с лица земли город? И да, и нет… Я не раскаиваюсь в сказанном и написанном, ибо всегда брался за перо по любви или ненависти, а не по расчету. Однажды я выпивал с одним писателем, начинавшим бодро и свежо, но к концу перестройки совсем потерявшимся в буйном литературном процессе тех лет. Опрокинув рюмку, он долго смотрел на меня с туманной пристальностью и вдруг проговорил:
– Не понимаю!
– Чего?
– Ты когда написал «ЧП районного масштаба»?
– В 81-м.
– А как ты вычислил, что начнется перестройка?
– Я не вычислял. Просто жгло изнутри.
– А «Сто дней до приказа» когда написал? – спросил он с тонкой улыбкой кухонного провидца.
– В 80-м…
– Тоже жгло?
– Жгло!
– Ладно, своим-то врать! Но как ты это высчитал? Не понимаю…
Кстати, и критика почему-то окрестила меня «конъюнктурным» писателем. Хотя конъюнктурщик талантливо или бездарно, но главное – оперативно реагирует на то, что свершилось. Мои же повести лежали в столе и ждали своего времени, чтобы вдруг стать «конъюнктурными». Странно, не правда ли? Впрочем, об отношении критики к моим сочинениям мы еще поговорим. А сейчас вернемся к вопросу: чувствую я вину или не чувствую? Чтобы ответить, я и написал этот очерк.
В один из январских дней 1985 года (теперь уже не помню, в какой именно) я проснулся, извините за прямоту, знаменитым на всю страну. Уснул среднеизвестным поэтом, а проснулся популярным прозаиком. Случилось это в день, когда январский номер «Юности» очутился в почтовых ящиках трех с половиной миллионов подписчиков. Я тоже достал из железной ячейки долгожданный журнал, предусмотрительно вложенный почтальоном в газету (дефицитную периодику в подъездах тогда уже подворовывали), раскрыл и огорчился: с фотоснимка на меня смотрел длинноносый парень, неумело канающий под «задумчивого». По советскому же канону фотопортрет должен был улучшать автора, приближая его к идеалу, когда в человеке все прекрасно – и далее по Чехову. За образец брали портреты членов Политбюро, висевшие тогда во всех присутственных местах. Позже пошла мода на «устрашнение» внешности известных людей. Мол, такой же человек, как мы с вами! Сначала это забавляло, но потом, когда в телевизоре появились уродливые дикторы, которыми можно пугать детей, стало понятно: налицо тенденция с неясными, но дальними целями. Однако я забежал вперед…
А тогда, прижимая к груди журнал, я подхватился и поехал в редакцию «Юности», располагавшуюся на «Маяковке» в многоэтажном доме в стиле «ар нуво» – как раз над рестораном «София». На второй этаж вела лестница, достаточно широкая, чтобы две даже очень крупные фигуры советской литературы, пребывающие в идейно-эстетической вражде, могли свободно разминуться. Тогда писатели противоположного образа мыслей печатались в одних и тех же журналах. И это было нормально. Теперь же, если почвенник и забредет в «Новый мир», то лишь в состоянии полного самонепонимания. Так с пьяных глаз ломятся в дамскую комнату. Но и либеральный автор никогда не заглянет в логово «Нашего современника». Из боязни. Если узнают соратники по общечеловеческим ценностям, рюмки на букеровском приеме не нальют!
Главный редактор журнала Андрей Дементьев встретил меня своей знаменитой голливудской улыбкой:
– Поздравляю! Чего грустный?
– Вот фотография плохо вышла…
– Какая фотография, Юра! Ты даже не понимаешь, что теперь начнется!
Он не ошибся. В те годы публикация острого романа, выход на экран полежавшего на полке фильма или открытое письма какого-нибудь искателя правды, обиженного режимом еще в утробе матери, – все это вызывало умственное брожение и общественное смущение, которые чрезвычайно беспокоили людей, облеченных властью. Они совещались, приглашали вольнодумцев в кабинеты, пили с ними чаи, щелкая сушками, обещали льготы, а если те упорствовали, наказывали без жалости: высылали из СССР прямо в гостеприимные объятья западных спецслужб, приготовивших изгнанцам неплохое трудоустройство, скажем, на радиостанции «Свобода». Удивительные времена! Судьбу какого-нибудь романа решали на заседании Политбюро, коллегиально, взвешивая все «за» и «против». А вот Крым могли отдать Украине просто так, с кондачка, со всей валюнтаристской дури! Странные времена…
Тем, кому сегодня за сорок, нет нужды объяснять, что такое «ЧП районного масштаба». Зато продвинутые представители «поколения пепси», читая повесть, могут удивиться: неужели вполне заурядная история личных и служебных неприятностей первого секретаря никогда не существовавшего Краснопролетарского райкома комсомола Николая Шумилина, изложенная начинающим, в общем-то, прозаиком, могла так потрясти воображение современников? Ведь тогда по всей стране, от Бреста до Сахалина, стихийно прошли тысячи читательских конференций, бесчисленные комсомольские собрания, на которых до хрипоты спорили читатели моей повести. Все печатные органы, включая «Правду», откликнулись на «ЧП» резко критическими, мягко разгромными или сурово поощрительными рецензиями. Началось с Виктора Липатова, автора ванильных «Писем из райкома» (не путать с талантливым Вилем Липатовым, автором «Деревенского детектива»). Ванильный Липатов, как специалист, напечатал в «Комсомолке» уксусную статью «Человек со стороны», которую явно заказало начальство, не ожидавшее такого ажиотажа вокруг острой повести о райкоме.
Думаю, критика «ЧП» была связана и с внешней реакцией чуждых сил. Василий Аксенов, кажется, по «Голосу Америки» рассуждал о повести, видя в ней первую ласточку весны, призванной растопить торосы Империи зла. А ведь на дворе стоял холодный январь 85-го, в Кремле доживал Черненко, еще не поевший рокового копченого леща, и о радикальном сломе системы свободно рассуждали только в стационаре Канатчиковой дачи. Но литература обладает удивительной способностью ранней диагностики. Конечно, наутро друзья, ночами внимавшие «вражьим голосам», поздравили меня с признанием на Западе. Впрочем, они очень удивились, что на «ЧП» никак не отреагировал главный изгнанник – Солженицын. Думаю, ему было не до меня: он уже отошел от идеи окончательно решить вопрос с СССР, но еще не озаботился тем, как нам обустроить Россию. В ту пору вермонтский отшельник с сизифовым упорством катил вперед свое «Красное колесо», которое дочитать до конца, – то же самое, что долететь до середины Днепра.
По тогдашним правилам игры раскритиковали меня в прессе, конечно, не за разоблачительный пафос, а за недостаток художественности. Однако читатель, владевший основами чтения между строк (а этим искусством владели все, кроме моей бабушки, так и не выучившейся грамоте), отлично понял: начальство в бешенстве, вместо критики отдельных недостатков молодой автор замахнулся на устои, усомнился в основах. Кстати, по логике постперестроечного абсурда, именно сервильный Виктор Липатов впоследствии сменил либерального Андрея Дементьева на посту главного редактора «Юности».
Но я опять поторопился. Все это случилось гораздо позже, а тогда в редакцию шли сотни писем, и мой телефон раскалился от звонков: меня приглашали выступить в библиотеках, институтах, школах, воинских частях, на заводах и даже… в комсомольской организации центрального аппарата КГБ. Меня узнавали, останавливали на улице, чтобы похвалить за смелость и тут же доверительно сообщить, что в одной комсомольской организации было такое ЧП, по сравнению с которым мое «ЧП» вовсе даже и не ЧП…
Давно замечено, скоропостижная слава обладает уникальным оглупляющим эффектом. Став, по выражению кого-то из журналистов, одним из «буревестников» вскоре начавшейся перестройки, я мог бы до сих пор гордо и гонорарно реять над руинами, плавать на своей золотой тучке. Этим, кстати, к своему стыду, я некоторое время и занимался, тем более что следом вышла шумная повесть «Работа над ошибками» (1986), а потом не менее набуревестничавшие «Сто дней до приказа» (1987). Но по мере того, как романтика перемен преобразовывалась в абсурд разрушения, я все чаще задумывался над тем, почему именно мои повести оказались столь востребованы временем и сыграли, вопреки желанию автора, роль в крахе советской цивилизации, к которой я испытывал сложные, но отнюдь не враждебные чувства.
Согласитесь, бурный интерес к моим ранним вещам свидетельствовал, что я восполнил некий острый дефицит, удовлетворил спрос общества. На что? На правду, конечно… Тогдашние высшие идеологи никак не могли (по ветхости, упертости или недообразованности?) уяснить очевидное: в плюралистической мешанине мнений правду спрятать гораздо легче, чем на выхолощенных полосах официозной печати, где кривда так же очевидна, как казак, присевший в степи по нужде. Это хорошо поняли и реализовали пиарщики ельцинской эпохи, до одури заморочившие нас единодушной разноголосицей. Но я, кажется, снова забегаю вперед…
О советском дефиците, ставшем знаковым словом того времени, еще напишут исследования. Странная, если вдуматься, история: полупустые прилавки в магазинах и полные холодильники в квартирах. Однажды я с бутылкой зашел в гости к своему знакомому – молодому директору школы. «Чем бы нам закусить?» – спросил он и в раздумье открыл стенной шкаф. Там с пола до потолка стояли банки консервов, мясных, рыбных, овощных, фруктовых и прочих, не поддающихся идентификации. «Может, икоркой?» – мечтательно предположил я. «Сахалинской или камчатской?» – задумчиво уточнил он. Ну, в самом деле, о чем свидетельствовали многотысячные и многолетние очереди на приобретение автомобиля – о благополучии или неблагополучии советских людей? Решайте сами… Икру нельзя было купить, но можно было достать. Достать и прочитать при желании можно было запрещенных Солженицына, Максимова, Шафаревича, Зиновьева… Разумеется, строго каралось, если попался. Под одеялом же – обчитайся.
Я прочел, обомлел – но меня не посадили. А вот Олега Радзинского, сына известного драматурга и популяризатора, посадили: он, будучи, как и я, учителем, принес запретную книгу в школу ученикам. При тоталитаризме нельзя! Впрочем, если ты сегодня в условиях свободы принесешь в класс и попытаешься впарить детям «Майн кампф» или «Протоколы сионских мудрецов», тебя тоже посадят – за разжигание межнациональной розни. И правильно сделают: закон есть закон. Юрий Петухов, неудобный, но очень талантливый исторический писатель, в начале нулевых годов издал книгу, где предложил неполиткорректную версию древней этнической истории Ближнего Востока. Тюрьмы он избежал только благодаря гневному письму ведущих литераторов, опубликованному в «Литературной газете». Узнав, что дело закрыто, Петухов пошел на могилу матери – поделиться радостью, и там, за оградкой, умер от сердечного приступа, не дожив до пятидесяти…
Но вернемся в мрачное советское прошлое. Борьба с дефицитом заменяла конкуренцию. В обществе провозглашенного и относительного равенства способность человека преодолеть дефицит во многом определяла его положение в социальной иерархии. И не важно, выражалось это в том, что он мог достать импортный мебельный гарнитур, добыть кожаный пиджак а-ля Дом кино или умел пробить сквозь цензуру книгу о том, о чем другим писать не дозволялось. Пробить можно было талантом или дачными знакомствами с партийными иерархами. Чаще – и тем и другим совокупно. Большими мастерами такого «диалога» с режимом были «шестидесятники», умевшие элегантно дерзить советской власти, не выпуская из губ ее питательных сосцов. Впрочем, наша идеология в ту пору переживала кризис, связанный с замедленной сменой руководящих поколений. К примеру, давно, еще в годы войны, всем стало ясно, что принудительный атеизм ни к чему хорошему не приведет, но терпеливо ждали, покуда уйдут из власти (читай – из жизни) несколько кремлевских старцев, в юности подцепивших от Емельки Ярославского неизлечимый вирус безбожия.
Надо заметить, в СССР вообще жили размеренно и неспешно, как в профсоюзном профилактории. А куда спешить? Законы мирового развития работают на нас. В результате мы опоздали буквально на несколько лет, которых нам не хватило, чтобы легализовать и направить в созидательное русло ту «тайную свободу», о которой пел Пушкин, а вослед ему и вся остальная отечественная словесность. Как-то меня, молодого редактора многотиражки «Московский литератор», вызвали в страшную организацию – в Главлит.
– Ну и как это понимать? – спросил меня цензор университетского вида, не старый еще мужчина, и ткнул ухоженным ногтем в строчку поэта-фронтовика Николая Панченко:
Зашивали суровыми нитками рот.
Я почувствовал, как сердце и партбилет, лежавший в левом боковом кармане, слились в едином болезненном трепете. Надо было отвечать, я медлило – и вдруг меня озарило:
– Он фронтовик. У него было челюстное ранение…
– Челюстное ранение? – задумчиво повторил цербер и улыбнулся. – Ну, тогда совсем другое дело!
А какая, в сущности, разница? Ведь советский человек во всем искал фронду, подобно тому, как эротоман в любом бытовом предмете ищет намек на сексуальное блаженство. Какая читателю, в сущности, разница – «зашивали рот» лирическому герою в буквальном или переносном смысле? И без того все знали, что в СССР нет свободы слова. Знал это и цензор, стоя «у правды на часах». Тяготясь своими обязанностями, он с удовольствием воспользовался формальным поводом, чтобы разрешить чуть больше, чем обычно. В конце девяностых я встретил его на книжной ярмарке во Франкфурте, он стал издателем и выпускал популярную серию «Улица красный фонарей».
О кризисе советской экономики тоже сказано немало. Но был ли этот кризис таким уж необратимым, если на ресурсах развитого социализма мы продержались целое десятилетие, ушедшее на эксперименты, похмельные чудачества и тотальное воровство? Боже, сколько миллионеров, застроивших полмира своими замками, поднялось на одной распродаже советского ВПК! Да, мы были богатой страной с бедным народом. Теперь мы бедная страна с бедным народом. Разве в надежде на это брались за руки друзья, выросшие на ласковой непримиримости песенок Окуджавы и клокочущих монологах Высоцкого?
Как-то я попал на передачу «Суд истории», разумеется, на стороне кипучего Сергея Кургиняна, блестящего мыслителя с одним крошечным недостатком: для него мука-мученическая, если говорит не он, а кто-то другой. Вокруг его оппонента Николая Сванидзе, страдающего другим недугом – острым инбридинговым антисоветизмом, сбилась стая «младореформаторов» во главе с рыжим бригадиром. Они шумно хвалились, как в 91-м спасли страну от голода. Рядом со мной сидел бывший главный банкир Геращенко и вибрировал от тихого негодования: «Я сейчас все про них расскажу! Спасители хреновы!» Наконец, не выдержав, он бросил им что-то невнятное про какой-то подзаконный акт. И «речистые былинники» испуганно затихли, словно им предъявили отпечатки их пальцев на горле жертвы. «Почему же вы про них не рассказали все-все?» – спросил я, когда запись закончилась. Геращенко вздохнул: «Никто же не поверит, что такое можно вытворять со своей страной…» – и посмотрел на меня грустными глазами человека, причастного к страшным тайнам финансового зазеркалья.
Гуманитарный склад ума натолкнул меня на мысль, что крах советской цивилизации объясняется в основном духовно-нравственными причинами. Однако диссиденты тут почти ни при чем. Узок, как говорится, круг этих революционеров, страшно далеки они от народа и подозрительно близки к зарубежным спецслужбам. Роковым оказалось подспудное или явное презрение элиты к собственной стране, к ее историческому выбору. По идее, чтобы свергнуть правящую элиту, контрэлита должна доказать, что она более патриотична, бескорыстна, и предложить народу новый перспективный путь национального развития. Уникальность нашей истории в том, что контрэлита, приведенная Горбачевым и Ельциным, взяла в руки власть под антипатриотическими лозунгами, обогащаться начала, едва сев в кресла, никакого позитивного проекта не предложила, а смогла лишь оформить условия позорной, если не преступной, капитуляции перед геополитическим противником. После этого разбежалась на ПМЖ по теплым странам.
Вот лишь один пример. Я пишу эти строки в Калининграде, куда можно добраться только долететь самолетом. Сухопутного коридора в эксклав нет. Почему? Я служил в Группе Советских войск в Германии. Наша часть стояла на обочине Гамбургского шоссе, по которому транзитом шли вереницы автомобилей из ФРГ в Западный Берлин. А над нами по воздушному коридору челночили самолеты, включая разведывательные «рамы». То есть безоговорочно капитулировавшей Германии разрешили иметь сухопутную связь между разорванными частями. А России, добровольно влившейся в общечеловеческое братство, не разрешили. В том-то и дело, что тогдашние «новомышленцы» даже не догадались поставить такой вопрос. Кто-нибудь ответил за это грандиозное головотяпство? Конечно же, ответил, и по всей строгости. Адмирал Рык, взяв власть в России, приказал вылавливать «врагоугодников» и «отчизнопродавцев» по всему миру, вытаскивать из приморских вилл и альпийских шато, этапировать на родину, где их сажали в «демгородки», строго охраняемые садово-огородные товарищества. Об этом моя повесть 1993 года «Демгородок». Но я опять забежал вперед. Видимо, что-то возрастное…
Почему же тогда рухнула советская власть? Отчасти из-за стабильности. В стабильные времена трудно сделать головокружительную карьеру или внезапно разбогатеть. Слово «застой» не случайно стало впоследствии ключевым. «Застой» был не только в том, что страна теряла темпы развития и мешкала с ответом на вызов времени, а и в том еще, что активная часть народа в буквальном смысле – застоялась. Советская власть, как женщина, безоглядно наблудившая в молодости, к старости стала чрезвычайно разборчива в новых знакомствах, инициативах и увлечениях. Кроме того, мы все были заражены верой в необратимость прогресса. Нам казалось, обещанное обеспечение каждой семьи отдельной квартирой осуществляется медленно не по объективным причинам экономического порядка, а из-за субъективной неповоротливости советской власти. Теперь, когда приезжаешь в город, где последний многоквартирный дом был построен в конце восьмидесятых, начинаешь многое понимать. А еще больше понимаешь, когда видишь: единственный роскошный «новострой», взметнувшийся на Губернской улице (бывшей Коммунистической), – это офис Альфа-банка, в лучшем случае – Газпрома.
Но тогда всем очень хотелось перемен. Прыгучий певец-композитор и, как выясняется, поэт Газманов, освоив рифму «прилетел-хотел», даже песню сочинил про «ветер перемен». Об урагане никто не помышлял… Тогда казалось, будущее не может быть хуже настоящего только потому, что оно будущее. Не случайно одним из первых лозунгов Горбачева стало «ускорение». А ведь, если помните, в замечательном рассказе Г. Уэллса «Новейший ускоритель» на героях от чрезмерно быстрого движения загорелись штаны. Наши штаны просто сгорели. Увы, неодолимое желание перемен овладевает массами, когда основные жизненно важные желания уже удовлетворены. Блокадникам в голову не приходило из-за мизерных пайков учудить в городе на Неве новую революцию, наподобие той, что грянула в феврале семнадцатого из-за перебоев с завозом хлеба. Запомним это.
Раздумья над опытом былых революций лично меня привели к переосмыслению известной ленинской формулы о верхах, которые не могут жить по-старому, и низах, которые не хотят. Ведь «голодные» демонстрации в революционном Петрограде происходили, когда сибирские амбары ломились от хлеба. И зачем странные люди из британского посольства выдавали активным пикетчикам по три рубля в день? Прямо как на «Майдане»… Формула о «верхах» и «низах» более подходит к бракоразводной, нежели революционной ситуации. Революционная ситуация начинается с того, что именно верхи не хотят жить по-старому.
Когда я, паренек из заводского общежития, сочинявший стихи, впервые оказался на поэтической пирушке, устроенной в огромной цековской квартире на Сивцевом Вражке, меня удивило, насколько ее обитатели, в особенности молодые, ненавидят советскую власть. Стол ломился от невиданной снеди из распределителя, на полках стояли недоступные рядовым гражданам книги, а разговор шел в основном о том, какие «коммуняки» сволочи. Много позже я понял смысл этого недовольства. Люди в ондатровых шапках уже не хотели быть номенклатурой, зависящей от колебаний политической конъюнктуры, они хотели быть незыблемым правящим классом – с гарантиями, которые дает только большой счет в банке, желательно – швейцарском. Отцы еще привычно осторожничали в выражениях, а дети с юным задором лепили напропалую. Тот же Егор Гайдар вырос, между прочим, в семье члена редколлегии газеты «Правда», сухопутного адмирала Тимура Аркадьевича…
Свое недовольство «верхи» искусно транслировали вниз по социальной лестнице. С чего бы вдруг один из самых благополучных отрядов советского рабочего класса – шахтеры – начал стучать касками, требуя, вы подумайте, – закрытия шахт! Убедили, что это им выгодно. Обманули, конечно. Но к тому времени, когда они осознали «разводку», «верхи» уже были довольны новой жизнью и умело навязывали свое удовлетворение всему обществу – с помощью кулинарных и шутейных передач на ТВ – в том числе. Только этим можно объяснить тот странный, на первый взгляд, факт, что всеобщее обнищание в начале шоковых реформ не привело к народному восстанию против власти. Восстание – спектакль, историческая массовка, требующая средств и режиссуры. А спонсоры и режиссеры уж почили на ваучерах.
Какое отношение эти пространные рассуждения имеют к моим первым повестям? Самое непосредственное. Сейчас много говорят о виртуальной реальности. Тогда, в начале 80-х, такого слова в нашем языке еще не было, но сама виртуальная реальность, конечно, была. Она была всегда. Римский император, возводя свой род к богам или героям, выстраивал именно виртуальную реальность в умах современников. В чем же особенность виртуального мира, созданного советской властью? Это был чрезвычайно оптимистичный, очищенный от всего недостойного, прекрасный и яростный мир. Если недостатки – то отдельные. Если порыв – то всенародный. Если бой – то последний и решительный. Советская власть слишком много обещала. Извлекая из архива газеты с рецензиями на мои первые повести, я снова погружался в тот подзабытый виртуальный мир и вспоминал почему-то анекдот про любовника жены парфюмера. Напуганная внезапным возвращением супруга, дама закрыла дружка в сундуке, где хранился мужнин товар. Помните, чего потребовал несчастный ловелас через сутки, когда его наконец выпустили на свежий воздух? Для того чтобы прийти в себя, он потребовал немедленно поднести ему тот продукт пищеварительной деятельности, без упоминания которого нынешние постмодернисты не способны связать и двух слов. Это важно!
Советский человек существовал в двух мирах – в реальном, далеком от идеала, и в идеальном, далеком от реальности. Нельзя сказать, что эти два мира не были связаны – они постепенно, точнее, скачкообразно, сближались. И главную роль в этом сближении тогда играло искусство, прежде всего – литература. Именно в литературных произведениях обкатывались идеи и новации, прежде чем лечь в основу нового идеологического и экономического курса. Сначала – «деревенская проза», потом – постановление ЦК о возрождении Нечерноземья. Бывало, правда, и наоборот, но об этом чуть позже. И все же разрыв между реальностью и идеологическим мифом оставался велик. Когда человеку каждый день объясняют, что он живет если не в раю, то во всяком случае в предрайских кущах, столкновение с реальной жизнью ранит его особенно остро. Вы не задумывались, почему информационные блоки нынешнего телевидения перенасыщены негативной информацией? Кого-то взорвали, где-то замерзли, кого-то расчленили, кто-то проворовался, кого-то противоестественно изнасиловали… По сравнению с таким виртуальным миром сегодняшняя реальная жизнь не так уж и страшна. Радуйтесь, граждане! И еще одно наблюдение. Раньше на домах висели кумачовые плакаты: «Наша цель – коммунизм!» Мы посмеивались. А теперь? Вы за последнюю четверть века хоть раз слышали что-то конкретное о цели, к которой идет страна? Чего хотим? Что строим? Не для конкретного Иванова, Петрова, Абрамовича, а для всего общества? И это уже не смешно. В чем смысл нашего исторического существования? Какова сверхзадача нашей цивилизации? Сверхзадача американцев ясна: всех нагнуть. А наша? Об этом вы не услышите. Почему? Коммунисты слишком много обещали – на том и сгорели. Урок учли. Кто не обещает, с того и не спрашивают…
Русский человек, точнее, человек, воспитанный русской культурой, традиционно верит в целительную силу слова. Ему кажется, что, назвав зло своим именем, он нанесет ему смертельный удар. Вот почему с таким восторгом была встречена «гласность». Мало кто задумывался о том, что глас вопиющего пустыне – тоже вариант гласности, что есть разновидности зла, жиреющие именно от гласности. С другой стороны, советская власть, выстроившая систему табу вокруг многих, как тогда выражались, негативных явлений, забыла, что табу и запреты – методы скорее детской педагогики. Взрослому надо объяснять. Честно или лживо. А народ в результате просветительской деятельности той же самой советской власти повзрослел и поумнел. То, что в двадцатые годы принимал на веру рабфаковец с горящими глазами, позднесоветский «мэнээс» брезгливо отвергал. Ну как же – он читал Сартра и Булгакова! Но он позабыл, что такое братоубийство, разруха и нищета.
Не сталкивался он и с откровенным предательством интересов страны самой властью. Шестидесятники убедили его, что Сталин, расправляясь с троцкистами, тешил свою паранойю, а не очищал верхушку от возможных изменников. Вместе с явной ложью советской пропаганды отметал советский интеллигент и вещи совершенно очевидные. Не хотел верить в навязчиво разоблачаемую агитпропом агрессивность Запада. Страна, где народ не стоит в очереди за пивом, не может желать человечеству зла! Теперь, после бомбежек Югославии, онкологического разрастания НАТО, он, конечно, поверил. А после того, что наши «западные партнеры» устроили на Украине, подержав лютых «укропатов», превратив Донбасс в пепелище и поставив Россию в угол, как геополитического шалопая, сомнений в недобрых намерениях «империи Добра» ни у кого не осталось. А толку? Дело-то сделано.
Русская литература традиционно специализировалась на срывании масок и разрушении табу, нередко путая табу с национальными идеалами, которые лучше не трогать. Я тоже искренне считал здравый смысл и жажду правды выше овеянных веками святынь и возвышающих обманов. Я даже писал в «Огоньке», что не бывает правды очерняющей или мобилизующей – бывает просто правда, факт жизни, без всяких там эпитетов. Я ошибался. Я не понимал, что существует иерархия «правд». Для наглядности возьмите в руки матрешку. Вы никогда не вставите большую матрешку в меньшую. А вот большую правду можно при желании спрятать в меньшую. С этого, собственно, и начинается манипуляция сознанием. Простейший пример – возвращение Крыма. Малая правда в том, что Крым был украинским, а стал российским. Значит, аншлюс? Позор хищному северному медведю! Но большая правда заключается в том, что Крым всегда был российским, а в пятидесятые годы незаконно, даже с точки зрения советской процедуры, передан в административное управление Украинской ССР, входившей в Советский Союз. При развале страны полуостров не вернули России, хотя очевидно: выходить из СССР республики должны в тех границах, в каких вошли. А принадлежность территорий, «нагулянных» во время пребывания в «Красном Египте», надо решать с помощью референдума. Такой референдум и состоялся в Крыму в марте 2014 года, показав, что население единодушно хочет назад, в Россию. Это и есть большая правда. Интересует она кого-нибудь, кроме нас? Никого. Ее засунули в «малую правду» и не хотят знать.
Увы, я тоже не раз принимал «малую правду» всерьез, верил, горячился. Но если бы я не ошибался, я бы никогда не стал писателем. Писательство – преодоление собственных заблуждений. Кто не заблуждается – тот не творит. Осознанная ошибка – самый прямой путь к истине. Ничто так не обостряет творческие способности, как стыд за свои заблуждения. Но беда в том, что именно ложные истины чаще всего отливаются в бронзе и пишутся на знаменах, ведущих людей на разрушение надоевшего миропорядка. Потом можешь обораться, объясняя, что ошибался. Твоя ошибка давно уже стала правдой момента. Думаю, если бы Солженицын сжег себя на Красной площади в знак протеста против тиражирования его давних заблуждений о десятках миллионов жертв ГУЛАГа, никто бы не заметил, продолжая ссылаться на «Архипелаг» как на документ. Но Александру Исаевичу и в голову не пришло извиниться за свою обидную для нашей страны цифирь.
Да, писатель – по своей природе мифоборец, именно поэтому, особенно смолоду, он жаждет разрушать мифы, которые навязывает ему общество. Мифы и каноны. А советский писатель был опутан канонами с головы до ног. Это не значит, что западный писатель ничем не опутан – там другие путы. Писатель с нормально развитым нравственным чувством всегда подсознательно чует разрушительную природу своего дарования и потому – в противовес, что ли, приходит со временем, как правило, к консервативным политическим убеждениям. Но стоит ему начать художественно утверждать существующую систему социальных мифов, как все заканчивается творческой катастрофой. Такой вот грустный парадокс…
Анализируя судьбу моих первых трех повестей, я думаю иногда вот о чем. Повинуясь внутреннему велению, я (как и некоторые другие мои ровесники-писатели) достиг края советской литературы и выглянул вовне – дальше начинался уже совсем иной мир, строящийся на других принципах и идеях. В отличие от обитателей литературного андеграунда я оставался по мироощущению и поведению не только советским человеком, но и советским писателем. Но какая-то неведомая сила все же толкала к зыбкой грани. Мои первые повести – это еще советская литература, но в них уже есть недопустимая для советской литературы концентрация нравственного неприятия существующего порядка вещей. Возможно, именно такая двойственность и нашла отклик в душах читателей, тоже балансировавших на грани перемен. Мои настроения были им близки и понятны. Мы оказались единомышленниками.
Мудрый Сергей Михалков когда-то давно, поддерживая меня в борьбе за публикацию «Ста дней…», сказал в своей обычной насмешливо-серьезной манере кому-то из партийного начальства:
– Вы с Поляковым поаккуратнее. Он последний советский писатель…
Особенно пристально власти предержащие надзирали за соблюдением канонов, когда дело касалось основ общества, а к их числу принадлежали, безусловно, сама власть, школа, армия…
О них-то я и написал свою раннюю прозу.
В армию я попал осенью 1976 года после окончания педагогического института, поработав в вечерней школе № 27 на Разгуляе. Кажется, раньше там была гимназия. Кстати, именно в этой части старой Москвы прошли первые двадцать лет моей жизни. Из Лефортова, из роддома окнами на Немецкое кладбище, я был привезен в дом на Маросейке возле памятника героям Плевны, в огромную коммунальную квартиру. Комнатку занимали я, мои родители, бабушка и тетя, незамужняя сестра отца. Единственное окно было в потолке и выходило на чердак. Младенческая память сохранила цветастую занавеску, отделявшую наш семейный угол, и это запыленное окно, по которому время от времени метались тени. Большая тень – кошка, маленькая – мышка. Сейчас, ругая «совок», ставят в упрек эту коммунальную скученность чуть ли на наравне с ГУЛАГом. Но в подобных условиях тогда жило большинство москвичей и считало такой быт нормой. Вспомните у Булгакова: не последние люди – директор варьете и руководитель Массолита – тоже живут в «коммуналке» и не жалуются. Потом родители «улучшились»: получили комнату в заводском общежитии маргаринового завода в Балакиревском (Рыкунове) переулке, рядом с товарными путями Казанской железной дороги – «Казанки». Очередь в туалет и к умывальнику была обычным делом, а когда нам дали комнату побольше, со своим умывальником, – это казалось головокружительным комфортом, вроде президентского номера в отеле. Соседские мальчишки нам завидовали – свой водопроводный кран! Лишь в 69-м мы переехали в отдельную квартиру у станции «Лосиноостровская», окрестности которой в ту пору были застроены деревянными теремами – остатками дореволюционного дачного Подмосковья.
Учился я в школе № 348 на углу Балакиревского и Переведеновского переулков, потом поступил в пединститут имени Крупской на улице Радио, близ Лефортова, в двадцати минутах ходьбы от родного заводского общежития. Вернувшись из армии, я устроился на работу в Бауманский райком ВЛКСМ на улице Александра Лукьянова. Кстати, имя этого летчика, Героя Советского Союза, носила наша пионерская дружина. Я, как отличник и активист, даже ездил в Волхов, чтобы возложить венок к стеле на месте его гибели. Весь очерченный кусочек старой Москвы можно за час обойти неспешным прогулочным шагом. Эти места и стали потом в моих книгах несуществующим Краснопролетарским районом столицы, моей, если хотите, Йокнапатофой.
Но вернемся в 1976-й, когда из школьного учителя я превратился в солдата-артиллериста, «заряжающего с грунта» – так называлась самая незначительная единица расчета самоходной гаубицы. Нас провели колонной по длинной галерее нового Домодедовского аэропорта и посадили в самолет, который через два часа приземлился на военном аэродроме во Франкфурте-на-Одере. В Москве лежал снег, а здесь была еще теплая, едва зажелтевшая осень. Свое двадцатидвухлетие 12 ноября 1976 года я встретил в огромной палатке, вмещавшей взвод новобранцев. Потом нас развезли по частям, я и стал рядовым в/ч п. п. 47573, расквартированной в городке Дальгов, неподалеку от Западного Берлина. Теперь это Берлин. Узенькое Гамбургское шоссе, плотно обсаженное липами, стало ныне широкой автострадой. На месте военного городка вырос коттеджный поселок, а рядом большая «скидочная» деревня, где торгуют фирменным барахло. Если внимательно присмотреться к некоторым домам, можно различить в них черты былой казармы, облагороженной экономным немецким гением. В гарнизонном клубе, стилизованном под замок, где мы смотрели жизнерадостные советские фильмы, сначала сделали музей оккупации, теперь там центр толерантности. Лишь кое-где сохранились ангары и огромные заколоченные казармы – память о несметной советской силище, стоявшей здесь в течение полувека и ушедшей по своей воле. Американцы, кстати, не закрыли в Германии ни одной базы: за союзником, имеющим такой опыт завоевательных войн с промышленного истребления мирного населения, надо приглядывать.
А вот в Олимпийской деревне, где я дослуживал в дивизионной газете «Слава», теперь музей под открытым небом, посвященный предвоенным Берлинским Олимпийским играм, в которых СССР, между прочим, протестуя против фашистского режима, не участвовал. Зато США, Англия, Франция активно участвовали, видимо, питая по поводу Гитлера те же самые иллюзии, что сегодня питают в отношении украинских нацистов. Будущие союзники по антигитлеровской коалиции заселили пол-олимпийской деревни. Правда, интересно? Об этом дружном участии хоть кто-то помнит? Никто. «Большую правду» о причастности Запада к зарождению и усилению фашизма давно спрятали в «малую правду» о пакте Молотова-Риббентропа. Вот так…
Между прочим, там, где жила американская команда, в домиках, выстроившихся каре вокруг плаца, и располагалась наша комендантская рота. Я служил в мирной армии: полуостров Даманский уже подзабылся, а Афганистан еще не грянул. Сейчас, прожив значительную часть жизни и побывав в различных ситуациях, я понимаю, что выполнял свой ратный долг в нормальных условиях, которые, скажем, «срочнику», попавшему в Чечню, показались бы раем. Во всяком случае, мне, как призывникам начала 90-х, не приходилось просить милостыню под магазином, чтобы подкормиться. А нашим офицерам не надо было сторожить автостоянки, чтобы свести концы с концами, ибо на денежное довольствие прожить семье в пору «шоковых реформ» было невозможно. Какая уж тут боевая готовность! А тогда юный лейтенант, едва окончивший общевойсковое училище, становился вполне обеспеченным человеком по сравнению, например, со мной, выпускником пединститута.
Но, рискуя повториться, напомню: советский юноша шел служить в идеальную армию, а попадал в реальную, где офицеры не были все как один мудрыми наставниками, Макаренками в фуражках. Нами командовали обычные люди, изнуренные гарнизонной жизнью и семейными проблемами. Впрочем, служба в Группе советских войск в Германии считалась завидной, попасть туда было непросто, и какой-нибудь ротный в Забайкалье мог только мечтать о зарплате в марках. Я тоже получал в валюте – 15 гэдээровских марок в месяц. Бутылка молока в солдатской чайной стоила, кажется, 20 или 30 пфеннигов. Бутылка пива столько же, но в офицерской столовой, куда рядовому составу вход запрещался. Зато можно было смотаться в самоволку в ближайший гаштет, где хозяин-немец с дружелюбием побежденного восклицал: «О, комрад!» – и наливал кружку пенящегося «дункеля», а потом, дружески проводив «комрада», докладывал в комендатуру о незаконном вторжении «russischen Soldaten».
Я попал в обычный солдатский коллектив, где нормальная мужская дружба уживалась, даже как-то переплеталась с жестокостью так называемых неуставных отношений. Но все это было вполне переносимо – лично для меня непереносимым оказался конфликт между образом идеальной армии, вложенным в мое сознание, и армией реальной. Конечно, это недоумение испытывал каждый юноша, надевавший форму, но я-то был начинающим поэтом, то есть человеком с повышенной чувствительностью. Стоя во время разводов на брусчатке, еще помнившей гулкий шаг эсэсовской дивизии «Мертвая голова», я думал о том, что, когда вернусь домой, обязательно напишу об этой, настоящей армии. Как и всякий советский человек, я верил в целительную силу правды, особенно в ее художественном варианте. Кроме того, есть особая молодая жажда поведать о том, что твои литературные предшественники умалчивали или лакировали. Я тогда не понимал: фронтовому поколению писателей, хлебнувшему настоящей окопной войны, – все эти гарнизонные страдания призывника 70-х казались слабачеством, пустяками, не достойными внимания такой серьезной инстанции, каковой являлась советская литература.
Из армии я написал жене Наталье более ста писем и когда-нибудь их издам. А сколько еще было писем друзьям, родным, учителям, собратьям по поэтическому поприщу, редакторам! Такой эпистолярной насыщенности у меня никогда больше не случалось. Зато я понял, почему у классиков дотелефонной эпохи две трети собрания сочинений занимают письма. Но времена меняются стремительно, и я с ужасом думаю о наследии нынешних литераторов, если они додумаются включать в собрания сочинений свою интернет-трепотню!
Последнюю открытку, в которой я сам себя сердечно поздравлял с окончанием военной службы, я бросил в ящик в Дальгове в день отправки домой и получил от себя письмо через неделю уже в Москве, будучи опьяняюще гражданским человеком:
Пора тревог полночных —
Армейские года.
И как-то жаль «так точно»,
Смененное на «да».
В Москву я привез почти сто новых стихотворений. Многие из них заинтересовали литературные издания, и меня начали охотно печатать. Поэтов, сочиняющих искренние стихи об армии, в ту пору было уже мало, патриотизм выходил из моды. Кроме того, я привез из армии горячее желание писать прозу и в 1979 году начал засел за повесть, которая сначала называлась «Не грусти, салага!». На сборном пункте во Франкфурте-на-Одере по радио без конца крутили жалобную, в духе еще не народившегося «Ласкового мая», песенку:
Не грусти, салага!
Срок отслужишь свой,
Так же, как и я,
Поедешь ты домой.
В дальние края, в дальние края
Едут, едут парни-дембеля…
Начиналась будущая повесть вполне документально: «…У нашего замполита – литературная фамилия. Булгаков…» Это была чистая правда. Следы неумелой документальности, когда молодой литератор только учится отрываться от земли и парить в художественном пространстве, сохранились и в окончательном варианте. Реальный майор Гудов превратился в Дугова, а подлинный взводный лейтенант Оленич – в очкарика Косулича. Прапорщик Высовень служил в полку на самом деле, и рука моя не поднялась, чтобы переиначить замечательную фамилию! Позже главпуровские блюстители обвиняли меня: мол, чтобы унизить советских офицеров, наглый автор понапридумывал смешных фамилий. А я почти ничего не придумывал.
Но по мере работы над повестью бес художественности все более овладевал мной. Прототипы, сгущаясь, становились образами, воспоминания о собственных армейских мытарствах обрастали приметами чужих судеб и подсмотренными подробностями, превращались в историю старослужащего Кормашова. Я не оговорился: главному герою я поначалу дал имя студента, ходившего в литобъединение, которое я вел в пединституте. Мне нравилось, что в этой фамилии брезжит купринский Ромашов. Потом выяснилось, что в «Юности» уже выходила повесть о моряках «Не грусти, салага!», и я, недолго думая, назвал свое почти законченное детище «Сто дней до приказа», со значением присовокупив – «Солдатская повесть». Мол, раньше армию воспринимали глазами политработников, начитавшихся «Красной звезды», а я даю вам честную картину, увиденную со второго яруса казарменных коек!
Надо ли объяснять, что моя солдатская повесть не укладывалась в тогдашний канон «воениздатовской прозы». Возможно, вырасти я в среде московской научно-чиновной интеллигенции с ее утробным западничеством и диссидентскими комплексами, я передал бы эту явно «чуждую» вещь на Запад – и моя жизнь сложилась бы совсем по-другому. Но я, повторюсь, был настоящим советским человеком, верящим в конечную справедливость системы, а потому простодушно принялся носить повесть по журналам – «Юность», «Знамя», «Дружба народов», «Новый мир», «Наш современник»… Сотрудники этих изданий, люди чрезвычайно инакомыслящие, смотрели на меня как на придурка, нарушившего всеобщее благочиние неприличной выходкой. То, о чем они шептались на кухнях ведомственных домов и на верандах казенных дач, я не только вывалил на бумагу, но и еще (вместо того чтобы ограничиться тихими «самиздатовскими» радостями) притащил в советский журнал. Ну не идиот?!
Помню, заведующая отделом журнала «Знамя» Наталья Иванова (ныне она критик истошно либерального тренда) затащила меня в редакционный закуток и негодовала свистящим шепотом, что, принеся эту провокационную антисоветчину, я хотел бросить тень на главного редактора Героя Социалистического Труда Вадима Кожевникова, автора бессмертного романа «Щит и меч». В другом издании заведовавшая прозой дама с кинжальным маникюром и декольте, слегка приоткрывавшим венерин бугорок, говорила, что прекрасно знает жизнь современной армии, но никакой дедовщины там нет в помине. По крайней мере, она и ее знакомые с ней не сталкивались.
Понятно, рукопись довольно быстро переправили куда следует и оттуда сразу наябедничали в Союз писателей, членом которого я уже тогда стал, выпустив две книги стихов. Откуда следует позвонили секретарю по прозе Московской писательской организации Стаднюку, автору знаменитого «Максима Перепелицы».
– Иван Фотиевич, – спросили оттуда, – что это у тебя за диссидент такой завелся, армию очерняет?
– Какой еще диссидент?
– Поляков…
– Юра?
– Да, Юрий Михайлович.
– Ну какой он диссидент? – засмеялся Фотиевич. – Он секретарь нашей комсомольской организации. Хороший парень. О фронтовой поэзии пишет…
Действительно, в те годы я занимался исследованиями фронтовой поэзии, особенно – творчества Георгия Суворова, погибшего в 1944-м при прорыве Ленинградской блокады. В 1981-м я защитил кандидатскую диссертацию на эту тему, а в 1983-м выпустил книжку «Между двумя морями» – о стихах и судьбе Суворова. В отличие от иных моих коллег по литературному цеху, я совершенно не стыжусь того, что сочинял и издавал при советской власти. Фронтовую поэзию я горячо любил и писал о ней от всего сердца. Полагаю, многие советские литераторы, спешно перепрофилировавшиеся в антисоветских, недолюбливают прежние времена еще и за свою былую корыстную неискренность, приспособленчество. А ведь поздняя советская власть не требовала от деятеля культуры неискренности, наоборот, искала сочувствия и с радостной доверчивостью относилась к любым демонстрациям лояльности. Потом, увы, с изумлением увидела, как творческая интеллигенция мгновенно, будто по флотской команде «все вдруг», от нее отвернулась. Между прочим, такую же ошибку в отношении биологических либералов, ради выгоды прикидывающихся патриотами, совершает нынешняя власть. Я не желал бы ей пережить сокрушительное разочарование, какое выпало на долю ее предшественникам у штурвала державы. Как пелось в советском шлягере – «Эй, не спи у руля!».
Вскоре меня начали приглашать в инстанции. На беседы. В ГлавПУР, ЦК ВЛКСМ, ЦК КПСС, КГБ… Успокойтесь, ничего страшного со мной там не делали. Войновичу за «Чонкина», возможно, и загоняли под ногти иголки, а со мной только разговаривали, общались неглупые люди, разбиравшиеся в проблемах тогдашней армии гораздо лучше, чем я. Никто, представьте, на меня не кричал, не угрожал, не выпытывал, направив в лицо резкий свет, на кого я работаю и сколько серебреников получил за предательство. Мне спокойно объясняли, что публикация повести в таком виде может принести Отечеству вред, и рекомендовали, используя отпущенные мне природой способности, написать об армии иначе, добрей, возвышенней, что будет, конечно же, отмечено и благотворно отразится на моей литературной карьере. Правда, однажды пригрозили репрессиями.
– Знаете, а давайте-ка мы вас, чтобы вы получше узнали реальную жизнь армии, призовем на сборы офицеров запаса! Как?
– Так я же рядовой…
– В самом деле? Очень жаль…
Кстати, многие из моих чиновных собеседников, вздыхая, говорили: будь их воля, они напечатали бы повесть, но военная цензура не пропустит. Тогда ходил характерный анекдот: на цензуру упала атомная бомба – не пропустили… Был и такой забавный случай. Один главпуровский генерал сказал мне, что не все Поляковы так безответственно относятся к армии. Есть еще один Юрий Поляков, написавший очень добрую и романтичную книгу о Георгии Суворове.
– Вам бы с ним познакомиться и поучиться у него! – посоветовал генерал.
Узнав, что с тем, «хорошим» Поляковым я знаком, можно сказать, с рождения, он был поражен, хотя удивляться тут было нечему. Сочетание критичности с искренним романтизмом и доверчивостью было как раз типичной особенностью человека, вскормленного советской цивилизацией. Именно эта особенность воспитания и определила потом удивительное обстоятельство: миллионы умных, образованных людей безоглядно поверили опереточному Горбачеву и стенобитному Ельцину. Но надо знать позднюю советскую систему, ныне окарикатуренную не без моего участия: сурова, даже беспощадна она была к тем, кто, отвергнув правила игры и отеческую заботу, боролся с ней, вливаясь в ряды диссидентов, немногочисленные, как кружок любителей эсперанто. С искренне заблуждающимися (а к таковым причислили и меня) она работала, убеждала, заинтересовывала. Тем более что проблема неуставных отношений волновала начальство, ей, болезной, посвящались секретные совещания и закрытые приказы министра обороны, с ней боролись. Понимавшие иносказательный язык тогдашней прессы легко могли найти отзвуки этой борьбы с «дедовщиной» в военной печати. Она неутомимо и тщетно призывала армейский комсомол «активнее участвовать в процессе воспитания в воинах чувства товарищеского локтя, советской морали и ответственности за порученное дело».
Тем временем повесть довольно успешно обсудили в Союзе писателей, а ЦК ВЛКСМ обратился в ГлавПУР с просьбой рассмотреть возможность ее публикации. В писательской многотиражке «Московский литератор», где я в ту пору работал редактором, под заголовком «Призыв» была опубликована первая глава. Мне, конечно, всыпали, но больше для порядка, чтобы осознал, на что руку поднял. Но главного уговора я не нарушил: за рубеж рукопись не отдал, остался советским писателем – и со мной продолжали работать. Со временем, посовещавшись, высокое начальство решилось напечатать «Сто дней…» в журнале «Советский воин», который был в ту пору одним из заметных литературно-художественных изданий. Такие мэтры, как Бондарев, Стаднюк, Алексеев, Бакланов, Исаев, Дудин и многие другие охотно печатались на его страницах. Потом планировалось под руководством политработников обсудить мое сочинение в каждой воинской части, хорошенько наподдать автору за сгущение красок и неуместную иронию над ратными буднями, однако с поставленной проблемой согласиться и отмобилизовать личный состав на борьбу с неуставными отношениями… Решение было уже почти принято, но тут категорически возразил один из заместителей начальника ГлавПУРа. Он заявил на коллегии, что публикация повести нанесет урон боевой мощи СССР и что он немедленно обратится с особым мнением в военный отдел ЦК КПСС. В те годы ценилось единодушие при принятии ответственных решений, ибо в случае ошибки наказать всех ответственных сразу было довольно-таки трудно. Нет ничего удивительного в том, что кто-то выступил против публикации. Удивительно – кто выступил! Это был генерал Волкогонов, который через несколько лет обернулся пламенным демократом, обличителем советской эпохи и сокрушителем идейного наследия коммунистической деспотии. Говорили, он мстит за раскулаченного деда. Деталь, согласитесь, знаменательная и заставляющая задуматься о «человеческом факторе», который сыграл не последнюю роль в том, что вместо трансформации и планового демонтажа устаревшей общественно-политической структуры получился мстительный разгром, переходящий в торжествующий хаос… А ведь коммунисты обидели многих, да и какая революция без обид. Вон, во Франции чуть не всех блондинов казнили. Санкюлоты так и кричали: «Белокурых на гильотину!» Дело в том, что правящий класс там был из германцев, а простолюдины – черноволосые потомки римских рабов и колонов. У нас же, кроме отпрысков раскулаченных, с удовольствием квитались с «Совдепией» еще и отпрыски «комиссаров в пыльных шлемах», пошедших сначала в троцкистскую оппозицию, а потом в ГУЛАГ. Кстати, среди «прорабов перестройки» оказалось чрезвычайно много детей и внуков «пламенных революционеров». Бунташный ген кипуч до самозабвения.
В 1984-м повесть была окончательно запрещена. Точнее, не разрешена, что, в сущности, одно и то же. Получив сочувственный отказ и выйдя из высокого генеральского кабинета, я шел, понурив голову, по широкому, как улица, коридору, украшенному золоченой гербовой лепниной. На душе была тоска от тяжкого осознания непрошибаемости стены, заслонившей моей солдатской повести путь к читателям. И вдруг мне дорогу лениво перебежала откормленная мышь. Как? Здесь – в самом сердце обороноспособности державы? Да, здесь – в ГлавПУРе. Мышь! И мое сердце сжалось в предчувствии близких перемен…
Я смирился и, как принято теперь выражаться, переключился на другие литературные проекты. Вскоре вышла повесть «ЧП районного масштаба», ее стали обсуждать, экранизировать, инсценировать, а меня причислили к «прорабам перестройки», правда, не надолго. Однажды после встречи с читателями, где я с молодой горячностью волновался о судьбах отечества, интеллигентная библиотекарша с потомственно грустными глазами тихо заметила: «А на фотографии в «Юности» вы такой милый…»
Следующая серьезная попытка легализовать «Сто дней…» была предпринята лишь в начале 1987-го. К тому времени я уже опубликовал и «Работу над ошибками», о которой тогда спорили похлеще, чем нынче о сериале «Школа», снятом юной режиссершей со смешной самодельной фамилией. Замечу между прочим, придуманный, ненатуральный псевдоним каким-то таинственным образом искажает развитие творческой личности, направляя в надуманное, ненастоящее русло. Это сознавал, кстати, чуткий к слову Борис Пастернак, понимавший, что Господь не одарил его роскошной фамилией, как горлана Маяковского, но при всей своей горней выспренности автор «Доктора Живаго» остался верен родовому имени. А ведь Борис Пастернак – это примерно то же самое, что Борис Репа. А поди ж ты!
Но вернемся к судьбе «Ста дней». Будучи делегатом XX съезда ВЛКСМ и выступая с высокой трибуны, я открыл всесоюзному форуму глаза на проблему «дедовщины», о которой был прекрасно осведомлен каждый прошедший армию делегат. Навзрыд поведав о горькой судьбе моего произведения, не первый год мыкающийся «по мукам согласования», я спросил: «Доколе?» Зал мне сочувственно похлопал. В перерыве делегаты пожимали мою руку, благодарили за гражданскую принципиальность, а по кулуарам между тем метались встревоженные военные люди, решая какой-то неотложный вопрос. И решили: с ответным словом выступил Герой Советского Союза «афганец» Игорь Чмуров и темпераментно обвинил меня в клевете на армию, мол, нет никакой «дедовщины» и никогда не было! По мановению невидимой руки многотысячный зал аплодировал стоя. Я сначала демонстративно сидел, сложив на груди руки и жертвенно усмехаясь, но, поймав укоризненный взгляд руководителя нашей московской делегации, тоже встал и, чуть не плача, стал хлопать человеку, обвинившему меня во лжи. А ведь на дворе стоял не 37-й, а 87-й – и никто за отказ аплодировать вместе с залом меня бы не расстрелял… Что бы сделал, скажем, Солженицын? Вышел шагами командора из зала и тут же дал бы гневное интервью Би-би-си, заодно отстегав литературных врагов и былых благодетелей, вроде Твардовского. Что бы сделал, например, Евтушенко? Не выходя из зала, он бы сочинил возмущенные стихи и прочитал на ближайшем вечере поэзии в Лужниках: «Когда румяный комсомольский вождь…» и т. д. Но я так не мог… Я был воспитан в духе советской соборности.
Однако события развивались стремительно. Вскоре немец Руст посадил на Красной площади свой самолетик, преспокойно миновав все пояса противовоздушной обороны. Воспользовавшись этим неофициальным визитом, а может, и нарочно организовав его (как показали недавние расследования журналистов), Горбачев с маху разогнал военную верхушку, недовольную генсеком и справедливо усматривавшую в его дилетантском миротворчестве угрозу безопасности страны. Армия была парализована. И Дементьев, даже не поставив никого в известность, кроме надзиравшего за свободной прессой члена Политбюро Яковлева, запланировал повесть в очередной номер «Юности». Ему тут же позвонили из военной цензуры и предупредили: «Снимите «Сто дней…»! Мы все равно не пропустим!» «Вы бы лучше Руста не пропустили!» – ответил Дементьев. И я надолго стал врагом армии. До сих пор многие офицеры, заслышав мое имя, начинают играть желваками, хотя потом, выпив и разговорившись, обязательно сообщают, что все, мной описанное, еще цветочки, а мне следует знать и про ягодки, которые полными горстями они трескали в своей командирской жизни…
Однажды газета «Мир новостей» проводила какое-то мероприятие, и я оказался в президиуме рядом с маршалом Дмитрием Язовым, бывшим министром обороны. Мы разговорились о фронтовой поэзии, и он очень порадовался: есть, оказывается, и в молодом поколении люди, разделяющие его любовь к боевой музе. Мы наперебой читали друг другу наизусть – Майорова, Гудзенко, Луконина…
Когда на смерть идут – поют,
А перед этим можно плакать…
Начался фуршет, мы с бывшим министром не раз и не два чокнулись, продолжая цитировать «стихотворцев обоймы военной».
Бой был коротким. А потом
Глушили водку ледяную.
И выковыривал ножом
Из-под ногтей я кровь чужую…
Язов подозвал кого-то из газетчиков, видимо, желая уточнить мое имя, но, услышав, что это «тот самый Поляков», помертвел лицом, а потом процедил сквозь зубы: «Из-за таких, как вы, развалился великий Советский Союз!» Кровь, основательно напоенная алкоголем, бросилась мне в голову: «А по-моему, СССР погиб из-за вас!» – «Что-о!» «Да, из-за вас! Я всего лишь рассказал правду о той армии, которой, кстати, командовали вы. Я выполнил свой профессиональный долг! А вы не выполнили?» «Почему это… не выполнил?» – грозно спросил он и отвел взгляд. «А потому что в августе 91-го вы должны были поднять армию и раздавить предателей, разрушителей страны – арестовать и Горбачева, и Ельцина. Обоих! Вы же фронтовик. Чего вы испугались? Тюрьмы? Вас все равно посадили. А так вы бы вошли в историю как спаситель СССР! Или хотя бы как маршал, пытавшийся спасти великую державу!» «Пролилась бы кровь…» – глухо возразил Язов. «Она все равно пролилась в 93-м, потом в Чечне…» «А вы бы смогли дать приказ стрелять на поражение в сограждан?» – спросил он. «Ради сохранения страны? Без колебания!» – ответил я с решимостью человека, привыкшего смело работать со словом. Язов посмотрел на меня с тоскливым недоверием и уехал. Видимо, я коснулся незаживающей раны его сердца. Наверное, не первый год бессонными старческими ночами он перебирал в памяти события того гибельного лета и мучился выбором, который мог изменить ход истории. Но не изменил…
Кстати, тех, кого обидела моя повесть, я понимаю. Говорящих правду не любят. Лгущих презирают. Выбор невелик… Драма в том, что наша писательская честность была востребована ходом истории не для созидания, а для разрушения – армии в том числе. Почему? И могло ли быть иначе? Не знаю… Увы, снежная лавина иной раз сходит из-за неосторожно громкого слова альпиниста, и от этого не перестает быть природным катаклизмом, в сущности, от человека не зависящим. За мной закрепилась репутация «антиармейского» писателя. Где-то году в девяностом мне вдруг позвонил председатель Оборонного Комитета тогдашнего Верховного Совета СССР и сказал, что есть мнение назначить меня главным редактором газеты «Красная звезда». «Ждем вас с программой реформ завтра!» Я насторожился: накануне мы выпивали в веселой компании, и мне подумалось, что вчерашние собутыльники, продолжая веселье, решили подшутить. Да и голос показался знакомым, напоминал писателя Александра Сегеня – большого любителя телефонных розыгрышей и, как потом оказалось, весьма ненадежного товарища.
– Это же генеральская должность, а я всего-навсего рядовой запаса… – пытался отшутиться я.
– О звании не беспокойтесь. Генерала не обещаем, но полковника гарантируем! Вы нам нужны, чтобы разогнать этих ретроградов. Мы знаем, как вы относитесь к армии…
– Откуда? – спросил я, понимая, что со мной говорят всерьез люди, облеченные реальной властью.
– Мы читали ваши «Сто дней…».
Мне стало не по себе. Наступала эпоха либерального необольшевизма. Я, конечно, отказался. Но судя по всему, прочие назначения в ту пору вершились по тому же принципу. «Любишь деревню?» – «Ненавижу!» – «Будешь министром сельского хозяйства. Приходи завтра с программой реформ!» Вспомните физиономии членов гайдаровского правительства, и причины нашего самопогрома начала 90-х станут понятнее…
«Сто дней» до сих пор вызывают в армии неоднозначную реакцию, хотя со времени написания прошло почти тридцать пять, а с момента публикации – двадцать семь лет. Повесть вошла в школьную и вузовскую программы, много раз переиздавалась, по ней сняли кинофильм, имеющий к моей прозе такое же отношение, как комар к омару. И вот, кажется, в 2007 году я стал заместителем Никиты Михалкова, который возглавил тогда Общественный совет при министре обороны С. Б. Иванове. Однако вскоре на этом посту его сменил Сердюков, странный, дорого одетый персонаж с застойным недовольством на лице, удивительно похожий на злого столяра-мебельщика из книжки «Урфин Джус и его деревянные солдаты». Эту сказку я обожал в детстве. Он приезжал на заседания совета с неохотой, будто на осмотр к проктологу, садился и клал перед собой листок бумаги, на котором здоровенным буквами, будто для условно зрячего, было напечатано: «Дорогие члены Общественного совета, разрешите начать наше очередное заседание и т. д.» Далее министр, никогда не глядя никому в глаза, торопливо вручал памятные часы или благодарственный сувенир членам совета, чаще певцам и юмористам, объявлял, что его ждут в Кремле, и убывал, поручив вести заседание Никите Сергеевичу. Проводив начальство бархатным взором, Михалков улыбался в усы и с державной загадочностью вспоминал слова своей мамы, считавшей: ребенка нужно воспитывать, пока он лежит поперек колыбели, а когда – вдоль, уже поздно. Выдержав суперкачаловскую паузу, чтобы публика могла осмыслить глубину сказанного, режиссер сообщал, что на съемочной площадке его ждут загримированные, актеры, потея под «юпитерами», и отъезжал, поручив дальнейшее ведение заместителю, то есть мне. Я оставался наедине с бывшими командующими округов и родов войск, воротилами ВПК, крупнейшими военными теоретиками, руководителями патриотических и материнских организаций. Все они готовились несколько месяцев, собирая и обобщая материалы, чтобы донести до министра тревогу о неладах в армии. А перед ними сидел литератор Поляков, в прошлом заряжающий с грунта, а ныне рядовой запаса…
Из Общественного совета меня выставили так же неожиданно, как и позвали туда. Где-то на вопрос телекорреспондента о военной реформе я со всей эфирной прямотой ответил: лично мне смысл нововведений не понятен. Но это еще полбеды. Главная беда в том, что цель пертурбаций в войсках, кажется, не ведома и самому министру обороны. Во всяком случае, ничего членораздельного по этому поводу он нигде не произнес. Через неделю я включил телевизор и выяснил: наш совет провел выездное заседание на Дальнем Востоке. Чтобы узнать, почему про меня забыли, я связался с министерским полковников, который в течение нескольких лет звонил мне и голосом, сладким, словно воздух в кондитерской, заранее предупреждал о готовящихся мероприятиях. На этот раз он был холоден, как кондиционер: «Вы больше не член нашего совета…» «Не член так не член…»
Правда, одно хорошее дело еще при министре Иванове нам в совете совершить удалось. На заседании, когда говорили о воспитании и просвещении личного состава, я вспомнил, какая замечательная библиотека была в полку, где я служил. А теперь? Донцову, что ли, ребятам читать? И приняли мудрое решение: составить список под условным названием «Сто книг для гарнизонной библиотеки», напечатать тираж и разослать в части. И вот через пару месяцев мы собрались, чтобы утвердить перечень. Как автор идеи, я с особым трепетом начал просматривать странички, обнаружил роман «Ночевала тучка золотая…» Приставкина, незабвенный «Кортик» Рыбакова. Минуточку, а где ж мои «Сто дней до приказа»? «Ну, вы, Юрий Михайлович, спросили! – улыбнулся генерал, тогдашний начальник управления. – К вашей повести в армии до сих пор отношение неоднозначное!» – «Но ведь столько лет прошло!» В ответ генерал пожал погонами с двумя большими звездами. Увы, борясь с неуставными отношениями, я невольно задел корпоративную честь офицерства. А такое помнится десятилетиями, если не веками…
Кстати, в подобной ситуации оказывался не один я. Моему любимому писателю Александру Куприну армейские тоже долго не прощали «Поединок». Недавно я разговаривал с одним просвещенным офицером, и он едко заметил: «Если царская армия состояла исключительно из уродов, описанных Куприным и Замятиным, то кто же тогда совершал подвиги в германскую войну, кто участвовал в Брусиловском прорыве?» Ответить мне было нечего. Кстати, сам Куприн, став фронтовым корреспондентом, поразился, встретив в окопах людей мужественных и красивых, вовсе не похожих на героев знаменитой повести. В чем тут дело? Война оздоровляет армию? Или у писателя, переживающего естественный в годы сражений патриотический подъем, меняется, как принято теперь говорить, оптика? Думаю, происходит и то и другое. Кстати, к моменту выхода «Ста дней» Александр Кормашов пробился в печать, получил некоторую известность, и я с неохотой дал герою повести новую фамилию – Купряшин. Так звали лучшего горниста пионерского лагеря «Дружба», где я провел летние месяцы своего детства и который подробно описал в романе «Гипсовый трубач».
Но я снова забежал вперед. А тогда, в начале 80-х, поняв, что «Сто дней до приказа» еще долго будут лежать в моем столе или бродить по инстанциям, я сел, как уже и сообщил выше, за новую повесть. О комсомоле. А точнее – о власти, ведь ВЛКСМ, называясь общественной организацией, на самом деле был важным звеном государственной структуры – министерством по делам молодежи, кузницей кадров. При этом комсомол болел всеми недугами советской власти, именно в нем происходило становление нового типа чиновника, способного ради карьеры на все. Даже на государственную измену. Там же отчасти зарождался и будущий предприниматель, способный ради прибыли перешагнуть через закон, друзей, мораль. Кстати, Ходорковский тоже работал в Бауманском РК ВЛКСМ, но позже…
Одновременно именно в комсомоле сохранились отблески героической эпохи становления советской цивилизации, остаточная энергия того мощного пассионарного взрыва, который после революции бросил миллионы молодых людей на строительство нового мира, а потом и на его защиту. Заметьте: над Павкой Корчагиным стали смеяться гораздо позже, чем над Ильичом или Чапаевым. Но все-таки стали! На каком-то капустнике актер Ясулович изобразил глумливую пантомиму: Корчагин сам себя закапывает в землю, сохраняя на лице улыбку идиотического оптимиста. Я заметил миму, что Корчагин строил узкоколейку, чтобы привезти дрова в замерзающий город, и смеяться вроде как не над чем. Он посмотрел на меня с недоумением энтомолога, встретившего говорящего кузнечика. Журнал «В мире книг», печатая интервью со мной, самочинно – к моему искреннему огорчению – поставил заголовок «Нужен новый Корчагин!». Ко мне подходили знакомые литераторы и, посмеиваясь, спрашивали:
– Юр, тебе и в самом деле нужен новый Корчагин? На фига?
Я отшучивался. Я тогда еще не понимал, что, открещиваясь от героя, способного ради идеи на самопожертвование, мы лишаем литературу важнейшего ее свойства. Ведь подвиг, начиная с Гильгамеша, Ильи Муромца или Гектора, всегда был главной темой литературы. Восхищение и омерзение – вот два полюса, рождающих энергию искусства.
Но вернемся к комсомолу. Неправда, что с помощью этой организации советская власть приспосабливала к себе молодежь. Точнее, не вся правда. С помощью комсомола молодежь приспосабливала к себе советскую власть. Кроме того, ВЛКСМ предлагал реальную возможность, как выражаются специалисты, канализировать молодежную энергию. Конечно же, в русле существовавшей социально-политической модели. А какой же еще? Я что-то не помню, чтобы Госдеп поощрял движение «черных пантер». Напротив, советские юноши и девушки долго и гневно требовали освободить из тюрьмы одну из этих «пантер» Анджелу Девис – красавицу-негритянку с роскошной шарообразной шевелюрой, похожей на огромный черный одуванчик. Впрочем, в СССР уже тогда немало юных людей вливались в ряды так называемых «неформалов», вроде «люберов». Нерасторопная советская власть запаздывала с реакцией на стремительно менявшуюся жизнь. Кто ж знал, что буквально через десять лет немногие, сохранившие верность гонимому комсомолу, сами станут «неформалами», а я, литератор, оппозиционный ельцинскому режиму, буду на тайной явочной квартире встречаться с молодыми подпольщиками-ленинцами? После октября 93-го на них некоторое время охотились, потом махнули рукой, видимо, сообразив: не орлы…
Почему контраст между мечтой и реальностью в советском комсомоле воспринимался наиболее остро? Думаю, из-за того, что эта организация работала с самой доверчивой и в то же время с самой обидчивой частью населения, не прощавшей обмана. С молодежью. На фоне остаточной романтики и провозглашенного бескорыстия еще отвратительнее выглядел моральный упадок начинающих чиновников. Было очевидно: они все меньше энергии отдавали державе и все больше тратили на выстраивание своего благополучия, успеха, карьеры. Лев Гумилев называл такой тип людей «субпассионариями». На низовом уровне это ощущалось не столь остро. Но чем выше… Я не случайно так подробно останавливаюсь на «ушедшей исторической натуре». Понять причину краха великого социалистического проекта можно только изнутри, помня, как это было на самом деле. Ведь за гибнущую советскую власть не заступились не только рабочие и крестьяне, потеряв вместе с ней все свои социальные завоевания, но даже сама партноменклатура. Впрочем, и царя свергли царедворцы, а не пугачевцы. Великие князья прогуливались по Невскому проспекту с революционными бантами на груди. А православный клир потирал руки: теперь вернем Патриархию! Вернули… и пошли на Соловки. В свое время я назвал перестройку мятежом партноменклатуры против партмаксимума, то есть против довольно жестких ограничений в материальных благах, да и в поведении. Так оно и было. Ну какое Политбюро разрешило бы Ельцину напиваться до международных конфузов? Первое, что он сделал, взяв власть, уничтожил советскую соборность.
Придя из армии посреди учебного года, я оказался без работы. В аспирантуру меня не взяли, несмотря на рекомендации ученого совета. Проректор, клятвенно обещавший, что после службы я стану аспирантом, наверное, сдержал бы слово, но позвонили сверху и попросили пристроить на кафедру чью-то дочку. Кстати, кастовость, с которой Сталин боролся при помощи репрессий, стала в позднем СССР настоящим бедствием. Тысячи отпрысков заслуженных советских родов сидели на хороших должностях, ничего толком не делая, мечтая об отпуске или загранкомандировке и рассуждая о сравнительных достоинствах авторучек «Паркер» и «Монблан». Пробиться сквозь эту вязкую поросль молодому человеку из незаслуженной семьи было не просто. Комсомольская карьера являлась одним из способов преодолеть сословный барьер, чем-то вроде личного дворянства при царе-батюшке.
Кто-то, конечно, пользовался другим, старым, как мир, способом – прицельно женился. Но, во-первых, не все способны подчинить «чувственную вьюгу» холодному честолюбию, да и результат часто оказывался противоположным. В моем поколении был один хороший поэт, которому прочили великое литературное будущее. И биография, и внешность тоже работали на успех: бездомный скиталец, маленький, щуплый, с ранней лысиной, как у Рубцова, да еще хромой и пьющий. Так и должен выглядеть непризнанный гений! В него влюбилась без памяти дочка партийного босса, ставшего позже членом Политбюро. И что? Ничего. Прежде, встречаясь, мы спорили с ним о поэзии, читали друг другу новые стихи, кипели жаждой социальной справедливости… Женившись на милой образованной девушке из номенклатурной семьи, он очень изменился, потолстел, увлекся иными страстями, стал говорить не о поэзии, а о столовом гарнитуре, заказанном тещей по спецкаталогу, о медвежье охоте в компании маршала и двух генералов, о сравнительных качествах «Паркера» и «Монблана». Стихи исчезли, как прыщи при правильном питании. Поэт в нем рассосался, словно сытный обед после дневного сна.
Но я вновь отвлекся. Вернувшись из армии в разгар учебного года, я обнаружил, что мое место в школе рабочей молодежи занято, что аспирантура мне не по рангу, и бродил, грустя, по моей Йокнапатофе. Выпив пива в Доброслободской бане (в буфет меня по старой памяти пускали без билета), я вышел, закурил и нос к носу столкнулся с Галей Никоноровой, знавшей меня еще активистом школьного комсомола. Говорят, судьба – лучший режиссер. Ничего подобного: судьба – лучший сценарист, придумывающий самые неожиданные сюжеты. Теперь Галя работала третьим секретарем Бауманского РК ВЛКСМ и предложила мне с разбегу, определив во многом мою будущность:
– А иди к нам «подснежником»!
– Кем? – удивился я.
– «Подснежником»…
Штат райкома был строго ограничен, утверждался в вышестоящей организации, но всякая бюрократическая структура, как известно, стремится к расширению: кадров всегда не хватает. Как быть? Ловкие «комсомолята» нашли выход: оформляли нужного работника в дружественную организацию на свободную ставку, хотя трудился он в райкоме. Я, к примеру, числился младшим редактором журнала «Наша жизнь» Всероссийского общества слепых. Участком мне определили учительские комсомольские организации, и, таким образом, я занимался почти своим – педагогическим делом. Галину я отблагодарил по-писательски – отчасти срисовал с нее третьего секретаря Краснопролетарского РК ВЛКСМ Комиссарову, милую, но довольно-таки комическую героиню моей повести «ЧП районного масштаба». Говорят, она страшно оскорбилась. Литература способна ранить даже человека, невосприимчивого к обидам. Однажды на отдыхе за рубежом я познакомился с ровесником, давно переехавшим вместе со своим бизнесом из России в Южную Европу. Он величаво рассказывал о процветающей фирме, о вилле у моря, кивал на свою яхту, хорошо видную с веранды ресторана. В общем, жизнь удалась!
– Но я на вас, Юрий, обижен! – вдруг объявил он, когда алкоголь притупил неловкость нового знакомства.
– ?!? – осьминог по-галлиопольски застрял у меня в горле.
– Ну, конечно, на вас! На кого же еще? Вот вы изобразили в «ЧП районного масштаба» заворга Чеснокова дураком, ничтожным прохиндеем. Это обидная ложь! На самом деле в райкоме заворг – ключевая фигура. Я знаю, я был заворгом. Это как начальник штаба в армии…
Средиземноморский ветерок разносил ароматы дорогого ресторана, на волосатой руке поблескивал «Ролекс», у пирса качалась дорогая яхта, а мой ровесник, гражданин Единой Европы, пел гимн высокому призванию и незаменимости заведующего организационным отделом в советском комсомоле. Ну, чистый Гоголь! Прав классик: обругай одного почтмейстера – и обидятся все отечественные почтмейстеры.
Впечатления от райкомовской жизни сложились у меня странные. С одной стороны, деловой энтузиазм и множество хороших дел не только для галочки, но и для души. Сегодня Гребенщиков или Макаревич плачут о своей неравной борьбе с «империей зла», а тогда они доили комсомольскую волчицу с таким азартом, что у той сосцы отваливались. Я, будучи членом совета творческой молодежи при ЦК ВЛКСМ, наблюдал, как паразитировали на богатом комсомоле нынешние «жертвы застоя». Как-то мне пришлось участвовать вместе с Макаревичем в одной эфирной дискуссии. Он, конечно, заклеймил «Красный Египет». Мол, «Машину времени» травили, вынуждали выступать на унизительных площадках – в подмосковных клубах… «А что, – уточнил я, – сегодня начинающим музыкантам сразу дают Кремлевский дворец съездов?» – «Н-нет, – удивился такой постановке вопроса рок-гурман. – Не дают. Но нас не пускали на телевидение!» – «Неужели? А я в начале 80-х видел по телевизору художественный фильм «Душа», где вы играли и пели главную роль!» – «Да… Х-м…» – окончательно смутилась жертва советской власти и посмотрела на меня с удивлением. Большинство «жертв» уверены, что все вокруг страдают прогрессирующим склерозом и совсем не помнят недавнее прошлое.
Но было в комсомольской жизни и другое: ежедневная изнуряющая аппаратная борьба, интриги, а главной ценностью считалось преодоление следующей ступени на карьерной лестнице. В газетах об этом, конечно, не писали, да и литература такие сюжеты обходила стороной. Один Виль Липатов опубликовал и экранизировал повесть «И это все о нем» – романтическую сказку о комсомольском вожаке (его сыграл молодой Игорь Костолевский), пытающемся возродить былой бескорыстный энтузиазм. Кстати, герой Липатова погиб вовсе не случайно. Думаю, автор просто не знал, что с ним делать в предлагаемых временем обстоятельствах. Сейчас, много лет спустя, перечитывая «ЧП районного масштаба», я испытываю странные чувства. В повести изначально, на языковом уровне заложено противоречие между высокой романтикой комсомольского мифа и ехидной сатирой на аппаратную реальность. Противоречие базовое, в сущности, стоившее жизни советской цивилизации. Это ехидство, кстати, заметили и дружно осудили почти все рецензенты. Мой «гротескный реализм» больше всего и раздражал облеченных властью читателей и в «Ста днях», и в «ЧП». Почему? Ведь им явно нравилась сатира, например, Григория Горина или философические сарказмы Михаила Жванецкого. В отличие от названных авторов, мастеров общечеловеческого юмора с легким оттенком небрежения к основному населению страны, мои сарказмы сочетались с социальным анализом и искренним беспокойством о будущем Отечества. Это была, так сказать, патриотическая сатира. А патриотизм, повторюсь, стремительно выходил (или выдавливался) из моды…
Год я проработал в райкоме, а перейдя в писательскую многотиражку «Московский литератор», сел за повесть о комсомоле. Неудача со «Ста днями…» ничему меня не научила. С упорством чукчи я снова принялся петь о том, что видел вокруг. Кстати, как комсомольский секретарь Московской писательской организации, я стал членом бюро Краснопресненского райкома комсомола. Первым секретарем работал в ту пору будущий главный редактор знаменитой газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Талантливый аппаратчик, к тому же увлеченный литературой, он заочно окончил Литературный институт и написал диплом о писателе-природоведе Соколове-Микитове. Страстный охотник, Гусев много лет спустя, когда я писал пьесу «Халам-бунду», посвящал меня в тонкости африканского сафари. Во многом Шумилин – это Павел Гусев с его личными и аппаратными проблемами, но немало я взял и от первого секретаря Бауманского райкома Валерия Бударина, который не выдержал карьерного взлета, проштрафился, выпал из системы и в начале 90-х был зарезан в пьяной драке. Между прочим, именно Павел Гусев подсказал мне сюжет с погромом в райкоме. Такое безобразие действительно случилось в те годы в Москве в одном из райкомов. В позднейшей экранизации Снежкин усилил мотив украденного знамени, что выглядело весьма символично. Кто-то из критиков восхищался: «Искать знамя, когда потерян смысл жизни, – вот главный идиотизм случившегося!» Тогда я был с ним согласен. Теперь же мне кажется, что смысл жизни, – по крайней мере, в его социально-нравственном аспекте, начинается именно с поиска знамени…
Заканчивал я повесть в Переделкине, в Доме творчества, в те годы многолюдном. Можно было оказаться за одним обеденным столом с немногословным Айтматовым или брызжущим остротами Аркановым. Каждую ночь ко мне в номер стучался драматург Саша Ремез и жалобно спрашивал: нет ли чего выпить? Писатели много спорили, иронизировали над советской реальностью, но больше всего жаловались друг другу, как им мучительно трудно писать. Я их тогда не понимал: моя повесть летела вперед, как экспресс с отказавшими тормозами. Называлась она «Райком» – в лучших традициях Артура Хейли, им тогда зачитывалась интеллигенция. Поставив точку, я позвонил Павлу Гусеву. Он тут же приехал, и я всю ночь читал ему неостывшие главы.
– Здорово! – сказал он под утро. – Просто гениально! Точно не напечатают.
Став в 1983 году главным редактором «Московского комсомольца», он опубликовал главу про собрание на майонезном заводе, за что и получил свой первый строгий выговор от старших товарищей. Далее с рукописью начало происходить примерно то же самое, что и со «Ста днями…»: меня вызывали в высокие кабинеты, сердечно со мной беседовали, рассказывали смешные и опасные случаи из собственной комсомольской практики, но в конце констатировали: выход повести нанесет ущерб системе.
– Ну, ты прямо каким-то колебателем основ заделался! – с предостерегающим смешком упрекнул меня один комсомольский начальник.
– Но ведь все это есть в жизни!
– А зачем всю грязь из жизни тащить в литературу? Понимаешь, мы же ее, грязь, таким образом легализуем!.. Вот у тебя в повести первый секретарь завел любовницу. Да и пьет он многовато. Разве так можно?
Я пожимал плечами, ибо доподлинно знал, что совсем недавно мой высокий собеседник сам чуть не вылетел с должности из-за шумного адюльтерного скандала. А вскоре после нашей беседы его все-таки сняли в связи с международным конфузом. Будучи в ГДР во главе молодежной делегации, он перебрал пива со шнапсом, и когда в зале появился долгожданный Хоннекер, ринулся к нему, снес в интернациональном восторге лбом стеклянную перегородку и, обливаясь кровью, упал к ногам лидера Восточной Германии. Согласитесь, красиво ушел!
Тогда эти возражения казались мне жуткой ретроградской чушью. Теперь, понаблюдав результаты сотрясания основ, я пришел к мысли, что и мои собеседники были по-своему правы. Литература имеет множество функций и мотиваций; одна из них, кстати, немаловажная, – заранее оповещать общество о неблагополучии, еще не ставшем бедствием. Это – ее долг. Долг власти улавливать эти сигналы и менять что-то в политике, экономике, социальной мифологии и т. д. Власть, реагирующая на любую критику как на клевету, обречена: значит, она утратила энергию внутреннего развития и скоро рухнет, но не от колебания основ, а от своей исчерпанности.
Прочитав главу в «Московском комсомольце», мне позвонил Андрей Дементьев и попросил принести рукопись в «Юность». Два года она лежала в редакции набранной, ее ставили и снимали, ставили и снимали. Я приходил, просовывал голову в кабинет, Дементьев одаривал меня виноватой улыбкой и разводил руками:
– Боремся!
Не знаю, сколько еще времени заняла бы эта борьба, но тут вышло постановление ЦК КПСС о совершенствовании партийного руководства комсомолом. Проблемы своих младших соратников по борьбе за коммунизм партия, как направляющая сила, конечно, знала. Я бы даже сказал: знала она о неблагополучии прежде всего в собственных рядах, но, по сложившимся правилам, искала недостатки у других. Партия ведь не ошибалась, она только исправляла допущенные ошибки. Полагаю, такова особенность любой власти: авторы «шоковых реформ» во главе с Гайдаром, горячо обличавшие жестокость Сталина, – сами до сих пор не извинились за реформы «через колено». Исключение – Чубайс. Он попросил прощение за несусветный гонорар, полученный за какую-то брошюрку.
По давней традиции, приняв постановление, начали интересоваться, нет ли у чутких советских писателей чего-то, художественно созвучного озабоченности партии делами комсомола. Спросили у первого секретаря СП СССР Георгия Маркова. Он ответил, что, кроме «ЧП», мертво лежащего в редакционном портфеле «Юности», соцреалистическая литература ничего такого своевременно не заготовила. Связались с Дементьевым, мол, а что там у вас с повестью Полякова?
– Так вы же сами запретили… – удивился он.
– Выбирайте выражения! Мы вам не рекомендовали. А ну-ка пришлите повесть нам! Мы еще разок посмотрим…
Через некоторое время перезвонили.
– Хорошая вещь. С перехлестами, но по сути правильная. Зря вы ее маринуете!
– Но ведь вы же сами…
– Да, сами… Вот и спорили бы с нами. Вы же коммунист! Надо брать ответственность на себя!
– Значит, можно?
– Попробуйте. Только вот название… «Райком». Не очень. Слишком обобщенное. Ну, не в каждом же райкоме знамена крадут…
Несколько дней я промучился, подбирая новое название. В голову лезла и казалась очень удачной разная чепуха, вроде «Иного не дано» или «Время – решать», но поскольку от меня потребовали три варианта, я добавил на отсев, до кучи еще и «ЧП районного масштаба». Выбрали именно его. Более того, именно это название стало идиомой и прочно вошло в русский язык. Я пишу эти строки в Светлогорске. Накануне, прогуливаясь по балтийской набережной, обнаружил в киоске «Калининградскую правду» с огненной «шапкой» «ЧП районного масштаба. На Куршской косе сгорело 15 гектаров леса!» Вот вам и – до кучи…
Еще жив был Черненко, с мучительной одышкой поднимавшийся на трибуну. Еще никому в голову не приходило бросать клич о перестройке, а тут вдруг вышла повесть, где впервые за много десятилетий автор поставил под сомнение само политическое устройство советского общества. Ну, если честно, один из его сегментов – комсомол. В последний раз к этой теме всерьез обращался режиссер Фридрих Эрмлер в кинофильме «Закон жизни», снятом в конце 30-х, чтобы объяснить стране внезапное падение всеобщего любимца комсомольского генсека Саши Косарева. Сталин, посмотрев фильм на ближней даче, сказал, задумчиво покуривая: «Хорошая картина. Очень выпукло показывает болячки комсомола. Одно плохо: все подумают, что то же самое и у нас, в партии…» Фильм положили на полку и показали только через полвека.
Сказать, что моя повесть стала полным откровением для думающей части населения, конечно, нельзя. Достаточно вспомнить «Зияющие высоты» Александра Зиновьева… Но то была «забугорная» литература, доходившая в виде слепого ксерокса или доносившаяся из трескучего вражеского эфира. А тут в журнале «Юность», трехмиллионным тиражом! Наверное, медведь в кремлевских елях сдох? Кстати, именно этим обстоятельством объясняется, мягко говоря, скептическое отношение либеральных критиков к моим ранним повестям. После капиталистической революции 91-го, господствуя в литературе, как татары после Калки, они вообще постарались удалить мои вещи из отечественной словесности. Задача облегчалась тем, что после статьи «Оппозиция умерла. Да здравствует оппозиция!», опубликованной сразу после расстрела парламента в октябре 93-го, мое имя по команде сверху (а командовали демократы не хуже коммунистов) вылетело из энциклопедий, справочников, программ… Почему же советским либералам не пришелся по душе мой «гротескный реализм»? Вот моя версия: наш либерал – человек «двудомный». Типичный пример – Андрей Синявский. С одной стороны, советский филолог, специалист по соцреализму, сотрудник института мировой литературы, с другой, Абрам Терц – автор антисоветских сочинений, выходящих в «тамиздате». Для либералов неприемлема сама мысль о том, что вполне возможно усовершенствовать советское (или российское) общество изнутри, не становясь его врагом, не вступая в союз с внешними недоброжелателями. Ими движет одна, но пламенная страсть – радикально и любой ценой исправить ошибку истории под названием «Россия». А как исправляют ошибки? Правильно: зачеркивают. Моя повесть, критикующая советскую политическую реальность, но без антисоветского исступления да еще в подцензурной печати, шла вразрез с этой концепцией «двудомности». Как борется российский либерал с теми, кому не в состоянии возразить? Правильно: вычеркивает.
Думаю, именно этими соображениями объясняется одна неточность в справочниках и учебниках литературы – после 2001-го меня туда вернули. Авторы упорно относят «ЧП» к перестроечной прозе. То, что повесть могла выйти во время «застоя», кажется им невероятным. Но в январе 85-го, когда первый номер «Юности» поступил к подписчикам, о «новом мышлении» не помышлял еще и Горбачев, а будущий идеолог перестройки Яковлев пил в канадской ссылке виски. Бурный отклик в обществе, горячая дискуссия в комсомоле, восторг радиоголосов, – все это, конечно, насторожило власть. Хотели художественную иллюстрацию к постановлению ЦК КПСС, а получили брожение в умах. Меня, как я сказал выше, крепко покритиковали в печати да на многочисленных встречах с активистами доставалось.
В конце 80-х писательница Марина Юденич, с которой мне прежде встречаться не доводилось, вдруг позвонила и как давнего знакомца позвала на презентацию своего нового романа. Недоумевая, я пошел. Виновница торжества, одетая во все черное, курила сигарету в длинном серебряном мундштуке и была похожа на декадентскую барышню начала прошлого века, вроде Черубины де Габриак. Я тепло поздравил ее с выходом книги и взялся за бокал. «Неужели не узнаете?» – спросила она низким голосом, глядя на меня темными, как «черный квадрат», глазами. «Не-ет…» – я опасливо обшарил закоулки своей мужской памяти. «Ну как же! В той жизни я была Мариной Некрасовой, первым секретарем Железнодорожного райкома комсомола!» И я отчетливо вспомнил боевую «комсомольскую богиню», чуть ли не с красной косынкой на голове, громившую мою повесть с трибуны горкома. Оставалось только посмеяться над метаморфозами времени.
А осенью 1986-го мне дали за «ЧП» премию Ленинского комсомола. Страна менялась, власть хотела соответствовать этим переменам. В основном на словах… Вместе со мной высокую награду получал клоун Полунин. Говоря слова признательности членам бюро ЦК ВЛКСМ, он не справился с эмоциями и заплакал навзрыд. Чувствительный комсомольский ареопаг тоже прослезился, а тогдашний молодежный лидер Мироненко, изнурительно многословный питомец украинского комсомола, разразился бесконечной речью об ускорении и новом мышлении. Продолжая громко всхлипывать, лицедей повернулся ко мне и незаметно подмигнул сухим ехидным глазом, мол, как я их развел, прозаседанцев!
В Театре-студии Табакова был поставлен и на аншлагах шел спектакль «Кресло» – инсценировка «ЧП». В 1988-м прогремела экранизация С. Снежкина, который на следующий день после премьеры тоже проснулся знаменитым. Но в фильме был изображен не мой комсомол – и многие тогда отметили это отличие от повести. Я, показывая «узкие места» ВЛКСМ, не на миг не сомневался в важности и нужности этой организации. Снежкин же относился к предмету своего художественного исследования с отстраненной враждебностью и желанием уничтожить непонятную организацию. Он, кстати, и не знал комсомол изнутри: в школе его не приняли в ряды из-за нехорошего поведения, а во ВГИКЕ он женился на мексиканке, что считалось несовместимым с принадлежностью к авангарду молодежи. Возненавидеть, не поняв, – тоже родовая черта отечественных либералов. Помню, мы сидели в Доме творчества кинематографистов в Репине, и он мне показывал снимки актеров, планировавшихся на различные роли. Теперь это называется «кастингом».
– Ну, посмотри какая рожа! Редкая сволочь! Изумительная скотина! – с нежностью взыскательного мастера говорил Снежкин.
– А кто это?
– Это будущий заворг Чесноков!
Сначала фильм крутили в закрытых залах, потом пустили в прокат, и в кинотеатры выстраивались огромные очереди. Одна интеллигентная дама на выходе крикнула: «Расстреливать надо этих комсомольцев, как фашистов!» А ведь по возрасту и виду она сама не так давно состояла в этой организации, и, судя по всему, овчарками ее там не травили. Но такова сила искусства. Ненавистью человека заразить куда легче, чем любовью.
А в 1991 году комсомол исчез вместе с «советской Атлантидой». Во многом, думаю, он пал жертвой своей обширной собственности, которую стремительно «прихватизировали». Но имелась и другая причина. У людей, пришедших тогда к власти, была установка на полное искоренение «совка». Что за этим стояло? Месть обиженных потомков или установка заокеанских кураторов, боявшихся возрождения советской мощи? Не знаю… Пусть разбираются историки. Однако когда Ельцина умоляли не разрушать до основания прежние молодежные структуры, объясняя, что нормальному государству они необходимы, он приказал с решимостью пьяного прораба: «Взрывай!» Не пощадил даже пионерскую организацию, которой предлагали присвоить имя Гагарина. В нулевые годы предпринимались попытки возродить молодежное движение: это и «наши», и многое другое. Не получается. Ломать – не строить.
К 80-летию ВЛКСМ я написал очерк «Поставим памятник комсомолу!». Чуткие друзья упрекали: «Ну что тебя заклинило! Это теперь, понимаешь ли, не комильфо. Забудь ты о нем!» Я понимал… Но понимаю я и другое: когда окончательно схлынет нетерпимость эпохи разрушения, вдумчивые люди захотят всерьез разобраться в том, чем была для России советская эпоха. Без гнева и пристрастия. Без мстительного психоза. Захотят взвесить грехи и добродетели ушедшей цивилизации на весах истории. Возможно, мои мысли о комсомоле, мое «ЧП районного масштаба» пригодятся и им. Пусть даже не как литературное произведение, а хотя бы как документ, помогающий понять время. Ведь именно суетливый инструктор райкома комсомола с ленинским профилем на лацкане стал первым миллиардером в постсоветской России. С другой стороны, когда «младореформаторы», накосячив везде, где можно и нельзя, отвалились от кормила, именно управленцы, сформировавшиеся в комсомоле, смогли «выволочь республику из грязи»…
«ЧП…» шумело по стране. Я мотался по городам и весям, рассказывая взволнованным читателям, как мне пришла в голову мысль разоблачить комсомол. Кое-кто, выражаясь по-нынешнему, продвинутый, осторожно интересовался на встречах: «А что там с запрещенными «Ста днями…»?» Я мученически возводил очи горе и жаловался на портупейное тупоумие военных. Потом, после окончания разговора с читателями, организаторы мероприятия, принадлежавшие, так сказать, к местной головке, вели меня ужинать и там, расслабившись, тоже начинали жаловаться. На жизнь. Я объехал множество областей и довольных жизнью почти не видел. Нет, это была не злость голодных людей, это больше напоминало глухое раздражение посетителя заводской столовой, которому надоели комплексные котлеты. Хотелось бифштекса с кровью…
Один умный старый писатель, следивший за моими успехами, как-то остановил меня в ЦДЛ, взял за пуговицу и сказал:
– Юра, поверь мне, старому литературному сычу, чем раньше ты забудешь о своем первом успехе, тем больше вероятность второго, третьего, четвертого успеха…
Потом мне не раз случалось наблюдать, как многолетнее упоение первичной славой губило таланты, что называется, на корню. И я сел за повесть «Работа над ошибками». Даже провел несколько уроков в школе, чтобы вернуться в подзабытое учительское состояние духа. Учительство сильно влияет на человека, через несколько лет ты вдруг, не замечая того, начинаешь с продавцом в гастрономе разговаривать так, словно он, положив на весы не тот кусок колбасы, злостно нарушил дисциплину в классе или не выполнил домашнее задание. Любопытно, что на эту строгую учительскую интонацию продавцы не обижаются. Они ведь тоже в школе учились.
Иногда мы, выпускники филфака пединститута имени Крупской 1976 года, собираемся вместе, и я оказываюсь среди постаревших однокурсниц. Нас, парней на курсе было немного: шесть из семидесяти. Трое – автор этих заметок, Александр Трапезников и Тимур Запоев (Кибиров) – стали писателями. Витя Бутенин давно умер. Виктор Фертман – директор школы… У девушек судьбы тоже сложилась по-разному: многие всю жизнь проработали в классе, кто-то ушел в науку, бизнес, библиотечное дело… Когда я смотрю на подруг моей студенческой юности, на ту же Светлану Бабакину, ставшую ученой дамой, я вижу в них эту вечную учительскую складку, внутреннюю собранность, сосредоточенность, не подвластную никаким переменам участи.
В конце 90-х меня угораздило баллотироваться в Думу от партии «За новый социализм». Мне выделили опытных «электоральных менеджеров», чтобы я по писательской забывчивости не пропустил какую-нибудь важную встречу с избирателями. Однако все случалось наоборот: я всегда приходил вовремя, а опытные политтехнологи иной раз подтягивались, когда я, изложив программу, отвечал уже на вопросы.
– Почему вы никогда не опаздываете? – удивленно спросила моя электоральная помощница, странная девица, упорно звавшая избирательные бюллетени – «беллютнями».
– Очень просто – ставлю будильник на полчаса раньше.
Работая после института учителем, я жил в Орехово-Борисове, а в школу ездил на Разгуляй. Опоздав в очередной раз к началу урока, по глазам учеников я понял: еще раз не рассчитаю время – и в классе начнется эпидемия опозданий. Учитель – образец для подражания, и если он дает пример необязательности… Я сгруппировался, купил второй будильник и постепенно пунктуальность вошла в привычку. В Думу я, слава богу, не прошел, а то бы писал теперь законы – не романы.
Почему я решил сочинить повесть о школе? Как всякому начинающему прозаику, мне хотелось, прежде всего, рассказать о том, что я знал «по жизни». Возможно, окончив технический вуз и поработав, скажем, в НИИ, я бы и написал о НИИ. Но мне выпало быть, пусть недолго, учителем. Так случилось. И я написал о школе – третьей важнейшей основе советской цивилизации. Впрочем, в писательской судьбе случайностей не бывает.
Образование – основа основ любой социальной системы. Базовый советский миф закладывался в головы юных граждан именно в школе. Учитель, в особенности учитель словесности или истории, волей-неволей становился бойцом идеологического фронта. Но проблема заключалась в том, что в своем большинстве бойцы этого фронта сами давно не верили в советский миф. Фронт держали, но не верили. Уточню: на протяжении всех этих заметок я употребляю слово «миф» не в осудительном смысле, но обозначаю им совокупность идеальных представлений общества о себе. Миф всегда далек от реальности. Например, американцы считали себя самой свободной страной даже тогда, когда у них было махровое плантаторское рабство. Миф необходим человеку и обществу, но миф, которому перестали верить, а точнее – доверять, это уже предрассудок.
Особенность увядания советского мифа заключалась в том, что люди начинали ненавидеть его совсем не за то, что он звал к братству, равенству и социальной справедливости (так это пытаются представить ныне), а за то, что братства, равенства и справедливости в жизни было недостаточно. Именно поэтому разрушение советской цивилизации и возврат капитализма начались под лозунгом «Больше социализма и социальной справедливости!». Что-то вроде Джека-потрошителя, дающего клятву Гиппократа. А продолжилось с помощью уничтожения патриотической составляющей мифа. Учебники, появившиеся после 91-го, учили стесняться своей страны. Писатели, не боровшиеся с советской властью, оказались как бы и не писателями, а так – «подголосками тоталитаризма». Именно этим словосочетанием определил великого Михаила Шолохова один сотрудник «Литературной газеты», когда я в качестве нового главного редактора знакомился с коллективом. Будучи человеком терпимым и не склонным к скорым кадровым решениям, я уволил его на следующий же день. Сурово? Как сказать… Думаю, если бы я что-то подобное, работая, скажем, в «Известиях», сказал о Василии Гроссмане, меня бы вышибли в тот же день.
И тут я должен сделать еще одно отступление. В моей жизни школа сыграла огромную роль. Собственно, благодаря школе я, мальчик из заводского общежития, из семьи, где поначалу имелась одна-единственная книга «О вкусной и здоровой пище», смог развиться в мыслящего человека и подготовиться к поступлению на литфак пединститута. Очень мне помогла в этом покойная ныне директор 348-й московской школы Анна Марковна Ноткина, ходившая со мной на вступительные экзамены в институт – чтобы никто не обидел заветного выпускника. Но особенно повлияла на меня моя учительница литературы Ирина Анатольевна Осокина, умная, образованная, тонкая и остроумная женщина. Семья у нее, кажется, не сложилась, детей не было. Вся жизнь заключалась в любимых книгах и учениках. Мне повезло: я стал ее любимым учеником. Совершенно бескорыстно она готовила меня к поступлению на литфак, а конкурс тогда достигал, между прочим, двадцати человек на место!
Ирина Анатольевна происходила из семьи дореволюционных интеллигентов, принявших советскую власть, честно работавших по военному ведомству и, как водится, пострадавших в 30-е годы. Ко всему, чем жила страна, она относилась с умной иронией, никогда не переходившей в презрение. Я бы назвал ее взгляды ироническим патриотизмом. Это вообще уникальная особенность русских интеллигентов – посмеиваться над государством, критиковать и даже недолюбливать его и в то же время честно ему служить. В нижних слоях общества, в той же рабочей среде, где я рос, отношение к государству было совершенно иное. Нет, совсем не раболепное, о чем любят, сидя на собранных в эмиграцию пожитках, порассуждать кочующие интеллектуалы. Это отношение я сравнил бы с восприятием родной природы – иногда благосклонной и щедрой, иногда жестокой и разрушительной, но неизбежной и неизбывной. Эти два чувства, одно из которых привито в семье, а другое получено от любимой учительницы, как-то странно переплелись в моей душе, а следовательно, и в моей литературе.
– Почему вы все время иронизируете в своих книгах? – спросил меня за обедом в Переделкине неулыбчивый Валентин Распутин, прочитав мой «Демгородок». – Россию не любите?
– А Гоголь почему иронизировал?
– Но вы же не Гоголь!
– К сожалению… Но если бы я не любил Россию, я бы не иронизировал, а издевался бы…
За точность формулировок не ручаюсь, но смысл разговора передаю достоверно.
Я рос под сильнейшим влиянием Ирины Анатольевны. Она не только учила меня родному языку, литературе, но и жизни. Причем учила особыми, своими методами.
– Значит, встречаться она с тобой не хочет?
– Нет, – вздыхал я, почти сломленный первой сердечной неудачей.
– Ясно. Рекомендую Голсуорси. «Конец главы». Читать перед сном.
Придя на работу в школу, я попал в ситуацию, характерную для позднесоветского педагога. Представьте, молодой учитель, иронически, как и большая часть тогдашней интеллигенции, относящийся к советским идеалам, встает у доски. Призванный отвечать на жгучие вопросы о будущем, о правде, о социальной справедливости, о смысле жизни, он на некоторые из них сам не знает ответа. На другие знает, но поделиться своими сомнениями не может. Нельзя – боец идеологического фронта! Много позже я прочитал у Ренана, что людей делают нацией общее славное прошлое и общие высокие планы на будущее. С планами на будущее было уже сложно. Анекдоты про коммунизм как воображаемую и недостижимую линию горизонта рассказывали друг другу даже пятиклассники.
Герой моей повести, журналист Петрушов, по стечению жизненных обстоятельств пришедший работать в школу, чувствовал этот разлад и пытался объединить учеников хотя бы героическим прошлым – поисками утраченной рукописи талантливого писателя Пустырева, погибшего на фронте. Но и он понимал, что этого уже недостаточно. Одного прошлого мало. Тем более что рукописи все-таки горят… Кстати, в своем романе «Географ глобус пропил» пермский писатель А. Иванов довольно точно повторяет сюжет «Работы над ошибками», но его «непросыхающий» учитель пытается сплотить класс идеей туристического похода в тайгу. Почувствуйте разницу! Литература невольно фиксировала снижение уровня целеполагания, отражая общую умственную и нравственную деградацию школы в годы «шоковых реформ». Про «Бабу ЕГЭ» поговорим в другой раз…
Честно говоря, сочиняя повесть, обо всех этих проклятых вопросах кризиса национальной идеологии я еще не задумывался, просто вспоминал свой учительский опыт, впечатления, коллег, учеников… Наверное, это даже хорошо: меня вела жизненная и художественная логика, а не политическая установка или вычитанная концепция. Критики, прежде всего, оценили в «Работе над ошибками» тщательно выписанную «анатомию и физиологию» поздней советской школы. Но взаимного отчуждения поколений, разрыва связи времен, необходимой каждому обществу, предкатастрофического неблагополучия она не уловила. Зато почувствовал это читатель. Как обычно, меня корили за ехидность и за то, что в описанном мной педагогическом коллективе слишком много недостатков. Главный герой любит одну женщину, а спит с другой, математик с альковной фамилией Котик соблазняет юных практиканток, завуч по кличке Гиря берет у родителей подношения, директор школы Фоменко ради карьеры предает друга, а утонченный Максим Эдуардович вообще с учеником до крови подрался в классе… Вывод напрашивался сам собой: советское учительство в упадке.
А ведь сколько говорено-переговорено: нельзя только на основе художественного произведения давать системную оценку обществу. Ну разве, к примеру, «Горе от ума» рисует объективную картину тогдашней России? Кто ж в таком случае победил Наполеона – Скалозуб, что ли? Литература чем-то похожа на кошку, норовящую всегда лечь на больное место хозяина. В 90-е годы, когда страна буквально билась в эпилептическом припадке духовного и материального саморазрушения, именно учителя, полуотрицательные герои моей «Работы над ошибками», спасли Отечество. Да – спасли! Не получая порой даже своей мизерной зарплаты, они вставали у доски и учили детей, упорно отвергали дурацкие нововведения умников из Минобра, вроде одного заместителя министра, уверявшего: школа вообще не должна воспитывать. Теперь он, кажется, эмигрировал с семьей за океан, где школа воспитывает любовь к звездно-полосатому флагу с настойчивостью пневматической колотушки для забивания свай. Учителя потихоньку прятали в чуланчики со швабрами «соросовские» учебники, учившие прежде всего нелюбви к своей родине. Бисмарк заметил, что франко-прусскую войну выиграл немецкий учитель. Я перефразирую так: Россию в слепые 90-е от полного поражения и краха спас советский учитель.
…Вскоре после выхода повести Станислав Митин поставил «Работу над ошибками» в ленинградском ТЮЗе им. Брянцева. Спектакль шел с успехом, и, что характерно, по окончании в зрительном зале устраивались горячие обсуждения. Высказывались и восторженные, и уничтожающие оценки. Говорили и учителя, и школьники… Но мне почему-то запомнилась девочка лет тринадцати. Она встала и, глядя на меня полными слез глазами, сказала вдруг:
– Вы все правильно описали… Но во что же тогда верить?
– В себя! – весело ответил я, уже поднаторевший в дискуссиях с читателями.
– Как же верить в себя, если ни во что не веришь? – спросила она и заплакала от волнения.
Потом, вспоминая ту юную зрительницу, я успокаивал себя тем, что в обществе уже началась неизбежная смена символов веры, что таков объективный процесс обновления, а я, будучи реалистом, просто отразил его в своих книгах. Но, честно говоря, в том, что на смену наивной, устаревшей вере пришел культ неверия и презрения, виновата, конечно, и интеллигенция, в особенности гуманитарная. Она, если продолжить рискованное сравнение с кошкой, уже не ложилась на больные места, а в упоении их расцарапывала, рвала в клочья. Да, умом я понимаю, что советскую власть в конечном счете погубило небрежение опытом дореволюционной России, православной цивилизации, погубила та жестокость, с которой была разрушена жизнь в 1917-м… Все это вернулось в 1991-м бумерангом. Но крайностей, наверное, можно было избежать, если бы гуманитарная интеллигенция, писатели в том числе, призванные быть мозгом нации, не повели себя, как, простите, «козлы-провокаторы», заманивающие стадо на заклание. Они не смогли предложить взамен обветшалым советским идеалам ничего, кроме слов о свободе слова и общечеловеческих ценностей, от которых мгновенно отказались в октябре 93-го. Они не понимали или не хотели понимать, что общечеловеческие ценности существуют только в конкретных национальных версиях. Гуманизм не навязывают с помощью ковровых бомбометаний и «бархатных» революций, заливающих континенты кровью. Когда интересы одной страны объявляются планетарным вектором развития, смысла в этом не больше, чем в лозунгах о расовом превосходстве, мировой революции и пролетарском интернационализме.
Новый, демократический миф так же далек от сути нашей русской цивилизации, как и прежний, советский. Нет, он еще дальше…
Я снова и снова с тягостным чувством вины вспоминаю полные слез глаза той девочки, хотевшей верить хоть во что-нибудь. Кем она стала? Полунищей учительницей? Путаной? Наркоманкой? «Челночницей»? Или удачливой предпринимательницей, вроде Хакамады, похожей на плотоядную лиану? Не знаю. Знаю только, что я не мог не написать мои первые повести так, как я их написал… Не мог не быть колебателем тех обветшалых основ. Я не хотел, да и не должен был подпирать своим словом рушащиеся своды. Но сегодня мне грустно, неуютно на руинах исчезнувшего мира под кущами, шелестящими свеженапечатанной долларовой листвой. Нет, слава богу, я не оказался, подобно многим властителям советских дум, на обочине жизни и литературы. Читатели и издатели ко мне благосклонны. Не изменяя своим принципам и убеждениям, я вполне вписался в новую ситуацию.
Но почему же мне так грустно, черт возьми?
Почему?!
В первом томе данного собрания сочинений публикуются как известные стихи, включавшиеся автором в сборники, избранное, собрания сочинений, так и стихи, которые ранее не входили в подобные издания, а то и вообще не дошли до печати. Ранее не публиковавшиеся стихи даются как в первоначальной редакции, так и в позднейшей обработке, что обозначено двумя датами. Кроме того, впервые читатель может познакомиться со стихотворной сатирой автора «Козленка в молоке»: пародиями, эпиграммами, ироническими стихами разных лет. Некоторые из этих произведений увидели свет в малоизвестных изданиях или печатались под псевдонимом, а то и вовсе не покидали ящик письменного стола. Также впервые на читательский суд выносятся юношеские и ранние стихи, преимущественно не опубликованные и позволяющие полнее проследить этапы становление молодого поэта, его классические ориентиры и влияния современников.
Юрий Поляков (р. 12 ноября 1954 г.) дебютировал как поэт 29 марта 1974 г. на «Литературной странице» газеты «Московский комсомолец» в коллективной подборке «Первые стихи» с предисловием поэта Вадима Сикорского, который отметил, что авторам подборки «…нельзя отказать в свежести чувства, непосредственности и серьезном отношении к поэтическому слову». Затем последовал ряд других публикаций в «МК». Первая крупная подборка стихов «Время прибытия» вышла в «Московском комсомольце» под рубрикой «Книга в газете» 25 июня 1976 г. Известный поэт Владимир Соколов в своем предисловии писал: «Стихи Юрия Полякова задерживают на себе внимание. И прежде всего потому, что это стихи размышляющего человека. Он, можно сказать, почти еще не печатался, а я уже запомнил одно его опубликованное в «Московском комсомольце» лаконичное стихотворение «Зачем вы пишете стихи?». В этом маленьком ироническом фрагменте находит отражение мысль об очистительной, воспитующей силе искусства. И хорошо, что Юрий Поляков это вовремя ощутил и высказал. Авторская мысль не может мешать непосредственности читательского восприятия, если она растворена в природе самого стихотворения. И Поляков это уже понимает, чему свидетельствует его стихотворение о Муранове, где он «впервые Тютчева читал, сменив слова на запахи и звуки». Юрий Поляков разрабатывает поле своей будущей деятельности, ищет духовные истоки в родной истории, в воспоминаниях старших о войне, в свежих впечатлениях детства и отрочества. Стихи о детстве на сегодняшний день удались ему больше, но это лишенные инфантильности стихи взрослого и, повторяю, думающего человека. За внешне спокойным стихом Юрия Полякова угадывается истинность переживания. Желаю доброго творческого пути этому одаренному поэту!»
Служба в армии по окончании института стала временем становления Ю. Полякова как серьезного поэта. В этот период его стихи появляются в армейской периодике (от дивизионной газеты «Слава» до «Красной звезды»), а также в центральных журналах – «Молодая гвардия» (1977, № 1), «Студенческий меридиан» (1977, № 1). За год написано почти сто стихотворений, в печать попала всего лишь половина, что объясняется самокритичностью поэта к себе, высокими требованиями периодических изданий к авторам, а также «советским» каноном, по которому отбирались для печати произведения литераторов, в особенности молодых. Часть «армейского цикла» из архива автора впервые публикуется в этом издании.
Вернувшись из армии, Ю. Поляков активно включается в литературную жизнь. Он становится участником IV Московского (1978) и VII Всесоюзного (1979) совещаний молодых писателей. Его стихи широко печатаются в периодике – в «Юности» (1978, № 2), «Смене» (1979, № 6), «Знамени» (1980, № 2), ежегодном сборнике «День поэзии», альманахе «Поэзия» и др. Предваряя подборку поэта в «Литературной газете» (1979, 31 октября), В. Соколов писал: «Со стихами Юрия Полякова я познакомился недавно – четыре года назад. Для него это давно – когда-то… Тогда же я, как старший собрат по перу, порадовался, что у него все вовремя: и молодость мысли, и молодость формы, и молодость возраста. Мне нравится читать стихи Ю. Полякова, потому что они в плоть и кровь свою впитали и продолжают впитывать все хорошее, что есть в нашей поэзии…»
Критик В. Куницын в статье «Феномен Юрия Полякова» вспоминает об этом периоде: «В 1978 году в гостиной Центрального дома литераторов происходило знакомство с творчеством трех молодых поэтов – Елены Матусовской, Лидии Григорьевой и Юрия Полякова. Помню экспрессивные, страстные, напористые строчки Григорьевой, изысканные, мудро-печальные и тонко сплетенные стихи Лены Матусовской (к огромному сожалению, так рано ушедшей из жизни). Было любопытно, что сможет в этом своеобразном поэтическом турнире только что вернувшийся из армии, совсем еще молодой паренек. Глядя на его по-солдатски подтянутую фигуру, простую прическу и застенчивый вид, как-то мало верилось, что ему удастся противостоять уже искушенным в эстетических вопросах поэтессам. И что же? Поляков в самом деле прочитал очень простые, какие-то беспомощно открытые по форме стихи, но в них была неожиданность – они были отнюдь не банальны по мысли, и в них явно чувствовался не умозрительный, а реально освоенный духовный опыт. Когда мы, несколько человек, собравшихся «на Елену Матусовскую», вышли на улицу и, заметив, что она притихла, стали несколько фальшиво уверять ее в победе, она остановилась и задумчиво сказала: «Нет, в этом мальчике есть что-то настоящее, и стихи его лучше…» (Ю. Поляков. Избранное в 2-х т. т. «Художественная литература», 1994. С. 488).
В 1980 г. Ю. Поляков получил свою первую литературную премию им. Маяковского за цикл стихов о Великой Отечественной войне «Непережитое». В том же году издательство «Молодая гвардия» выпустило его первую книгу «Время прибытия» (предисловие В. Соколова). Сборник был отмечен премией им. М. Горького «За лучшую первую книгу молодого автора» и благожелательно встречен критикой. Рецензент А. Хворощан писал: «Время – живой и многоликий герой книги, которому открыт доступ в тайную тайных авторской души. Именно эта интимная психологическая сторона времени остро осознается автором и находит рельефное выражение в его стихах…» («У времени в плену», журнал «Молодая гвардия», 1981, № 1). Об особом чувстве времени молодого автора писал и критик Ю. Болдырев:
«…Он не сопереживает, он переживает прожитое им – только так мне видится то, что привело его к большой удаче в стихотворении уже упомянутого цикла «1941 год» («Чувство времени», «Знамя», 1981, № 2). В 1981 г. издательство «Современник» выпускает вторую книгу поэта «Разговор с другом». Известная поэтесса Е. Шевелева назвала большую статью о творчестве молодого поэта «…Это временем зовется» («ЛГ», 1982, 22 декабря). В 1983 г. Ю. Полякову была присуждена премия Московского комсомола.
В этот период Ю. Поляков серьезно занимается историей фронтовой поэзии. В частности, жизнью и творчеством сибирского поэта Георгия Суворова, погибшего в 1944-м под Ленинградом. Ю. Поляков публикует в центральной печати неизвестные стихи поэта и статьи о нем. (См.: «Какой высокою ценою…», «Учительская газета», 1980, 17 мая; «Моя сереброокая Сибирь», «Литературная Россия», 1981, 8 мая; «Поэт-красноармеец. Л. Мартынов и Г. Суворов», «МК», 1981, 18 января и др.) В 1981 г. Ю. Поляков на кафедре советской литературы МОПИ им. Крупской защищает кандидатскую диссертацию «Творческий путь Г. Суворова. К истории фронтовой поэзии», которая легла в основу историко-публицистического исследования «Между двумя морями. Книга о поэте», выпущенного в 1983 г. в библиотечке журнала «Молодая гвардия».
Ю. Поляков публикует ряд критических статей, посвященных военно-патриотической теме в творчестве молодых поэтов. (См.: «Право на боль», «Литературная Россия», 1982, 29 октября; «Проникнись моментом! Гражданственность в современной молодой поэзии», «ЛГ», 1984, 9 мая; «Наследники. Военно-патриотическая тема в молодой поэзии», «Литературное обозрение», 1984, № 5 и др.) В ту пору патриотическая тема в стихах и статьях поэта многими была воспринята как «дань конъюнктуре». Мало кто увидел в этом стойком интересе к «военной» проблематике попытку разобраться в надвигающемся кризисе патриотизма и противостоять ему. Обращение автора к этому же кругу вопросов в публицистике 90-х, в новых исторических условиях и на новом интеллектуальном уровне убедительно подтвердило то обстоятельство, что «патриотическая» тема всегда была для Ю. Полякова не данью официозу, а напротив – выстраданной, глубоко волновавшей его духовно-нравственной проблемой. Не случайной в этой связи представляется и повесть для юношества «За боем бой», написанная Ю. Поляковым в 1985–1987 гг. и выпущенная в 1988 г. издательством «Детская литература». Повесть посвящена Гражданской войне. Эта, во многом еще художественно несовершенная попытка исследовать эпоху жесточайшей братоубийственной схватки дала автору материал для осмысления нового кризиса российской государственности, начавшегося в конце 80-х. Более того, в известной мере подготовила его к серьезному анализу событий, произошедших в перестроечной и постперестроечной России.
Третья книга стихов «История любви» была выпущена в 1985 г. в издательстве «Современник», а четвертая, последняя, – «Личный опыт» – в 1987-м в «Советском писателе». В дальнейшем Ю. Поляков отходит от поэтического творчества. Однако «стихотворный элемент» активно вводится автором в прозаический текст. (См., например, знаменитое подражание Маяковскому в повести «Парижская любовь Кости Гуманкова», стихи в романах «Козленок в молоке» и «Гипсовый трубач»). Исследователи отмечают особое пристрастие прозаика к «поэтическим композиционным моделям», а также насыщенность его прозы поэтическими тропами. (См. статьи о поэтике Ю. Полякова в книге «Москва – Вселенная моя». М., 2014.)
В своих немногочисленных стихах 1990–2014 гг., помещенных в этом томе, автор остается верен привычным темам. Вместе с тем в его поэзии усиливаются политические мотивы и сатирическая направленность, особенно полно выраженные в его публицистике тех лет. Характерно в этом отношении стихотворение «Стансы» (2011). Получает развитие в позднем творчестве наметившийся уже в сборнике «Личный опыт» интерес к свободному и белому стиху.
Избранные стихи Ю. Полякова включались во многие антологии современной русской поэзии, в том числе в сборники «Молодые голоса» («Художественная литература», М., 1981), «Была война» («Детская литература», 1984), «Мы все за шар земной в ответе. Из советской поэзии 80-х» (Молодая гвардия, 1984), «Начни с себя. Из современной советской поэзии» («Молодая гвардия», 1987), в «Антологию русской поэзии XX века» (ОЛМА-Пресс», 1999), в сборник «Идет война народная…», вышедший в серии «Школьная библиотека» («Детская литература», 2001).
Некоторые стихотворения Ю. Полякова переведены на иностранные языки: болгарский, китайский, польский, венгерский, казахский, итальянский, арабский, английский и др.
Солдатская повесть
Первый вариант повести написан в 1979–1980 гг. Первое название «Не грусти, салага! Армейская повесть» впоследствии заменено автором на общеизвестное – «Сто дней до приказа. Солдатская повесть». В позднейшей редакции (1987) автор внес в текст необходимую для публикации идеологическую правку, а при доработке повести отказался от «линейного» повествования, обострив композицию с помощью совмещения двух временных планов. Первое упоминание о рукописи появилось в печати в 1983 г. Ответственный секретарь комиссии по военно-художественной литературе Московской писательской организации Я. Карпович писал в еженедельнике «Литературная Россия»: «Сто дней до приказа» – так называется рукопись повести лауреата премии Московского комсомола Юрия Полякова, обсуждение которой провела комиссия по военно-художественной литературе МО СП РСФСР. В нашей литературе немало книг, посвященных Вооруженным Силам, ратному труду советских воинов в мирное время. И все-таки книг, непосредственно посвященных солдату, у нас еще мало. В повести «Сто дней до приказа» решается проблема отношения воинов к службе в современных условиях. Выступившие на обсуждении Я. Мустафин, Н. Черкашин, Б. Рахманин, И. Падерин, В. Мирнев, В. Беляев, А. Пшеничный, А. Яхонтов, Ю. Лопусов, главный редактор газеты «Московский комсомолец» П. Гусев, представитель Воениздата И. Черных говорили о своевременности обсуждаемой повести, о том, что повесть написана со знанием современного армейского быта. Вместе с тем были высказаны пожелания, чтобы автор углубил позитивные линии в повествовании, основные, ведущие тенденции, присущие Советским Вооруженным Силам…» (1983, 2 декабря). Фрагмент повести под названием «Призыв» был вскоре напечатан в многотиражной газете «Московский литератор» (1984, 27 января). 31 мая 1985 года тот же фрагмент печатается уже в газете «Московский комсомолец». Однако военная цензура не разрешила опубликовать повесть целиком. В борьбе за публикацию повести журнал «Юность» и автор использовали типичные для того времени методы – письма в инстанции (одно из них подписал тогдашний председатель СП РСФСР С. Михалков), согласование текста с влиятельными военными (резко отрицательный отзыв дал генерал армии Лященко, сравнивший повесть с «писаниями Синявского и Зиновьева»). Выступая в качестве делегата на XX съезде комсомола, Ю. Поляков, в частности, заявил: «…И может быть, молодой автор, еще недавно выполнявший свой интернациональный долг, уже пишет кровью сердца правдивую, непростую книгу. Но я не пожелаю ей той судьбы, что выпала на долю моей повести «Сто дней до приказа», направленной против «дедовщины». Шесть лет «хождения по мукам», согласований! И только недавно наконец повесть обрела союзника в лице Главного политического управления Советской армии и Военно-Морского флота» («Комсомольская правда», 1987, 18 апреля). Выступивший следом на съезде Герой Советского Союза И. Чмуров обвинил автора в клевете на армию.
Вскоре газета «Московский комсомолец» (1987, 24 июня) публикует еще одну главу из повести, а журнал Главпура «Агитатор армии и флота» (1987, № 15) помещает под заголовком «А в жизни как?» подборку цитат из этой публикации и читательский отклик Н. Фотиева с характерной оценкой еще не опубликованной целиком повести: «…Я не хочу сказать, что о неуставщине не надо писать. От замалчивания, как мы уже все убедились, проблемы становятся лишь острее. Вопрос в том, как писать. По крайней мере, на мой взгляд, не так, как сделал это Юрий Поляков». С ответной репликой о некорректности критики повести до ее публикации в журнале «Огонек» выступил автор: «…В очередной раз вернув мне рукопись, армейские политработники призывали меня написать об армии такую правду, которая вдохновляла бы и звала вперед. Но нет правды мобилизующей, равно, как нет правды очерняющей. Есть просто правда, и объясняющие эпитеты ей не нужны. А вот если правда заставляет закручиниться и задуматься, разве же писатель в этом виноват?» (1987, № 44).
Впервые повесть была полностью опубликована в журнале «Юность» (1987, № 9—11) и вызвала многочисленные отклики в прессе. Характерно открытое письмо литератору Юрию Полякову «С правдой не в ладах», подписанное военнослужащим Ю. Федорко: «…Да, в свое время военная, армейская тема была одной из главных в первой книжке молодого поэта Ю. Полякова. И звучала она тогда на романтической, лирической ноте:
И все же жаль «Так точно!»,
Смененное на «Да»…
Хочется верить, что тогда вы были искренни. Жаль, что сегодня вы не устояли перед соблазном сенсационности, шумихи, сделав заявку на «открытия», которых не совершали.
Действие повести практически ограничено одной батареей. Что же это за коллектив? «Наш нервный комбат», генеральский сынок Уваров, «хотя и неплохой мужик, но с самодуринкой: то ему на все наплевать, то хочет все враз переделать». «Не до конца понимает, что командует живыми людьми». Поощряет «дедовщину», видя в ней замену дисциплине. Основные занятия: «часто заглядывает в офицерское кафе», «играя желваками, терзает свою фуражку». Старшина батареи прапорщик Высовень. «Медно-рыжие волосы и здоровенные кулаки». Основное занятие – «характерно артикулировать губами, отпускать фразы типа: «Вставай, трибунал проспишь!», «В дисбате выспишься», «Сгною на кухне». Солдат называет «плевками природы» и «окурками жизни». Солдаты… Ефрейтор Зубов – садист по отношению к молодым солдатам и патологический трус перед командирами, перед теми, кто сильней. «Похож на злого поросенка». Цыплаков – Цыпленок, который «все свои силы вложил в производство потомства и ослабел голосом». «Ласковый теленок» Малик из молодого пополнения, холуйствующий перед «стариком». В дополнение к этой, простите, животноводческой ферме – «доходяга Елин», несчастная жертва Зуба… Да, книги об армии, в которых она представлена идеализированной, без недостатков и проблем, где каждый герой – офицер или солдат – списан с упоминаемых вами примитивных, бодреньких плакатов, – такие книги, преобладавшие долгие годы, были далеки от правды. Но впасть в другую крайность и изобразить воинское подразделение, где почти весь личный состав – либо откровенные подонки, либо замаскированные, либо люди, морально и психически ущербные, – разве это правда, Юрий Михайлович? Это просто другая ипостась неправды. Спору нет, многое в армии нуждается в совершенствовании. Но в том-то и дело, что в вашей повести путей совершенствования не показано. От нее остается чувство безысходности, мысль о незыблемости зла. Эта атмосфера нагнетается на протяжении всего повествования, обретая свою квинтэссенцию в ночном монологе Чернецкого в каптерке: «Если ты не будешь «стариком», придется быть «салагой», третьего не дано…» Мне, как человеку военному, ясно, что ваша повесть не о современной армии, реально существующей, а о некоем абсурдном в своей основе институте, который создан вашим воображением…» («Советский патриот», 1988, 2 марта). В том же духе выступил рецензент газеты «Красная звезда» П. Ткаченко. В большой статье «Не ради обличения» он сравнивает «Сто дней» с другими произведениями об армии и приходит к выводу, что «навязчиво претендуя на правдивость, повесть этим качеством во многом не обладает». В обоих публикациях подверглись критике активное использование автором солдатского сленга и описание казарменного быта.
Публикацию повести в целом положительно оценили писатели старшего поколения, в частности Вл. Воронов («Знамя», 1988, № 95) и критик-фронтовик А. Коган («Литературная Россия», 1988, 24 января). С большой статьей «О наболевшем» выступил известный прозаик военного поколения В. Кондратьев. В частности, он писал, что «повесть легко читается и что написана она живым современным языком, есть в повести выписанные характеры, но главное все же в том, что автор поднял животрепещущую болезненную тему, затрагивающую абсолютно всех, потому что дела нашей народной армии не могут не интересовать и не беспокоить всю страну. И поднял ее он – первым! И писал эту вещь почти без всякой надежды на публикацию. Давайте признаем это немаловажным качеством для писателя, к тому же молодого! Писать в стол – дело очень трудное…» («Литературная газета», 1988, 10 февраля).
Сосредоточившись на общественной значимости «Ста дней до приказа», мало кто из рецензентов в ту пору пытался оценить литературное мастерство автора. Одним из немногих это сделал критик П. Ульяшов в статье «Жестокие игры»: «Повесть Ю. Полякова написана профессионально и умело. Не отвлекаясь на излишние, не работающие на главную, интересующую его идею описания, четко обозначив проблему, автор сумел все действие повести «вместить» в двое суток, показав при этом при помощи ретроспекций и ассоциаций весь цикл армейской службы. Таков изобразительный итог повествования. Повествования, где ответы на поставленные вопросы не вычисляются, как то часто бывает, волюнтаристскими построениями автора, а как бы постигаются самими героями…» («Детская литература», 1988, № 4).
В «Юности», в № 5 за 1988 г. под заголовком «Сколько дней до приказа?» были опубликованы отклики, свидетельствовавшие в основном о поддержке читателями авторской позиции. «Солдатская повесть» Ю. Полякова, нарушив табу на реалистическое изображение армии, породила целую волну «разоблачительной» армейской прозы («Стройбат» С. Каледина, «Зема» А. Терехова и др.).
В 1988 г. повесть напечатана в сборнике «Сто дней до приказа. Повести», вышедшем в издательстве «Молодая гвардия». Впоследствии много раз переиздавалась. Включена в школьную программу. Переведена на иностранные языки. Неоднократно инсценировалась. По мотивам повести режиссером X. Эркеновым снят одноименный художественный фильм (Киностудия им. Горького, 1989). Однако зрительского успеха он не имел, так как создатели картины слишком далеко отошли от повести, создав фактически авторское кино.
Текст сверен по рукописи. Печатается без цензурных сокращений и редакторской правки, обусловленной политической конъюнктурой.
Повесть «Райком» написана в 1981–1982 гг. Свое позднейшее название «ЧП районного масштаба», ставшее своего рода устойчивым речевым оборотом, произведение получило позже, в процессе подготовки рукописи к печати в журнале «Юность», по настоянию цензуры, считавшей название «Райком» «слишком обобщающим». 14 июля 1983 г. в «Московском комсомольце» печатается глава «Собрание» с характерным редакционным предисловием: «Необычна была эта повестка дня бюро Краснопресненского РК ВЛКСМ. Недавно здесь прозвучала повесть лауреата премии Московского комсомола Юрия Полякова. Повесть называется, согласитесь, несколько необычно: «Райком». В ней сказался не просто писательский интерес автора, но и его опыт комсомольской работы. Много ли у нас, в самом деле, художественной прозы, в центре которой обычная райкомовская повседневность? В этой повседневности, однако, немало проблем и, если угодно, тайн. Может быть, поэтому сюжет «Райкома» не лишен загадок прямо-таки детективных. И пусть Краснопролетарский райком, как и его первый секретарь Шумилин, – плод авторского воображения… Всякие возможные совпадения с реальностью только подтвердили бы характерность происходящего…»
Полностью повесть «ЧП районного масштаба» опубликована в журнале «Юность» в № 1 за 1985 г. Повесть сразу вызвала широкую дискуссию в прессе. Виктор Липатов в «Комсомольской правде» в статье «Человек со стороны», отметив своевременность появления повести, подверг ее критике за недостаточную художественность: «…возникает такое ощущение, что ты смотришь куда-то вдаль в подзорную трубу и видишь смутные очертания. Настолько все умозрительно и сконструировано. В реальной жизни комсомольских организаций все гуще и емче…» (1985, 30 марта). Приняла участие в дискуссии и «Правда». Критик А. Мальгин писал в статье «Юность в поиске. О новых произведениях молодых прозаиков»: «Повесть Юрия Полякова «ЧП районного масштаба» обращает на себя внимание прежде всего остротой поднимаемых проблем… В повести обнажаются некоторые теневые стороны деятельности комсомольских органов, которые как бы остаются в стороне от насущных проблем, по-настоящему волнующих молодежь… К сожалению, автор повести, показав с завидной откровенностью недостатки нынешних молодых бюрократов и даже несколько сгустив краски, не сумел наметить реальный выход из сложившейся ситуации… Примера подлинного живого комсомольского дела, образца, достойного подражания, автор так и не дал» (1985, 17 августа).
Примерно в таком же духе оценивалась повесть и в многочисленных публикациях в региональной молодежной прессе. Некоторые молодежные издания даже перепечатали на своих страницах «ЧП» с комментариями (см.: «Молодой ленинец. Орган Пензенского обкома ВЛКСМ», 1985, сентябрь – октябрь). 31 декабря того же года «Московский комсомолец» печатает под заголовком «Весьма странный ракурс» материалы круглого стола, в котором приняли участие руководители столичного комсомола. Участники дискуссии отметили, что «повесть – прекрасный повод поговорить о наших комсомольских делах», однако указали на то, что «взгляд на работу районного комитета комсомола получился поверхностный, однобокий».
Более благосклонно отнеслась к повести литературная критика, хотя и она отмечала излишнюю ироничность автора, неуместную при раскрытии столь важной идеологической темы. А. Бархатов писал, что «перегрузка текста легкой иронией ведет не только к излишней гротескности, шаржированности отдельных героев, но и к обезличиванию их…» («Чрезвычайная повседневность», «Литературная Россия», 1985, 8 марта).
В 1986 г. в № 1 «Юность» под заголовком «Кому дописывать повесть?» опубликовала подборку откликов читателей, в целом высоко оценивших появление повести. В том же году «ЧП» с небольшими сокращениями публикуется в сборнике «Поколение. Повести и рассказы молодых русских советских писателей» (М.: Художественная литература) и тогда же выходит отдельной книгой в издательстве «Московский рабочий».
Изменения общественно-политической ситуации в стране, связанные с началом перестройки, изменили и отношение к повести во властных структурах. В конце 1986 г. повесть «ЧП районного масштаба» была удостоена премии Ленинского комсомола, а сам автор избран кандидатом в члены ЦК ВЛКСМ. Театр-студия под руководством О. Табакова поставил по мотивам повести спектакль «Кресло», в течение нескольких лет шедший с большим успехом. В 1987 г. на «Ленфильме» режиссер С. Снежкин экранизировал повесть. Фильм «ЧП районного масштаба» имел широкий резонанс и большую прессу, стал одним из знаковых событий в искусстве, характеризующих нарастание гласности (см.: Г. Симонович «Какого масштаба ЧП?». «Советская культура», 1989, 4 марта; А. Егоров «Две версии о «ЧП». «Советский экран», 1990, № 2 и др.).
Повесть «ЧП районного масштаба» многократно переиздавалась, породив целое направление так называемой антиаппаратной литературы. В повести впервые в подцензурной советской литературе оформился тот критико-иронический стиль, который стал ведущим в литературе и публицистике перестроечного и постперестроечного периода.
Повесть переведена на иностранные языки.
Текст сверен по рукописи. Печатается без цензурных сокращений и редакторской правки, обусловленной политической конъюнктурой.
1
Автор безутешен, что не смог в последней строке достичь полной омонимии.
2
Впоследствии, уже перебравшись в Красноярск, поэт, как вспоминает его сестра, написал очерк «Там, где жил Тимофей Бондарев». К сожалению, обнаружить эту суворовскую работу ни в довоенной периодике, ни в архивах я так и не смог.
3
Дата указана ошибочно.
4
«Правда», 1943, 9 октября. В письме Суворов неточно указывает название заметки и дату публикации.
5
Примечание: отдельные детали и наименования могут варьироваться в соответствии с традициями той или иной части.