Книга: Социология науки

Социология науки
Научный редактор Олеся Кирчик
© Presses Universitaires de France, 2013
© Перевод на рус. яз. Издательский дом Высшей школы экономики, 2017
Я должен поблагодарить моих коллег Пьера Доре, Мишеля Дюбуа, Робера Ганьона, Мишеля Гроссетти, Камий Лимож, Жерома Лами, Себастьена Мосба-Натансона, Арно Сен-Мартена, Виктора Сточковского и Жан-Филиппа Варрена. Эти коллеги не только нашли время прочитать, целиком или частично, рукопись, но также сформулировали комментарии и пожелания, которые оказались для меня весьма полезными. Спасибо также Венсану Ларивьеру и Жан-Пьеру Робитаю за оформление рисунков.
Науки, понимаемые в широком смысле как изучение природы, основанное на разуме, наблюдении или эксперименте, могут быть рассмотрены с разных сторон. Если мы понимаем под науками корпус методически полученных и признанных за истину знаний, то они могут стать объектом философского анализа[1]. Если мы рассматриваем науки с точки зрения их эволюции во времени, то у них, безусловно, есть своя история[2]. Если мы представляем себе науки как творческий процесс, то здесь есть работа для психологов[3]. После Второй мировой войны науки обрели новую политическую силу, поэтому политологи поставили вопрос об отношениях между политической властью и наукой[4]. Что же касается экономики, она интересуется больше изобретениями и инновациями, чем науками как таковыми[5]. Наконец, в качестве институционализованных социальных практик науки могут стать предметом социологического изучения. В отличие от психологии науки, все еще слабо развитой, и политологии науки, которая пока не является полноценной специальностью в составе университетских кафедр политических наук, история, философия и социология науки в 1960–1970-е годы стали относительно автономными специальностями. У каждой из них есть свои кафедры, журналы и ученые общества. Их общий предмет – наука – создает предпосылки для их взаимодействия, которое происходит в разные моменты и с разной интенсивностью. Так, история научных идей поднимает вопросы, важные для эпистемологии, которая видит в исторических фактах предмет для философствования, а социальная и институциональная история вряд ли сможет уйти от вопросов социологического порядка. Наконец, социологи часто заимствуют свой материал у историков, и некоторые из них утверждают, что сама эпистемология имеет социальные основания[6]. Хотя наука как общественный институт появляется в XVII в., а деление на дисциплины происходит в XIX в., науки становятся предметом социологической рефлексии главным образом начиная с 1930-х годов. Как и в случае истории и философии науки, первыми внесли вклад в развитие этой новой области сами ученые, задавшиеся вопросом о своих практиках и о порой довольно непростых отношениях между наукой и обществом. Еще в начале 1950-х годов половина публикаций по социологии науки приходилась на долю ученых, более четверти – на долю историков и философов, и только незначительная оставшаяся часть была авторства профессиональных социологов[7]. В течение 1970-х годов социология науки переживает настоящий подъем, связанный с созданием журналов и ученых обществ: журнал «Science Studies» (1971), который стал позднее называться «Social Studies of Science» (1975), и «Science Technology and Human Values» (1976), официальный журнал общества «Society Studies of Science», которое было создано в 1975 г. В 1981 г. была основана Европейская ассоциация по изучению науки и техники (European Association for the Study of Science and Technology), объединившая исследователей, занимавшихся изучением научной динамики[8]. В развитии социологии науки можно выделить три больших периода. Первый, с конца 1930-х до начала 1970-х годов, отмечен работами американского социолога Роберта К. Мертона (1910–2003), который создал первую социологическую теорию науки как относительно автономной социальной системы с присущими ей ценностно-нормативными регулятивами. Анализ Мертона происходит на макро– и мезосоциологическом уровнях: вопросы касаются институциональных и нормативных структур, организующих научную практику. При этом подходе используются главным образом количественные методы и опросы.
Во второй период, который начинается примерно в 1970 г., появляется концепция, носящая более конфликтный и более критичный по отношению к научному развитию характер. Новое поколение социологов отказывается от анализа институтов и критикует мертоновские нормы как не совсем соответствующие реальной практике и не имеющие объяснительной силы. В фокусе их внимания оказываются социальные процессы конструирования знания. Тем самым вновь обретают актуальность вопросы, относящиеся к социологии знания – области исследования, получившей заметное развитие в межвоенный период, но заброшенной сразу после Второй мировой войны. Данный подход, настаивающий на активной роли социальных акторов в производстве знания, станет преобладающим в конце 1970-х годов и получит название «конструктивистской» и «релятивистской» социологии научного знания. Предпочтительным в этот период становится метод кейс-стади, т. е. изучение конкретных случаев, исторических или современных. Анализ производится главным образом на микросоциологическом уровне – взаимодействия между акторами, на базе качественных наблюдений и интервью.
Релятивистский характер конструктивистских работ, которые не всегда проводят четкое различие между методологическими позициями и эпистемологическими постулатами, породил множество споров[9]. Из-за того что изложение этих споров может оказаться слишком долгим и, что еще важнее, поскольку эти споры носили скорее философский, чем социологический характер, мы не станем здесь на них останавливаться, ведь они не внесли решающего вклада в изучение динамики науки. Эти споры утихли в начале 1990-х годов, так как релятивистский радикализм приводил лишь к солипсизму[10]. Третий период в развитии социологии науки начинается в 1990-х годах. Так, можно наблюдать возвращение к институциональному и нормативному анализу, а также к вопросам макросоциального уровня, которые были важны в начальный период развития социологии науки: отношения между знаниями и демократией или связи между науками, политикой и экономикой. Как и в предшествующие периоды, социальный и политический контекст конца XX в., когда неолиберальное видение общества и его институтов достигнет наибольшего влияния, станет ориентиром для социологов науки.
Предмет нашей книги – социология науки, а не социологи науки. Поэтому наша задача состоит не в том, чтобы сделать критический обзор огромного и многообразного массива литературы по этой теме. Вместо этого мы предложим синтез самых значительных работ в данной области, призванный осветить динамику науки начиная с XVII в. Социологи науки, особенно с 1970-х годов, все чаще придают своим работам форму полемики со своими оппонентами, делают акцент на своих с ними разногласиях и сводят к минимуму значение их влияния на свои труды. Однако на самом деле эмпирические результаты, полученные более чем за 50 лет исследований, а также основные понятия являются плодом совместных усилий в большей степени, чем это принято думать. В действительности разница между исследованиями, которые сменяли друг друга в течение десятилетий, связана скорее с различием в масштабе наблюдений, нежели с тем, что последующие исследования могли оказаться правильнее предшествующих. Строго указывая уровень наблюдения (микро-, мезо– или макро-), можно избегнуть лишних споров и ложных оппозиций. Ведь макросоциальный анализ нормативной системы науки часто напрасно противопоставляют интеракционистскому анализу обменов мнениями между учеными в контексте дискуссии или работы отдельной лаборатории. И в самом деле, какому физику пришло бы в голову оспаривать закон идеального газа на основании того возражения, что перемещения атомов в действительности случайны и непредсказуемы? Эти уровни, конечно, зависят друг от друга, потому что верхний (макро-) уровень служит рамкой для нижестоящих уровней (мезо– и микроуровней). В зависимости от поставленных задач и избранного метода анализ может быть проведен на одном из этих уровней или же при их сочетании.
Вначале мы поставим вопрос о социокультурных основаниях, которые делают науку возможной, и мы увидим, как научный мир взаимодействует с другими общественными институтами (гл. I). С момента своего зарождения в XVII в. наука сама является общественным институтом, поэтому мы напомним о способах ее институционализации и распространения, а также о многообразии мест, в которых ею можно заниматься (гл. II).
Институционализация обеспечила науке определенную автономию по отношению к другим социальным сферам: она стала все больше управляться своей внутренней динамикой. В основе этой динамики лежит нормативная система, регулирующая отношения между учеными и реагирующая на споры, вызванные вопросами первенства, а также на случаи интеллектуального мошенничества (подлоги научных результатов), которые встречаются все чаще начиная с 1990-х годов. Как и всякая другая общественная система, наука имеет свою иерархию, стратификацию и борьбу за признание, которые находятся в самом средоточии ее динамики.
Наконец, существование многочисленных споров (контроверз) между учеными ставит вопрос о роли социальных факторов в процессе производства и апробации научных знаний. Определяется ли достоверность научных результатов только по рациональным критериям логической последовательности и соответствия эмпирическим фактам, или она также может быть рассмотрена в качестве результата тех социальных процессов, которые объясняют, почему одним и тем же фактам ученые могут предложить разные объяснения? (гл. IV).
В ходе этого краткого рассмотрения читатель получит более полное представление о социальных факторах, которые повлияли на ход развития и последовательных изменений в разных областях науки начиная с XVII в. Он также сможет получить представление о концептуальных инструментах и методах, созданных социологами науки для изучения динамики научной деятельности.
Коротко поясним, что стоит за употреблением нами термина «наука» в единственном или во множественном числе[11]. Мы будем использовать множественное число, чтобы напоминать о том, что науки различаются между собой по методу и предмету и что у них могут быть разные социальные последствия. Но несмотря на особенности каждой из них (исключая математику, которая представляет собой язык формального доказательства), разные науки объединяет идея наблюдения, опыта и объяснения феноменального мира. Поэтому мы будем использовать единственное число, говоря о научном подходе, «методе» или этосе науки в целом.
I. Социокультурные основания наук
Какие социальные и культурные факторы, в общих чертах, способствовали возникновению и развитию наук? Одно дело, когда отдельный индивид задается вопросами о природе вещей и причинах тех изменений, которые он в них наблюдает. Иное дело, когда такая любознательность получает общественное признание и, более того, поощрение посредством создания соответствующих социальных институтов. Так, социологов интересует взаимосвязь между ценностями и отношением (враждебным или, напротив, благосклонным) к научным дискурсам и практикам. Точнее, они занимаются изучением вопросов, касающихся связи между науками, демократией и экспертной оценкой (expertise), а также роли культурных и религиозных ценностей в общественном восприятии науки.
Ценности, верования и религиозные доктрины рассматривались в специальной литературе как в качестве положительного фактора, который объясняет институционализацию науки в Англии в XVII в., так и в качестве препятствия для развития науки. Впрочем, их влияние на разные научные области не является одинаковым. Например, астрономия в XVII в. и биология во времена Дарвина опровергли глубоко укоренившиеся религиозные представления в намного большей степени, чем современные им химия или математика. В ответ они испытали давление со стороны религиозных групп, которые стремились ограничить общественное влияние этих наук и их преподавание, а иногда и саму возможность заниматься этими науками.
Несмотря на утрату христианством влияния на светскую власть начиная с XIX в., религиозные ценности сохранили важное общественное значение. Иногда они находят себе ярых поборников в некоторых социальных движениях или политических партиях. И если такие люди приходят к власти, могут приниматься законы, запрещающие те или иные виды исследований. Достаточно напомнить, что в США имели место многочисленные судебные процессы между учеными и христианскими фундаменталистами, стремившимися с 1925 г. запретить или скорректировать преподавание теории эволюции Дарвина на уроках биологии. В подобных спорах сталкиваются интересы хорошо организованных групп. Следует отметить при этом, что и демократическое государство может ограничить исследование определенных предметов. Примером может быть решение запретить использование средств федерального бюджета для финансирования исследований эмбриональных стволовых клеток, принятое в 2001 г. президентом США Дж. У. Бушем, известным защитником христианства[12]. Споры об отношениях между наукой и религией то и дело возобновляются. Это только подтверждает вывод социолога Роберта К. Мертона о существовании скрытой или явной враждебности по отношению к науке во многих обществах. Причины и масштабы этой враждебности видоизменяются во времени и в пространстве самым непредвиденным и нелогичным образом[13]. Это структурный конфликт, который в значительной мере вырастает из противоречия между ценностями науки (объективность, непредвзятость и т. д.) и ценностями других социальных институтов. Вследствие религиозных верований и идеологических убеждений некоторые типы научных объяснений мира могут становиться неприемлемыми. Не следует, впрочем, полагать, что они не могут, при определенных обстоятельствах, создавать и благодатную почву для развития наук. Например, тот же Буш воспрепятствовал исследованию стволовых клеток человеческих эмбрионов, однако при этом поддержал изучение стволовых клеток взрослых людей, а также работу по их «перепрограммированию», в результате которого они могут вновь стать плюрипотентными (многофункциональными) или даже тотипотентными. Тем самым был открыт путь для альтернативного исследования, избавляющего от необходимости использовать клетки эмбрионов.
Ботаник Альфонс Декандоль предложил первое систематическое исследование отношений между наукой и конфессиональной принадлежностью на основе данных об иностранных членах академий наук в XVII и XVIII вв. Вопреки названию, его сочинение «История наук и ученых на протяжении двух веков», увидевшее свет в 1837 г., представляет собой в действительности социологический анализ «социальных причин» (по его собственному выражению), которые повлияли на развитие современных наук в европейских странах. Декандоль выделил 20 благоприятствующих науке факторов[14]. Несмотря на то что о влиянии некоторых из них можно судить только гипотетически, в случае религии, по его словам, «возможно получить прямые доказательства, основанные на фактах»[15]. Сопоставляя численность последователей различных религий среди населения разных стран с конфессиональной принадлежностью членов основных академий наук, он ясно показывает непропорционально высокую распространенность научных карьер среди протестантов в сравнении с католиками. На эту связь между наукой и протестантизмом позже укажет и социолог Макс Вебер в своем исследовании роли протестантской этики в развитии капитализма[16]. Однако решающее слово в этой дискуссии принадлежит Мертону. Согласно «тезису Мертона», который до сих пор обсуждается в специализированной литературе[17], «сквозь все принципы пуританства проходило все то же прямое их соответствие атрибутам, целям и результатам науки»[18]. Эта пуританская этика, которая «действенно навязала человеку обязанность интенсивного сосредоточения на мирской деятельности с опорой на опыт и разум как основания действия и веры»[19], стимулировала развитие наук в Англии во второй половине XVII в., освящая те ценности, которые являются также ценностями науки. Так наука обрела признание в обществе с сильной религиозной культурой. Как и Декандоль, Мертон анализирует состав членов – основателей Лондонского королевского общества и находит, что среди них преобладали пуритане (63), хотя в общем составе населения последние составляли меньшинство. То, что протестанты по разным причинам широко представлены среди ученых в эпоху институционализации науки, не подлежит сомнению. Но из этого не следует делать вывод, что католическая религия несовместима с научной деятельностью. Сам Вебер напоминает, что «основания современных естественных наук были заложены на католических территориях и в католических головах, в то время как методичное применение науки для практических целей – в основном дело рук протестантов»[20].
Наука, демократия и экспертиза
Многие думали, как мы только что увидели, ошибочно, что религия не может не противодействовать развитию науки. Нередко также ошибочно полагают, что науки процветают только при демократии. Однако уже в 1830-е годы Алексис де Токвиль привлек внимание к проблеме отношений науки и демократии. Во втором томе своего великого сочинения «Демократия в Америке» он отмечал трения между ценностями демократии и ценностями, которые могут способствовать продвижению беспристрастной науки. Впрочем, он разделял науку на три области. Первая «включает в себя наиболее чистые теоретические принципы и абстрактные понятия, практическое применение которых пока еще не известно или же осуществимо в далеком будущем». Вторая «состоит из общих истин, которые, все еще основываясь на чистой теории, между тем ведут прямым и коротким путем к практике…». Наконец, Токвиль выделяет третью область: «методы практического приложения и средства реализации научных знаний», которые сегодня рассматривают зависящими скорее от техники, чем от науки[21].
В двух первых определениях можно распознать деление на «чистую» и «прикладную» науку. Согласно Токвилю, чистая наука, стремящаяся познать первопринципы, требует времени и размышления, которые являются в большей степени аристократическими ценностями. В то время как «естественная и неизбежная» тенденция демократических институтов – требовать от науки «лишь немедленных, практически полезных результатов». Вместе с тем он допускает, что в демократических обществах «число занимающихся научной деятельностью… становится огромным». И хотя это часто имеет следствием «невнимание к теории», а также создание «весьма скромных» результатов и «несовершенных» произведений, «совокупный эффект», напротив, «всегда очень внушителен»[22]. Чтобы компенсировать отсутствие интереса к теории, он взывал к тем, кто «призваны в наши дни управлять народами», сделать своей целью «поддержание чистых теоретических исследований и воспитание в людях страстной жажды познания». Одним словом, истинно просвещенное государство должно создавать условия для исследований, которые приводят к большим открытиям, поскольку эти условия в демократическом обществе не создаются самопроизвольно.
Токвиль понял, «что прогресса в практических науках нельзя добиваться в течение длительного времени, не уделяя внимания развитию теоретических дисциплин», и он предсказывал даже возможный закат научного знания. «Поэтому нам не следует утешать себя мыслью о том, что варвары от нас еще далеко, так как помимо народов, позволяющих силой вырвать светоч истины из своих рук, есть и другие, сами, собственными ногами затаптывающие его»[23].
Хотя Токвиль осознал важность гражданских объединений, он не предвидел того, что защита «чистой науки» станет в большей степени делом научных ассоциаций и их представителей, нежели просвещенных правителей. В самом деле, начиная с середины XIX в. сами ученые займутся продвижением науки и станут активно бороться с «антинаучными» идеологиями, объединившись в организации, такие как Американская ассоциация содействия развитию науки (AAAS), основанная в 1848 г. по образцу Британской ассоциации (BAAS), созданной в 1831 г. Члены этих организаций будут использовать различные площадки с целью поддержки бескорыстных научных исследований. Так, в 1870 г. британский химик, президент Лондонского химического общества А. У. Уильямсон произносит на открытии факультета точных наук университетского колледжа «Речь в защиту чистой науки», в которой он открыто требует «признания государством чистой науки как существенного элемента национального величия и прогресса»[24]. Через тринадцать лет после этого, в 1883 г., американский физик Г. А. Роуланд в свою очередь выступит в защиту чистой науки, используя то же заглавие, что и Уильямсон, для своей инаугурационной речи в качестве вице-президента Секции Б AAAS. В «Речи в защиту чистой науки» (A Plea for Pure Science), опубликованной в журналах «Science» и «Nature», звучат токвилевские нотки: «Тем, кто хочет посвятить себя чистой науке в этой стране, требуется большое мужество для противостояния общественному мнению»[25].
Смысл этих публичных выступлений видных ученых становится понятнее в свете наблюдения Макса Вебера, согласно которому наука и вера разделены лишь «невидимой чертой», «ведь вера в ценность научной истины не что иное, как продукт определенной культуры, а совсем не данное от природы свойство»[26]. Иначе говоря, чистая и беспристрастная наука есть культурный продукт, который не может быть принят за данность, но требует защиты и продвижения, так как всякая научная практика основывается в конечном счете на культурных ценностях.
В середине 1930-х годов в журнале «Philosophy of Science» вышла статья Мертона «Наука и социальный порядок». В ней автор развивает рассуждение Вебера, отмечая, что вера в науку может также переходить в сомнение или даже в неверие и что постоянное развитие наук в качестве практик, основанных на разуме и эксперименте, требует присутствия в обществе определенных неявных допущений и институциональных правил[27]. Враждебность по отношению к некоторым наукам может проявляться по-разному. Для одних методы и результаты наук противоречат некоторым ценностям, которые они считают важными. Для других проблематичны скорее некоторые ценности, связанные с наукой, так как они основываются на критическом духе и на требовании эмпирических или логических доказательств, которые несовместимы с религиозными или иными догмами. Мертон, впрочем, показывает, что в основе общественного одобрения научного знания также лежат ценности и что нет смысла в том, чтобы противопоставлять «ценность» и «рациональность», как если бы «рациональность» сама не была культурной ценностью.
Мертон иллюстрирует свои слова об истоках враждебного отношения к науке в обществе на примере нацистской Германии. Наука универсальна, а всякая расовая или идеологическая доктрина вводит некий внешний по отношению к науке элемент, который может повредить ее развитию, задавая критерии, оказывающие на нее извращенное воздействие. В более общем смысле антиинтеллектуальный климат, при котором предпочтение отдается людям действия перед людьми абстрактной мысли, может, согласно Мертону, ограничить масштаб научной деятельности.
Социологи следующего поколения, размышляющие о развитии наук в 1950-е и 1960-е годы, согласятся с аргументацией Мертона и предположат, что существует естественное сродство между наукой и либеральной демократией[28]. Исходя из этого, либеральная концепция науки примет в качестве идеального типа относительно автономную и саморегулируемую практику в рамках сообщества ученых, которые выбирают интересующие их проблемы свободно, без оглядки на запросы общества.
Социолог Джозеф Бен-Давид, отмечая, что начиная с 1950-х годов ученые привыкли в вопросах финансирования исследований рассчитывать только на государство, заметил, что это может представлять опасность для автономии науки. Согласно его мнению, типы финансируемых научных исследований связаны с социальными функциями, которые несет источник выделяемых средств. Чаще всего государственные органы будут финансировать самые важные для государства проекты, такие как исследования в сфере обороны или здравоохранения, в ущерб менее приоритетным и не находящимся в сфере их ответственности областям. Кроме того, авторитарное правительство может, как это часто бывало в СССР в 1940-е и 1950-е годы, целиком запрещать определенные виды исследований[29]. Очевидно, диктатуре во власти намного проще навязывать науке определенный курс, чем демократическим режимам, в которых мандат выборных политиков частично связан с их способностью отвечать на различные запросы, выдвигаемые общественными движениями и группами давления. Однако развитие исследований в Советском Союзе, как и в Китае, довольно ясно показывает, что гарантией роста науки является не столько либеральная демократия как таковая, сколько доминирующие в обществе культурные ценности, такие как вера в прогресс, и особенно практическая польза, которую они могут принести обществу или, по крайней мере, его правителям и господствующим группам.
Впрочем, как подчеркивал уже Огюст Конт[30], развитие наук с необходимостью влечет за собой все большую специализацию. Ученый, желает он того или нет, принимает требования своего рода культа экспертного знания (expertise), который лишь увеличивает дистанцию между специалистом и обычным гражданином. Этот культ также может становиться причиной враждебного отношения к науке, которая начинает восприниматься как антидемократический и даже авторитарный институт. Как бы то ни было, на практике это размежевание между экспертами и «профанами» несет в себе риск породить враждебность скорее в таких сферах, как здравоохранение и охрана окружающей среды, чем в более абстрактных дисциплинах, подобных физике или математике.
С 1990-х годов вопрос об отношениях между экспертами и «профанами» вызвал новый интерес со стороны социологов науки. В самом деле, увеличение числа публичных дебатов и общественных движений, подвергающих критике различные практические результаты научных открытий, которые относятся к области окружающей среды (реакторы и ядерные отходы), питания (ГМО) и здоровья (эпидемия СПИДа или «коровьего бешенства»), вновь поднимает вопрос о роли экспертов в коллективных решениях. В этом контексте на передний план выходит вопрос о правомерности участия «профанов» не только в определении исследовательских направлений, но также в выборе объектов и методов исследования.
Важные изменения в отношениях между «профанами» и экспертами произошли в 1980-е годы. К примеру, Стивен Эпштейн изучил деятельность групп пациентов, больных СПИДом, имевшую целью изменение правил проведения клинических испытаний таким образом, чтобы принималась во внимание точка зрения пользователей, т. е. самих больных[31]. До сих пор любое научное решение зависело исключительно от признанных в данной области специалистов. С помощью многочисленных публичных акций и других форм давления на наиболее влиятельных американских исследователей и на организации, ответственные за исследование проблемы СПИДа, активистам удалось изменить состав разнообразных научных комиссий, включив туда представителей пациентов.
Таким образом, в конце 1980-х годов возникли новые способы консультаций и принятия решений, в частности «консенсусные конференции», которые включают с этих пор представителей различных социальных групп. Так, создаются смешанные форумы, на которых встречаются ученые, обладающие авторитетом в данной области, и представители граждан, заинтересованных в обсуждаемом вопросе[32]. Хотя до сих пор подобные форумы затрагивали в основном вопросы здоровья, технологии и окружающей среды, закономерно встает вопрос об их возможном расширении для определения приоритетов исследований в самых отдаленных от повседневных забот граждан областях, таких как астрономия, физика элементарных частиц или геномика[33].
Вместе с тем было бы ошибкой говорить о «профанах» в целом, противопоставляя их «экспертам». Стоит принять во внимание, что для плодотворного взаимодействия с «экспертами» «профаны» вооружаются знаниями на уровне, часто сравнимом с экспертным, хотя они и не располагают соответствующими дипломами. Кроме того, знания, приобретенные при помощи систематического чтения научных публикаций и учебников, часто ограничиваются узкой темой дебатов. В случае СПИДа, например, очевидно, что эффективность действий активистов во многом определяется их высоким уровнем образования, а их представители сами часто являются профессионалами (врачи, профессора, ученые, санитары). Иначе говоря, они обладают культурным капиталом, благодаря которому способны приобретать знания, необходимые для общения с учеными на равных. Эти активисты отличаются от ученых в большей мере своим социальным статусом (они не всегда работают в научной сфере), чем уровнем своих познаний. Граждане, участвующие в смешанных форумах, не являются просто «профанами», но экспертами от гражданского общества, обязанными своим авторитетом признанию в качестве представителей группы давления (лобби). Внутри их собственной группы они зачастую воспринимаются как «эксперты», вследствие чего и здесь воспроизводится оппозиция, против которой они изначально боролись[34]. Дистанция между «профаном» и «экспертом» относительна и изменяется в зависимости от области и типа притязаний. Естественно, это изменение отношений между гражданами и учеными связано с повышением общего уровня образования. Но также оно связано с простым, быстрым и бесплатным доступом, в частности благодаря Интернету, ко всей совокупности результатов исследований, которые ранее затруднительно или невозможно было получить и осмыслить.
В конце XIX в. установился негласный общественный договор, согласно которому ученые признавались объективными и нейтральными экспертами и наделялись правом самим определять, что такое «хорошая» наука, и производить знания, которые благодарное общество принимало бы с полным доверием. Этот договор, как кажется, достиг своего апогея к концу 1950-х годов.
Впрочем, модель «республики ученых» всегда была скорее идеалом, нежели реальностью, так как в конечном итоге бюджетные средства на науку распределяются не самими учеными и не они, а избранные власти (или руководители) определяют приоритеты финансирования. Чаще всего ученые продолжают сохранять контроль над качеством финансируемых проектов благодаря своему присутствию в оценочных комиссиях, но нельзя забывать, что немалое число проектов отбирается непосредственно политиками на основании скорее их предвыборных обещаний, чем научной ценности, с целью облагодетельствовать тот или иной регион, город или организацию. Автономия этой «республики» всегда относительна и подчинена общественным, культурным и экономическим изменениям, которые происходят в обществе.
Согласно Бен-Давиду, существуют про– и антинаучные циклы, за которыми стоит относительно простой общественный механизм: важные научные открытия могут стимулировать сциентистские и утопические движения, которые предсказывают наступление светлого будущего. Так получилось с физикой Ньютона, которая, став популярной в XVIII в., послужила основой для Просвещения и для утопической веры в могущество знания. И несмотря на то, что эта вера нашла свое парадоксальное воплощение в атомной бомбе, ньютоновская физика олицетворяла собой идеологию прогресса вплоть до конца 1950-х годов[35]. Можно также привести в пример утопию «постчеловечества», ставшую идеологическим плодом технического прогресса и открытий в когнитивных науках начиная с 1980-х годов[36]. В конечном счете такие тенденции порождают лишь разочарование в возможностях человеческого разума, ведь наука не в силах ответить на все вопросы морали и этики. И тогда, как говорит Бен-Давид, имеет место реакция отторжения науки: за Просвещением приходит романтизм; сциентистский оптимизм 1950-х годов уступает место в 1960-е годы экологическому движению и критике, обвиняющей ученых в тесной связи с оборонными и промышленными интересами.
Можно вспомнить запрет анатомировать человеческие тела в Античности и в Средние века. А можно вспомнить движение против вивисекции животных в XIX в. или возникшее в 1990-е годы движение против экспериментов над животными[37]. Во всех этих случаях речь идет о ценностном конфликте, в результате которого могут быть созданы препятствия для развития определенных знаний или изменены его приоритеты.
Такие ценностные конфликты задевают, конечно, не все науки одинаковым образом. Как видно из приведенных примеров, исследования в биологии, которые все больше зависят от «животных моделей» и требуют использования большого числа особей, от мышей и кроликов до человекообразных обезьян, в большей степени подвержены влиянию общественных ценностей, нежели опыты в физике или в химии. Верно, что запрет на расчленение человеческого тела повлек замедление в развитии анатомии. Однако следует отметить, что общественные движения, стремившиеся запретить массовое использование животных для научных целей, также заставили ученых лучше определять свои задачи и искать альтернативные методы для ответа на некоторые вопросы.
Рост популярности дискурса «научной этики» отразил, таким образом, существенные культурные изменения, приведшие начиная с 1970-х годов к тому, что животные все реже стали рассматриваться как подсобный материал для науки. А возникновение в начале 1990-х движения «зеленой химии», задачей которого было уменьшить производство отходов и побочных (вредных для природы) продуктов при синтезировании новых веществ, напоминает, что общественные ценности всегда влияют на направление научной работы.
Если в 1940-е и 1950-е годы вопрос отношений между наукой и обществом касался контроля знания со стороны государства, то сегодня он чаще всего ставится в контексте обсуждения форм социальных последствий технического прогресса или форм участия общества в выборе приоритетов и в публичной оценке результатов исследований.
Заявления некоторых ученых о грядущих революционных сдвигах в науке, к примеру связанных с развитием нанотехнологий, также порождают умозрительные по своему характеру споры. Однако возросшее участие граждан, чаще всего реализуемое при посредстве групп давления, остается пока на периферии «республики ученых», которая в значительной части определяет содержание научного знания и оправданность применения тех или иных научных методов. Таким образом, не стоит преувеличивать значение взаимодействия между экспертами и профанами, которое является особенно заметным в сферах здравоохранения и охраны природы. Не стоит его обобщать, распространяя его на все другие науки, не принимая в расчет специфику каждой конкретной области (будь то физика или химия, не говоря уже о математике). В противном случае под маркой социологического анализа мы отойдем от описания реальности к предписыванию новых правил и норм. Так, начиная с 1990-х годов, когда значение отношений между наукой и обществом только возросло, мы можем наблюдать появление литературы, которая носит скорее перформативный характер, т. е. имеет целью достичь некоего положения дел, вместо того чтобы его описать или объяснить[38]. Риторика «новых способов производства знания» или прогнозы исчезновения «универсальной науки» порой представляют неизбежным то, что, по сути, является текучим и непостоянным. Ситуация изменяется в зависимости от соотношения сил между задействованными в ее определении акторами, а также не является одинаковой в разных областях науки[39].
Понятие института занимает в социологии центральное место. У него множество более или менее широких определений[40]. Рассмотрим два наиболее распространенных значения этого термина. Первое относится к официальным организациям, в рамках которых развиваются науки. Это, например, академии, университеты, научные общества, промышленные и государственные лаборатории. Второе является более широким и относится к любой социальной системе, которая располагает «правилами, процедурами и устойчивой практикой, влияющими на мнения и поведение социальных акторов»[41]. Социальный институт обладает определенной автономией и делает возможным воспроизводство практик на протяжении длительного периода времени. Установившись, практики рассматриваются как само собой разумеющиеся и не требуют постоянной поддержки. Таким образом, наука может быть рассмотрена как институт с того момента, как она получает определенную автономию и начинает руководствоваться собственными правилами. Хотя институционализация науки как таковой начинается в XVII в., не следует забывать, что развитие наук с Античности происходило при поддержке нескольких типов институтов. Без института наука есть лишь форма частного досуга. Итак, возникает вопрос: какие институты были исторически связаны с развитием наук?
Производство знаний долгое время было обязано страсти и любознательности отдельных индивидов, и, в отсутствие надлежащих структур (библиотек, обсерваторий, ботанических садов и т. п.), передача знаний оставалась делом случая. И хотя все люди, как говорил Аристотель, по природе стремятся к знанию, бескорыстное знание, то, которое не служит «ни для удовольствия, ни для удовлетворения необходимых потребностей», встречается лишь в тех странах, жители которых располагают свободным временем. Так, Аристотель утверждал, что математика родилась в Египте, «ибо там было предоставлено жрецам время для досуга»[42].
Упоминание «жрецов», т. е. касты, указывает на то, что производство и особенно сохранение знания зависят от существования институтов. Так, профессия писца может рассматриваться как первая форма институционализации производства знания. Создание Александрийского мусейона и Александрийской библиотеки было инициативой династии Птолемеев, возобновившей египетскую традицию придворных жрецов. На деле все сложные древнейшие общества, будь то Месопотамия, Египет, Китай или Индия, обладали институтами, предназначенными для производства и интерпретации знаний о природе, которые зависели от потребностей и интересов царей, императоров или сатрапов. Астрономические знания, например, были тесно связаны с религиозными и астрологическими верованиями, для которых различные небесные явления были знаками для истолкования. Совершенствование математических и астрономических познаний диктовалось в равной мере административными и политическими потребностями в составлении календарей. Медицинские знания также соответствовали общественному запросу[43]. В свою очередь, наиболее абстрактные и наиболее общие знания, которые выходили за пределы непосредственных нужд, могли возникнуть как побочный продукт института педагогики. Так, например, ученики школ и писцы в Месопотамии пользовались счетными табличками, которые служили для создания все более сложных упражнений, развивавших у учеников способности к счету. «Чистое» знание возникает, таким образом, как непредвиденное следствие институциональных условий развития практических знаний[44].
Общества, которые, подобно Древней Греции, развивали демократию или просто давали больше свободы для индивидуальной инициативы, также создали институты знания. Платоновская Академия просуществовала более или менее непрерывно вплоть до I в. до н. э. Она представляет собой классический пример институтов, у истоков которых стоят индивиды и малые группы. Как отмечал историк Г. Э. Р. Ллойд, Ликей позволил Аристотелю и его ученикам «координировать работу многочисленных философов и ученых и предпринять амбициозную и беспрецедентную программу исследования в различных областях, в частности в биологии»[45].
Покровительство часто ассоциируется с искусством, но не следует недооценивать его важность для развития наук. На самом деле поддержка наук с практическими целями или ради престижа существовала на протяжении всей истории, как при китайских императорах, египетских фараонах эллинистической эпохи, королях и государях Возрождения и классической эпохи, так и у меценатов молодой американской Республики[46]. Но в XX в., с появлением благотворительных организаций, подобных фондам Рокфеллера и Карнеги, покровительство науке принимает новые институциональные формы. Эти организации будут играть центральную роль в развитии некоторых исследовательских областей по крайней мере до середины XX в.[47]
Вплоть до XIX в., пока занятия научными исследованиями не стали настоящей профессией, не существовало установленной профессиональной траектории для тех, кто хотел посвятить себя развитию знаний. Учеными становились в то время лица (в основном мужчины), обладавшие материальными ресурсами и необходимым временем для того, чтобы посвятить себя выбранной области. Несмотря на личное богатство, которое позволило Лавуазье или Дарвину заняться наукой, без благотворительности появление их выдающихся трудов было бы невозможно. Воспитание будущих правителей также было формой покровительства. Аристотель стал воспитателем Александра, а Галилей – преподавателем математики у молодого принца Козимо из Флоренции[48]. В свою очередь Декарт отправился в Стокгольм давать уроки королеве Кристине по ее просьбе. Наконец, благодаря покровительству возникли ботанические сады и лаборатории, которые позволили ученым прирастить знания в ботанике, медицине и астрономии.
Однако из-за своего несистематического характера благотворительность не создала условий для заметного роста числа тех, кто мог бы себя посвятить наукам. В целом, даже при поддержке государей, наука остается до середины XIX в. родом деятельности ограниченного числа лиц. Официальных должностей было мало, и они не были защищены от социальных и политических потрясений своего времени, которые часто приводили к закрытию научных институций, как в случае Академии Платона, Ликея Аристотеля или Александрийского мусейона.
Ряд авторов задались вопросом о причинах возникновения в Европе XVII в. современной науки как деятельности, основанной на эксперименте и математических вычислениях[49]. Было приведено много объяснений и факторов. По крайней мере, ясно, что вплоть до классической эпохи, пока наука оставалась ограниченной индивидуальными занятиями отдельных лиц или немногочисленными институциями, существование которых зависело от милости некоторых «просвещенных» правителей, она не могла быстро и устойчиво развиваться. Общественные и экономические условия в Европе XVI и XVII столетий, наряду с технологическими и институциональными инновациями предшествующей эпохи, такими как книгопечатание и университеты, позволили более широко распространять знания и увеличить число мест их производства. Благодаря многообразию таких мест (университеты, академии, дворы государей) исчезновение отдельного института или должности при вельможе или государе не подвергало опасности деятельность других институций. Возникает и определенная преемственность в передаче знаний. Например, когда в конце XVI в. астроном Тихо Браге ссорится со своим меценатом, королем датским, он находит прибежище в Праге при дворе императора Рудольфа II и продолжает свое дело. Кроме того, с ростом числа университетов стала возможной профессорская карьера и даже переход из одного учреждения в другое, если того требовала ситуация. Так, Галилей сначала преподавал в Пизе (1589) и Падуе (1592) и только в 1610 г. прибыл ко двору Медичи[50].
Как показал социолог Тоби Хафф, университеты, которые появляются в начале XIII в. и распространяются затем по всей Европе, представляют собой новый институт, способствующий развитию наук благодаря своей стабильности. По мнению Хаффа, средневековый университет делает возможной современную науку, порождая нормы беспристрастности и организованного скептицизма, которые станут характерными для научного сообщества начиная с XVII в. Его юридический статус автономной корпорации уникален и не встречается вне Европы, что объясняет также то, что современная наука возникает в этом регионе и не в каком ином[51].
До 1300 г. число университетов не превышает дюжины, но оно быстро растет в XIV и XV вв., и к 1500 г. их уже больше 60. Эта волна оснований университетов, отвечающая росту городов и потребностям администрирования, является делом рук государств и муниципалитетов[52]. Новые университеты продолжат появляться и в XVII в.: 24 университета в первой половине столетия и еще 12 – во второй[53].
В Оксфорде, Кембридже, Париже и Болонье, а позже и в Тюбингене ядром образовательной программы факультетов свободных искусств станут произведения Аристотеля о природе. По этой причине с конца XIII в. академическое размышление о философии природы приведет схоластов к созданию важнейших произведений по физике, математике, астрономии и медицине. Распространившись по всей Европе, университеты создали тем самым рынок профессоров натурфилософии, аффилированных с факультетами искусств, и профессоров медицины при медицинских факультетах. Это была относительно стабильная должность, которая позволяла тем, у кого были необходимый талант и желание постичь больше, чем могли дать учебники, предлагать новые теории или по меньшей мере комментарии и дополнения к существующим теориям. Так, преподавание в университетах обеспечило постоянное обращение к произведениям Архимеда, Птолемея, Галена и Аристотеля, обогащая их из века в век комментариями.
Нередко высказывалось мнение, что в XVII в. сторонники «новой науки» находились по большей части вне стен университетов[54]. Однако нужно напомнить, что они не только учились в университетах, но часто там же и преподавали, пока не находили достаточно богатого покровителя, чтобы посвятить себя целиком научной деятельности[55]. Так, Галилей преподавал в университете, пока не присоединился ко двору великого герцога Тосканского в качестве философа и математика. Так было и в случае Ньютона, который длительное время был связан с Кембриджским университетом, прежде чем занять должность хранителя Монетного двора. А Иоганн Кеплер, до того как стать математиком при дворе императора Рудольфа II в Праге, обучался астрономии в университете Тюбингена у профессора Михаэля Мёстлина. Врач и анатом Андреас Везалий преподавал в университетах Падуи, Болоньи и Пизы после обучения в Парижском университете. В целом, несмотря на определенное сопротивление «новым наукам», университеты составили важную институциональную базу для развития наук. Предлагая лекционные курсы и преподавательские должности и вводя в оборот новые открытия, они обеспечили воспроизводство знаний и специалистов.
Следует, однако, отметить, что вплоть до немецкой реформы высшего образования, которую инициировал Вильгельм фон Гумбольдт в начале XIX в., университет не имел ясно оговоренной функции проведения научных исследований, даже если некоторые профессора смогли внести в их развитие свой личный вклад. Продвижение науки начиная с XVII в. было скорее делом специально для этого созданных академий и ученых обществ.
Модель Гумбольдта, объединяющая образование и научное исследование, будет впервые реализована в стенах Берлинского университета, основанного в 1810 г. Впоследствии ее заимствуют и адаптируют во многих странах. Эта модель представляет собой существенную институциональную инновацию, соединившую образование и научный поиск в рамках институции, которая до тех пор рассматривалась исключительно как место воспроизводства знания и профессионального образования (право, медицина, теология). Создание исследовательских семинаров и степени доктора наук (Philosophiae Doctor, PhD) сделает возможным существенный рост числа исследователей во все более разнообразном круге дисциплин[56].
Благодаря этой новой модели университета Германия становится мировым центром науки в период с середины XIX в. до середины 1930-х годов[57]. Привлекая исследователей со всего света, которые вернутся затем преподавать в свои родные края, эта «современная» модель университета становится ведущей к концу XIX в. В наши дни в большинстве стран именно на университеты приходится большая часть научных публикаций, а уже за ними следуют научно-исследовательские институты, промышленные и государственные лаборатории[58].
Создание научных обществ в середине XVII в. часто рассматривается как поворотный пункт в институционализации современной науки. Благодаря этим институциям, где происходила социализация ученых и обмен знаниями, возрос и авторитет наук в обществе. Предметом историографии чаще всего становились наиболее успешные и просуществовавшие до наших дней академии, такие как Лондонское королевское общество, которое получило королевскую хартию в 1662 г., и Парижская королевская академия наук, созданная Кольбером в 1666 г. Но первые академии наук появляются уже в начале XVII в. и сначала находятся под покровительством того или иного вельможи. Галилей был членом Академии деи Линчеи, основанной в Риме в 1603 г. аристократом Федерико Чези и прекратившей существование после смерти последнего в 1630 г. Так же недолго просуществовала и Академия дель Чименто, где состояли многие ученики Галилея. Она была основана в Венеции в 1657 г. принцем Леопольдом и представляла собой не более чем проявление личной прихоти монарха[59].
Хотя Лондонское королевское общество также находится де юре под покровительством монарха, его организационная модель привносит определенную новизну. Оно не является простым продолжением королевского двора, но представляет собой автономное общество, члены которого избираются другими академиками и должны платить годовой взнос. Статус добровольной ассоциации отличает это общество от Парижской академии наук, официально зависевшей от короля Франции и предоставлявшей статус пансионера своим членам, число которых было строго ограничено. Новый член Академии должен был также отвечать на запросы, которые ему мог адресовать король по поводу выдачи патента на изобретение, публикации произведения или даже какого-нибудь технического вопроса[60]. Французская модель патроната стала использоваться всеми царствующими домами Европы, желавшими привлечь к своему двору лучшие умы эпохи. Наряду с университетами, академии предоставляли некоторое число хорошо оплачиваемых должностей, которые позволяли их обладателям посвятить себя науке.
По мнению историка Мориса Кросленда, королевские академии представляют собой первый шаг к институционализации научно-исследовательской деятельности. Они располагали достаточными средствами не только для выплаты жалованья своим постоянным членам, но и для создания приборов и проведения опытов[61]. Помимо этого, академии, число которых увеличивается в XVIII в., объявляли конкурсы на решение научных проблем, что порождало дух соперничества, способствующий росту интереса к наукам[62].
Требование автономии науки было выдвинуто с появлением первых ученых обществ. Как в Академии дель Чименто, так и в Лондонском королевском обществе религия и политика были запретными темами для дискуссий на собраниях. Эти запреты не были чисто символическим жестом, но представляли собой специфический способ создания автономии без посягательства на сферы политики и религии. В середине XVIII в. Кондорсе в своем эссе о пользе академий также настаивает на важности «сильной конституции, независимой от народных мнений о пользе наук и от капризов правящих». Он утверждает, что только академики могут избирать новых членов, ибо «только голосованием ученых можно избрать академика». А научные труды, признанные академией, не должны были, по его мнению, подлежать «цензуре»[63]. Академия должна стать микрокосмом, в котором правят законы науки, идущие впереди политики, религии и гражданского общества. В сравнении с академией университеты все еще выглядели бледно: из-за недостатка собственных средств они располагали небольшой автономией и в большинстве своем целиком зависели от властей в выплате зарплаты и строительстве зданий. Этим оправдывалось строгое нормативное регулирование их деятельности[64]. Так или иначе, с институциональной точки зрения социальная функция университетов не включала в себя проведение научных исследований. Только в середине XIX в. они станут центрами производства знания, оставляя за академиями символическую функцию признания научной элиты.
В то время как университетские исследователи защищают идеал чистой науки, правительства и предприятия вынуждены решать проблемы, для которых требуется все больше научных кадров. Так, например, в конце XVIII в. во Франции было создано Бюро долгот для изучения вопросов геодезии, а начиная с 1820 г. во многих странах основаны Геологические комиссии. Их целью было систематизировать поиски экономически значимых полезных ископаемых, таких как уголь, основное горючее промышленной революции. В целом геология как наука многим обязана заказам на исследования со стороны государственных институтов. С целью улучшить управление сельскохозяйственным производством правительства также создадут экспериментальные фермы. Роль государства в научных исследованиях становится еще более значимой в период Первой мировой войны, когда многие страны, такие как Великобритания, США, Канада и Япония, создают национальные советы научных исследований, призванные обеспечить тесную связь между научными исследованиями и промышленным производством. Все эти организации стимулируют создание должностей профессиональных исследователей для решения проблем, важность которых признана государством, а косвенно они способствуют развитию и фундаментальных научных исследований.
Со второй половины XIX в. промышленное развитие все больше зависит от новых технологий, связанных с электричеством и химией. Так, в 1880-е годы немецкие фирмы BASF и Agfa создают собственные химические лаборатории[65]. В США лаборатории фирм American Telephone and Telegraph и General Electric заметно испытывают настоящий подъем после Первой мировой войны[66]. Руководство этими лабораториями уже не доверяют изобретателям-самоучкам, подобным Томасу Эдисону, организовавшему лабораторию в Менло-Парке в 1876 г., но специалистам с университетским дипломом, причем не только обычным выпускникам факультетов физики, химии, математики или технических наук, но все чаще – обладателям докторской степени в этих областях.
Между 1900 и 1950 гг. число рабочих мест, требующих научного образования, росло быстрее, чем рынок труда в целом. Например, в США число вакансий для ученых и инженеров увеличилось в десять раз, в то время как совокупность занятых в экономике – лишь вдвое[67]. Причем это касается даже математики – самого на первый взгляд непрактичного занятия. Число математиков, задействованных в промышленных лабораториях в США, возросло с одного человека в 1888 г. до 15 в 1913 г., до 150 в 1938 г. и составило около 200 человек в середине 1960-х годов[68]. Таким образом, промышленные лаборатории обеспечили трудовыми местами обладателей университетских дипломов, что увеличило спрос на обучение в магистратуре и докторантуре. Лаборатории становятся источником дохода и для университетских исследователей, которые получают контракты не только на проведение исследований, но также на консультационную деятельность. Поскольку директорами лабораторий становились выходцы из университетов, благодаря сети их контактов укреплялись связи между вузами и частными предприятиями[69].
Эти отношения были долгое время неформальными и основывались на прямых связях между исследователями. Они стали институционализироваться вместе с созданием в 1980-е годы при университетах специальных офисов по взаимодействию с предприятиями, занятых управлением контрактами и коммерциализацией научных результатов[70]. Интенсификация связей с частным сектором является следствием урезания бюджетной поддержки научно-образовательных учреждений, заставляющего их искать другие источники доходов[71].
Таким образом, с организационной точки зрения во второй половине XIX в. появляются новые места для занятий научными исследованиями. Любители и автодидакты XVI и XVII вв. окончательно уступили во второй половине XIX в. место профессиональным ученым, имеющим все более узкую специализацию и прошедшим обучение в университетах, совмещающих образовательную и научно-исследовательскую функции.
Географическое распространение современной науки
Институты, характерные для современной науки, возникают в Европе. Только потом их перенимают и воспроизводят в большинстве других стран. Хронология этого заимствования определяется спецификой социально-экономического развития, которое могло бы стать объектом изучения для исторических социологов из той или иной страны[72]. Тем не менее будет полезно обрисовать основные этапы данного процесса. Так, историк науки Джордж Базалла различает три крупные, частично накладывающиеся друг на друга фазы географического распространения современной науки со времени ее возникновения в Западной Европе в XVII в.[73] В первой фазе европейские ученые, пользуясь открытием колоний, собирали новые сведения в областях естественных наук и астрономии. Во второй фазе, называемой колониальной, появляются местные ученые, которые продолжают эту описательную работу, но деятельность которых в большой мере зависит от интересов, теорий и организационных моделей, возникших в больших европейских центрах. На этой стадии локальное научное образование развито еще слабо и уровень его часто невысок. К тому же автохтонная научная жизнь еще не достигла достаточной интенсивности, чтобы обеспечить интеллектуальную автономию и самостоятельный рост. Наконец, третья фаза характеризуется появлением местных институтов и традиций во многом благодаря росту национального самосознания[74]. Переход на эту стадию требует общественного признания целесообразности научной деятельности и статуса ученых, включая поддержку со стороны государства. Автономия не всегда означает автаркию: наука – явление глобального масштаба, поэтому на этой стадии возникают новые каналы для международных контактов, уже в большей степени отвечающих интересам местного научного сообщества. Обмены также обнаруживают тенденцию стать обоюдовыгодными. Устанавливается сотрудничество между учеными из разных стран.
Вопрос институционализации является в этой схеме центральным. Понятно, что появление небольшого числа акторов – самоучек или прошедших обучение за рубежом – необязательно приводит к росту национальной науки. Научная практика может оставаться долгое время маргинальной, неустойчивой и даже исчезнуть вместе с уходом этих нескольких акторов. Институционализация науки, в смысле введения формальных структур высшего образования, составляет ключевой этап в формировании национального научного сообщества[75].
Во многих странах, где современная научная традиция зарождается лишь в конце XVIII в., на этом этапе чаще всего возникает потребность в приглашении европейских специалистов, чтобы сформировать первое поколение местных ученых. В иных случаях ученых посылали для прохождения обучения за границу, чтобы потом они вернулись работать на родину. Например, в Австралии, Японии и Канаде развитие физики началось с приглашения нескольких британских ученых, которые обучили первое поколение местных исследователей. Те приняли эстафету и заложили основу местного развития, менее зависимого от внешних источников[76].
Заимствование научной практики имеет место не только в странах на ранней стадии научного развития. Импорт возможен и в тех случаях, когда научные специальности появлялись в определенных местах, откуда они затем получали более широкое распространение. Самый известный пример такого рода дает органическая химия. Эта область науки долгое время развивалась в пределах небольшого Гиссенского университета, где преподавал Юстус Либих. Именно здесь получила образование плеяда ученых, которые затем привезли свои знания в Англию, США и другие страны, где они продолжили заниматься развитием техник синтеза и анализа органических веществ[77].
Как только научная практика пустит корни в новом месте, формируется национальное научное сообщество, члены которого работают над созданием специфической социальной идентичности. Этому процессу может способствовать то, что часто называют «научным движением». Такое движение является делом рук первого поколения местных ученых. Его цель – создать в стране местные институты и ассоциации для защиты интересов ученых, а также для поддержания идейной атмосферы, благоприятствующей привлечению студентов. Это необходимо для обеспечения длительного существования данной группы, а также для воспроизводства в обществе определенного образовательного уровня, требующегося для поддержания относительной автономии научного развития. Создание организаций, выражающих интересы различных научных дисциплин, является важным шагом постольку, поскольку правительства признают легитимность только подобных официальных органов. Например, создание во многих странах ассоциаций для поддержки научной практики по образцу Британской ассоциации содействия науке (BAAS) является частью этой фазы построения национальных научных сообществ[78].
Формирование научных дисциплин
Ученые общества, имеющие целью «продвижение науки», обычно открыты для всех исследователей, занятых в любой научной области. Этим они отличаются от академий, членами которых могут стать только представители научной элиты. Их основная функция – выступать единым фронтом в условиях все возрастающей специализации и обособленности наук. С начала XIX в. дисциплины стремятся четко определить свои методы и предметы, а разносторонние эрудиты, способные внести вклад сразу в несколько областей, встречаются все реже. Этому процессу разделения знания на отдельные дисциплины соответствует появление журналов, посвященных только одной дисциплине, тогда как первые научные журналы, такие как «Journal des savants», «Philosophical Transactions of the Royal Society» или «Acta Eruditorum», были открыты для всех наук. Так, в буклете, анонсирующем создание в 1810 г. «Annales de mathématiques pures et appliquées», утверждалось, что новый журнал призван «позволить геометрам установить между собой общение или, лучше сказать, общность взглядов и идей». Этот журнал будет служить одновременно распространению и развитию науки и обеспечит сплоченность научного сообщества, гарантируя «каждому приоритет в отношении новых результатов, к которым он приходит»[79].
Если неспециализированные ученые общества являются рупором науки в целом, то ассоциации, формируемые отдельными дисциплинами, становятся на защиту своей специфики. Так, в большинстве стран создаются национальные научные общества для содействия различным дисциплинам. Французское физическое общество появляется в 1873 г., а в следующем году британцы основывают Лондонское общество физиков[80]. Через 20 лет, в 1893 г., физическое общество появляется в США, в то время как американские химики и математики образовали собственные ассоциации соответственно в 1876 и 1888 гг.[81] Эти дисциплинарные научные общества основали собственные журналы, чтобы не слишком зависеть от иностранных изданий. Хотя последние играли более заметную роль в международном плане, они не могли принять для публикации всю совокупность местной научной продукции. Так, в 1878 г. появляется американский журнал по математике и в 1893 г. – по физике. В странах, где автономное научное развитие происходило с задержкой, как, например, в Австралии и Канаде, национальные научные общества и журналы появляются позже, в течение 1930-х и 1940-х годов. Эта дисциплинарная эволюция тесно связана с общественным и экономическим развитием. Например, в Японии в период между двумя мировыми войнами численность ученых и инженеров (на 100 тыс. населения) увеличилась в пять раз[82].
Несмотря на идеал «универсальной науки», на деле научные практики всегда реализуются в специфических социальных контекстах. Ученым приходится с ними считаться при создании институтов, без которых невозможно научное исследование. С конца XIX в. науку образует совокупность относительно автономных дисциплин со свойственными им методами, техниками и теориями[83]. Институциональной базой для их воспроизводства являются различные кафедры, отражающие дисциплинарные деления. Каждая дисциплина также располагает собственными органами поддержки (общества) и распространения знания (журналы), которые делают возможным их развитие.
Процесс сегментации знания по отдельным дисциплинам, наблюдаемый на протяжении XIX в., повторяется в XX в. уже внутри самих дисциплин по мере того, как возникают все новые специальности. Разделению на специальности (как и на дисциплины) может способствовать усиление разделения труда вследствие увеличения числа исследователей. Его причиной может также становиться появление новых инструментов или миграция исследователей, покидающих неперспективную сферу деятельности ради более перспективной[84].
Достигнув определенного размера, эти специальности, в свою очередь, обзаводятся журналами и ассоциациями[85]. Однако благодаря контролю за распределением университетских должностей дисциплины обладают большей властью, чем зависящие от них специальности. Молодой исследователь должен сначала изучить какую-либо дисциплину, чтобы затем получить более узкую специализацию, обучаясь в магистратуре и аспирантуре. В то время как актуальные исследования ведутся на уровне специальностей, дисциплины сохраняют исключительное право на базовое академическое образование. Так, оттеснив ту или иную исследовательскую область в самый низ иерархии академического престижа и интереса, дисциплина может помешать ее развитию[86].
Рассмотрев разнообразие институтов, в которых работают исследователи, и увидев, как были сформированы различные дисциплины и специальности, мы можем теперь перейти к анализу правил, задающих внутреннюю динамику этих научных сообществ.
Итак, в XVII в. возникли институты, в миссию которых входило содействие прогрессу науки. Кроме того, возросло число ученых, состоявших друг с другом в переписке и принимавших участие в деятельности национальных и региональных академий и ученых обществ. Все это способствовало развитию автономного социального поля научного знания, становившегося менее зависимым от других сфер общества.
С социологической точки зрения постепенная автономизация сопровождается установлением «норм» или правил (чаще всего негласных), предписывающих подобающее поведение. Социолог Роберт Мертон определил базовые элементы, формирующие систему институциализированных норм, усвоенных учеными в процессе профессиональной социализации. Эти нормы, являясь предписаниями для действия, согласно Мертону, необходимы для успешного функционирования социальной системы знания[87]. Их совокупность образует функциональную систему, которая обеспечивает производство объективных знаний.
Мертон определяет «этос науки» как совокупность правил, предписаний, привычек, верований, ценностей и допущений, интериоризованных учеными и направляющих их практику[88]. Его образуют четыре институциональных императива или, говоря иначе, социальные нормы.
Универсализм. Истины, выносимые на суд научного сообщества, должны оцениваться по безличным критериям, без связи с социальными (расовыми, сексуальными, религиозными, идеологическими) или институциональными (страна, регион, организация) характеристиками человека, предложившего открытие или теорию. Эта норма проистекает из безличного характера науки. Она нарушается всякий раз, когда научный результат отвергается по расовым или идеологическим основаниям, как в случае нацистской Германии, где теория относительности Эйнштейна отрицалась как «еврейская наука». Известная фраза Луи Пастера «у науки нет родины», произнесенная на международном медицинском конгрессе 1884 г. в Копенгагене, является классическим выражением этой нормы.
Коллективизм. Всякое научное открытие является общим благом, будучи продуктом сотрудничества между учеными, и принадлежит всему сообществу[89]. У законов и теорий нет частного собственника. Эта норма, по Мертону, предполагает обязательную публикацию открытий. Напротив, сохранение полученных результатов в секрете должно рассматриваться как неадекватное поведение, которое может затормозить развитие науки. Коллективизм, характеризующий этос науки, не распространяется на промышленные исследования и разработки, где открытия могут составлять предмет коммерческой тайны или патентования[90].
Бескорыстие. Ученый ищет, прежде всего, истину ради нее самой и всего научного сообщества, а не ради личной выгоды и славы. Это не психологическая, а социологическая норма, утверждает Мертон, усиленная санкциями сообщества против тех, кто ее не соблюдает. Норма скромности призвана уравновесить значение, придаваемое оригинальности.
Организованный скептицизм. Норма является одновременно методологической (отражающей технические и логические характеристики науки) и институциональной. Она предписывает ученому критическое отношение ко всякому новому результату, который должен быть детально рассмотрен, верифицирован и воспроизведен, прежде чем получить признание и быть включенным в состав уже имеющегося знания. Эта норма, требующая коллективной критики, обеспечивает достоверность как эмпирических, так и теоретических научных идей. Она нарушается тогда, когда воспрещается всякая критика, как это было в Советском Союзе в 1940-е и 1950-е годы. Так, менделевская генетика была осуждена как «буржуазная наука» и заменена теорией наследования приобретенных признаков Трофима Лысенко, которую рассматривали как единственную истинно «пролетарскую науку»[91]. Те ученые, которые осмеливались критиковать эту теорию или сомневаться в ней, рисковали по меньшей мере своей карьерой или даже жизнью, подобно Николаю Вавилову, умершему в тюрьме в 1943 г.[92]
Эти нормы образуют систему, понимаемую как совокупность дифференцированных и функционально независимых элементов, которые усиливают друг друга (рис. III. 1). Организованный скептицизм связан с универсализмом, который предписывает критиковать результаты на объективных основаниях, а незаинтересованность обеспечивает то, что эта критика не искажается влиянием вненаучных интересов. Наконец, норма коллективизма предписывает публиковать все открытия, чтобы облегчить критику. Как только результат принимается, он становится коллективной собственностью сообщества, которое в ответ наделяет автора символическим признанием, закрепляя его приоритет, связывая его имя с открытием (эпонимия), наконец, награждая его премией или престижной должностью сообразно важности открытия. Так, говорят о «законах Ньютона», «диаграмме Фейнмана» и т. д.

РИС. III. 1. Нормативная структура науки
Научное сообщество придает большое значение оригинальности, т. е. открытию нового. Это создает напряжение между регулятивными нормами бескорыстия и скромности. Данная структурная двусмысленность порождает у ученого смешанные чувства. Ученый предъявляет претензии на приоритет в открытии, чтобы получить признание, которое, как полагает он, ему причитается. Оригинальность поощряется самой системой признания, действующей в научном сообществе, которое отмечает вклад только первооткрывателя (за исключением открытий, сделанных двумя учеными одновременно и независимо друг от друга). Наконец, стабильность системы обеспечивается тем, что ученые, как правило, обращаются за признанием к другим ученым – своим «равным», которые обладают знаниями, необходимыми для оценки и признания обнародованных открытий, а также признают те же самые нормы. При этом любое серьезное нарушение этих норм влечет символические санкции, которые могут привести к исключению из сообщества.
Эмпирический материал, использованный Мертоном, чтобы проиллюстрировать роль норм в научном сообществе и построить его модель, заимствован из истории наук XVII, XVIII и XIX вв. Названные выше нормы, которые остаются чаще всего негласными, выведены им на основе чтения переписки ученых, их биографий и работ историков, посвященных этому длительному периоду. Модель Мертона составляет, таким образом, идеальный тип, или схематическое изображение, научного сообщества, целиком посвященного развитию знаний, независимо от институционального положения исследователей. Несмотря на трения и разногласия, свойственные этой социальной системе, данные нормы являются «функциональными», поскольку они обеспечивают непрерывное и саморегулируемое развитие науки в составе сообщества, относительно автономного по отношению к другим сферам общества (таким, как религия, политика и экономика). Согласно этой модели, любое существенное нарушение норм совершается в ущерб «хорошей науке», т. е. в ущерб производству знания, верифицируемого при помощи объективных методов.
Наблюдая морфологические и структурные изменения наук, уместно задаться вопросом, применима ли модель Мертона к научному сообществу XX и XXI вв. в той же мере, что и к его предшественнику XVII в.: действуют ли все еще эти нормы в современной науке? Являются ли ученые в самом деле универсалистами в оценке работ своих коллег? Всегда ли они столь же бескорыстны, склонны к коллективизму, критичны и скептичны по отношению к новому? Остается ли научное сообщество чисто меритократическим, как того требует модель? Как объяснить подлоги и споры о приоритете?
Эти вопросы окажутся в центре исследований в 1960-е годы, когда социологи науки отодвинут на второй план более общую проблему отношений между наукой и обществом, которая доминировала на протяжении двух предыдущих десятилетий. Их внимание будет сфокусировано на внутреннем функционировании научного сообщества. Подобное смещение интереса есть прямое следствие функционалистского понимания норм, которое заостряет внимание на переменных, позволяющих оценивать, в какой мере эти нормы соблюдаются на деле, и анализировать последствия их нарушения. Смена проблематики также является следствием изменения более широкого социального контекста: перестали быть актуальными вопросы о демократии и науке, которые занимали ученых и интеллектуалов во время Второй мировой и в начале холодной войны. Наука продемонстрировала свою социальную значимость, и ее представителям удалось внушить почтение к концепции «республики ученых», согласно которой ей одной принадлежит право выносить решения относительно научных приоритетов[93].
Быстрый рост финансирования науки в течение Славного тридцатилетия (1945–1975)[94] естественным образом повлек за собой расширение исследовательской деятельности, которое способствовало еще большей сегментации науки по специальностям и диверсификации мест производства научного знания. Так, между 1945 и 1957 гг. число ученых и инженеров, работающих в промышленных лабораториях в США, увеличилось в четыре раза. А уже в конце 1950-х возникла критика «бюрократизации науки»[95]. В этих новых условиях социологи заинтересовались тем, как жизнь в промышленной лаборатории сочетается с научным этосом, усвоенным в университете. Эти работы выявили напряжение между дисциплинарной и организационной идентичностью. Дисциплинарная идентичность определяется соответствующим научным сообществом, а организационная отвечает преимущественно специфическим потребностям предприятия[96]. Кроме того, организация труда зависит от дисциплины и от более или менее кодифицированной природы выполняемых задач. Например, химические лаборатории обладают жесткой иерархической структурой управления, а у физических лабораторий управление заметно проще и свободнее[97]. Но независимо от организации труда и типа исследовательской институции, чтобы внести вклад в развитие знаний, исследователь должен публиковать свои результаты и согласовывать их с нормами научного сообщества. Таким образом, социологов науки прежде всего интересует динамика научных сообществ.
Нормы являются неписаными правилами, и поэтому чаще всего их нельзя наблюдать напрямую при обычном ходе научной работы. Они усваиваются практическим и неявным образом в процессе социализации, который позволяет студенту, лаборанту стать настоящим ученым, поддерживая ежедневный контакт с наставниками и преподавателями. Нормы группы становятся заметны тогда, когда нарушаются. Именно в эти моменты на них эксплицитно ссылаются, призывая к порядку, требуя подчинения этому порядку под страхом общественного неодобрения или даже исключения. С методологической точки зрения это объясняет ту важность, которую мертоновские социологи придают спорам о приоритете, нарушающим норму бескорыстия.
Начиная с XVII в. легко найти множество примеров споров о приоритете. Функционалистская модель Мертона позволяет понять эти случаи и даже предсказать, где и как может возникнуть борьба за приоритет. Вне зависимости от исторического периода возникновение подобного рода споров тем более вероятно, чем больше признания способно принести открытие. По крайней мере, так будет до тех пор, пока научное сообщество как социальный институт придерживается определяющих его регулятивных ценностей, и в первую очередь оригинальности[98]. В институциональном контексте XVII и XVIII вв. от исхода борьбы за первенство могло зависеть признание со стороны мецената или назначение на должность академика. В XX же веке в спор могут скорее вступить два университетских исследователя, претендующих на Нобелевскую премию[99]. Однако со структурной точки зрения фундаментальная цель такого спора все та же: исследователь стремится утвердить свое первенство в открытии, чтобы получить признание научного сообщества (см. врезку 1).
ВРЕЗКА 1. БОРЬБА ЭЙНШТЕЙНА ЗА ПЕРВЕНСТВО
Через два года после публикации короткой статьи 1905 г., доказавшей эквивалентность массы (М) и энергии (Е) в знаменитой формуле Е = mc2, Альберт Эйнштейн получает письмо от своего друга Макса фон Лауэ, сообщающего ему, что Йоханнес Штарк издал статью, в которой приписывает это открытие Максу Планку. Он советует Эйнштейну «защитить свое первенство»[100]. Вполне возможно, что Эйнштейн не сделал бы этого без влияния своего друга, но, так или иначе, он пишет Штарку: «Я был несколько ошеломлен тем, что вы не признаете моего приоритета в установлении связи между инерционной массой и энергией»[101]. Через несколько дней после ответа Штарка, который признает свою ошибку, Эйнштейн в своем ответном письме спешит его заверить: «Если бы я уже не сожалел, еще до получения вашего письма, о том, что поддался мелочным побуждениям и заговорил о приоритете, то ваше подробное письмо ясно показало бы мне, что моя обида была напрасной. Люди, которым посчастливилось сделать вклад в развитие науки, не должны позволять таким вещам омрачать радость при созерцании плодов общих усилий»[102].
Этот отрывок из переписки ученых начала XX в. хорошо вписывается в модель Мертона, иллюстрируя его тезис о двойственной природе ученых. И тот факт, что исходный импульс к этому обмену письмами исходил не от самого Эйнштейна, а от его коллеги и друга, подтверждает, что этос науки имеет институциональный, а не индивидуальный и психологический характер. Впрочем, через восемь лет Эйнштейн станет заинтересованной стороной в еще одном споре за первенство – на этот раз с математиком Дэвидом Гилбертом – и поведет себя схожим образом[103].
Очевидно, что многие ученые не скрывают своего желания получить Нобелевскую премию или почетную должность, но это не умаляет эвристической ценности модели Мертона. Она предлагает рамку для структурного социологического анализа, не ставящего во главу угла психологию индивидов, которой здесь возможно пренебречь. Институциональная значимость приоритета проявляется и в том, что научные журналы систематически указывают дату получения рукописи. Последняя важнее даты последующей публикации, которая может задержаться на месяцы и даже на годы в зависимости от того, сколько времени уйдет на ее рецензирование. Важность приоритета в открытии объясняет и то, что исследователи спешат опубликовать полученные результаты как можно раньше, даже если это результаты предварительные, а порой и вовсе сомнительные[104].
Если получение престижной премии является редким событием, которое касается меньшинства ученых (элиты), то как гарантировать соблюдение норм сообщества основной массой исследователей? Именно здесь приобретают значение более простые, менее престижные, но более распространенные формы научного признания. Так, простая публикация статьи в признанном сообществом журнале является знаком одобрения коллег, ибо до публикации содержание статьи сначала обсуждается и критикуется другими членами сообщества. Преодоление публикационного барьера является первой формой институционального признания, которая усиливает чувство принадлежности к научному сообществу. Можно даже сказать, что быть частью научного сообщества – это прежде всего публиковать статьи в рецензируемых журналах, а не только обладать дипломом доктора в данной области.
Согласно социологу Уоррену Хэгстрому, акт опубликования статьи лежит в основе связи, которая объединяет членов научного сообщества. Исследователь, публикующий статью в известном журнале, предлагает некий дар сообществу, которое, принимая его, предоставляет взамен признание, к которому стремится ученый («контрдар»)[105]. Стремление к признанию является двигателем этого процесса. Характер «дара» подчеркивается тем фактом, что автор оригинальной научной публикации не получает денег за ее написание (хотя иногда работодатель может доплачивать автору за статью для поощрения производительности). Взамен он обычно получает авторские права на написание учебника в своей области исследования. В первом случае он действует как член сообщества, а во втором – как участник рынка печатной продукции, функционирующего по законам капиталистического рынка, имеющим мало общего с ценностями строгой науки.
Научное признание может приобретать разные формы, от простого уважения и одобрения коллег до предложений написать обзорную статью для престижного издания или принять участие в важных конференциях. Научное признание тем выше, чем более строги критерии отбора в журнале, в котором печатается статья – базовая единица научного вклада в естественных науках. Поэтому некоторые журналы отвергают до 90 % поданных статей. Иерархия научных изданий известна исследователям, что позволяет им производить неформальную оценку своих коллег.
Другая форма институционального признания – получение научных грантов от известных фондов, таких как Национальный научный фонд (NSF) и Национальный институт здоровья (NIH) в США, и их эквивалентов в других странах, как, например, Национальное агентство научных исследований (ANR) во Франции. Конкуренция на этих конкурсах высокая (положительный ответ получают от одной пятой до одной трети заявителей). Поскольку отбор осуществляется комитетом коллег, гранты представляют собой что-то вроде гарантии качества исследовательского проекта и, тем самым, самого исследователя. Как и в прочих сферах, редкость создает ценность. Таким образом запускается цикл производства и воспроизводства научного признания. Он начинается с оценки коллегами заявки на выделение гранта и оканчивается публикацией результатов, являющейся институциональной формой научного признания. В свою очередь, обретенное признание упрощает доступ к исследовательским фондам, которые делают возможным производство новых публикаций, обновляющих кредит доверия ученому (рис. III.2).
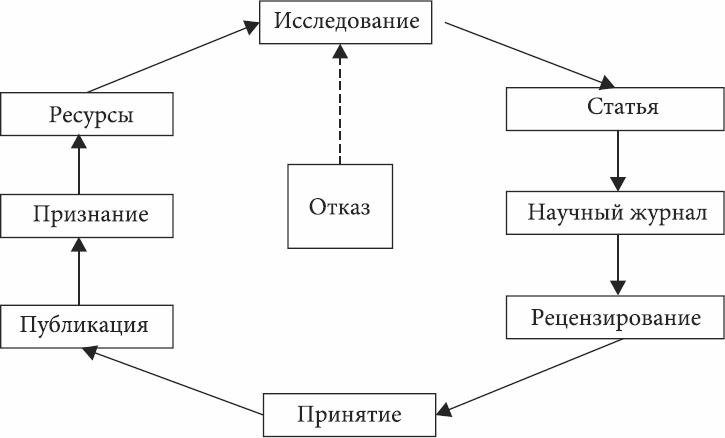
РИС. III. 2. Цикл производства и воспроизводства научных исследований и научного признания
Таким образом, научное признание создает социальную связь принадлежности к сообществу, которая, согласно модели архаических (докапиталистических) обществ Марселя Мосса, устанавливается как отношение между даром (новым знанием) и контрдаром (научным признанием)[106]. Со структурной точки зрения дар предполагает контрдар (ответный дар). Однако разница во времени между первым и вторым позволяет исследователю верить, что мы имеем дело с незаинтересованным обменом. Поэтому этот механизм не противоречит мертоновской норме бескорыстия. Согласно Хэгстрому, данная система символической экономии очень хорошо подходит для социальных систем, которые придают большое значение способности индивидов действовать без формального контроля. Принятие групповых норм, облегчаемое процессом социализации в сообществе, является достаточным условием для обеспечения соответствия практик установленному научному порядку.
Отклонение и социальный контроль
В 1942 г. Мертон писал, что в анналах науки нельзя найти случаев подлога и обмана. Однако ситуация радикально изменилась, по крайней мере начиная с 1980-х годов. Фальсификации встречаются все чаще, особенно в биомедицинских науках, но не только. Дело в жесткой борьбе за доступ к ограниченным ресурсам в научном сообществе, пронизанном конкуренцией. С мертоновской точки зрения, ставящей акцент на институтах и структурных связях между нормами, а не на психологии исследователя, такие ситуации являются предсказуемыми. Сам Мертон указал на опасность нарушений уже в середине 1950-х годов на базе своих работ о связях между аномией и «структурами возможности».
Исследователи не имеют равного доступа к ресурсам в зависимости от их положения в общественной структуре, а общество поощряет достижение амбициозных целей. Если необходимых для достижения этих целей ресурсов не хватает, некоторые исследователи прибегают к незаконным средствам. В обществе, которое «побуждает превзойти соперников», социальная структура «предрасполагает к аномии и девиантному поведению»[107]. Наука не исключение из этой теории девиантности. Мертон показывает, что требование оригинальности приводит иных исследователей к плагиату, к использованию фальсифицированных или даже вымышленных данных, поскольку некоторые социальные акторы иначе не могут ответить на требование постоянно производить оригинальные результаты[108].
Согласно Мертону, «научная культура патогенна» и всякая абсолютизация норм заставляет пускаться по нечестному пути исследователей, которые не могут соответствовать чрезмерно высокому требованию оригинальности и производительности. Нет сомнений, что возросшее с начала 1980-х годов институциональное давление, имеющее целью увеличение научной продукции (знаменитое «публикуй или погибнешь»), повлекло за собой рост девиантного поведения. Также дело в стремительном увеличении числа исследователей, которое растет быстрее, чем государственные расходы на науку, являющиеся основным источником финансирования фундаментальной науки. В результате снижается доля успешных заявок, поданных в организации, которые выделяют финансовые средства на конкурсной основе. Это растущее давление может подтолкнуть иных исследователей преувеличить значение их исследований и предложить более радикальные интерпретации, чем это могут позволить имеющиеся в наличии данные, чтобы представить свой проект в более выгодном свете.
Поскольку научное признание по большей части является символическим, наказанием за подлог служит отказ в публикации, если он выявлен на стадии рецензирования, или же отзыв статьи самим автором либо редакцией журнала, если она уже опубликована. С 1980-х годов мы наблюдаем рост числа изъятий таких недобросовестных статей[109]. После нескольких отказов в публикации ученый будет вынужден сменить тему исследований или покинуть научный мир, чтобы найти социальную среду, в которую он будет лучше интегрирован и где сможет получить большее признание. Серьезные подлоги могут привести к потере работы, но очень редко к судебному разбирательству, если только нет факта хищения государственных средств. Случаи научных фальсификаций обычно не подпадают под статьи Уголовного кодекса, что еще раз подтверждает символический характер научного предприятия. На кон поставлена репутация исследователя: если он ее потеряет или «подмочит», то это будет самой дорогой ценой, которую он может заплатить за нарушение норм сообщества[110].
ВРЕЗКА 2. РАЗДЕЛ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
Долгий спор между американцем Робертом Галло и французом Люком Монтанье по поводу открытия вируса СПИДа хорошо иллюстрирует символический характер санкций, налагаемых научным сообществом[111]. Было доказано, что Галло выделил тот же вирус, что и группа Монтанье, используя клетки, которые ему предоставил французский коллега. Галло поначалу утверждал, что выделил независимый вирус из отдельного штамма. В конце концов приоритет, который был сразу за ним закреплен как за «сооткрывателем» вируса, был отозван. Хотя Галло всегда отрицал обман, утверждая, что речь идет просто о технической ошибке, ему не удалось убедить научное сообщество[112]. Когда Фонд Нобеля решил присудить Нобелевскую премию по физиологии и медицине за 2008 г. Люку Монтанье и его коллеге Франсуазе Барре-Синусси «за их открытие вируса иммунодефицита человека», многие усмотрели в этом решении санкцию в отношении Галло. В самом деле, поскольку премию могут разделить три человека. Нобелевский комитет мог бы добавить Галло к двум другим лауреатам и, таким образом, отметить наградой только одно открытие. Однако он предпочел разделить премию надвое и присудить вторую половину Харальду цур Хаузену «за открытие вируса папилломы человека, причину цервикального рака».
Социальные или когнитивные нормы?
Беря за основу модель структуры научных революций Томаса Куна[113], к которой мы ещё вернемся в гл. IV, Майкл Малкей предположил, что наукой управляют не столько психосоциальные нормы, как у Мертона, сколько нормы когнитивные и технические. Нормативный контроль сообщества за отдельными учеными осуществляется посредством методологических правил и теоретической рамки (парадигмы). По мнению Малкея, парадигма как референтная модель для научного поиска в рамках нормальной науки, а также корпус знаний, который она позволяет утвердить, обеспечивают надлежащее поведение ученых более эффективно, чем социальные нормы[114]. Сопротивление новизне, являющееся в мертоновской модели следствием организованного скептицизма, может также объясняться, согласно Малкею, консервативной привязанностью к парадигме, в терминах Куна.
Впрочем, эта критика не ставит под вопрос мертоновскую модель. Еще до публикации книги Куна социолог Бернард Барбер выделил в качестве источника сопротивления новизне приверженность методам, концептам и теориям. Согласно Барберу, теории, концепты и методы являются частью «культуры» научного сообщества, порождающей сопротивление изменениям и замедляющей усвоение новых фактов и теорий[115]. Барбер отличает эти факторы от социальных причин в собственном смысле слова, таких как авторитетная позиция того или иного ученого в научном сообществе или принадлежность к определенной специальности (закрытой для влияний извне). Как отмечает Малкей, «технические концепты и нормы являются неотъемлемой частью социального процесса», однако это не исключает и действия социальных норм.
Критика функционалистского подхода в социологии как излишне консервативного в конце 1960-х годов открыла дорогу для конфликтной концепции общества вообще и наук в частности[116]. «Борьба за жизнь в научном сообществе» – так называлась статья 1969 г. социологов Жерара Лемэна и Бенжамена Маталона, выдвигающих на первый план конфликт, а не сотрудничество или консенсус[117]. Теория «полей» Пьера Бурдьё также возникает в контексте критики доминирующей парадигмы социологии[118]. Модели докапиталистического общества, основанного на даре и контрдаре, он противопоставляет модель капиталистического общества, в котором агенты борются за монополию научного авторитета, «определяем[ого] как техническая способность и – одновременно – как социальная власть»[119]. На практике научное поле – «это всегда место более или менее неравной борьбы между агентами, которые неравным образом наделены специфическим капиталом и которые, следовательно, неравны с точки зрения способности осваивать продукцию научного труда (а также в некоторых случаях внешние прибыли, такие как экономическое или чисто политическое вознаграждение), которую производит в результате объективного сотрудничества совокупность конкурентов, применяющая совокупность имеющихся в наличии средств научного производства»[120].
Научное поле есть социальное пространство, относительно автономное от других социальных полей. Его динамика зависит от распределения трех видов капиталов: социального (определяемого протяженностью наличной сети знакомств), культурного (образованного совокупностью накопленных научных знаний) и символического (капитал признания и доверия). В данном ключе стратегии исследователей, касающиеся, например, выбора предметов изучения и мест опубликования результатов, понимаются как инвестиции, предвосхищающие (сознательно или неосознанно) вероятность получения символической выгоды, выражаемой в различных формах признания (престижные должности, премии и т. д.). Такая оценка шансов в каждый момент времени зависит от объема и структуры (т. е. состава) наличного капитала. Знание «смысла игры» (и смысла риска) в науке приобретается благодаря социализации (университетскому образованию и практическому опыту). Социализация формирует особый научный габитус, который представляет собой совокупность длительных диспозиций, составляющих систему специфичных для каждой науки практических схем, важной частью которых являются неявные знания.
Поскольку габитус в значительной мере определяется исходной социальной траекторией, возникает вопрос об отношениях между социальным происхождением и выбором карьеры. Известно, например, что в Германии начала века социальное происхождение физиков было более высоким, чем происхождение химиков, и что они чаще имели классическое образование[121]. Схожим образом социологические исследования научно-исследовательских лабораторий показали, что социальное происхождение исследователей обычно выше, чем у техников[122]. Существует также связь между, с одной стороны, иерархией дисциплин и, с другой стороны, иерархией социального происхождения исследователей[123] и их политическими взглядами[124], а также между социальным происхождением и выбором предметов для изучения[125].
Рассматривая «научное признание» в качестве особой формы символического капитала, теория поля позволяет единообразно рассматривать различные аспекты научной практики. Например, роль социальных сетей в механизмах признания может пониматься как эффект соотношения между различными видами капитала. Цикл производства и признания (см. рис. III.2, с. 60) становится также циклом образования, обращения и конверсии накопленных исследователем капиталов. Признание коллег порождает символический капитал, который, в свою очередь, дает доступ к материальным ресурсам (инструменты) и экономическим ресурсам (прием на работу ассистентов, покупка материалов и т. д.). А обладание ресурсами увеличивает шансы важных открытий, создающих еще больше символического капитала (почетные отличия) и социального капитала (полезные отношения в научном поле или в других социальных полях). Известно, например, что лауреатами Нобелевской премии часто становятся исследователи, которые учились у других лауреатов Нобелевской премии или в престижных и центральных, для научного поля, институциях Это доказывает, что схемы восприятия и оценивания того, что представляется важным, т. е. те схемы, которые и диктуют возможные стратегии, во многом связаны с процессом научной социализации[126].
Понятие «относительной автономии» поля подразумевает, что поле есть историческая структура, большая или меньшая автономия которой в данный момент ее истории есть результат всей предыдущей борьбы. Эта борьба была направлена на то, чтобы отграничить поле науки от других социальных полей (в частности, религиозного и политического). Различные дисциплины также возникают в результате процесса дифференциации и, следовательно, автономизации внутри глобального научного поля[127]. Модель Бурдьё предполагает, что «определение цели научной борьбы является составной частью целей научной борьбы, а доминирующими становятся те, кому удалось навязать такое определение науки, согласно которому наиболее полноценное занятие наукой состоит в том, чтобы иметь, быть и делать то, что они имеют, чем они являются или что они делают»[128]. Таким образом, модель Бурдьё делает возможным единообразный анализ того, как изменяются во времени сами критерии научности. Вместо того чтобы рассматривать эпистемологию науки как данность, этот конфликтный подход к научной динамике, напротив, предполагает, что она может стать целью борьбы в научном поле между группами, использующими разные критерии научности. Например, сторонники гомеопатии критикуют основанные на сложных статистических методах клинические тесты, поскольку в отличие от современной медицины, имеющей дело лишь с болезнью, их подход рассматривает индивида в его целостности[129]. В этом споре речь идет о самом определении науки.
Социальная стратификация и научная производительность
Поскольку распределение научного капитала между исследователями не является однородным в силу их неравной способности совершать оригинальные научные открытия, с необходимостью возникает социальная стратификация, которая задается динамикой научного поля. С конца 1920-х годов известно, что производительность, измеряемая числом публикаций, сильно сконцентрирована: меньшинство ученых производит большинство публикаций. Так называемый закон Лотки, который часто для краткости резюмируют как «20 на 80», описывает частоту распределения публикаций по формуле N(p) = С/р2, где N(p) – число исследователей, у которых р публикаций. Так, если одну публикацию имеет число С исследователей, то по две публикации имеет уже одна четвертая от этого числа (С/4), а по три – только одна девятая (С/9). Кривая подобной формы, которую в социальных науках называют «распределение Парето», работает для разных случайных величин, таких как зарплата, население городов[130] и т. д. Как показано на рис. III.3, схожий характер имеет распределение цитирования (ссылок на опубликованные статьи), как и распределение полученных исследователями субсидий. Как видно на том же рисунке, кривые финансирования и ссылок приближаются к отношению 20/80, в то время как кривая статей менее концентрирована (20/60). Это доказывает, что научное признание распределено еще более неравномерно, чем производительность исследователей.
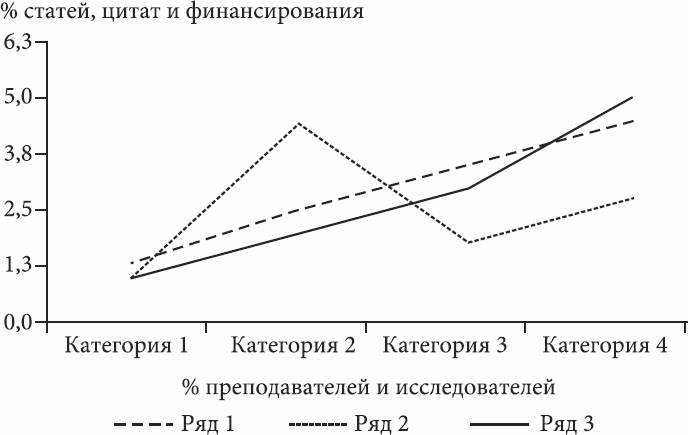
РИС. III. 3. Распределение субсидий, публикаций и ссылок среди исследователей
ИСТОЧНИК. Lariviere V., Macaluso В., Archimbauld E., Gingras Y. Which Scientific Elites? On the Concentration of Research Funds, Publications and Citations // Research Evaluation. 2010. Vol. 19. No. 1. P. 45–53.
Изучению социальной стратификации исследователей и научных институций посвящены многие работы, целью которых было выявить эффект производительности, пола и институционального положения на научное признание. В целом эти работы предлагают эмпирический и количественный анализ, чаще всего основанный на выборках величиной от нескольких сотен до чуть более тысячи исследователей. Чтобы произвести статистический анализ и определить относительный вес переменных, необходимо сначала построить показатель научного признания, который может впоследствии быть рассмотрен как зависимая переменная в регрессионной модели с несколькими независимыми переменными, объясняющими значения переменной «научное признание». Объяснительных переменных может быть a priori очень много, и их различные комбинации используются в многочисленных исследованиях, посвященных этому вопросу. Так, были проанализированы влияние размера и престижа кафедры, к которой приписаны исследователи, тип научной специальности, профессиональный возраст, продуктивность исследователя и т. д. Начиная с 1980-х годов многочисленные исследования были посвящены изучению возросшей роли женщин в научном сообществе. Они показали, что их научная производительность ниже в сравнении с мужской, а их положение часто маргинально в академической иерархии[131].
В целом результаты количественного анализа социальной стратификации показывают, что производительность исследователей сильно коррелирует с «научным качеством» их работ. Работы братьев Стивена и Джонатана Коулов доказывают, что большинство ученых либо «болтливы» (продуктивны и цитируются), либо «молчаливы» (мало продуктивны и мало цитируются)[132]. Их исследования также показывают тесную связь между качеством работ ученых и признанием (измеряемым полученными премиями и престижными должностями). Поскольку производительность распределена очень неравномерно, из этого следует, что признание сконцентрировано среди меньшинства исследователей, составляющих научную элиту[133].
ВРЕЗКА 3. АНАЛИЗ ЦИТИРОВАНИЯ
Развитие методов количественного анализа в социологии науки совпадает с возникновением нового инструмента, часто используемого в качестве показателя «научного качества» в регрессионных статистических моделях: индекса научного цитирования (Science Citation Index). Эта база данных была создана в середине 1950-х годов Юджином Гарфилдом[134] и выпущена на рынок в начале 1960-х основанным им Институтом научной информации (Institute for Scientific Information). В индексе научного цитирования содержатся не только имена авторов, названия статей и журналов, в которых они опубликованы, но также полные библиографические списки. Именно наличие библиографических ссылок делает его уникальным инструментом в сравнении с другими базами научных публикаций. Индекс цитирования позволяет быстро составить библиографию по любой теме благодаря возможности найти более поздние тексты, которые ссылаются на ту или иную работу. Он позволяет также подсчитать, сколько раз та или иная статья была процитирована другими статьями. Подсчет ссылок со временем превратится в количественный показатель «научного импакта» публикаций исследователя. Базовая идея этого показателя в том, что чем чаще статью цитируют, тем важнее она для исследователей в данной области. Science Citation Index быстро стал удобным инструментом для тестирования различных гипотез, в частности касающихся механизмов научного признания в мертоновской социологии науки. Так, выяснилось, что существует большая корреляция между научным признанием (измеряемым престижем полученных премий) и числом полученных ссылок. На основании этого цитирование стало единственным показателем меры научного признания, в частности благодаря простоте использования индекса научного цитирования (SCI). У SCI не было конкурентов на рынке до 2004 г., когда появилась база данных SCOPUS – похожий продукт, выпущенный издательской группой Elsevier. Преимущество этих баз данных состоит в том, что они позволяют также осуществлять количественный анализ трансформаций различных дисциплин на протяжении многих десятилетий[135].
Количественный анализ научной деятельности быстро выявил крайне неэгалитарный характер науки, так как меньшинство ученых получает львиную долю премий, ресурсов и ссылок (см. рис. III.3., с. 70). Такая стратификация совместима с нормой универсализма, которая требует, чтобы признание являлось результатом научных заслуг, однако эта система не является полностью «меритократической». Выяснилось, что существует значительное соответствие между полученным признанием и престижем институции, с которой аффилирован исследователь, а также престижем того места, где он получил степень доктора. Результаты этих исследований предполагают также влияние социальных сетей и, следовательно, социального капитала на получение научного признания и символического капитала. Основываясь на работах Гарриет Цукерман о нобелевских лауреатах, Мертон выявил механизм накопления преимуществ, который он назвал «эффектом Матфея» с отсылкой к стиху Евангелия, в котором апостол утверждает: «ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет»[136]. Схожим образом даже при одинаковой «ценности» открытия большее признание, в сравнении с новичком, за вклад в науку получит ученый, который уже известен. Если одно и то же открытие сделано двумя исследователями, один из которых известен, а другой – нет, то признание и даже авторство открытия будет приписано скорее первому, чем второму. Этот простой механизм накопления преимуществ функционирует по принципу ссудного процента и, таким образом, лишь усугубляет неравенство во времени, так как самая незначительная разница между двумя исследователями в начале карьеры превращается со временем в важное различие. Этот механизм выражается старой формулой «одалживай лишь богатому» и встречается не только в науке, но и во многих других социальных сферах[137].
Сосредоточив внимание на накопленном преимуществе, Мертон опустил вторую часть библейского стиха, согласно которой у того, кто имеет мало, будет отнято и то малое, что он имеет. Поскольку здесь работает иная логика, нежели в первом случае, американка Маргарет Росситер предложила новое понятие – «эффект Матильды». Выбрав для него женское имя, она хотела подчеркнуть, что женщины особенно редко получают вознаграждение за свои труды, и даже случается, что их за эти научные труды наказывают[138]. С мертоновской точки зрения, эффект Матфея есть форма партикуляризма, противоречащая норме универсализма. Его проявления на индивидуальном уровне дисфункциональны, ибо он производит у непризнанного исследователя чувство несправедливости. Но так как этот эффект глубоко укоренен в социальной системе науки, Мертон делает вывод, что в конечном счете его воздействие является позитивным в рамках всего сообщества, потому что этот эффект позволяет быстрее распространять новость об открытии. И в самом деле, потребуется больше времени, чтобы научное сообщество приняло открытие, сделанное неизвестным ученым, чем если бы оно было сделано ученым признанным. Хотя этот функционалистский аргумент кажется неубедительным, эффект Матфея является вполне реальным, и его существование может быть объяснено в рамках других подходов в социологии науки[139]. Эффект Матфея в действии наблюдается в споре о приоритете, который мы упоминали выше, когда физик Йоханнес Штарк приписал формулу Е = mс2 Максу Планку, хотя она уже была опубликована Эйнштейном. Впрочем, тот факт, что сообщество физиков установило приоритет Эйнштейна, показывает, что этот механизм не фатален и что в динамике научного признания участвуют и другие силы. Возможно, тот факт, что Эйнштейн остался продуктивен в научном плане после 1905 г., и позже сыграл в его пользу. Можно предположить, что если бы Эйнштейн ничего не опубликовал после 1905 г., авторство этого уравнения могло быть приписано Планку.
Накопление преимуществ касается не только индивидов. Мы его обнаруживаем также на уровне институтов, стран[140] и даже научных журналов[141]. Ведь открытию, совершенному в стенах известного университета, приобрести признание намного легче, чем если бы оно исходило из периферийной институции[142].
Тот факт, что место публикации влияет на заметность работы, играет роль также при выборе языка написания статьи. Все более частое начиная с 1970-х годов использование английского языка учеными, для которых он не является родным, не что иное, как следствие поиска признания. С одной стороны, все более явное доминирование англоязычных журналов почти по всем научным дисциплинам заставляет авторов использовать этот язык для публикации своих работ, т. е. писать по-английски, что только усиливает центральное положение этих журналов. С другой стороны, в русле общего тренда интернационализации науки национальные дисциплинарные журналы, которые до сих пор выходили на языке страны своего издания, принимают все больше статей на английском, чтобы увеличить свою заметность на рынке журналов и привлечь важные публикации. Во Франции, например, «Journal de Physique», который еще в 1970 г. публиковал мало статей по-английски, стал, несмотря на французское название, практически полностью англоязычным в течение 1980-х годов. Сфера научного обращения таких языков, как немецкий или русский, также сокращается после 1970 г. в связи с языковой гомогенизацией в научном поле, которое становится все более глобализованным[143].
В естественных науках научные публикации в наши дни часто имеют несколько авторов, и их содержание приписывается не первому, а самому известному среди них независимо от его положения в списке. Порядок имен в публикациях следует сложному набору правил, которые меняются в зависимости от дисциплины и обеспечивают признание вклада каждого автора, тем самым сглаживая неравенство. В самом деле, во многих дисциплинах были созданы механизмы, имеющие целью компенсировать эффект Матфея[144]. Чтобы на оценку статьи не влияло имя и институциональная принадлежность, большинство научных журналов не открывают имена и адреса авторов до того, как другие исследователи оценят содержание рукописи. Хотя эта практика является широко распространенной, она становится объектом критики со стороны исследователей, по мнению которых репутация автора, напротив, позволила бы сэкономить время на рецензирование. Таким образом, они подтверждают идею Мертона о в целом функциональном характере эффекта Матфея, который позволяет оценить важность статьи быстрее, если известны предыдущие работы автора. Но ничто не обязывает социологов выносить вердикт, является ли такая практика оправданной с точки зрения функционирования науки, ведь здесь мы сталкиваемся скорее с оценочной или этической стороной вопроса, нежели с объяснением практик. Как социологи мы можем ограничиться анализом наблюдаемых стратегий акторов в рамках той или иной объяснительной модели, которая не обязательно должна быть функционалистской.
IV. Социальные детерминанты научного знания
Сосредоточив внимание на нормативных, институциональных и организационных аспектах научного исследования, социология в 1950-е и 1960-е годы оставила в тени вопрос о том, в какой мере социальные и культурные факторы детерминируют (или по меньшей мере влияют на) содержание знаний, включая эксперименты, проблемы, теории, концепты, инструменты и их возникновение в некоторой точке пространства и времени. Этому вопросу было посвящено немало важных работ в первой половине XX в. в связи с развитием «социологии знания».
Это социологическое течение берет начало в теории идеологий Карла Маркса. В «Нищете философии», вышедшей в 1847 г., Маркс доказывал, что идеи и категории мышления суть продукты общественных отношений, а значит, имеют исторический и преходящий характер. Позже Эмиль Дюркгейм, заложивший основы социологии знания, не разделял столь строгой точки зрения на детерминирующую роль материальных и экономических условий. Он доказывал, в пику философам-эмпирикам и априористам (кантианцам), что самые фундаментальные категории мышления являются продуктом общественных структур[145].
Выражение «социология знания» было предложено философом Максом Шелером. В начале 1920-х годов, отталкиваясь от идей Конта и Дюркгейма, он развивает мысль о том, что формы знания (религиозное, метафизическое и позитивное, или научное) находятся в прямом отношении с типами личности (священник, мудрец, ученый) и с типами социальной и институциональной структуры (церковь, школа, научное сообщество)[146]. Показывая ограничения шелеровского подхода, социолог Карл Мангейм полностью историзирует формы и содержание знания, которые для Шелера были статическими и идеальными. Мангейм дистанцируется также от марксистского прочтения истории, все сводящего к экономике, и предлагает анализировать «все факторы существующей социальной ситуации, которые могут повлиять на мышление»[147].
Как и теория Шелера, теория Мангейма, связывающая идеальные типы мышления с отдельными социальными группами, страдает от излишнего схематизма. Типологический подход используется также Флорианом Знанецким, который в начале 1940-х годов анализирует социальные роли ученых[148]. Наконец, примерно в то же время Эдгар Цильзель предлагает историко-социологическую концепцию развития современной науки, связывающую ее возникновение с появлением в эпоху Возрождения нового типа социального актора. Последнего характеризует сочетание практических и теоретических знаний, носителями которых в предшествующие эпохи были разные социальные группы[149].
В целом данные подходы в социологии знания мало интересовались естественными науками и математикой, поскольку наделяли эти типы знания универсальным значением, не зависящим от породившего их социального контекста. В лучшем случае социальный контекст действует как благоприятный фактор или, напротив, как фактор, препятствующий научным открытиям, а предметом социологии могут выступать только носители знания.
В середине 1930-х годов польский врач и бактериолог Людвик Флек подверг эти подходы критике, поскольку они, по его мнению, демонстрируют «излишнее почтение, почти обоготворяющее научный факт». В пионерском труде по социологии научного знания он предлагает анализ формирования знаний при помощи понятий «мыслительный коллективизм» (denkkollektiv) и «стиль мышления», аналогичных дюркгеймовским понятиям «социальная группа» и «коллективные представления»[150]. Вышедшее в 1935 г. на немецком языке, это произведение не было замечено сразу. Его перевели на английский лишь в 1975 г., а на французский – в 2005 г. Такое запоздалое признание помешало ему оказать реальное влияние на развитие социологии научного знания, возникшей в начале 1970-х годов под прямым влиянием трудов Томаса Куна. Впрочем, Томас Кун был единственным, кто среди философов или социологов науки сослался на Флека, и мы находим след интуиций этого автора в куновских понятиях парадигмы и научного сообщества[151].
Наиболее систематические попытки связать развитие наук с тем социальным, идеологическим и экономическим контекстом, в котором они возникают, имели место в марксистской традиции. В учебнике по социологии, опубликованном в 1921 г., Николай Бухарин так резюмирует марксистский анализ науки: «Содержание науки определяется в конечном счете технической и экономической стороной общества»[152]. Кроме того, «классовые черты тоже проглядывают в науке в разных формах», а «способ мыслить, „интерес“ и т. д. определяются в свою очередь экономической структурой общества»[153].
Данный метод анализа развития наук будет применен на конкретном материале русским физиком Борисом Гессеном, который опубликовал влиятельный текст о «социально-экономических корнях механики Ньютона». Вместе с Бухариным Гессен входил в советскую делегацию на Втором международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне в 1931 г., где он и представил свою работу. Гессен выбрал анализ важнейшего научного труда Ньютона, воплощающего идеал «чистой науки», «в противовес сложившейся в литературе традиции представлять Ньютона как олимпийца, стоящего выше "низменных" технических и экономических интересов своего времени и парящего только в высотах абстрактного мышления»[154]. Рассмотрев вкратце содержание трех книг, составляющих «Начала», Гессен приходит к выводу о «полно[м] совпадени[и] физической тематики эпохи, выросшей из потребностей науки и техники, с основным содержанием „Начал“…»[155].
Этот анализ социально-экономических причин развития и ограничений науки XVIII в. появляется в контексте мирового экономического кризиса. Он окажет огромное интеллектуальное влияние на работы целой плеяды в первую очередь британских, но также американских ученых, показавших связи между наукой и обществом. Пионерским для данного направления стало произведение британского кристаллографа Джона Д. Бернала «Социальные функции науки», изданное в 1939 г.[156]
Марксистская социология науки также найдет выражение на страницах издаваемого с 1937 г. журнала «Science and Society», ставшего трибуной для интеллектуалов, критикующих капиталистическое общество, переживавшее тогда глубокий кризис. Именно в этом журнале Мертон опубликует в 1939 г. работу об отношениях между наукой и экономикой в XVII в. Отметая марксистский тезис о том, что «экономические факторы являются единственными детерминантами прогресса науки», как излишне категоричный, Мертон считает вполне убедительной идею того, что «научная тематика» может быть «в значительной степени определена социальной структурой». Под влиянием идей Гессена он применяет его подход к анализу сообщества английских ученых XVII в. На основании количественного тематического анализа содержания статей, вышедших в журнале Лондонского королевского общества («Transactions») в 1661–1662 гг. и 1686–1687 гг., Мертон показывает, что от «40 % до 70 % исследований могут быть включены в рубрику "Чистая наука", а от 30 % до 60 % в рубрику "под влиянием практических требований"»[157]. Этот анализ взят из его докторской диссертации по социологии «Наука, техника и общество в Англии XVII века», опубликованной в 1938 г. Речь идет об основополагающем произведении, в котором Мертон рассматривал, как мы это уже видели в гл. I, вопрос о роли религии в развитии наук[158].
В 1930-е и 1940-е годы такие авторы, как Бенджамин Фаррингтон[159], Франц Боркенау[160] и Джозеф Нидэм[161], использовали марксистский подход для объяснения особенностей науки в разные эпохи. Даже математика не была обделена вниманием. В 1942 г. все в том же журнале «Science and Society» вышла статья математика Дерка Стрейка, в которой он предложил программу социологии математики, изучающей «влияние форм социальной организации на появление и развитие математических методов и концепций в социальных и экономических структурах определенного периода»[162]. Наконец, астроном и марксистский историк астрономии Антон Паннекук проанализировал с опорой на исторический материализм научный спор вокруг планеты Нептун. Паннекук отмечал, что британские, французские и американские астрономы по-разному отнеслись к предсказанию существования этой планеты, сделанному французским астрономом Урбеном Леверье. Только французы сделали из Леверье героя науки. Паннекук объясняет это различие состоянием социальной и идеологической борьбы в Европе в середине XIX в. В этом контексте открытие Леверье стало символом победы разума и духа научного прогресса над традицией и религиозным консерватизмом, в то время как данная проблема не была настолько острой в Англии или в США[163].
Всерьез принимая влияние социоэкономического и идеологического контекста на динамику знаний, эти работы тем не менее не оспаривают объективность научных результатов, в отличие от социологии научного знания, которая сложится позже, в начале 1970-х годов. Исследователи марксистского направления изучают возникновение, скорость развития и принципы отбора исследовательских проблем. Этот макросоциологический и исторический подход выйдет из употребления после Второй мировой войны. На смену ему придут, с одной стороны, интеллектуальная история идей, равнодушная к социальному контексту, а с другой – социология наук, которая ограничивает свой анализ социальными и институциональными условиями научной деятельности.
Закат социологии знания и марксистской традиции анализа наук объясняется конвергенцией многих факторов. В теоретическом плане выявленные этим анализом отношения между социальным контекстом и содержанием наук оставались слишком схематичными и даже смутными. Мангейм, как и его предшественники, говорит «в согласии с требованиями эпохи» о соответствии между идеями и социальными позициями, о перспективах изучения «структурных отношений между группами», о понятиях, «зависящих» от определенных фактов реальности и т. д. В марксистской традиции принято говорить о том, что идеи (надстройка) «отражают» социоэкономическую инфраструктуру (базис). Всем этим терминам, используемым для преодоления излишне прямолинейного понимания причинности, все же недостает четкости. В середине 1940-х годов Мертон предложит их критический разбор, знаменующий переход от «социологии знания» к «социологии науки», а точнее к социологии ученых и их институтов[164]. В идеологическом плане послевоенный климат в США, где институционализировались история и социология науки, не был благоприятен для марксистских идей. На становление истории науки повлияли идеи Александра Койре, который очень враждебно относился ко всякому социальному объяснению науки, а социология науки находилась под влиянием Мертона[165].
Вследствие изменения социального контекста в 1960-е годы у нового поколения социологов вновь появился интерес к социологии знания. Правда, эти социологи исходили уже из релятивистской философии знания, которая настаивала на случайном характере знаний, даже «самых научных».
Научные парадигмы, кризисы и революции
Хотя работы Томаса Куна были написаны в русле интеллектуальной истории идей, его «Структура научных революций», изданная в 1962 г., даст импульс в начале 1970-х к развитию новой социологии наук. Кун открыл путь для социологического прочтения истории наук, предложив понятие «научная парадигма», объединяющее в себе когнитивные и социальные аспекты производства знания[166].
Согласно Куну, научные исследования проводятся в рамках парадигмы. «Нормальной наукой» он называет обычную практику ученого, который стремится расширить поле применения парадигмы. Парадигма устанавливает общую теоретическую рамку, а также методы, техники и аргументы, которые научное сообщество считает допустимыми и образцом для которых служит ряд типичных примеров. Практика нормальной науки неизбежно сталкивается с «аномалиями», т. е. с феноменами, которые не могут быть объяснены в рамках данной парадигмы, и их накопление приводит к «кризису», который разрешается возникновением новой парадигмы. Согласно Куну, научные революции, определяемые как переход от одной парадигмы к другой, совершаются не только на основании рационального научного выбора. Кун концентрируется на великих научных революциях, которые производят радикальное изменение того, что можно назвать макропарадигмами. Типичный пример – переход от геоцентрической модели мира в астрономии Птолемея и физике Аристотеля, согласно которой неподвижная Земля находится в центре мира, к гелиоцентрической концепции Коперника, ставящей Солнце в центр Солнечной системы, превращая, таким образом, Землю в обычную планету. Это создает потребность и в новой физике, которая начнется с Галилея и Ньютона[167]. В научной жизни случаются и микрореволюции, когда отвергается более локальная парадигма. Например, открытие бактерии Helicobacter pylori в 1980-е и 1990-е годы поставило под вопрос принятую ранее интерпретацию основной причины язвы желудка[168]. Это открытие принесло Нобелевскую премию по медицине его авторам в 2005 г.
Несоизмеримость противостоящих друг другу парадигм не позволяет, согласно Куну, сделать выбор, основанный только на научных данных, как того требует господствующая позитивистская традиция. В отсутствие решающих «внутренних» причин принятию той или иной парадигмы могут способствовать социальные и идеологические факторы. Говоря в целом, кризис открывает дорогу «внешним» влияниям, в то время как нормальная наука следует своим «внутренним» законам.
До Куна в философии науки было принято различать внутренние и внешние факторы развития. Это разделение становится менее жестким с выходом книги Куна, подтолкнувшей к мысли в том, что социология может интересоваться также концептуальным содержанием наук, а не ограничиваться институциональным контекстом, диктующим выбор предметов исследования, как это делала до сих пор мертоновская социология науки. В этом смысле, даже если модель Куна остается в основном интерналистской (кризисы порождаются развитием нормальной науки, управляемой парадигмой, а не политическим или социальным контекстом), связь между сообществом (социальным) и парадигмой (когнитивной) открыла путь к новой рефлексии об отношениях между социальным контекстом и содержанием научных исследований.
В пионерской работе по социальной истории наук студент Куна Пол Форман развивает идею о роли социального контекста в периоды научного кризиса и перехода между двумя парадигмами. Рассматривая в качестве примера кризис детерминизма, порожденный открытием квантовой механики в 1920-е годы, он попытался показать, что отказ от детерминизма среди немецких ученых был связан не с содержанием новой физики, но скорее являлся прямым ответом интеллектуальному и социальному кризису Веймарской республики. В качестве реакции на поражение Германии в Первой мировой войне возникло интеллектуальное течение, оспорившее тезис, что наука непременно ведет к прогрессу. Принимая недетерминистский характер новой науки, ученые тем самым отвечали на внешнюю критику позитивистской концепции науки, которая, как многие тогда считали, привела Германию к поражению. Напротив, британские физики восприняли философский дискурс об индетерминизме новой физики без столь сильного энтузиазма, как их немецкие коллеги, поскольку, как отмечает Форман, они не испытывали схожего социального давления[169]. Можно возразить, что здесь анализируется не столько техническое «содержание» квантовой механики, скорее философская интерпретация формальной теории[170], которая никем не ставится под сомнение. Тем не менее представляется справедливым общий вывод из этого исследования, возвращающий нас к идее, что культурный контекст может влиять на выбор ученых. С тех пор появились работы, которые показали, что философские убеждения могут повлиять даже на выбор базовых уравнений теории[171]. Вместе с тем, включая философские концепции в более широкую «культурную и социальную» категорию, подобные исследования фактически сближаются с традиционными философскими концепциями. Например, историк Джералд Холтон[172] полагает, что научные теории всегда находятся под влиянием философских и метафизических a priori. Впрочем, в социальных исследованиях науки проводится различие между a priori этого рода и «социальным», в обычном смысле слова.
Социальные и когнитивные интересы
Один из путей социологизировать анализ Куна состоял в расширении понятия интереса за пределы социальной, политической и идеологической сфер благодаря включению в него когнитивных и технических аспектов. «Социология интересов», возникшая в начале 1970-х годов, основывается на идее, что действия ученых детерминированы целями, которые они себе ставят, и интересами, которые они защищают[173]. Объяснение их действий, таким образом, предполагает идентификацию целей, а также социальных и когнитивных интересов, с которыми эти цели связаны. В научную практику вовлечены интересы самого разного рода. Стремление сохранить ту или иную парадигму может способствовать развитию определенных технических навыков или использованию особых теорий и инструментов, свойственных данной парадигме. Интересы могут определяться социальными, политическими и идеологическими позициями, также оказывающими влияние на теоретический и практический выбор ученых. С этой точки зрения ничто a priori не позволяет разделить «внутренние» и «внешние» факторы, которые становятся просто условными обозначениями. Как те, так и другие играют каузальную роль в определенном контексте. Как отмечает один из теоретиков данного направления Барри Барнс, «в зависимости от изучаемого кейса, эти общие цели и ресурсы могут быть присущими как непосредственному контексту научной субкультуры, так и обществу в целом. Исследовательский процесс может быть понят, принимая в расчет узкие профессиональные интересы, или же он может быть объяснен более общими социополитическими интересами. Но в обоих случаях объяснение того, как интересы структурируют выводы и суждения, формально остается одинаковым». Так, согласно Барнсу, всегда имеются цели и интересы, которые «направляют умозаключение и суждение в определенное русло и помогают, таким образом, понять появление тех или иных знаний»[174]. С его точки зрения, анализ Паннекуком открытия планеты Нептун, о котором мы говорили ранее, полностью соответствует этой объяснительной модели[175].
Учитывая, что список возможных влияний остается открытым, а их присутствие в отдельно взятом случае не определено a priori, становится понятно, что предпочтительным методом социологии научного знания является кейс-стади, который позволяет подробно изучить действие тех или иных сил в конкретном случае. Эта методология близка подходу, используемому в социальной истории наук, которая берет для изучения отдельные эпизоды в развитии науки и рассматривает социальный контекст в качестве одного из объяснительных факторов поведения ученых. Социология интересов в значительной степени обязана своим успехом тому факту, что она предоставляет аналитическую рамку, применимую к любому кейсу в истории наук[176]. По большому счету, речь идет о том, чтобы, подобно историкам, выделить многообразные факторы (когнитивные, социальные, политические, религиозные и т. д.), объясняющие, почему одна группа акторов защищает позицию А, а другая группа – позицию Б, не ограничиваясь a priori «рациональными» причинами, выдвигаемыми в идеалистической концепции науки. Наконец, согласие выражает консенсус между учеными, достижимый в силу совпадения их интересов[177].
Исследование Дональда Маккензи, посвященное спору между британскими статистиками Пирсоном и Юлом о мере взаимосвязи двух переменных, дает хороший пример социологии интересов. Анализ проходит в три этапа. В первую очередь Маккензи определяет то, что он называет, вслед за Хабермасом[178], «когнитивными интересами» двух протагонистов. В этом случае их интересы частично совпадают, поскольку оба стремятся создать новый показатель корреляции между двумя номинальными переменными, желая тем самым расширить поле применения статистики. В терминах Куна, поскольку оба являются статистиками, их объединяет «интерес» – содействовать развитию статистической парадигмы. Однако интересы этих ученых расходятся в других аспектах, связанных с постановкой задачи. Этим и объясняются различия в предложенных ими методах измерения корреляции между переменными. На втором этапе исследования устанавливается связь этих когнитивных различий с различиями социальными: когнитивные интересы Пирсона во многом определяются тем, что он является сторонником евгеники, в то время как Юл не разделяет этой идеологии и, соответственно, интересов Пирсона. Наконец на третьем этапе Маккензи показывает, что различие в восприимчивости к евгенике связано с классовым положением обоих статистиков: Пирсон является выходцем из новой мелкой буржуазии, имеющей восходящую социальную траекторию и одобряющей идеи евгеники, а Юл – член приходящей в упадок традиционной элиты, скорее враждебно настроенной по отношению к евгенике и к технократическим идеологиям. Таким образом, заключает Маккензи, «можно сказать, что при „посредничестве“ евгеники разные социальные интересы косвенно повлияли на развитие статистической теории в Великобритании»[179]. В качестве другого примера исследований этого рода можно упомянуть много обсуждавшийся в литературе анализ Джона Фарли и Джеральда Гейсона роли идеологических, религиозных и политических интересов в известном споре между Луи Пастером и его соперником Феликсом-Архимедом Пуше о вопросе самозарождения жизни в середине XIX в.[180]
Подобные исследования часто принимают форму исторической социологии, беря в качестве объекта некоторый, довольно удаленный во времени, эпизод из жизни науки. В методологическом плане они основываются на архивах и письменных документах. Во многих аспектах они стыкуются с марксистской социологией наук 1930-х годов, о которой мы говорили выше. Так, социология интересов устанавливает прямую или косвенную связь политических и идеологических интересов исследователей с их научными позициями. Кроме того, она одновременно рассматривает как социальные детерминанты создания знаний, так и их социальное использование за пределами научного сообщества[181]. Разница между этими направлениями скорее эпистемологическая, чем методологическая, так как релятивисты настаивают на том, чтобы не отделять «социальное» от «когнитивного», даже если на практике это не влияет на объяснительный нарратив: то, что релятивист назовет «социальным», рационалист сочтет «когнитивным». Наконец, детали этих кейс-стади часто подвергались суровой критике, ставящей под сомнение многие аспекты предложенных исторических реконструкций[182].
Другие исследования конструктивистского типа концентрируются скорее на недавних или все еще не разрешенных эпизодах, продолжающих быть предметом научных споров. Их предпочтительными методами являются анализ научных публикаций и интервьюирование центральных участников споров. Идет ли речь о существовании кварков[183], гравитационных волнах[184], обнаружении солнечных нейтрино[185] или о построении научного факта в отдельно взятой лаборатории[186], эти исследования имеют ограниченную пространственно-временную рамку и включают в анализ небольшое число акторов. Понятие интереса в тех случаях, когда оно используется, отсылает в основном к когнитивным, техническим и материальным аспектам, понимаемым как составные части локальной культуры данного научного сообщества, которое объединяется вокруг решаемой проблемы. «Социальное» здесь является синонимом взаимодействия между учеными. Эти исследования знаменуют в некотором роде возврат к интернализму в той мере, в какой в них доминируют технические описания и нет отсылки к социальным, политическим и экономическим силам.
«Сильная программа» в социологии наук предлагает общую теоретическую формулировку подхода «конструктивистской» социологии. В отличие от обычных социологических теорий, концепты которых относятся непосредственно к изучаемым предметам, сильная программа только провозглашает основные эпистемологические принципы, которыми должна руководствоваться любая социологическая теория знания. Иначе говоря, речь идет не о конкретной социологической теории, а о метадискурсе о природе «хорошей» социологической теории.
Согласно Блуру, всякая социологическая теория научного знания должна следовать четырем принципам. Она должна быть:
1) каузальной, т. е. определять причины, объясняющие верования и поведение ученых. Принцип каузальности в широком смысле, включающем побудительные мотивы (raisons), есть лишь формулировка принципа достаточного основания. Этот классический принцип побуждает исследователя искать причину любого явления, природного либо социального;
2) беспристрастной в отношении истинности или ложности верований, ведь объяснению должны подлежать любые представления. Принцип беспристрастности, обычный для социальных наук, просто требует объективного анализа, лишенного эпистемологических или онтологических a priori, всех аспектов изучаемых феноменов и всех вовлеченных в них акторов;
3) симметричной, т. е. использовать одни и те же типы причин при объяснении верований, которые считаются «истинными» и «ложными». Этот принцип часто смешивают с принципом беспристрастности, или нейтральности. Однако этот последний принцип является методологическим, тогда как первый – эпистемологический. Беспристрастность требует не разделять a priori точки зрения на «истинные» и «ложные», исключая первые из сферы социологического анализа. Симметрия же предполагает, чтобы «истинное» и «ложное» рассматривалось при помощи схожего инструментария; т. е. это два разных принципа;
4) рефлексивной, т. е. применимой к себе самой в качестве научной теории научного знания. Этот принцип составляет логическое условие внутренней когерентности: социология, как и другие науки, может быть подвержена социологическому анализу. Ведь, коль скоро мы стремимся избежать перформативного противоречия, теория должна быть способна применяться к себе самой.
В 1980-е годы появилось некоторое количество работ, основанных на идее рефлексивной практики социологии науки. Эти тексты отличались от обычных форм письма, стремясь сделать более заметным и явным «сконструированный» характер всякого знания, в том числе социологического. Нужно отметить, что очень скоро стала очевидной бесплодность этого подхода, выдававшего за исследование наук нарциссический анализ собственной продукции[187]. Он не внес сколько-нибудь заметного вклада в развитие знаний о динамике наук[188].
На деле только принцип симметрии стал предметом активного обсуждения в 1980-е годы. В этих дискуссиях, привлекавших в особенности философов, речь велась о релятивистских последствиях данного принципа, который, как может показаться, ставит истину и ложь на один и тот же эпистемологический и даже онтологический уровень[189]. Эти споры вызваны по большей части неоднозначностью выражения «те же типы причин». Очевидно, что речь идет не об одних и тех же причинах. Блур уточняет, что при прочих равных одни и те же причины должны производить одинаковые результаты, что не позволило бы объяснить различия между «истинными» и «ложными» верованиями. На практике принцип симметрии чаще всего интерпретировали таким образом, будто детерминирующие причины являются социальными, но не техническими, материальными или логическими. При этом сам Блур всегда настаивал на том, что бывают не только социальные причины: «Адекватная социологическая теория не может представлять знания как чистые фантазии, оторванные от нашего опыта окружающего материального мира»[190].
Микросоциология научных практик
Многочисленные научные споры показывают, что «факты» редко говорят сами за себя и часто одни и те же явления получают самые разные интерпретации. Более того, в своей практике ученые используют неявные знания, различающиеся в отдельных дисциплинах. Эти знания очень редко эксплицируются в научных публикациях, сообщающих об открытии. Только микросоциологические исследования или рефлексивный анализ собственных практик тем или иным ученым могут позволить увидеть важность неявных знаний в производстве знаний. Неудивительно, что первыми, кто привлек внимание к расхождению между реальной научной практикой и ее стилизованным бесплотным образом в философии науки, были именно ученые, размышляющие о своих исследовательских практиках. Выше мы уже упомянули работы Людвика Флека о конструировании «фактов», написанные в 1930-е годы. В 1960-е годы мы встречаем значительно больше образцов подобной рефлексии. Так, в начале 1960-х физик Фредерик Райф описывает соревновательный мир физики[191], биолог Петер Медавар показывает, что стиль представления результатов исследования в опубликованных статьях не соответствует никоим образом реальной практике[192]. В свою очередь химик Майкл Полани настаивает на важности неявных знаний в науке[193]. Все эти темы будут развиты более систематическим образом социологами науки в течение 1970-х и 1980-х годов.
Философский анализ науки обычно имеет своим объектом устоявшееся, стабилизированное знание, рассматривая споры и контроверзы как переходные этапы, которые не имеют самостоятельного значения, но интересны лишь постольку, поскольку ведут к новому консенсусу. Напротив, конструктивистская социология науки интересуется «наукой в действии», т. е. наукой в процессе становления[194]. Это направление в социологии пристально рассматривает производство знаний на различных его этапах, соответствующих процессу научного поиска, конечный результат которого заранее не известен. Такой подход позволяет увидеть, что ученые могут сомневаться в том или ином аспекте функционирования прибора либо в достоверности наблюдения. Или же, например, в отличие от философа Карла Поппера, который принимал за данность возможность многократно воспроизводить результаты, полученные другими исследователями, социологи, которые вблизи наблюдали работу ученых, показали, что на практике «воспроизведения» экспериментов редки и часто проблематичны.
С одной стороны, логика признания внутри научного сообщества такова, что никто не заинтересован в точном «воспроизведении» эксперимента, поскольку это не предполагает оригинальности, а значит, и не оставляет шанса добиться научного признания. С другой стороны, существенное изменение условий эксперимента, имеющее следствием несовпадение результатов, уже не может рассматриваться как простое его «воспроизведение». А когда сигнал, производимый изучаемым явлением, может быть обнаружен лишь на пределе (или даже за пределами) технических возможностей приборов, может возникнуть, как показал Гарри Коллинз, эффект «экспериментального регресса» (experimenters' regress). Иначе говоря, вера исследователей в существование наблюдаемых или выявляемых с помощью приборов явлений имеет круговой характер, что становится очевидным во время споров. В самом деле, исследователь, который не верит в существование некоторых явлений (передача мысли на расстоянии[195], гравитационные волны[196] или свободные кварки[197]), поставит под сомнение функционирование прибора, который их выявляет; и напротив, тот, кто верит в существование этих до той поры не наблюдаемых сущностей, примет сообщение об их открытии за правду. На уровне взаимодействия между исследователями критика работы прибора может также интерпретироваться как выражение сомнения в компетентности самого исследователя. Это ставит под удар его репутацию, на которой основывается доверие к полученным им результатам. Поскольку трудно отделить личность ученого от его научных работ, становится понятнее, как непросто бывает ему признать совершенную ошибку.
Погружаясь все глубже в микросоциологический анализ взаимодействий, некоторые исследователи, под влиянием этнометодологии, детально описывают совокупность ежедневных действий исследователей (взаимодействие с инструментами, словесные обмены с другими исследователями и т. д.), которые приводят к производству «научного факта»[198]. В отличие от социологии интересов, которая всегда стремится объяснить научный выбор, этнографические исследования ограничиваются описанием разных наблюдаемых видов деятельности и предлагают на самом деле крайнюю форму эмпиризма. Так, научные знания предстают как продукт «конструирования» исследователями, которые взаимодействуют и «ведут переговоры» со своими коллегами об интерпретации экспериментальных результатов или эмпирических наблюдений. Настаивая на «сконструированном» характере знаний, они тем самым дают понять, что знания не отражают «реальность», но просто являются продуктом различных действий ученых. На этом уровне всякая идея «социальной структуры», возвышающейся над деятельностью и ограничивающей ее извне, представляется иллюзией и овеществлением «местных», «договорных» и «случайных» взаимодействий, имеющих место hic et nunc[199] и требующих самого подробного описания.
Эти детальные этнографические описания «лабораторной жизни» хорошо показывают существующий разрыв между, с одной стороны, философскими стилизованными представлениями о научной практике как рациональной и бесплотной деятельности и, с другой стороны, сложностью повседневного процесса производства знаний, подверженного самым разным неожиданностям. Однако социологический интерес этих описаний резко уменьшается, если они не представлены частью более глобального процесса, регулирующего научную деятельность и задающего ее рамки вопреки кажущейся спонтанности научных действий. По аналогии можно задаться вопросом, что могут дать записи бесчисленных шахматных партий в отсутствие знания определенного набора правил, которому они подчиняются, несмотря на бесконечно большое число возможных комбинаций, предстающих как «случайные» в рамках каждой отдельной партии.
С целью создания единого языка описания для разнообразных микросоциологических исследований научной деятельности и в особенности ради преодоления конструктивистской склонности «растворять» всякое знание в «социальном» социологи Мишель Каллон, Джон Ло и Брюно Латур предложили в середине 1980-х годов «акторно-сетевую» теорию, оставляющую за вещами способность оказывать «сопротивление». Согласно этой теории, не «социальное» объясняет конструирование знаний, а создание «гетерогенных сетей», которые связывают воедино различные элементы, в том числе людей и «не-человеков». Общий термин «не-человеки» включает всякий объект, с которым взаимодействует человек. Этот подход представляет собой возвращение к некой форме реализма, наделяющего вещи способностью каузального действия, даже если точный статус этих «вещей» часто остается непроясненным. Может показаться, что последние существуют скорее в дискурсах и текстах, чем в реальности[200]. Впрочем, следуя семиотической терминологии, на которую опирается этот подход, следует говорить не столько об акторах, сколько об «актантах». Понятие «актор-сеть» подразумевает, что не «существует» отдельно взятых «вещей» и «научных фактов», но что своим «существованием» они обязаны объединению (agencement) в сеть «гетерогенных» элементов разной природы. Так, следует говорить не об «электрошокере», но об ассоциации «силовики – электрошокер – индивид, оглушенный электрошокером», а также о «человеке-в-кресле», чтобы подчеркнуть, что человек, связанный с креслом, – не тот же самый человек без кресла[201].
Этот подход вписывается в близкую этнометодологии микросоциологическую традицию, сохраняя ее сугубо эмпирический и описательный характер. Используемые понятия, такие как запись (inscription), вербовка (enrolement), заинтересовывание (interessement), применимы к чему угодно и позволяют описать в немногих словах любое действие как вклад в построение «социотехнической сети». Ученые рассматриваются в нем как стратегические акторы без прошлого и без ограничений, способные произвольно перемещаться по всему социальному пространству в той мере, в какой им удается строить свои сети, создавая «ассоциации» с другими вещами и людьми и «вербуя» их в свою программу[202]. «Открытие» электрона, например, было описано как эффект отношений, установленных автором открытия (Дж. Дж. Томсоном) между его лабораторией и «электронами» благодаря использованию различных ресурсов (вакуумных трубок, электрических проводов, коллег, публикаций и т. д.). Томсон создает таким образом «сеть» из людей и не-человеков (приборов, графиков и т. д.), которая делает возможным «существование» электрона внутри «социотехнической сети». Вслед за семиотической теорией, которая описывает «актанты» в текстах, акторно-сетевая теория исходит из того, что все эти «действующие лица» имеют равный статус. Не отдавая приоритета ни социальным аспектам, ни техническим, ни человеческим, ни нечеловеческим, она предлагает проследить за действиями ученых и объектов в интерактивном процессе конструирования научных «фактов»[203].
В отличие от социологии интересов, сильной программы и теории научного поля акторно-сетевой подход не постулирует никакого интереса (социального, когнитивного или другого) в качестве «двигателя» социального действия. Он ограничивается описанием взаимодействий и объединений, наблюдаемых между людьми и не-человеками, не пытаясь их объяснить[204]. Впрочем, своей популярностью этот подход во многом обязан тому, что он предоставляет язык, применимый к любому исследованию случая и позволяющий описать что угодно. Иными словами, «актор-сеть» представляет собой не столько социологическую теорию научной деятельности, сколько универсальный язык описания.
Многочисленные микросоциологические исследования научных споров имеют в своей основе различные конструктивистские концепции развития науки. Несмотря на то что их авторы чаще всего настаивают на «локальном» и «случайном» характере динамики обменов между учеными, в действительности возможно свести это кажущееся многообразие ситуаций спора к общей модели. Но сначала нужно ввести различение между «научными» и «публичными» спорами.
Типы споров. Научные споры, касаются ли они измерения заряда электрона, обнаружения гравитационных волн или любого другого предмета научного исследования, происходят в относительно закрытых пространствах, в которых действуют эксперты в данной области. В спорах принимают участие специалисты, признанные в одной или в нескольких дисциплинах (химии, физике, астрофизике и т. д.) или же в междисциплинарной области (биотехнологии, нанотехнологии и т. д.). Споры касаются широкой гаммы вопросов, включая методы, факты, гипотезы и теории. Действующие ученые чаще всего имеют более или менее схожее образование и разделяют одну и ту же научную культуру, т. е. определенный технический вокабуляр и знание неписаных правил игры. Как правило, институциональной площадкой для дискуссий служат конференции и публикации в специализированных рецензируемых журналах Рано или поздно стороны, участвующие в споре, приходят к консенсусу. Контроль над ходом дебатов обеспечивается относительным единообразием внутри научной специальности. Напротив, те ученые, взгляды которых заметно отличаются от остальных, или те, кто слишком радикально ставит под сомнение общепризнанные достижения, часто вытесняются на периферию или даже за пределы сообщества.
Трудно предвидеть длительность научного спора. Некоторые (например, спор о холодном ядерном синтезе[205]) длятся от нескольких месяцев до нескольких лет, другие же – десятилетиями (как споры о возрасте Земли[206]). Бывает, что для их разрешения требуется создание нового прибора или непредвиденное открытие каких-либо новых явлений. На практике ученые принимают результаты экспериментов в случае, если их можно повторить, даже при отсутствии теоретического объяснения, как это показывает пример открытия высокотемпературной сверхпроводимости[207]. «Экспериментальный регресс», описанный Коллинзом, может иметь место только в том случае, если явление в силу разных причин трудно поддается наблюдению и воспроизведению. Этот эффект исчезает, как только подаваемый им «сигнал» становится бесспорным в глазах большинства ученых. С этого момента отрицание явления грозит маргинализацией внутри сообщества.
Что касается публичных споров, то в них сталкиваются разнообразные акторы: группы давления, ученые, граждане, политики, компании, СМИ. Публичные споры, как правило, касаются применения и последствий устоявшихся научных знаний, но могут также относиться к знанию, которое все еще является предметом дискуссий в научном поле, в тех случаях, когда с этим знанием связана важная социальная проблема.
В отличие от участников научных споров, акторы спора публичного обладают разнородными знаниями. Их также не связывает наличие общих норм, характеризующих отдельные области науки, которые подчиняются определенному порядку и имеют высокую «плату за вход» (техническое образование, доступ к приборам и т. д.). Публичные споры, напротив, имеют слабую организацию, и потому их ход предсказать сложнее. Кроме того, в сравнении с научными спорами им в большей степени грозит перспектива затянуться или сойти со сцены, не будучи разрешенными[208]. У совокупности действующих акторов отсутствуют общие критерии оценки. Достижение консенсуса тем менее вероятно, что в спор примешиваются идеологические, политические, религиозные или моральные точки зрения, правоту которых не может определить научный метод. Наконец, в то время как научные споры разворачиваются в тесном мирке специализированных научных журналов и конференций (недоступных для «профанов»), публичные споры выходят в публичное пространство благодаря СМИ (газеты, журналы, радио– и телепередачи, интернет-сайты, социальные сети).
Аргументация в научном поле. В любой ситуации спора его участники выдвигают аргументы и контраргументы с целью защитить свою точку зрения и ослабить позиции своих оппонентов. И хотя в научных практиках существенную роль играют неявные знания, конечное представление результатов происходит в основном в письменной форме (а устная форма является переходной). Приверженцы конструктивизма обычно анализировали этот немаловажный аспект в терминах «научной риторики». При этом негативная коннотация термина «риторика» хорошо сочеталась с полемическим уклоном этого подхода[209]. Тем не менее природе научных обменов в большей степени соответствует теория аргументации[210]. В самом деле, риторический анализ фокусируется на форме дискурса (тропы) и, следовательно, на индивиде, в то время как аргументативный подход настаивает на диалогическом, а значит, на социальном характере обменов, которые всегда предполагают присутствие аудитории, пусть даже виртуальной[211]. Как писал Аристотель: «Следует также, отклоняясь от довода, пресекать дальнейшие нападки [собеседника], а отвечающий, чувствуя заранее [возражения противника], должен [их] упреждать словесными доводами»[212]. Так, в экспериментальных науках аргументы, которыми обмениваются в ходе спора, чаще всего касаются данных, процедур анализа или работы оборудования, чистоты химических материалов и т. д. В формализованных дисциплинах, как в математике и теоретической физике, аргументы относятся к достоверности аксиом или правильности доказательства[213].
Поскольку в публичных спорах целевая аудитория является разнородной, бывает сложно убедить кого-либо при помощи аргументов. В отсутствие единообразия предпосылок и критериев оценки такие споры часто становятся «разговорами глухих»[214]. В научных спорах, напротив, аудитория состоит из специалистов в данной области, что создает условия для аргументированной дискуссии. Структура научной специальности налагает свои ограничения в том, что касается легитимных форм критики, а это способствует формированию консенсуса. Вместе с тем диалог глухих между исследователями также возможен, если они занимают настолько разные теоретические позиции, что те становятся несоизмеримыми[215].
Возможные и допустимые аргументы всегда рождаются в рамках определенного состояния структуры знаний, которое само является результатом предыдущих споров. Значение времени для научной деятельности проявляется в том факте, что предложенная теория может оказаться вне горизонта возможности, заданного наличным состоянием знаний. Так, химик и философ науки Майкл Полани убедительно показал, почему его теория адсорбции газа на поверхности твердого тела была принята лишь через полвека после того, как он ее сформулировал. Она была предложена в 1914 г. и оказалась несовместимой с электрической моделью атома, разработанной в то же время. С появлением квантовой механики в конце 1920-х годов физики поняли, что силы адсорбции, предусмотренные этой теорией, согласовались с изначальными гипотезами Полани. Он пишет: «Я сомневаюсь, что моя теория адсорбции могла бы быть принята научным журналом, если бы я ее предложил на пять лет позже», так как новое изложение модели атома сразу после публикации этой статьи делало ее несостоятельной. Полани заключает, что отказ от его теории был неизбежен, «поскольку силы электричества не могли производить потенциал такого рода, который я постулировал, и никакой принцип не позволял в ту эпоху объяснить такой потенциал адсорбции»[216].
Таким образом, обладать правотой в данный момент времени означает располагать такими аргументами, которые, принимая во внимание наличное состояние экспериментальных и теоретических знаний, не могут быть оспорены убедительным образом или заменены другими аргументами, способными привлечь на свою сторону большинство ученых.
Аргументативное измерение динамики производства знания, которое можно наблюдать на микросоциологическом уровне научных обменов, естественным образом интегрируется в мезо– и макросоциологический анализ детерминантов научного знания. В самом деле, положение исследователя в рамках дисциплины или специальности и накопленный им символический капитал добавляют весомости его аргументам. Например, в споре о холодном ядерном синтезе обоим электрохимикам, утверждавшим, что они наблюдали ядерный синтез в пробирке, недоставало авторитета в глазах ядерных физиков. На макросоциологическом уровне возможно показать, что научные аргументы в пользу той или иной теории могут также получить хотя бы временную поддержку, если эта теория находит благоприятный отклик у определенной социальной группы даже несмотря на скептицизм экспертов, как, например, в случае спора вокруг возможного вирусного происхождения синдрома хронической усталости[217].
Философ Гастон Башляр, уделявший немало внимания вопросам науки, ввел понятие «процесса дискурсивного уточнения» (rectification), которое дает начало «дискурсивной объективности», находящейся под социальным контролем членов республики ученых[218]. Так, с социологической точки зрения объективность в науке есть не что иное, как синоним интерсубъективного согласия среди членов научного сообщества[219].
Научные исследования, особенно в естественных и биомедицинских науках, стали во второй половине XX в. коллективным предприятием. Больше не существует ученых, совершающих открытия в одиночку в своей лаборатории. В тот же самый период все более заметная часть публикаций стала плодом международного сотрудничества, участие в котором принимают ученые из двух и более стран. Например, французские исследователи в середине 1980-х годов сотрудничали с коллегами из 116 стран, а к середине следующего десятилетия это число возросло до 157[220]. В 2006 г. продуктом международного сотрудничества были 57,7 % швейцарских публикаций. Даже в такой автономной в научном плане стране, как США, в том же году совместно с иностранными коллегами были написаны 26,6 % публикаций[221]. Международное сотрудничество продолжает расти во всех странах. Будучи коллективным и международным предприятием, современная наука требует все больше приборов, а значит, и денег. Даже математики используют в наши дни компьютеры. Феномен «Big Science», возникший сначала в физике после Второй мировой войны, получил в наши дни аналог в биологии в связи с исследованиями генома человека. В дополнение к этим внутренним трансформациям поля науки начиная с 1980-х годов имели место важные изменения в отношениях между университетским полем и экономическим и политическим полями.
Все эти изменения вновь сделали актуальными для социологии науки нормативные вопросы[222]. Начиная с 1990-х годов также имело место возвращение социологических исследований макро– и мезоуровней, касающихся вопросов эволюции университетской науки, отношений между университетами и промышленностью, конфликтов интересов и научных подлогов[223].
Такое обновление проблематики исследований в социологии наук лишний раз напоминает нам о том, что, несмотря на определенную дисциплинарную автономию, выбор объектов, методов и масштабов анализа также отражает, в специфическом преломлении, социальные и экономические перемены. Проводя новые исследования и используя понятия, адаптированные не только к природе рассматриваемых проблем, но также к масштабу анализируемых явлений, социологи науки стремятся не только описывать, но также объяснять наблюдаемые изменения системы, в которой они сами являются заинтересованной стороной.
Бен-Давид Дж. Роль ученого в обществе. М.: Новое литературное обозрение, 2014.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри сообщества. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
Флек Л. Возникновение и развитие научного факта. м.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.
Barnes B. Interests and the Growth of Knowledge. L.: Routledge and Kegan Paul, 1977.
Barnes B. Scientific Knowledge and Sociological Theory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1974.
Ben-David J. Eléments d’une sociologie historique des sciences. P.: PUF, 1997.
Berthelot J.-M. L’Empire du vrai. Connaissance scienti-fique et modernité. P.: PUF, 2008.
Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
Bourdieu P. Science de la science et réféxivité. P.: Raison d’agir, 2001.
Brannigan A. Le Fondement social des découvertes sci-entifques. P.: PUF, 1996.
Crane D. Invisible Colleges. Difusion of Knowledge in Scientific Communities. Chicago: University of Chicago Press, 1972.
Dubois M. Introduction à la sociologie des sciences. P.: PUF, 1999.
Dubois M. La Nouvelle Sociologie des sciences. P.: PUF, 1999.
Gibbons M., Limoges C., Nowotny H., Schwartzman S., Scott P., Trow W. Te New Production of Knowledge. Te Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. L.: Sage, 1994.
Gingras Y. Propos sur les sciences. P.: Raisons d’agir, 2010.
Hagstrom W. Te Scientific Community. N.Y.: Basic Books, 1965.
Kuhn T.S. La Tension essentielle. P.: Gallimard, 1990.
La Science et ses Réseaux / M. Callon (dir.). P.: La Dé-couverte, 1989.
La Science telle qu’elle se fait / M. Callon, B. Latour (dir.). P.: PUF, 1996.
Latour B., Woolgar S. La Vie du laboratoire. P.: La Dé-couverte, 1988.
Lemaine G., Darmon G., El Nemer S. Noopolis. Les labo-ratoires de recherche fondamentale: de l’atelier à l’usine. P.: Editions du CNRS, 1982.
Martin O. Sociologie des sciences. P.: Nathan, 2000.
Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. N.Y.: Harper and Row, 1970.
Merton R.K. Te Sociology of Science. Teoretical and Empirical Investigations. Chicago: University of Chicago Press, 1973.
Perspectives on the Emergence of Scientifc Disciplines / G. Lemaine, R. Macleod, M. Mulkay, P. Weingart (eds). P.: Mouton, 1976.
Raunaud D. Sociologie des controverses scientifiques. P.: PUF, 2003.
Rosental C. La Trame de l’Evidence. Sociologie de la dé-monstration en logique. P.: PUF, 2003.
Shapin S. A Social History of Truth. Civility and Science in 17th Century England. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
Shapin S., Schafer S. Leviathan et la pompe à air: Hobbes et Boyle entre science et politique. P.: La Découverte, 1993.
Shinn T., Ragouet P. Controverses sur la science. P.: Rai-sons d’agir, 2005.
Solla Price D. de. Science et Suprascience. P.: Fayard, 1975.
Vinck D. Sciences et société: sociologie du travail scien-tifque. P.: Armand Colin, 2007.
1
Lecourt D. La philosophie des sciences // coll. «Que sais-je?». P.: PUF, 2000.
2
Thackray A. History of Science // A Guide to The Culture of Science, Technology and Medicine / PT. Durbin (ed.). N.Y.: Free Press, 1980. P. 3–69.
3
Feist G.J. The Psychology of Science and The Origins of the Scientific Mind. New Haven: Yale University Press, 2006.
4
Gilpin R. American Scientists and Nuclear Weapon Policy. Princeton: Princeton University Press, 1962; Gilpin R. Science in the Age of the Scientific State. Princeton: Princeton University Press, 1968; Salomon J.J. Science and Politique. P.: Le Seuil, 1970.
5
Science Bought and Sold: Essays in The Economics of Science / P. Mirowski, E.-M. Sent (eds). Chicago: University of Chicago Press, 2002.
6
Fuller S. Social Epistemology. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
7
Merton R.K. Foreword // Barber B. Science and Social Order. N.Y.: Free Press, 1952. P. 9.
8
Berthelot J.-M., Martin О., Collinet С. Savoir et savants. Les études sur la science en France. P.: PUF, 2005.
9
Gingras Y. Pourquoi le «programme fort» est-il incompris? // Cahiers sociologiques de Sociologie. 2000. Vol. 109. P. 235–255.
10
Жангра И. Мотив радикализма. О некоторых новых тенденциях в социологии науки и технологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 8. № 5. С. 75–98.
11
До сих пор мы переводили выражения «социология наук» и «социология науки» у автора при помощи устоявшегося в русском языке выражения «социология науки». Поскольку автор делает на этот счет специальное пояснение, мы будем с этого места придерживаться данного разграничения. – Примеч. пер.
12
Lecourt D. L’Amérique entre la Bible et Darwin. P.: PUF, 2007.
13
Мертон Р. К. Наука и социальный порядок // Вопросы социальной теории: Научный альманах. 2007. Т. I. Вып. 1; Философские и научные основания современной социальной теории / под ред. Ю. М. Резника. М.: Независимый институт гражданского общества, 2007. С. 191–207.
14
De Candolle A. Histoire des sciences et des savants depuis deux siècles. P.: Fayard, 1987. P. 188. Речь идет о пересмотренном расширенном издании 1885 г.
15
Ibid. P. 120.
16
Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990.
17
Becker G. Challenging Mertons Protestantism-Science Hypothesis: The Historical Impact of Sacerdotal Celibacy on German Science and Scholarship // Journal for the Scientific Study of Religion. 2011. Vol. 50. P. 351–365.
18
Мертон Р. К. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. С. 801.
19
Там же. С. 807.
20
Weber M. Sociologie des religions. P.: Gallimard, 2006. P. 162.
21
Токвиль А. де. Демократия в Америке. М.: Прогресс, 1992. С. 340.
22
Там же. С. 339.
23
Там же. С. 343.
24
Williamson A.W. A Plea for Pure Science. L.: Taylor and Francis, 1870.
25
Rowland H.A. A Plea for Pure Science // Science. 1883. Vol. 2. No. 29. 24 August. P. 242.
26
Вебер М. «Объективность» социально-научного и социально-политического познания // Вебер М. Избранные произведения. М.: Прогресс, 1990. С. 412–413.
27
Мертон Р. К. Наука и социальный порядок.
28
Barber В. Science and the Social Order. N.Y.: Free Press, 1952; The Sociology of Science / B. Barber, W. Hirsch (eds). N.Y.: Free Press, 1962.
29
Бен-Давид Дж. Роль ученого в обществе. М.: НЛО, 2014. С. 49.
30
Конт О. Дух позитивной философии. М.: Либроком, 2011. С. 40–42.
31
Epstein S. Histoire du sida: 2 tomes. P.: Les Empêcheurs de penser en rond, 2001.
32
Sclove R.E. Town Meetings on Technology, Consensus Conferences as Democratic Participation // Science, Technology and Democracy / D.L. Kleinman (ed.). N.Y.: State University of New York Press, 2000. P. 33–48; Gallon M., Lascoumes P., Barthe Y. Agir dans un monde incertain: Essai sur la democratie technique. P.:Le Seuil,2001.
33
Jasanoff S. Designs of Nature, Science and Democracy in Europe and the United States. Princeton: Princeton University Press, 2005.
34
Epstein S. Democracy, Expertise and AIDS Treatment Activism // Science, Technology and Democracy / D.L. Kleinman (ed). Albany: State University of New York Press. 2000. P. 18.
35
Бен-Давид Дж. Указ. соч. С. 172–174.
36
Robitaille A. Le Nouvel Homme Nouveau: Voyages dans les utopies de la post-humanité. Montréal: Boréal, 2007.
37
Guerrini A. Experimenting with Humans and Animals. From Galen to Animal Rights. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2003.
38
Nowotny H., Scott P., Gibbons M. Repenser la science. P.: Belin, 2003.
39
Shinn T. Nouvelle production du savoir et triple hélice. Tendances du prêt-à-penser les sciences // Actes de la recherche en sciences sociales. 2002. No. 141–142. P. 21–30.
40
Тоигпау V. Sociologie des institutions // coll. «Ques sais-je?». P.:PUF,2011.
41
Sociologie de l’institution / J. Lagroye, M. Offerlé (dir.). P.: Belin, 2010. P. 331.
42
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976. С. 67.
43
Gingras Y., Keating P., Limoges C. Du scribe au savant. Les porteurs du savoir de l’Antiquité à la Révolution industrielle. Montréal: Boréal, 1998.
44
Farrington В. The Rise of Abstract Science Among the Greeks // Centaures. 1953. Vol. 3. P. 32–39.
45
Lloyd G. E. R. Methods and Problems in Greek Science. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. P. 129.
46
Patronage and Institutions: Science, Technology and Medicine at the European Court, 1500–1750 / B.T Moran (ed). Woodbridge: The Boydell Press, 1991; Baatz S. Philadelphia Patronage: The Institutional Structure of Natural History in the New Republic, 1800–1833 // Journal of the Early Republic. 1988. Vol. 8. No. 2. P. 111–138.
47
Kohler R.E. Partners in Science, Foundations and The Natural Sciences, 1900–1945. Chicago: Chicago Press, 1991; Picard J.-F. La Fondation Rockefeller et la recherché médicale. P.: PUF, 1999.
48
Biagioli M. Galileo Courtier. Chicago: University of Chicago Press, 1993. P. 20.
49
Бен-Давид Дж. Указ. соч.; Huff Т. Е. The Rise of Early Modern Science. Islam, China and the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1993; Needham J. La Science chinoise et l'Occident. P.: Le Seuil, 1974.
50
Biagioli M. Op. cit. Р. 21.
51
Huff Т. Е. Op. cit. P. 218–220.
52
Charle C, Verger J. Histoire des universites // coll. «Que saisje?». P.: PUF, 1994. P. 17–19.
53
Ibid. P. 35.
54
Портер Р. Научная революция и университеты // Alma Mater: Вестник высшей школы. 2004. № 6.
55
Charle C., Verger J. Op. cit. P. 52–55.
56
Gingras Y. Idées d’universités: enseignement, recherche et innovation // Actes de la recherche en sciences sociales. 2003. No. 148. P. 3–7; Mclelland C.E. State University and Society in Germany, 1700–1914. Cambridge: Cambridge University Press, 1980; Veysey L.R. The Emergence of the American University. Chicago: University of Chicago Press, 1965; Clark B. Academic Charisma and the Origins of The Research University. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
57
Godin В., Gingras Y. The Place of Universities in The System of Knowledge Production // Research Policy. 2000. Vol. 29. No. 2. P. 273–278.
58
Boas Hall M. Promoting Experimental Learning. Experiments and the Royal Society, 1660–1727. Cambridge: Cambridge University Press, 1991.
59
Middleton W.E.K. The Experimenters: A Study of The Accademia of Omenta Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1971.
60
Hahn R. L’Anatomie d’une institution scientifique, L’Académie des sciences de Paris, 1666–1803. P.: Editions des archives contemporaines, 1994.
61
Crosland M. Gay-Lussac, une étape dans la professionalisation de la science // La Recherche en histoire des sciences / coll. «Points-Sciences». P.: Le Seuil, 1983. P. 193–216.
62
McClellan J.E. Science Reorganized: Scientific Societies in the 18th Century. N.Y.: Columbia University Press, 1985.
63
McClennan J.E. Un manuscrit inédit de Condorcet. Sur l’utilité des académies // Revue d’histoire des sciences. 1977. Vol. 30. No. 3. P. 250–251.
64
Charle C., Verger J. Op. cit. Р. 39–40.
65
Beer J.J. Coal Tar Dye Manufacture and The Origins of The Modern Industrial Research // Isis. 1958. Vol. 49. No. 2. P. 123–131.
66
Об эволюции промышленных исследований см.: Hughes T.P. American Genesis, A Century of Invention and Technological Enthusiasm, 1870–1970. N.Y.: Viking, 1989. P. 150–180; Shapin S. The Scientific Life. Chicago: Chicago University Press, 2008.
67
Kornhauser W. Scientists in Industry. Berkeley: University of California Press, 1962. P. 4–5.
68
Fry T.C. Mathematicians in Industry. The First 75 years // Science. 1964. Vol. 143. No. 28. February. P. 934–938.
69
Olivier-Utard F. La dynamique d’un double héritage, Les relations universitaire-entreprise à Strasbourg // Actes de la recherche en sciences sociales. 2003. No. 148. Juin. P. 20–33; Grossetti M., Bès M.-P. Encastrements et découplages dans les relations science-industrie // Revue française de sociologie. 2001. Vol. 42. No. 2. P. 327–355.
70
Malissard P., Gingras Y., Gemme В. La commercialisation de la recherche // Actes de la recherche en sciences sociales. 2003. No. 148. Juin. P. 57–67.
71
Slaughter S., Leslie L. Academic Capitalisme. Baltimore: John Hopkins University Press, 1997.
72
Naissance et développement de la science-monde / X. Polanco (dir.). P.: La Découverte, 1990.
73
Basalla G. The Spread of Western Science // Science. 1967. Vol. 156. P. 611–622; Basalla G. The Spread of Western Science Revisited // Mundializacion de la ciencia у cultura nacional / A. Lafuente, A. Elena, M. Ortega (eds). Madrid: Edicion doce Calles, 1993. P. 599–604.
74
Zeller S. Inventing Canada, Early Victorian Science and The Idea of a Transcontinental Nation. Toronto: University of Toronto Press, 1987.
75
Gingras Y. L’institutionnalisation de la recherche en milieu universitaire et ses effets // Sociologie et Sociétés. 1991. Vol. 23. No. 1. P. 41–54.
76
Home R.W., Watanabe M. Physics in Australia and Japan to 1914. A Comparison // Annals of Sciences. 1987. Vol. 44. P. 215–235; Gingras Y. Les Origines de la recherché scientifique au Canada, Le cas des physiciens. Montréal: Boréal, 1991.
77
Morrell J.B. The Chemists Breeders: The Research Schools of Liebig and Thomas Thomson // Ambix. 1972. Vol. 19. March. P. 1–49.
78
Kohlstedt S. The Formation of the American Scientific Community. Urbana: University of Illinois Press, 1976. P. 197; Par la science, pour la patrie – L’Association française pour l’avancement des sciences (1872–1914). Un projet politique pour une société savante / H. Gispert (dir.). Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2002; Gingras Y. Pour l’avancement des sciences. Histoire de l’ACFAS, 1923–1993. Montréal: Boréal, 1994.
79
Prospectus // Annales de mathématiques pures et appliquées. 1810. Vol. 1. No. 1. Juillet. P. 1–2.
80
Moseley R. Tadpoles and Frogs, Some Aspects of the Professionalization of British Physics, 1870–1939 // Social Studies of Science. 1977. Vol. 7. P. 424–446.
81
Kevles D. The Physicists, The History of A Scientific Community in Modern America. N.Y.: Alfred A. Knopf, 1978.
82
Ноте R. W., Watanabe M. Forming New Physics Communities: Australia and Japan, 1914–1950 // Annals of Science. 1990. Vol. 47. P. 317–345.
83
Heilbron J. A Regime of Disciplines: Toward A Historical Sociology of Disciplinary Knowledge // The Dialogical Turn: New Roles for Sociology in The Postdisciplinary Age / C. Camic, H. Joas (eds). Lanham: Rowman and Littlefield, 2004. P. 23–42.
84
Бен-Давид Дж., Коллинз Р. Социальные факторы при возникновении новой науки: случай психологии // Логос. 1991–2005. Избранное. Т. 1. М.: Территория будущего, 2006. С. 26–54; Mullins N. The Development of A Scientific Speciality: The Phage Group and the Origins of Molecular Biology // Minerva. 1970. Vol. 10. P. 51–82.
85
Hagstrom W. The Scientific Community. N.Y.: Basic Books, 1965. P. 192–193; Gingras Y., Schinkus C. The Instutionalization of Econophysics in The Shadow of Physics // Journal of the History of Economic Thought. 2012. Vol. 34. No. 1. P. 109–130.
86
Hagstrom W. Op. cit. P. 208–243.
87
Merton R.K. The Sociology of Science. Theoretical and Empirical Investigations / N.W. Storer (ed.). Chicago: University of Chicago Press, 1973. P. 267–278.
88
Ibid. P. 258.
89
В середине 1950-х годов американские социологи часто замещали оригинальный термин Мертона «коммунизм» словом «коммунализм», чтобы избежать негативной ассоциации с «коммунизмом» в контексте холодной войны. См.: Barber В. Science and The Social Order. P. 130.
90
Социология изобретения и инновации требует отдельного рассмотрения. См.: Gaglio G. Sociologie de l'innovation // coll. «Que sais-je?». P.: PUF, 2011.
91
Медведев Р., Медведев Ж. Взлет и падение Т. Д. Лысенко. М.: Время, 2001; Lecourt D. Lyssenko, histoire réelle d’une science prolétarienne // coll. «Quadrige». P.: PUF, 1995; Buican D. Lyssenko et le lyssenkéisme // coll. «Que sais-je?». P.: PUF, 1988.
92
Kevles D. Nikolai Vavilov, martyr russe de la genetique // La Recherche. 2009. No. 428. Mars. P. 56–60.
93
Polanyi M. The Republic of Science: Its Political and Economic Theory // Minerva. 1962. Vol. 1. P. 54–74.
94
«Славное тридцатилетие» – термин введен в 1979 г., чтобы обозначить период 1945–1975 гг., ознаменовавшийся быстрым социально-экономическим развитием во Франции. – Примеч. пер.
95
Уайт У. Организационный человек. Фрагменты // Личность. Культура. Общество. 2003. Т. 5. № 1/2. С. 230–253; Т. 7. Вып. 1.С. 63–79.
96
Kornhauser W Scientists in Industry, Conflict and Accomodation. Berkeley: University of California Press, 1962. P. 3.
97
Shinn T. Division du travail et spécificité organisationnelle, Les laboratoires de recherche industrielle en France // Revue française de sociologie. 1980. Vol. 21. P. 3–35; Whitley R. The Intellectual and Social Organization of the Sciences. Oxford: Oxford University Press, 2000.
98
Kragh H. Anatomy of Priority Conflict; The Case of Element 72 // Centaurus. 1980. Vol. 23. No. 4. P. 275–301.
99
Wade M. La Course au Nobel. P.: Sylvie Messenger, 1981.
100
Письмо Макса Лауэ Эйнштейну, 27 декабря 1907 // The Collected Papers of Albert Einstein, English Translations. Vol. 5. Princeton: Princeton University Press, 1995. P. 48. Цит. по Дюкас Э., Хофман Л. Эйнштейн как человек / пер/ А. Н. Лука. М.: Наука, 1991. – Примеч. пер.
101
Письмо Эйнштейна Йоханнесу Штарку, 17 февраля 1908 // Ibid. P. 58.
102
Письмо Эйнштейна Йоханнесу Штарку, 22 февраля 1908 // Ibid. P. 62.
103
Письмо Эйнштейна к Д. Гилберту, 20 декабря 1915 // Ibid
104
Judson H.F. The Great Betrayal: Fraud in Science. Orlando: Harcourt, 2004.
105
Hagstrom W. The Scientific Community. N.Y.: Basic Books, 1965.
106
Мосс М. Общества, обмен, личность. М.: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1996.
107
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. С. 277.
108
Merton R.K. Priorities in Scientific Discoveries // American Sociological Review. 1957. Vol. 22. No. 6. P. 635–659.
109
Wager E., Williams P. Why and How Do Journals Retract Articles? An Analysis of Medicine Retractions. 1988–2008 // Journal of Medical Ethics. 2011. Vol. 37. P. 567–570.
110
См., напр.: Reich E.S. Plastic Fantastic. How the Biggest Fraud in Physics Shook the Scientific World. N.Y.: Palgrave McMillan, 2009.
111
Об этом споре см.: Schwartz M., Castex J. La découverte du virus du sida. La vérité sur «L’affaire Gallo; Montagnier», d’après un texte de Raymond Dedonder. P.: Odile Jacob, 2009.
112
Rawling A. The AIDS Virus Dispute: Awarding Priority for the Discovery of the Human Immunodeficiency Virus (HIV) // Science, Technology and Human Values. 1994. Vol. 19. No. 3. P. 342–360.
113
Кун Т. Структура научных революций / с вводной статьей и дополнениями 1969 г. М.: Прогресс, 2009.
114
Mulkay M. Some Aspects of Cultural Growth in the Natural Sciences // Social Research. 1969. Vol. 36. P. 22–52.
115
Barber В. Resistance by Scientists to Scientific Discovery // Science. 1961. Vol. 134. P. 596–602.
116
Collins R. Conflict Sociology. N.Y.: Academic Press, 1975.
117
Lemain G., Matalon B. La lutte pour la vie dans la cité scientifique // Revue française de sociologie. 1969. Vol. 10. No. 2. Avril-juin. P. 139–165.
118
Бурдьё П. Рынок символической продукции // Вопросы социологии. 1993. № 1/2.
119
Бурдьё П. Поле науки / пер. с фр. Е. Д. Вознесенской // Социо-Логос постмодернизма. Альманах Российско-французского центра социологии и философии Института социологии Российской академии наук. СПб., 2002.
120
Там же. С. 96.
121
Pyenson L., Skopp D. Educating Physicists in Germany circa 1900 // Social Studies of Science. 1977. Vol. 7. P. 329–366.
122
Lemaine G., Darmon G., El Nemer S. Noopolis, Les Laboratoires de recherche fondamentale: de l’atelier à l’usine. P.: Editions du CNRS, 1982. P. 17–20.
123
Crane D. Social Class Origins and Academic Success: The Influence of Two Stratification Systems on Academic Careers // Sociology of Education. 1962. Vol. 42. P. 1–17.
124
Benguigui G. Les physiciens sont-ils de gauche et les chimistes de droite? // Information sur les sciences sociales. 1986. Vol. 25. No. 3. P. 725–741; Ladd E.G., Lipsett S.M. Politics of Academic Natural Scientists and Engineers // Science. 1972. Vol. 176. 9 juin. P. 1091–1100.
125
Bourdieu P. Science de la science et réfléxivité. P.: Raisons d'agir, 2001. P. 87–89. Реферат этой книги на русском языке см.: Маркова Ю. В. Реферат книги Пьера Бурдье «Наука о науке и рефлексивность» // Социологическое обозрение. 2003. Т. 3. № 1. С. 39–49. – Примеч. пер.
126
Zuckerman H. The Nobel Elite. N.Y.: Free Press, 1977.
127
Gingras Y. Mathématisation et exclusion: socianalyse de la formation des cités savantes // Bachelard et l’épistémologie française / J.-J. Wunenburger (dir.). P.: PUF, 2003. Р. 115–152.
128
Бурдьё П. Поле науки.
129
Sandoz Т. La vrai nature de l'homeopathie. P.: PUF, 2001.
130
De Solla Price D. Science et Suprascience. P.: Fayard, 1972.
131
Zuckerman H., Cole J., Bruer J. The Outer Circle: Women in the Scientific Community. N.Y.: W.W. Norton, 1991; Marry C. Le plafond de verre dans le mode académique: l’exemple de la biologie // Idées, la revue des sciences économiques et sociales. 2008. No. 153. P. 36–47; Larivière V., Vigola-Gagné E., Villeneuve C., Gélinas P., Gingras Y. Sex Differences in Research Funding, Productivity and Impact; an Analysis of Quebec University Professors // Scientometrics. 2011.Vol. 87. No. 3. P. 483–498.
132
ColeJ.R., Cole R. Social Stratification in Science. Chicago: University of Chicago Press, 1973. P. 92.
133
Mulkey M. The Mediating Role of The Scientific Elite // Social Studies of Science. 1976. Vol. 6. P. 445–470.
134
Garfield E. Citation Indexes for Science: A New Dimension in Documentation Through Association of Ideas // Science. 1955. Vol. 122. No. 3159. P. 108; Wouters P. Aux origines de la scientométrie. La naissance du Science Citation Index // Actes de la recherche en sciences sociales. 2006. No. 164. Septembre. P. 11–22.
135
Gingras Y. The Transformation of Physics from 1900 to 1945 // Physics in Perspective. 2010. Vol. 12. No. 3. P. 248–265.
136
Мертон Р. К. Эффект Матфея в науке, П. Накопление преимуществ и символизм интеллектуальной собственности // THESIS. 1993. Вып. 3. С. 256–276.
137
Rigney D. The Matthew Effect, How Advantage Begets Further Advantage. N.Y.: Columbia University Press, 2010.
138
Rossiter M. Teffet Matthieu, Mathilda en science // Cahiers du CEDREF. 2003. Vol. 11. P. 21–39.
139
Goldstone J.A. A Deductive Explanation of The Matthew Effect in Science // Social Studies of Science. 1979. Vol. 9. P. 385–391.
140
Bonitz M. Ranking of Nations and Heightened Competition in Matthew Effect in Science // Social Studies of Science. 1979. Vol. 9. P. 385–391.
141
Lariviere V., Gingras Y. The Impact Factor's Matthew Effect: A Natural Experiment in Bibliometrics // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2010. Vol. 61. No. 2. P. 424–427.
142
Crane D. Scientists at Major and Minor Universities // American Sociological Review. 1965. Vol. 30. P. 699–714.
143
Gingras Y. La valeur d’une langue dans un champ scientifique // Recherches sociographiques. 1984. Vol. 25. No. 2. P. 286–296; Kirchik O., Gingras Y., Larivière V. Changes in Publication Languages and Citation Practices and Their Effects on The Scientific Impact of Russian Science (1993–2010) // Journal of the American Society for Information Science and Technology. 2012. Vol. 63. P. 1411–1419.
144
Pontille D. La signature scientifique. Une sociologie pragmatique de l'attribution. P.: Editions du CNRS, 2004.
145
Дюркгейм Э. Элементарные формы религиозной жизни. Тотемистическая система в Австралии (Введение, Глава 1) // Классики мирового религиоведения. Антология. Т. 2: Мистика. Религия. Наука / под ред. А. Н. Красникова. М.: Канон +, 1998. С. 174–230.
146
Шелер М. Проблемы социологии знания / пер. А. Малинкина. М.: Институт общегуманитарных исследований, 2011.
147
Манхейм К. Идеология и утопия // Манхейм К. Диагноз нашего времени. Серия «Лики культуры». М.: Юрист, 1994.
148
Znaniecki F. The Social Role of the Man of Knowledge. N.Y.: Columbia University Press, 1940.
149
Zilsel E. The Sociological Roots of Science // American Journal of Sociology. 1942. Vol. 47. No. 2. P. 544–562.
150
Флек Л. Возникновение и развитие научного факта: Введение в теорию стиля мышления и мыслительного коллектива / под ред. В. Н. Поруса. М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной книги, 1999.
151
Harwood J. Ludwik Fleck and the Sociology of Knowledge // Social Studies of Science. 1986. Vol. 16. P. 173–187; Mossner N. Thought Styles and Paradygms: A Comparative Study of Ludwik Fleck and Thomas S. Kuhn // Studies in History and Philosophy of Science. 2011. Vol. 42. P. 362–371.
152
Бухарин Н. И. Теория исторического материализма. Популярный учебник марксистской социологии. 5 изд. М.; Л.: Государственное издательство, 1928. С. 179.
153
Там же. С. 181.
154
Гессен Б. М. Социально-экономические корни механики Ньютона. М.; Л.: Государственное техническое издательство, 1933. С. 28.
155
Там же. С. 31.
156
Bernal J.D. The Social Function of Science. L.: Faber and Faber, 1939; Werskey G.P. The Visible College. A Collective Biographie of British Scientists and Socialists of the 1930s. L.: Allen Lane, 1978.
157
Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М.: Хранитель, 2006. С. 863.
158
Merton R.K. Science, Technology and Society in Seventeenth Century England. N.Y.: Harper and Row, 1970. Рус. пер.: Наука, техника и общество Англии XVII века // Энциклопедия эпистемологии и философии науки / под ред. И. Т. Касавина. М.: Канон+; РООИ «Реабилитация», 2009. – Примеч. пер.
159
Farrington B. Prometheus Bound. Government and Science in Classical Antiquity // Science and Society. 1938. Vol. 2. No. 4. P. 435–447.
160
Borkenau F. The Sociology of The Mechanistic World-Picture // Science in Context. 1987. Vol. 1. P. 109–127.
161
Needham J. Thoughts on The Social Relations of Science and Technology in China // Science in Context. 1953. Vol. 3. P. 40–48.
162
Struik D.J. On the Sociology of Mathematics // Science and Society. 1942. Vol. 6. No. 1. P. 58.
163
Раппекоек A. The Discovery of Neptune // Centaurus. 1953. Vol. 3. P. 126–137.
164
Merton R.K. La sociologie de la connaissance // La Sociologie au XXème siècle / G. Gurvich, W.E. Moore (dir.). P. 377–416.
165
Olwell R. «Condemned to Footnotes»: Marxist Scholarship in The History of Science // Science and Society. 1996. Vol. 60. No. 1. P. 7–26.
166
Criticism and the Growth of Knowledge / I. Lakatos, A. Musgrave (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
167
Kuhn T. La revolution copérnicienne. P.: Fayard, 1973.
168
Thagard P. Ulcers and Bacteria I: Discovery and Biomedical Sciences // Studies in History and Philosophy of: Biological and Biomedical Sciences. 1998. Vol. 29. P. 107–136.
169
Forman P. Weimar Culture, Causality and Quantum Theory, 1917–1927 // Hist. Stud. Phts. Sci. 1971. Vol 3. P. 1–116; The Reception of Unconventional Science / S.H. Mauskopf (ed.). Boulder: Westview Press, 1979. P. 11–50.
170
Gushing J. T. Quantum Mechanics, Historical Contingency and the Copenhagen Interpretation. Chicago: University of Chicago Press, 1994. P. 96–101.
171
Graham L. Do Mathematical Equation Display Social Attributes? // The Mathematical Intelligencer. 2000. Vol. 22. No. 3. P. 31–36; Staley K.W. The Evidence for the Top Quark. Objectivity and Bias in Collaborative Experimentation. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 19–23, 37–40.
172
Холтон Док. Тематический анализ науки. М.: Прогресс, 1981.
173
Barnes В. Interests and The Growth of Knowledge. L.: Routledge and Kegan Paul, 1977.
174
Barnes В. Т. Kuhn and Social Science. N.Y.: Columbia University Press, 1982. P. 114–115.
175
Ibid. P. 102–103.
176
Shapin S. History of Science and its Sociological Reconstruction // History of Science. 1982. Vol. 20. P. 107–122.
177
Mulkay M. Consensus in Science // Social Science Information. 1978. Vol. 17. No. 1. P. 107–122.
178
Хабермас Ю. Познание и интерес // Философские науки. 1990. № 1.С. 91–97.
179
Mackenzie D. Comment faire une sociologie de la statistique… // La science telle qu’elle se fait / M. Callon, B. Latour (dir.). P.: La Découverte, 1991. P. 261.
180
Farley J., Geison G.L. Le débat entre Pasteur et Pouchet: science, politique et génération spontantanée au XIXème siècle en France // La science telle qu’elle se fait. Р. 87–145.
181
См., напр., сб. исследований: Natural Order. Historical Studies of Scientific Culture / B. Barnes, S. Shapin (eds). L.: Sage, 1979.
182
О Пастере и Пуше см.: Raynaud D. Sociologie des controverses scientifiques. P.: PUF, 2003; о Пирсоне и Юле см.: A House Built on Sands. Exposing Postmodernist Myths about Science / N. Koertge (ed.). N.Y.; Oxford: University Press, 1988. P. 71–98 и ответ Маккензи в: Social Studies of Science. 1999. Vol. 29. No. 2. P. 223–234.
183
Pickering A. Constructing Quarks. A Sociological History of Particles Physics. Chicago: University of Chicago Press, 1984, а подробный анализ можно найти в: Gingras Y, Schweber S. Constrains on Construction // Social Studies of Science. 1986. Vol. 16. No. 2. P. 372–383.
184
Collins H. Gravity's Shadows. The Search for Gravitational Waves. Chicago: Chicago University Press, 2004; а подробный анализ можно найти в: Gingras Y. Everything You Did Not Necessarily Want to Know about Gravitational Waves. And Why // Studies in History and Philosophy of Science. 2007. Vol. 38. No. 1. P. 269–283.
185
Pinch T. Confronting Nature, the Sociology of Solar Neutrino Detection. Dordrecht: Reidel, 1986.
186
Latour В., Woolgar S. La vie de laboratoire. P.: La Découverte, 1988.
187
Ashmore M. The Reflexive Thesis: Whriting the Sociology of Scientific Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1989.
188
Gingras Y. Réflexivité et sociologie de la connaissance scientifique // Pierre Bourdieu, sociologue / L. Pinto, G. Shapiro, P. Champagne (dir.). P.: Fayard, 2004. P. 337–347.
189
Rationality and Relativism / M. Hollis, S. Lukes (eds). Cambridge: MIT Press, 1982; Darmon G. The Asymmetry of Symmetry // Social Science Information. 1986. Vol. 25. No. 3. P. 743–755.
190
Bloor D. Knowledge and Social Imagery. Chicago: University of Chicago Press, 1991. P. 33. См. русскоязычный перевод первой главы книги: Блур Д. Сильная программа в социологии знания // Логос. 2002. № 5–6 (35). С. 162–185.
191
Reif F. The Competitive World of The Pure Scientist // Science. 1961. Vol. 134. No. 3404. P. 1957–1962.
192
Medawar P. Is The Scientific Paper A Fraud? // Medawar P. The Strange Case of the Spotted Mice. Oxford: Oxford University Press, 1996. P. 33–39.
193
Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии / пер. с англ. М. Б. Гнедовского. М.: Прогресс, 1985.
194
Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри сообщества / пер. с англ. К. Федоровой; науч. ред. С. Миляева. СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2013.
195
Collins H. Changing Order, Replication and Induction in Scientific Practice. L.: Sage, 1985.
196
Collins H.M. Les sept sexes: études sociologiques de la détection des ondes gravitationnelles // La science telle qu’elle se fait. P. 262–297.
197
Pickering A. La chaise aux Quarks // La science et se réseaux / M. Callon (dir.). P.: La Découverte, 1989. P. 34–65.
198
Lynch M. Art and Artifact in Laboratory Science: A Study of Shop Work and Shop Talk in A Research Laboratory. L.: Routledge and Kegan Paul, 1985; Knorr-Cetina K. The Manufacture of Knowledge. An Essay on The Constructivist and Contextual Nature of Science. Oxford: Pergamon Press, 1981.
199
Здесь и сейчас (лат.). – Примеч. пер.
200
Жангра И. Мотив радикализма. О некоторых новых тенденциях в социологии науки и технологии // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. 8. № 5.
201
См., напр.: Humains, non-humains. Comment repeupler les sciences sociales / S. Houdart, O. Thiery (dir.). P.: La Découverte, 2011.
202
Callon M. Eléments pour une sociologie de la traduction. La domestication des coquilles Saint-Jacques dans la baie de Saint-Brieuc // L’Année sociologique. 1986. No. 36. P. 169–208.
203
Латур Б. Указ. соч.
204
Latour B. The Politics of Explanation: An Alternative // Knowledge and Reflexivity / S.Woolgar (ed). L.: Sage, 1988. P. 155–176.
205
Gingras Y. La fusion froide échauffe les imaginations // La Recherche. 2010. No. 438. P. 92–94.
206
Gingras Y. Mais quel âge a la Terre? // La Recherche. 2009. No. 434. Octobre. P. 92–94.
207
Nowotny H., Felt U. After Breakthrough. The Emergence of High-Temperature Superconductivity as A Research Field. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.
208
Чтобы получить более детальное представление о способах завершения спора, см.: Scientific Controversies / H. Tristram, P. Engelhardt, A.I. Caplan (eds). Cambridge: Cambridge University Press, 1987; Scientific Controversies / P. Machamer, M. Pera, A. Batlas (eds). Oxford: Oxford University Press, 2000.
209
Gross A. The Rhetoric of Science. Boston: Harvard University Press, 1996.
210
Rehg W. Cogent Science in Context. The Science Wars. Argumentation Theory and Habermas. Boston: MIT Press, 2009.
211
Perelman C., Olbrecht-Tyteca L., Traité de l’argumentation. Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 1988.
212
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 560.
213
Gingras Y., Godin В. Expérimentation, instrumentalisation et argumentation // Didaskalia. 1997. No. 11. P. 151–162.
214
Angenot M. Dialogues de sourds. P.: Mille et une nuits, 2010; Chateauraynaud F. Argumenter dans un champ de forces. P.: Editions Petra, 2011.
215
Bontems V., Gingras Y. De la science normale à la science marginale. Analyse d’une bifurcation de trajectoire scientifique: le cas de la théorie de la relativité à l’échelle // Information sur les sciences sociales. 2007. Vol. 46. No. 4. P. 607–653.
216
Polanyi M. Knowing and Being. Chicago: University of Chicago Press, 1969. P. 91–93. В основной труд Полани «Личностное знание» входит часть «Познание и бытие» отдельной главой, но она выпущена из русского перевода: Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии / пер. с англ. М. Б. Гнедовского. М.: Прогресс, 1985. -Примеч. пер.
217
Callaway E. Fighting for A Cause // Nature. 2011. Vol. 471. P. 282–285.
218
Bachelard G. La Formation de l'esprit scientifique. P.: Vrin, 1972. P. 241.
219
Поппер К. Открытое общество и его враги / пер. с англ. под общ. ред. В. Н. Садовского. М.: Культурная инициатива, Foundation Soros, 2009. С. 747.
220
Gingras Y. Les formes spécifiques de l’internationalité du champ scientifique // Actes de la recherche en sciences sociales. 2002. No. 141. Mars. P. 31–45.
221
Indicateurs des sciences et des technologies / G. Filliatreau (dir.). P.: Economica, 2008. P. 402.
222
Anderson M.S., Ronning E.A., De Vries R., Martinson B.C. Extending the Mertonian Norms: Scientists' Subscription to Norms of Research // The Journal of Higher Education. 2010. Vol. 81. No. 3. P. 366–393.
223
The Commodification of Academic Research / H. Raddle (ed.). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2010; Krimsky S. La recherche face aux interêts privés. P.: Les empêcheurs de penser en rond, 2004; Angell M. The Truth about the Grug Companies. N.Y.: Random House, 2004.