Книга: Наполеон. Заговоры и покушения
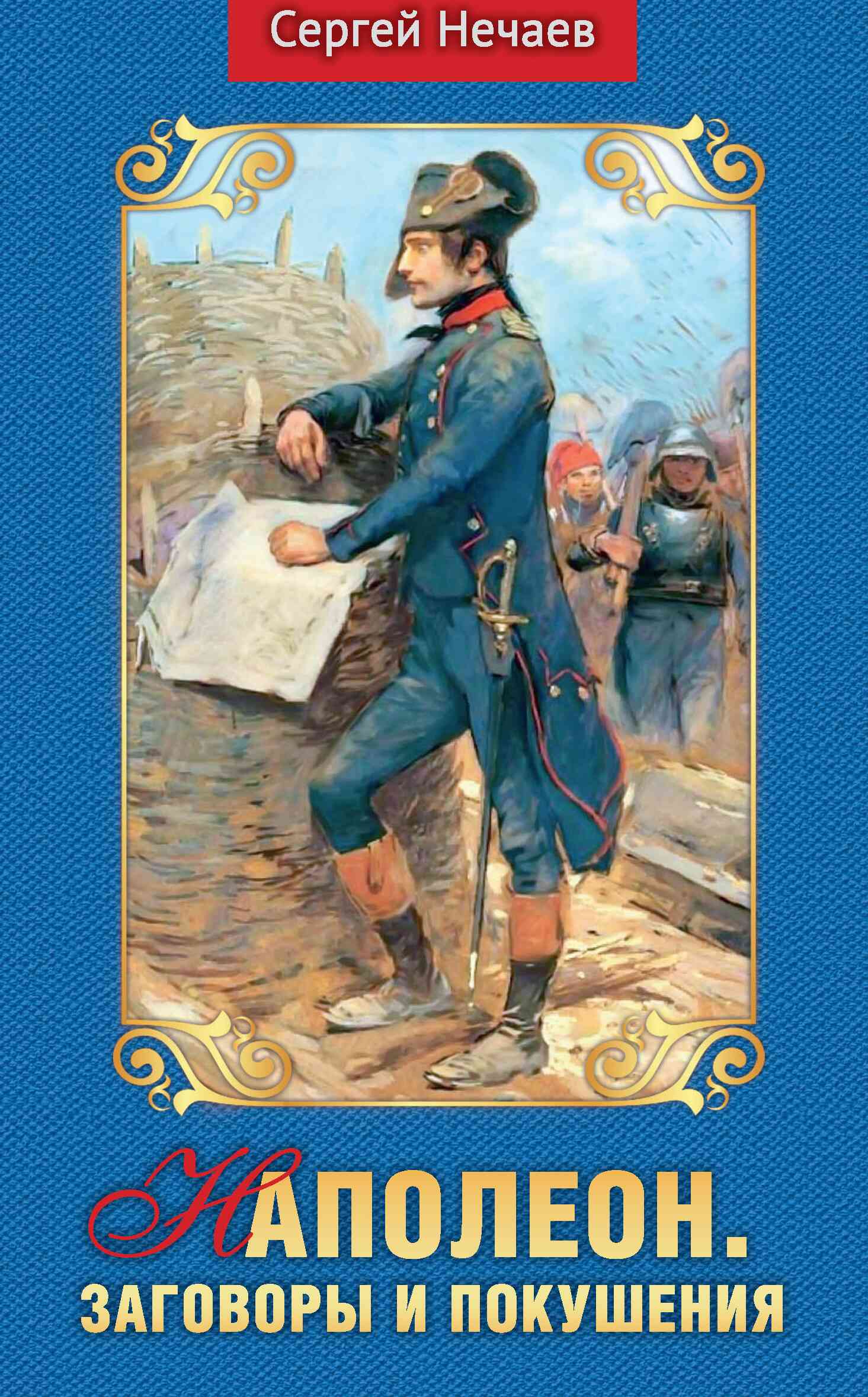
Наполеон. Заговоры и покушения
В революциях мы сталкиваемся с людьми двух сортов: теми, кто их совершает, и с использующими оные в своих целях.
После Великой французской революции 1789 года власть в стране перешла к Национальному собранию. В 1791 году была выработана конституция, основанная на идеях народовластия. По этой конституции король был облечен лишь исполнительной властью и имел право действовать только через ответственных перед собранием министров. Законодательная же власть в стране принадлежала Законодательному собранию, правую сторону в котором занимали конституционные монархисты, а левую — так называемые жирондисты[1] и монтаньяры[2], причем главной силой последних были якобинцы[3].
В 1792 году в Париже вспыхнуло восстание, и Законодательное собрание постановило отрешить короля от власти и взять его под стражу. Для решения вопроса о будущем устройстве Франции было решено созвать чрезвычайное собрание под названием Национальный конвент.
В Конвенте жирондисты занимали уже правую сторону, левая же состояла из якобинцев-монтаньяров.
Писатель Виктор Гюго характеризовал Конвент так:
«Бок о бок с людьми, одержимыми страстью, сидели люди, одержимые мечтой. Утопия была представлена здесь во всех своих разветвлениях: утопия воинствующая, признающая эшафот, и утопия наивная, отвергающая смертную казнь. <…> Одни думали только о войне, другие думали только о мире».
Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что, по сути, и жирондисты, и якобинцы были демократами и республиканцами. Но если первые были горячими защитниками свободы личности и опасались усиления могущества государства, пусть даже в самой республиканской форме, то вторые стояли за политику устрашения («террор»), за придание государственной власти самых неограниченных полномочий и за подавление стремления к личной свободе. В сущности, якобинцы возобновляли в форме республиканской диктатуры правительственную практику старой монархии. При этом их партия была отлично организована и дисциплинирована, тогда как жирондисты в большинстве своем действовали вразброд. Впрочем, их положение во Франции, всем своим прошлым более подготовленной к повиновению силе, чем к свободе, было предопределено.
Конвент сосредоточил в себе все ветви власти: и исполнительную, и законодательную, и судебную. Фактически он правил государством, как абсолютный монарх. Первым делом он объявил во Франции республику. Тут же был поднят вопрос о короле. В результате в январе 1793 года Людовик XVI был обезглавлен.
Это событие произвело страшное впечатление на всю Европу. Против Французской революции образовалась громадная коалиция государств, поставивших своей целью восстановить во Франции монархию и прежние порядки. Начались бесконечные революционные войны по всем направлениям: на севере, на востоке, на юге.
Внешняя опасность осложнялась и гражданской войной внутри страны: в Вандее против Конвента вспыхнуло мощное народное восстание под предводительством священников и дворян.
Сразу поясним, что под названием Вандея подразумевается как сам департамент Вандея, расположенный на западе Франции, так и большая часть старого Пуату, части Анжу и Бретани, т. е. пространство приблизительно в 22 000 кв. км, омываемое на протяжении почти 200 км Бискайским заливом и проливом Ла-Манш. Население Вандеи традиционно отличалось независимым, почти диким характером, здесь не было никакой городской культуры, и близость между дворянами и крестьянами, представляла резкую противоположность остальной Франции. Революция здесь явно не встретила сочувствия.
Для спасения отечества Конвент дал новый толчок системе террора. Исполнительная власть с самыми неограниченными полномочиями была вручена Комитету общественного спасения. Главным орудием террора сделался революционный суд, который решал дела быстро и без формальностей, приговаривая к смертной казни на гильотине часто на основании одних лишь подозрений.
После падения жирондистов, из которых многие были казнены, господами положения во Франции сделались якобинские террористы с Максимильеном Робеспьером во главе.
В 1793 году в стране была принята новая конституция, закрепившая власть якобинцев. Христианский календарь был заменен республиканским, в котором летосчисление велось со дня провозглашения республики. Католические церкви стали закрываться и разрушаться. Шло усиление террора: революционный суд получил право судить даже членов самого Конвента без разрешения последнего.
В результате в 1794 году на Гревской площади в Париже были казнены практически все самые видные революционеры: братья Робеспьеры, Сен-Жюст, Кутон и другие. После этих событий, известных как термидорианский террор, экстремистская якобинская диктатура пошла на убыль. В Конвент началось возвращение чудом уцелевших жирондистов.
Летом 1795 года Конвент составил новую конституцию, известную под названием Конституция III года. Законодательная власть поручалась уже не одной, а двум палатам — Совету пятисот и Совету старейшин. Исполнительная власть была отдана в руки Директории — пяти избранных директоров, которые назначали министров и агентов правительства в провинциях.
После этого, благодаря провозглашенной свободе культов, произошло повсеместное успокоение политических страстей и религиозных раздоров. Началось определенное оживление сельского хозяйства, промышленности и торговли. Вместе с тем в страну стали возвращаться эмигранты и священники, пропагандировавшие необходимость восстановления законной монархии и агитировавшие за это на выборах.
В 1797 году на выборах прошло очень много роялистов, которые тотчас же открыли свой клуб и получили большинство в советах и явно задумавшие реставрацию. Влиятельный директор Поль Баррас, осознавая опасность положения, обратился к генералу Бонапарту, уже успевшему к тому времени отличиться при осаде мятежного Тулона, при разгоне роялистского мятежа в Париже и на полях сражений в Северной Италии. Присланный тем генерал Ожеро арестовал главных депутатов-роялистов. Этот переворот, известный как события 18 фрюктидора V года, нанес решительный удар по возрождающемуся роялизму, находившемуся в тесной связи с эмигрантами и европейской коалицией.
Однако к 1799 году внутреннее и внешнее положение республики вновь стало критическим. Узнав об этом, Бонапарт, находившийся в то время в Египте, бросил свою армию и поспешил во Францию. Его неожиданное прибытие было встречено нацией с восторгом. В нем видели будущего спасителя Франции — спасителя не только от внешнего врага, но и от грозного оборота внутренних дел: нация, по-видимому, уже сделала свой выбор между перспективой возвращения Бурбонов, а с ними и старых порядков, возобновлением анархии или установлением военной диктатуры.
Самый влиятельный деятель умеренно-республиканской партии, директор Эммануэль-Жозеф Сийес давно уже носился с мыслью о непригодности Конституции III года и вырабатывал свой собственный проект государственного устройства, которое должно было, по его мнению, дать устойчивость внутреннему порядку. С этой целью он стал объединять все антидемократические элементы среди тогдашних политических деятелей, не желавших возвращения Бурбонов. Ему удалось расположить в пользу своего плана многих членов обоих советов, которые стали называть себя реформистами. Узнав о планах Сийеса, Бонапарт вошел с ним в соглашение, и оба очень быстро подготовили государственный переворот с целью введения новой конституции.
Государственный переворот был успешно совершен. То, что это был именно государственный переворот, не вызывает сомнения, так как это была незапланированная смена правительства, предпринятая организованной группой людей для смещения законного правительства страны. Переворот этот известен под названием 18–19 брюмера VIII года и обыкновенно считается концом Великой французской революции.
Наполеону в это время было 30 лет. Он уже не раз рисковал жизнью: был ранен в ногу под Тулоном; находился «на волосок» от гильотины, отсидев некоторое время в тюрьме во время термидорианского террора; чуть не погиб в суматохе у Аркольского моста в одноименном сражении (австрийская пуля попала в грудь стоявшему рядом адъютанту Мюирону. — Авт.). Но, по большому счету, точно такой же была судьба сотен генералов республики, а сам Наполеон не представлял собой цели для каких-то покушений и заговоров. Слишком мелкой он был для этого фигурой. Все началось после Брюмерского государственного переворота, открывшего для него прямой путь к французской короне.
Глава первая. Заговор кинжалов
Республика во Франции невозможна; благоверные республиканцы — идиоты, все остальные — интриганы.
Два покушения были для меня самыми опасными — это покушение скульптора Черакки и одного фанатика в Шёнбрунне.
После государственного переворота 18–19 брюмера (9-10 ноября 1799 года), совершенного при активном участии Наполеона, Директория, коллегиально правившая до этого во Франции, была упразднена, и власть в стране была вверена трем консулам: самому Наполеону Бонапарту, Эммануэлю-Жозефу Сийесу и Пьеру Роже Дюко.
Это был государственный переворот, не оправдывавшийся никакой серьезной внутренней или внешней опасностью. Но после революции 1789 года во Франции было произведено столько различных переворотов, а конституция так часто и грубо нарушалась, что события 18–19 брюмера вызывали скорее удивление, чем негодование.
Через месяц была подготовлена соответствующая новой власти конституция, но ее необходимо было провести через процедуру всенародного голосования. Необходимо — нет проблем. Были пущены в ход все средства, чтобы обеспечить успех этого плебисцита. Вместо того чтобы созвать первичные собрания, на которых когда-то подавались голоса за Конституцию 1793 года и Конституцию 1795 года, их просто признали фактически упраздненными. Какие-либо публичные прения новой власти не были нужны, и было принято решение заставить граждан голосовать поодиночке путем открытой письменной подачи голосов.
По этому поводу французский историк Альберт Вандаль пишет:
«Что конституция будет принята, это не подлежало сомнению, но друзья Бонапарта несколько боялись оцепенения и инертности масс. При прежних плебисцитах народ никогда не отвечал на поставленный ему вопрос отрицательно, но воздерживавшихся от подачи голоса всегда было несравненно больше, чем голосовавших».
На этот раз все было продумано и организовано гораздо хитрее, и голосование протекало в относительном спокойствии.
У Альберта Вандаля читаем:
«Не было ни подготовительных собраний, ни шумных съездов; в определенных местах скрыты были двойные списки, куда граждане могли вносить свое одобрение или отказ. Многие из них не решались приходить и записываться, из опасения, как бы в случае нового переворота этот список имен не обратился в список лиц, подлежащих изгнанию; эти страхи не свидетельствовали о твердой вере в стойкость и беспристрастность правительства. Чтобы успокоить граждан и привлечь их к голосованию, пришлось обещать им, что записи будут потом сожжены. Войска подавали голоса отдельно».
Генерал Лефевр, например, собрал своих людей на Марсовом поле и повел дело быстро, по-военному. Солдатам прочитали указ для того, чтобы каждый мог свободно высказаться о нем; затем бравый генерал произнес пылкую речь и в порыве красноречия, чересчур уж наивного, воскликнул: «Мы переживаем вновь золотые дни революции. Утверждение конституции положит конец нашим распрям. Только бунтовщики способны отвергнуть ее. Клянемся нашими штыками истребить их!»
И солдаты голосовали так, как им было приказано.
Первый наполеоновский плебисцит, который еще называют плебисцитом VIII года, имел место 25 декабря 1799 года. По официальным данным, за новую конституцию, сделанную под трех консулов во главе с Наполеоном и, кстати сказать, уже принятую за 12 дней до этого, проголосовало три с лишним миллиона человек, против — всего чуть больше полутора тысяч человек.
Следует отметить, что реальных голосов «за» было подало лишь чуть больше полутора миллионов. Эти цифры показались тогдашнему министру внутренних дел Люсьену Бонапарту (по совместительству — брату Наполеона) слишком несерьезными, и он самовольно добавил к ним численность сухопутной армии и флота, подразумевая, что все военные, конечно же, проголосовали бы «за». В некоторых частях голосование действительно проводилось, но солдаты там отвечали на вопрос командира хором, поэтому голосов «против» просто не было слышно. Кроме того, Люсьен Бонапарт добавил к проголосовавшим «за» еще неких 900 тысяч человек. Главной задачей хитроумного Люсьена было всеми правдами и неправдами «перевалить» через психологически важный и знаковый трехмиллионный рубеж, что и было успешно сделано.
После объявления официальных результатов плебисцита Наполеон первым делом закрыл 160 из существовавших в стране 173 газет (через некоторое время их останется лишь четыре. — Авт.). Сделав это и обеспечив себе недоступность для критики снизу, он «убрал» неугодного ему консула Сийеса, откупившись от него на время высокооплачиваемой должностью президента Сената. Бывший аббат все правильно понял и не стал отказываться от годового оклада в 200 тысяч франков.
Пост второго консула «незаметно» перешел к юристу Жан-Жаку Режи де Камбасересу, а третьим консулом стал финансист Шарль-Франсуа Лебрён.
Летом 1800 года, после крупной победы над австрийцами при Маренго, стало ясно, что Наполеон может делать с ликующей Францией все, что ему заблагорассудится.
* * *
После этого роялистски настроенная эмиграция поняла, что Наполеон не из тех, кем можно управлять. Он уже давно перестал ощущать себя простым генералом и был готов управлять страной сам. Фактически он и был уже правителем Франции, наделенным почти неограниченной властью. Понятно, что в таких условиях желание враждебного Франции Лондона «убрать» Наполеона еще более укрепилось. Осуществить это желание британская разведка попыталась руками осевших в Лондоне французских роялистов.
Практически в то же самое время подобная мысль возникла и в кругах ярых якобинцев, грустивших об уходящей в забвение Великой французской революции. Для них идеи демократии не были пустым звуком: они своими руками создавали республику и по праву считали себя ее наследниками. Отчаянные средства, которыми они ее создавали, всем известны, и теперь, видя, как Наполеон присваивает себе власть в стране, они считали себя обязанными отомстить. Французский историк Андре Кастело по этому поводу пишет:
«Экстремисты — якобинцы и роялисты — не выносили такого позорного зрелища, когда большинство прежних революционеров и большая часть эмигрантов низкопоклонствовали перед новым хозяином».
В результате первый год Консульства представлял собой череду заговоров, направленных против Наполеона, на которого как роялисты (правые), так и якобинцы (левые) смотрели не иначе, как на узурпатора и тирана, как на позор искренне любимой ими Франции.
Камердинер Наполеона Констан Вери в своих «Мемуарах» утверждает:
«На жизнь первого консула было совершено несколько покушений. Полиция неоднократно предупреждала его о том, чтобы он был настороже и не подвергал себя риску, прогуливаясь в одиночку в Мальмезоне. До последнего времени первый консул вел себя весьма беззаботно в этом отношении; но западни, подстерегавшие его даже в уединенной обстановке семейного круга, вынудили его принять меры предосторожности и стать более благоразумным. Теперь утверждается, что все эти заговоры были всего лишь сфабрикованы полицией, которая хотела казаться более необходимой, или что сам первый консул организовывал все это, чтобы усилить интерес к собственной персоне. Абсурдность всех попыток покушения на его жизнь якобы только подтверждает подобные догадки».
Далее Констан Вери приводит пример одного из таких покушений:
«В комнатах первого консула в Мальмезоне проводились ремонт и работы по украшению каминов. Подрядчик, ответственный за эту работу, прислал в замок резчиков по мрамору, в число которых, судя по всему, втерлись несколько жалких негодяев, нанятых заговорщиками. Охрана первого консула была постоянно начеку и проявляла высочайшую наблюдательность: среди рабочих были замечены люди, которые только делали вид, что работают, но их внешность, манера поведения, профессионализм резко отличались от других рабочих. Эти подозрения, к сожалению, остались всего лишь подозрениями, но когда апартаменты были уже готовы для приема первого консула и он должен был вот-вот занять их, кто-то, проводя окончательный осмотр помещений, нашел на письменном столе табакерку с нюхательным табаком, во всех отношениях похожую на те, которыми пользовался Бонапарт. Сначала было решено, что эта табакерка действительно принадлежит ему и что она была положена и забыта на столе его камердинером; но сомнения, вызванные подозрительным поведением некоторых резчиков по мрамору, привели к дальнейшему расследованию. Состав табака был изучен и качество его подвергнуто тщательному анализу. Выяснилось, что табак был отравлен».
Вслед за этим Констан Вери рассказывает историю о том, как заговорщики, решив захватить первого консула, раздобыли мундиры консульской охраны. Но потом этот план был ими забракован «ввиду сомнительности его исполнения».
* * *
Наиболее решительно настроенные якобинцы создали для уничтожения Наполеона боевую группу. В состав этой группы, называвшей себя «эксклюзивами» (то есть «исключительными» или «нетерпимыми»), входило шесть человек. Ее идейным лидером был 49-летний итальянец Джузеппе Черакки. Родом он был из Рима. Как этого крепко сложенного, красивого и совершенно седого человека занесло во Францию, никто толком не знал. Он был скульптором, достаточно известным в Европе. В 70-е годы он работал в Лондоне над крупными частными и королевскими заказами, дважды бывал в Америке, отличился там прекрасно изготовленными бюстами Вашингтона, Бенджамина Франклина и Джефферсона. Раньше он был знаком с Наполеоном, и у него имелись личные причины ненавидеть его. В свое время они довольно тесно общались, можно сказать, дружили, во всяком случае, разговаривали друг с другом на «ты». Парадокс судьбы, но однажды Черакки даже спас жизнь Наполеону, когда на того на темной улице напали грабители.
Когда Наполеон из простого артиллерийского офицера превратился в знаменитого генерала, Черакки заявился к нему в штаб Итальянской армии. Там он стал вести себя с ним как равный с равным: постоянно «тыкал», хлопал по плечу, давал какие-то советы. Это стало раздражать не только главнокомандующего, но и его окружающих, которые буквально благоговели перед величием своего генерала. Наполеон попытался дать понять своему бывшему приятелю, что подобная фамильярность не очень-то уместна в новых условиях, но жизнерадостный весельчак Черакки никак не хотел понять его.
Английский биограф Наполеона Хилэр Беллок пишет:
«По мере того как итальянская слава Бонапарта росла и его звезда сияла все ярче, Черакки продолжал болтаться при армии и хлопать его по плечу. Бонапарт не мог отослать его прочь».
Будучи ярым республиканцем, Черакки и впрямь не понимал, почему он должен превращаться в придворного и раскланиваться перед своим другом. Кончилось все тем, что люди из окружения Наполеона «поговорили с ним по душам» и полный негодования Черакки уехал к себе домой, в Рим.
Когда Наполеон стал первым консулом, Черакки, бросив жену и шестерых детей, вновь оказался в Париже. Там он добился свидания с Наполеоном и заявил, что хочет сваять его бюст. Наполеон неохотно согласился. И вновь повторилась старая история: прилюдные «тыканья» и хлопанья по плечу. Но теперь все это было еще более неуместно, чем несколько лет назад в Италии. Короче говоря, бюст так и остался незаконченным… Гордость Черакки была уязвлена, и вскоре он оказался в центре людей, готовивших покушение на новоявленного деспота.
Его ближайшим соратником стал бывший офицер 29-летний Джузеппе Арена (во многих источниках его на французский манер именуют Жозефом. — Авт.). Кстати сказать, этот высокий и худой человек с вечно измученным лицом и мешками под глазами тоже был из корсиканской юности Наполеона. А еще он приходился младшим братом Бартоломео Арена, который во время переворота 18–19 брюмера уже один раз занес кинжал над головой Наполеона в Совете пятисот, когда тот явился туда с солдатами, чтобы разогнать законно избранных народных представителей.
По поводу этого последнего факта, изложенного в правительственной газете «Монитор», существует и иное мнение. Оно приводится в воспоминаниях знаменитой писательницы Жермены де Сталь, которую Наполеон, кстати говоря, терпеть не мог и которая отвечала ему тем же. Она не без иронии писала:
«Утверждали, что Арена хотел заколоть Бонапарта кинжалом. Ничего подобного. Самое страшное, что грозило герою, — это оплеуха. Тем не менее Бонапарт испугался до такой степени, что побледнел и, уронив голову на плечо, сказал сопровождавшим его гренадерам: "Уведите меня отсюда". Гренадеры заметили беспокойство Бонапарта и вытащили его из толпы депутатов».
Как бы то ни было, Джузеппе Арена в свое время, как и Наполеон, отличился при осаде Тулона, но после Брюмерского переворота находился в отставке.
Не менее странной личностью в группе «эксклюзивов» был и итальянский приятель Черакки бывший нотариус Диана. Присоединился к группе и художник Франсуа Топино-Лебрён, ученик знаменитого Давида, бывший присяжный революционного трибунала. Член группы Демервилль в свое время работал секретарем при Комитете общественного спасения, а Аррель был капитаном 45-й полубригады, уволенным со службы и поэтому питавшим ненависть ко всему, что хоть как-то процветало и развивалось.
Историк Адольф Тьер характеризует гасконца Демервилля следующим образом:
«Он много говорил, распространял антиправительственные брошюрки и не был способен на большее».
Как видим, группа была весьма разношерстной и включала в себя людей совершенно разных, движимых разными идеями, но объединенных одним — ненавистью к Наполеону.
* * *
Вариантов устранения первого консула рассматривалось множество. Можно было выстрелить в него во время парада на площади Каррузель или подложить бочку с порохом в подвал дворца Тюильри. А еще лучше было подстеречь его, когда он будет ехать в свой загородный дом в Мальмезон, там по пути много оврагов и зарослей, откуда можно было бы неожиданно выскочить и нанести решающий удар. Споры шли долго. При этом Демервилль кричал:
— Бонапарт стал вторым Цезарем и поэтому должен пасть подобно Цезарю!
— Да, — поддерживал его импульсивный Диана, — пусть Цезари не очень важничают. На каждого Цезаря у нас найдется свой Марк Юний Брут!
— Смерть тиранам! — вторил им Топино-Лебрён. — Все на защиту республики… Франция не нуждается ни в Цезарях, ни в Кромвелях!
В конечном итоге акт возмездия, получивший потом название «Заговор кинжалов», был намечен на 10 октября 1800 года. Все должно было произойти в Опере, где в тот день должны были давать премьеру «Горациев» и, конечно же, ожидали Наполеона. Но парижский бездельник Аррель в последний момент испугался — вернее, он не только испугался, но и решил воспользоваться моментом, чтобы заработать денег.
Хилэр Беллок по этому поводу пишет так:
«Поскольку главная обида Арреля заключалась в том, что ему не платили денег, он вел себя, как сотни заговорщиков в истории. Он думал использовать свое положение, чтобы одним выстрелом убить двух зайцев. <…> Аррель хотел обезопасить себя с обеих сторон и решил завести друзей, которые защитят его, как бы ни повернулось дело».
Короче говоря, еще 20 сентября он донес о готовящемся покушении Луи Антуану Бурьенну, секретарю и близкому другу Наполеона, с которым они в свое время вместе воспитывались в Бриеннской военной школе. Тот хорошо заплатил за полученную информацию и тут же передал ее первому консулу. Наполеон довольно потирал руки. Начальник его полиции Фуше, наводнивший Париж своими агентами и провокаторами, ничего не знал, а он, Наполеон Бонапарт, уже был в курсе планов «эксклюзивов». Потом, правда, Фуше пожал плечами и заявил, что знал обо всем и просто не хотел вмешиваться в дело, которым уже занимаются другие.
Посчитав себя в безопасности, Наполеон поехал в Оперу, где на него должны были напасть. Здание театра и все окрестные улицы были заполнены переодетыми людьми префекта полиции Дюбуа, которому была поручена финальная фаза этого дела. Наполеона сопровождал начальник его гвардии генерал Ланн — здоровенный детина, бывший крестьянин-гасконец, взявший на себя роль личного телохранителя. Когда же заговорщики попытались приблизиться к ложе первого консула, их схватили и препроводили в тюрьму Тампль. За содействие в поимке «эксклюзивов» капитан Аррель был восстановлен на службе и назначен комендантом Венсеннского замка.
Позже стали говорить, что это покушение на Наполеона на самом деле было лишь полицейской провокацией, организованной хитроумным Фуше, который чуть ли не лично снабдил «эксклюзивов» оружием, а потом специально отошел в сторону, предоставив возможность «отличиться» другим.
Американский историк Вильям Миллиган Слоон утверждает:
«Многие, в том числе и сам Бонапарт, думали впоследствии, что хитрый министр полиции вел двойную игру и умышленно приберегал шайку заговорщиков, чтобы пустить ее в дело, если это понадобится для его собственных целей».
Существует также версия, что этот заговор был инспирирован самим Наполеоном. Его личный секретарь Бурьенн в своих «Мемуарах…» рассказывает:
«Время шло, но ничего не происходило. Первый консул терял терпение. Наконец Аррель пришел и сказал, что у них нет денег, чтобы купить оружие. Ему их дали. На следующий день он пришел и сказал, что оружейник их не знает и не хочет продавать оружие без разрешения. Пришлось открыться Фуше, и тот дал оружейнику разрешение, права на которое у меня не было».
Трудно поверить, что хитрый и осторожный Бурьенн делал что-либо, не посоветовавшись с Наполеоном.
Французский историк Жак-Оливье Будон развивает эту мысль:
«Бонапарт ловко воспользовался этим заговором. <…> Он стал проводить мысль о том, что его смерть повлечет за собой хаос в стране. Если же он будет облечен доверием нации, то сможет выполнить задачу, которая на него возложена. Заговорщики были схвачены, но их не судили немедленно. Правительство не желало публичного процесса, который мог иметь два пагубных последствия: он предоставил бы трибуну обвиняемым и спровоцировал бы другие покушения подобного же рода».
После ликвидации «заговора кинжалов» полиция начала репрессии против наиболее активных якобинцев. По левой оппозиции был нанесен решительный удар, и это, действительно, было крайне выгодно Наполеону, готовившему страну к своей будущей диктатуре.
Историк Адольф Тьер по этому поводу делает следующий вывод:
«Попытка Черакки, смехотворность которой не была еще известна, стала своего рода предупреждением, испугавшим всех. Боязнь вновь окунуться в хаос охватила умы и породила всеобщее воодушевление по отношению к первому консулу. Толпа побежала к Тюильри. <…> Все общественные власти последовали этому примеру».
И со знаменитым автором «Истории Консульства и Империи» трудно не согласиться. Действительно, французы так устали от революционного беспредела, что теперь генерал Бонапарт стал для них олицетворением долгожданного порядка и стабильности. Никакие заговорщики им были не нужны. Хватит уже, натерпелись за 11 лет…
Влияние Фуше после «оперативной ликвидации попытки покушения» на первого консула также очень существенно и надолго усилилось. Позже в своих «Мемуарах…» Фуше писал:
«Это дело произвело много шума; это и было нужно».
Полиция была увеличена численно, получила новые полномочия, на нее было выделено дополнительное финансирование. Короче говоря, было сделано все то, чего добивался ее начальник — Фуше.
* * *
После такого поворота в повествовании на личности Фуше хотелось бы остановиться поподробнее.
Жозеф Фуше родился в Нанте в 1759 году в семье потомственных моряков и купцов, но ребенок оказался слаб здоровьем и поэтому не пошел по стопам отца. Тощий, бледный, узкоплечий он успешно закончил коллеж, а после этого был отправлен отцом в Париж, где продолжил обучение в семинарии. Там он тоже хорошо учился и отличался прилежанием.
В Париж Фуше попал в ноябре 1781 года, а через год уже сам отправился преподавать математику в коллеж провинциального городка Ньор. Пять лет спустя, поработав в Сомюре, Аррасе и Нанте, он вновь перебрался в Париж.
Биограф Фуше Стефан Цвейг пишет:
«Он мог бы пойти дальше, стать патером, а, быть может, со временем даже епископом или кардиналом, если бы дал монашеский обет. Но для Жозефа Фуше типично, что уже на этой первой, самой низшей ступени его карьеры обнаруживается характерная черта его существа — нежелание бесповоротно и навсегда связывать себя с кем бы или с чем бы то ни было. Он носит священническое облачение и тонзур[4], он соблюдает монастырский режим вместе с остальными патерами, в течение всех десяти лет своего пребывания у ораторианцев он ничем не отличается от священнослужителя ни внешне, ни внутренне. Но он не принимает пострижения, не дает обета. Как всегда, во всех положениях он не отрезает себе пути к отступлению, сохраняет возможность переменить ориентацию».
Несколько лет ортарианской школы научили Фуше очень многому, что в будущем пошло ему на пользу, — главным образом технике молчания, важнейшему искусству скрывать свои мысли, мастерству познания душевного мира человека и его психологии.
Работая в Аррасе, он познакомился с местным уроженцем Максимильеном Робеспьером, во многом определившим его первоначальные политические пристрастия и поступки. Они стали завсегдатаями литературного общества «Розати», своеобразного содружества интеллектуалов города Арраса, и вскоре между ними установилась искренняя дружба. Во всяком случае, когда в 1789 году Робеспьера избрали депутатом Генеральных штатов, деньги на поездку в Париж ему одолжил именно Фуше. Известно также, что Шарлотта Робеспьер, сестра Максимильена, симпатизировала Фуше, и повсюду болтали об их помолвке. Почему, в конце концов, этот брак не состоялся, так и осталось тайной.
Вскоре Фуше организовал «Общество друзей конституции» (такие общества в то время организовывались повсюду. — Авт.) и стал вести активную политическую жизнь, но тут его отозвали в Нант преподавать в том самом коллеже, где он когда-то учился. Но и там Фуше не забыл своих политических пристрастий и в 1791 году стал президентом местного «Общества друзей конституции». В следующем году он был избран в Конвент от департамента Нижняя Луара, сменив тонзуру на трехцветную кокарду депутата. В это время Жозефу Фуше минуло 32 года.
Вновь оказавшись в Париже, Фуше некоторое время не подавал никаких признаков активности, приглядываясь и обрастая необходимыми знакомствами. Но потом он примкнул к жирондистам, а после этого, когда политическая конъюнктура изменилась, перешел в лагерь якобинцев. Уже тогда он сформулировал для себя четкое правило: всегда быть вместе с победителями, ибо победителей не судят.
В 1793 году Фуше голосовал за смертную казнь короля Людовика XVI, потом стал комиссаром Конвента в родном Нанте. Там он сформировал батальон национальной гвардии и, базируясь на его штыках, установил в городе революционный порядок. Потом аналогичную миссию он не менее успешно выполнил и в Вандее. Созданный к тому времени Комитет общественного спасения не мог не обратить внимания на решительного комиссара, и вот Фуше уже в Лионе, только что занятом республиканскими войсками. Его задача там состояла в том, чтобы жестоко покарать бунтовщиков.
В первый же день после приезда Фуше в Лион там было казнено 40 человек. Приговоренных расстреливали из пушек картечью, а общий «кровавый счет» Фуше в Лионе превысил 1600 человек. В своих «Мемуарах…» он потом вспоминал:
«Будучи с миссией в департаментах, вынужденный пользоваться языком времени и подчиняться силе обстоятельств, я увидел себя принужденным применить закон против "подозрительных". Этот закон декретировал массовые аресты священников и аристократов. <…> Закон декретировал суровые наказания <…> столь же безнравственные, сколь и варварские».
Весьма точное определение, хотя и запоздалое.
Вернувшись в Париж, Фуше почувствовал, что конец его бывшего друга Робеспьера близок, и примкнул к его оппозиции. На вызовы в Якобинский клуб он не являлся, но зато близко сошелся с набиравшим вес Полем Баррасом, который начал оказывать Фуше покровительство. После падения Робеспьера и его сторонников Фуше временно стал послом в Цизальпинской, а потом в Батавской Республике. Но тут в Париже неожиданно открылась вакансия министра полиции. Влиятельный член Директории Поль Баррас предложил на этот пост «своего человека». Этим человеком был Жозеф Фуше.
Произошло это потому, что Баррас уже тогда имел нешуточные политические амбиции, но он не доверял своим коллегам, и ему был нужен личный сыщик, подпольный доносчик и осведомитель, не принадлежавший к официальной полиции. Что-то вроде частного детектива. Для этой роли прекрасно подходил Фуше. Он тут же начал слушать и подслушивать, проникать по черным лестницам в дома, ревностно выспрашивать у всех знакомых новейшие сплетни и тайно передавать их Баррасу. И чем честолюбивее становится Баррас, чем он все более жадно строил планы государственного переворота, тем все более нуждался в таком человеке, как Фуше.
На обсуждении его кандидатуры министр иностранных дел Шарль-Морис де Талейран сказал: «В то время, когда якобинцы столь дерзки, никто, кроме якобинца, не сможет их одолеть. Лучшего человека, чем Фуше, для того чтобы унять якобинцев, нет». И 20 июля 1799 года Фуше был назначен министром полиции.
Жозеф Фуше — министр! Париж от этой новости вздрогнул, как от пушечного залпа. Неужели снова начнется террор, как в Лионе, раз власти спускают с цепи этого кровожадного пса? Упаси, Господь!
Фуше охотно принял новое назначение. Это и неудивительно, ведь полиция — это было его место, он был буквально создан для подобных функций.
Министерство полиции было создано в 1796 году, однако единой полиции во Франции не существовало: политической полицией занималась сама Директория, а административная полиция была отдана на откуп местным властям. Фуше пршлось создавать свою полицию фактически заново.
Главным звеном его ведомства стала «секретная полиция». В полицейской иерархии высшую ступеньку Фуше оставил за собой, а «секретная полиция» стала его «кабинетом». Чуть ниже располагалось так называемое «центральное бюро», возглавлявшее парижскую полицию, но находившееся тоже под личным контролем министра.
«Секретная полиция» Фуше функционировала, так сказать, на «личной основе». Министр сам входил в контакты с нужными людьми и знакомился с мнениями, имевшими хождение в парижском высшем обществе. Созданную систему сам Фуше характеризовал так:
«Благодаря этой системе, я был лучше знаком с секретами Франции через устные и доверительные беседы, нежели посредством ознакомления с кипами письменного хлама. Таким образом, ничто существенное для безопасности страны никогда не выпадало из поля моего зрения».
Шпионская сеть, созданная Фуше, была всеохватна. Шпионили везде: в кафе, в театрах, в игорных домах, в общественных местах. Шпионаж приобрел статус важного «общественного служения». Конспирация в деле полицейского сыска была доведена до совершенства: наиболее высокооплачиваемые агенты министра, вращавшиеся в высшем свете, передавали ему свои донесения неподписанными, через третьих лиц. Аналогичным образом агенты Фуше действовали и за границей при дворах практически всех европейских монархов.
Биограф Фуше Стефан Цвейг пишет:
«Он и не собирается вовсе добросовестно передавать своему начальству продукты химической перегонки сведений, которая производится в его лаборатории; с беззастенчивым эгоизмом он переправляет туда лишь то, что считает нужным: зачем учить разуму болванов из Директории и открывать им свои карты? Только то, что ему выгодно, что, безусловно, принесет выгоду лично ему, выпускает он из своей лаборатории, все прочие стрелы и яды он тщательно бережет в своем частном арсенале для личной мести и политических убийств. Фуше всегда осведомлен лучше, чем предполагает Директория, и поэтому он опасен и вместе с тем необходим для каждого».
В намечавшемся Брюмерском перевороте, который должен был вызвать падение Директории, Фуше участия не принимал. Он был слишком осторожен и повел себя очень хитро. Его биограф Стефан Цвейг отмечает:
«Слишком строго, слишком убежденно придерживается он своего жизненного принципа: никогда не принимать окончательного решения, пока не определилось, на чьей стороне победа. Но происходит нечто странное; в последующие недели обладающего столь тонким слухом, столь острым зрением министра французской полиции поражает тягостный недуг: он внезапно становится слепым и глухим. Он не слышит наводняющих город слухов о предстоящем государственном перевороте, не видит бесчисленных писем, которые суют ему в руки. Все его обычно безукоризненные достоверные источники информации словно магически иссякли, и, в то время как из пяти членов Директории двое даже участвуют в заговоре, а третий наполовину к нему примкнул, министр полиции не подозревает о готовящемся военном перевороте или, вернее, делает вид, что не подозревает. В его ежедневных донесениях нет ни строчки о генерале Бонапарте и о клике, нетерпеливо бряцающей оружием; правда, и другой стороне, стороне Бонапарта, не доставляет он никаких сведений, не сообщает ни строчки. Только молчанием предает Фуше Директорию, только молчанием связан он с Бонапартом, и он выжидает, выжидает, выжидает».
Известен, например, такой факт. Во время одного из светских приемов Фуше беседовал с членом Директории Луи Гойе.
— Какие новости, гражданин министр? — спросил его Гойе.
— Новости? — удивленно переспросил Фуше. — Да, собственно, нет никаких новостей.
— Ну а все же?
— Да так, одна пустая болтовня!
— О чем?
— О заговорах.
— О заговорах? — встревоженно воскликнула стоявшая рядом жена Наполеона Жозефина.
— Да, о заговорах, — спокойно отвечал Фуше. — Но я-то знаю, как к этому относиться. Поверьте мне, гражданин директор, я их хорошо умею различать. Если бы действительно существовал заговор, вы бы уже знали об этом.
После этого уже сам Гойе успокаивал Жозефину:
— Мадам может спать спокойно. Министр полиции — человек, знающий свое дело.
До 18 брюмера оставалось всего несколько дней… После Брюмерского государственного переворота с Директорией было покончено, и в стране был установлен режим Консульства. Кто возглавил консульскую полицию? Конечно же, Жозеф Фуше.
Теперь Наполеон был победителем, а повелитель Директории Баррас — главной жертвой. Еще некоторое время он ожидал, что Наполеон вспомнит о нем, но его ожидания оказались напрасными, и вскоре он добровольно подал в отставку. Позже Барраса выслали из Парижа, а в 1810 году ему было окончательно запрещено жить во Франции. Вынужденный поселиться в Риме, он оставался там вплоть до отречения Наполеона. Его уделом вплоть до самой смерти были лишь воспоминания о былой славе и писание мемуаров.
Фуше же в очередной раз перешел из одного лагеря в другой.
Стефан Цвейг по этому поводу пишет:
«Жирондистов свергли — Фуше остается, якобинцев прогнали — Фуше остается, Директория, Консульство, империя, королевство и снова империя исчезают и гибнут — один лишь Фуше всегда остается благодаря своей изумительной сдержанности, благодаря своему дерзкому мужеству, с которым он сохраняет полную бесхарактерность и неизменное отсутствие убеждений».
Да и как его было удалить. Если это сделать — созданная им машина тотчас же остановится. Фуше все предусмотрел, он знал: если ему вдруг придется покинуть свой пост, одного взмаха его руки будет достаточно, чтобы вывести из строя сооруженную им многоуровневую конструкцию. Ведь не для государства, не для Директории и не для Наполеона создавал он свое произведение, а лишь для самого себя.
Впрочем, в первые месяцы их совместной деятельности гражданин министр полиции Фуше преданнейшим образом предоставлял себя в распоряжение гражданина консула Наполеона Бонапарта.
За несколько месяцев Фуше восстановил в стране полное спокойствие. Он уничтожил последние гнезда как террористов, так и роялистов, очистил дороги от грабителей, и его кипучая энергия с готовностью подчинялась обширным государственным планам Наполеона. Большие и благотворные дела всегда объединяют людей: слуга нашел своего господина, а господин — подходящего слугу.
Уже на третий день после вступления в должность Фуше предоставил Директории декрет, направленный против роялистов. Директоры были удивлены тем, что наибольшую опасность для правительства, по мнению министра полиции, представляли роялисты. На вопрос Сийеса, почему Фуше не хочет ничего предпринимать против якобинцев, Фуше ответил: «Если мы предпримем лобовую атаку против них — наш успех сомнителен. Поэтому сначала мы должны принять меры против роялистов. Все якобинцы поддержат нас в этом, а на следующий день мы покончим с якобинцами».
Обрушившись сначала на роялистов, Фуше затем издал распоряжение, поставившее все политические клубы под контроль властей. Он лично явился в Якобинский клуб, закрыл его заседание, запер дверь этого некогда знаменитого собрания и положил ключ себе в карман. Придя в Люксембургский дворец, он не без кокетства положил свой «трофей» на стол изумленных директоров.
Виновны якобинцы или нет, не важно. Сейчас я от них избавился. Если найдут виновных среди роялистов, ударят и по ним.
Если нельзя призвать их к порядку, их нужно всех безжалостно раздавить.
Наполеон всегда любил или делал вид, что любит оперу. Во всяком случае, он часто посещал представления, стараясь не пропускать ни одной премьеры. Вот и в этот вечер он договорился с Жозефиной, что назавтра они пойдут на спектакль, причем пойдут всей семьей, то есть вместе с ее детьми от первого брака — Эженом и Гортензией. Прекрасно зная, что жена обожает слишком долго готовиться к выходам в свет, Наполеон попросил Жозефину не заставлять себя ждать — все-таки у первого консула свободного времени было не так много. Все нужно было сделать заранее. Короче говоря, она должна была быть готова к семи тридцати вечера. Ради этого был даже немного передвинут традиционный час обеда.
Ровно в пять часов Наполеон спустился к жене, надеясь застать ее за приготовлениями к отъезду. Но та, как ни странно, и не думала собираться. Она лежала на диване, а ее дочь преспокойно сидела рядом с ней.
— Послушай-ка, ленивица, — смеясь, сказал Наполеон, — ты что, забыла? Сегодня вечером мы идем в Оперу. Мы же договорились… Уже темнеет, а ты даже не начала причесываться! О чем ты только думаешь?
Жозефина вяло подтвердила, что они договаривались, но сейчас она не может собираться, так как голова ее раскалывается от мигрени.
— Да уж! — воскликнул Наполеон. — Опять не твой день! Ну да ладно, вставай! Я хочу, чтобы ты сегодня надела свою новую кашемировую шаль, полученную из Константинополя.
— Уверяю тебя, Бонапарт, — это не каприз. Посмотри, убедись сам, что у меня настоящая горячка.
Сказав это, она протянула ему самую красивую руку, какую он когда-либо видел.
— Действительно, — озабоченно подтвердил Наполеон, — ты вся горишь. На, попей-ка воды. Хочешь, я велю позвать доктора Корвизара?
— Сегодня вечером он вряд ли мне поможет.
— Тогда просто полежи. Бог с ним, со спектаклем. Я пойду поработаю, а в Оперу мы можем съездить и в другой день. Я еще зайду к тебе, а ты пока постарайся заснуть.
Наполеон поцеловал жену и ее дочь и неслышно удалился.
Часов в девять Наполеон вновь заглянул в комнату жены и тихо спросил у Гортензии, читавшей у постели больной, как дела.
— Генерал, ей все еще плохо, — ответила та.
— Вот как, вот как? Вашей матери следовало бы делать, как это делаю я.
— А что делаешь ты? — спросила Жозефина, открыв глаза.
— Я не делаю ничего, так как в подобных случаях это лучшее, что можно делать. Спроси, у кого хочешь.
— Ой, милый, оставь меня со своими шутками. Говорю тебе, что я очень больна.
Наполеон лишь пожал плечами и, пожелав жене и падчерице спокойной ночи, удалился, чтобы вернуться назавтра и узнать, что его Жозефине стало лучше. Даже не пришлось приглашать доктора Корвизара. Она лишь сожалела о спектакле, который из-за нее пришлось пропустить.
— Не беда, — сказал Наполеон, — пойдем как-нибудь в другой раз.
Ждать пришлось недолго. На следующей неделе Жозефина обедала вместе с сестрой Наполеона — мадам Мюрат, генералами Ланном и Бессьером, а также с капитаном Лебрёном, адъютантом мужа. Наполеон в это время работал над бумагами, закрывшись в кабинете вместе со своим секретарем Бурьенном. Заговорили о музыке, естественным образом речь зашла и о Парижской опере. Мадам Мюрат объявила, что как раз сегодня, 24 декабря 1800 года, должно состояться первое исполнение оратории Гайдна «Сотворение мира». В представлении должны были принять участие более двухсот первоклассных оркестрантов и лучших певцов, что обещало невиданный успех. За билеты брали двойную цену, но их все равно буквально рвали из рук.
— Вот и отлично! — воскликнула Жозефина. — Вот прекрасный повод выйти в свет. Капитан Лебрён, будьте так любезны, позаботьтесь об эскорте. Мы едем в Оперу!
— Но, мамочка, — воскликнула Гортензия, — сможет ли первый консул поехать с нами? Мы ведь собирались сделать это вместе…
— Он обязательно поедет, моя дорогая, поверь мне.
— Только не просите меня идти отрывать его от дел, — взмолил Ланн. — Вы же видели, сегодня у генерала масса дел, и настроение у него, похоже, не самое подходящее для Гайдна.
— Он такой уже несколько дней, — возразила Жозефина, — но не стоит обращать на это внимание.
— Я беру это на себя, мадам, — засмеялся Бессьер, — но при условии, что вы позволите мне поехать с вами.
— Непременно! — сказала любвеобильная мадам Мюрат и многозначительно посмотрела на красавца Бессьера.
Ланн, Бессьер и Лебрён удалились, а через несколько минут пришел первый адъютант Наполеона — Дюрок и доложил, что первый консул охотно поедет в Оперу. Он отправится туда в своей карете вместе с Ланном, Бессьером и Лебрёном. Сам же Дюрок будет сопровождать дам, когда они будут готовы. На этом и договорились.
* * *
Две консульские кареты на достаточно большом расстоянии друг от друга неслись к зданию Оперы. Когда они вылетели на узкую улочку Сен-Никез (было ровно восемь часов вечера), вдруг раздался страшный грохот. Затем послышались крики, стоны, ржание лошадей. В густом дыму ничего нельзя было разглядеть…
Когда его клубы несколько рассеялись, стало ясно, что случилось что-то экстраординарное. Только бешеная скорость, с которой мчалась первая карета, спасла Наполеона. Задержись она хотя бы на десять секунд, Бонапарт и все, бывшие с ним, взлетели бы на воздух. К счастью, первый консул, как всегда, торопился, и кучер гнал лошадей что есть мочи, и вот эта-то поспешность и избавила от трагической гибели человека, преждевременная смерть которого изменила бы судьбы Франции и всей Европы.
В следовавшей в нескольких десятках метров позади карете Жозефины от взрыва разлетелись стекла.
Камердинер Наполеона Констан Вери в своих «Мемуарах…» потом написал:
«Госпожа Бонапарт совсем не пострадала, но она испытала сильнейший испуг. Гортензия была легко ранена в лицо осколком оконного стекла, а госпожа Каролина Мюрат, бывшая на последних месяцах беременности, так напугана, что пришлось ее везти обратно в Тюильри».
— Это против Бонапарта! — закричала Жозефина. Чтобы успокоить парализованных страхом женщин, Дюрок выскочил из кареты, а потом объявил, что произошел несчастный случай в одной из оружейных мастерских на соседней улице Ришельё, но первый консул и сопровождавшие его не пострадали.
На самом деле, это был не несчастный случай. Все пространство между двумя каретами было залито кровью и завалено телами убитых и раненых. О силе взрыва — а это явно был результат действия «адской машины» — красноречиво свидетельствовало и то, что, как потом выяснилось, было повреждено более сорока расположенных вблизи домов.
Все тот же камердинер Констан Вери вспоминает:
«Все оконные стекла в Тюильри были разбиты, и многие соседние дома разрушены. Сильно пострадали все дома на улице Сен-Никез и даже дома на улицах, примыкавших к ней».
Также выяснилось, что при взрыве погибло 22 человека (12 охранников из консульской гвардии и 10 случайных прохожих) и было ранено еще около шестидесяти. Карета Наполеона оказалась наполовину разбита. Сам он лишь чудом не был убит или жестоко искалечен.
Грохот от «адской машины» был настолько силен, что его услышали даже в стенах «Комеди Франсез», где произошел курьезный случай. Один из актеров театра Арман д'Айи, с успехом дебютировавший в 1800 году, высказал предположение, что это салют в честь очередной победы французского оружия над врагами республики. По его настоянию о «радостном событии» было объявлено собравшейся в зале публике. Когда выяснилось, в чем дело, незадачливый патриот был арестован, посажен в тюрьму и лишь с немалым трудом сумел доказать свою невиновность.
Жермена де Сталь потом вспоминала:
«Вечером я беседовала с друзьями; внезапно раздался страшный шум, однако мы решили, что это стреляют на учениях, и спокойно продолжили разговор. Спустя несколько часов мы узнали, что на первого консула было совершено покушение, и он едва не погиб от взрыва на пути в Оперу».
— Нас хотели взорвать! — кричал в это время на заваленной обломками и окровавленными телами улице Сен-Никез первый консул.
Ланн и Бессьер настаивали на том, чтобы возвратиться во дворец Тюильри.
— Нет, — твердо сказал Наполеон, — мы едем в Оперу!
* * *
Наполеон вошел в свою ложу с виду совершенно спокойный, так что публика в театре только через некоторое время узнала о происшедшем. Когда же в зале прошел слух о взрыве, публика устроила Бонапарту бурную овацию. Тот сдержанно поклонился. Лицо его было бледным, а губы чуть заметно дрожали.
Но он недолго демонстрировал спокойствие. Показав перед публикой в течение нескольких минут, что никакая опасность не способна сбить его с намеченного пути, Наполеон поспешил в Тюильри, где уже собрались все значительные лица той эпохи, чтобы узнать, что случилось и чем все это кончится.
Стефан Цвейг по этому поводу пишет:
«С равнодушным, непроницаемым видом внемлет он нежным мелодиям старика Гайдна и с притворным спокойствием благодарит за шумные приветствия, в то время как сидящая рядом с ним Жозефина дрожит от нервного потрясения и не может скрыть слез. Но то, что это хладнокровие было лишь искусно разыгранной комедией, почувствовали все министры и государственные советники, как только он вернулся из Оперы в Тюильри».
Едва войдя в комнату, где находились собравшиеся, Бонапарт расслабился и отдался на волю всей горячности своего характера. Громким голосом он закричал:
— Полюбуйтесь, вот дела якобинцев! Эти мерзавцы хотели меня убить! В этом заговоре нет ни дворян, ни шуанов[5], ни духовенства! Я стреляный воробей, и меня не обмануть. Заговорщики — это просто бездельники, которые вечно бунтуют против всякого правительства. Если уж их нельзя усмирить, то надо их раздавить. Надо очистить Францию от этой негодной дряни. Им не должно быть никакой пощады!
Позже, немного успокоившись, он сказал жене:
— Тебе, дорогая, здорово повезло. Они метили в меня, но вполне могли попасть в тебя.
Жозефина и Гортензия рыдали.
— Разве это жизнь? — воскликнула сквозь слезы Жозефина. — На сей раз твоим врагам не повезло, но в следующий раз счастье может им улыбнуться. Теперь только и будешь делать, что постоянно бояться убийц.
— Надо будет устроить головомойку министру полиции Фуше, — подумав, сказал Наполеон.
— На твоем месте я не имела бы дел с этим человеком. Я его боюсь.
— Что ты хочешь? Могу ли я сейчас обойтись без него? Он такой ловкач: я из этого всегда смогу извлечь выгоду… И потом, будь спокойна, моя дорогая, это дело позволит мне пойти дальше. Они еще не знают…
И действительно, через четыре года Наполеон уже был императором всех французов.
* * *
Начавшееся немедленно следствие на первых порах ничего не выяснило, и никто не был арестован на месте взрыва. Наполеон, как мы уже знаем, был убежден, что и на этот раз покушение было организовано якобинцами.
Историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо констатируют:
«Он приписал это преступление якобинцам, то есть тем республиканцам, которые остались верны республике. Прошло то время, когда он распинался перед ними, добиваясь их расположения, чтобы обеспечить успех плебисцита. Он ненавидел и боялся их больше какой-либо другой партии. Крики "вне закона", которыми они его преследовали в день 19 брюмера, все еще звучали в его ушах. Он поспешил воспользоваться удобным случаем, чтобы избавиться от некоторых из них и запугать остальных».
Министру полиции Фуше он так и объявил: он уверен, что «адская машина» была подложена якобинцами. Намеки Фуше, что, возможно, заговор был другого происхождения, встретили лишь насмешку: конечно, бывший член Конвента, бывший «левый» якобинец теперь стремится выгородить своих прежних единомышленников.
— Это дело рук якобинцев! Только они одни желают моей смерти! Это же бандиты, среди них нет ни одного благородного человека.
Фуше молчал, и это все больше раздражало Наполеона.
— Вы, Фуше, наверное, чем-то слишком сильно заняты, раз не обращаете достаточно внимания на якобинцев.
Фуше спокойно возразил, что еще не выяснено, подготовлено ли это покушение якобинцами; он лично убежден, что в этом деле играют главную роль роялистские заговорщики и английские деньги. Но спокойный тон возражений Фуше еще сильнее озлобил первого консула:
— А я говорю, что это якобинцы. Это террористы, это вечно мятежные негодяи, сплоченной массой действующие против любого правительства. Эти злодеи готовы принести в жертву тысячи жизней, лишь бы убить меня. Но я расправлюсь с ними так, что это послужит уроком для всех им подобных.
Фуше молчал.
— Фуше, я лучше знаю, кто подложил под меня эту бомбу, — продолжал кипятиться Наполеон. — Вы можете ловить, кого хотите, но я-то уверен, что фитиль подпалили ваши друзья якобинцы!
Фуше не отступался от своих выводов:
— Это дело явно проплачено Лондоном, а англичане не стали бы платить деньги якобинцам. И вообще какое отношение к взрыву имеют якобинцы? Разве это доказано?
— Фуше, я не нуждаюсь в ваших доводах. Мне нужна массовая депортация, чтобы очистить Францию от этих негодяев…
Фуше не мог прийти в себя от изумления.
— И вообще вы надоели мне, Фуше, — продолжал кричать Наполеон. — Мне нужна полиция, а не юстиция!
Фуше осмелился еще раз высказать свои сомнения. Тут вспыльчивый корсиканец готов уже был наброситься на министра, но Жозефине пришлось вмешаться и взять супруга за руку. Наполеон, пытаясь вырваться, принялся перечислять все убийства и преступления якобинцев. Но чем больше горячился первый консул, тем упорнее молчал Фуше. Ни один мускул не дрогнул на его непроницаемом лице, пока сыпались обвинения, пока братья Наполеона и придворные насмешливо перемигивались, глядя на министра полиции. С ледяным спокойствием он отверг все подозрения и невозмутимо покинул Тюильри.
* * *
Уверенность Наполеона подкреплялась тем, что «адская машина», взорванная на улице Сен-Никез, представляла собой точную копию бомбы, изготовленной как раз в это время революционером-экстремистом, противником режима Консульства, неким Александром Шевалье. Шевалье в свое время работал на производстве пороха и хорошо знал свое дело. Его устройство состояло из железной бочки, наполненной порохом, другими горючими материалами, пулями и прочими острыми металлическими предметами. Взрывная смесь поджигалась при помощи длинной проволоки, приводившей в действие детонатор. В ночь с 17 на 18 октября 1800 года Шевалье провел испытание своей «адской машины» в одном старом ангаре.
Фуше через одного из своих тайных агентов, конечно же, тоже знал об этом изобретении. В ночь с 7 на 8 ноября Шевалье и его друзья были им захвачены и брошены в тюрьму Тампль. Теперь, после покушения на улице Сен-Никез, многих якобинцев отправят на эшафот, и ему, Фуше, предстоит послушно выполнять приказ первого консула, звучавший так: самым жестким образом раздавить якобинскую оппозицию новому режиму.
— Нации объявлена война! — кричал Наполеон. — Первый консул — это воплощение нации, ее персонифицированное выражение, а покушение на первого консула — это покушение на нацию, покушение на конституцию.
Итак, Наполеон решил покончить с оппозицией слева, и взрыв на улице Сен-Никез оказался ему весьма кстати. Фуше было велено составить проскрипционный список. Министр полиции, по его собственным словам, не одобрял принятия репрессивных мер против якобинцев, но список, разумеется, составил. В него попало более ста человек, и все они были арестованы. Многие потом подверглись ссылке в Гвиану, откуда редко кто возвращался. Кое-кто пошел на гильотину.
Уточнения можно найти у французских историков Эрнеста Лависса и Альфреда Рамбо:
«Бывший член Совета пятисот Дестрем, 19 брюмера в Сен-Клу бросивший в лицо Бонапарту слова сурового осуждения[6], был сослан в Гвиану и более не увидел Франции. Кроме него в Гвиану было сослано еще около сорока человек. Остальных, в том числе бывшего генерала Россиньоля, сослали на Маэ, один из Сейшельских островов.
Этим не ограничились меры, принятые Бонапартом против республиканцев. Постановлением от 17 нивоза IX года (7 января 1801 года) были отданы под надзор полиции в пределах Франции, с запрещением жить в департаменте Сены и смежных с ним, пятьдесят два гражданина, известные своим демократическим образом мыслей… Несколько жен и вдов республиканцев, как вдовы Шометта, Марата и Бабёфа, были без суда заключены в тюрьму. Были также и казни, несколько человек были беззаконно приговорены к смерти».
Жозеф Черакки и его незадачливые сообщники были преданы суду. Закрытый процесс начался 7 января 1801 года и завершился через два дня. Диана был приговорен к длительному заключению, а Черакки, Арена, Демервилль и Топино-Лебрён — к высшей мере наказания. 30 января в девять часов утра они взошли на эшафот. Но за два часа до этого Демервилль вдруг заявил, что готов рассказать все, что знает о корнях и финансировании заговора. С ним разговаривали полтора часа, но Демервилль все это время требовал, чтобы ему и его сообщникам заменили смертную казнь депортацией из страны. Иначе, мол, он ничего не скажет. Этих его требований власти не приняли, и Демервилль присоединился к своим товарищам.
Перед смертью Арена воскликнул: «Если меня считают республиканцем и врагом первого консула, то я заслуживаю своей судьбы, если сообщником убийц, то я невиновен!»
Создатель «адской машины» Шевалье и его помощники были расстреляны еще раньше — 11 января.
Из списка, составленного Фуше, многие попали в ссылку и в тюрьмы без суда и следствия и не были освобождены, даже когда истина восторжествовала.
Противница Наполеона Жермена де Сталь потом вспоминала:
«Список этих якобинцев составлялся самым беззаконным образом; государственные советники вписывали в него одни имена и вычеркивали другие, а сенаторы эти решения утверждали. Тех, кто не одобрял способ, каким был составлен этот список, убеждали, что в него вошли исключительно злодеи, повинные в страшных преступлениях».
Ей вторит секретарь Наполеона Бурьенн:
«Я с ужасом наблюдал, как первый консул устремляется по дороге произвола. Но кто мог перечить его воле?»
Послушный Сенат провозгласил эти меры «конституционными». Что же касается Фуше, так тот написал в одном из своих рапортов:
«Все эти люди, конечно, не держали кинжала в руках, но все они общеизвестны, как способные заточить его и держать в руках».
Воспользовавшись парижскими репрессиями, префекты в провинции тоже начали жесточайшую травлю против всех, кто за годы революции обнаружил словом или делом симпатию к борьбе против реакции. Теперь уцелевшие реакционеры имели отличный предлог свести с ними счеты.
При всем при этом Фуше, избавляясь от компрометировавших его бывших друзей, с самого начала был уверен, что якобинцы в данном случае абсолютно ни при чем. Усердствовал он и для того, чтобы угодить раздраженному Наполеону.
Не вмешиваясь, он спокойно наблюдал, как изгоняют одних и казнят других. Он молчал, как священник, связанный тайной исповеди. На самом деле, Фуше уже давно напал на след, и пока другие насмехались над ним, а сам Наполеон ежедневно иронически упрекал его за «глупое упорство», он собирал в своем доступном лишь для немногих кабинете неоспоримые доказательства того, что покушение в действительности было подготовлено роялистским подпольем. Встречая с холодным, вялым и равнодушным видом многочисленные нападки в Государственном совете и в приемных Тюильри, Фуше лихорадочно работал с самыми лучшими агентами в своей секретной комнате. Были обещаны громадные награды, все шпионы и сыщики Франции были подняты на ноги.
* * *
А тем временем довольный Наполеон лишь потирал руки: «Виновны якобинцы или нет — это не важно. Важно то, что теперь я от них избавлен. Эта бочка взорвалась весьма кстати. Если бы ее не было, мне самому надо было бы взорвать ее под своей кроватью. Пусть якобинцы оплакивают свое прошлое, в будущем я им отказываю. Будущее принадлежит мне!»
Наполеон быстро сообразил, что из неудавшегося покушения на улице Сен-Никез можно извлечь двойную политическую пользу. Эпоха относительной терпимости кончилась.
После Брюмерского переворота (ноябрь 1799 года) и до 24 декабря 1800 года во Франции, конечно же, действовал режим личной власти, но это был режим, так сказать, «мягкого бонапартизма». Он был похож на режим предыдущей Директории, только вместо пяти директоров теперь было три консула, да одни законодательные учреждения по новой конституции были заменены другими. Личная власть Наполеона ограничивалась им же введенным основным законом. Он даже не смел провозгласить себя верховным главнокомандующим, поскольку конституция этого не предусматривала. В стране легально действовала оппозиция — и левая, и правая. Даже в созданном по новой конституции Трибунате (одном из законодательных органов. — Авт.) политика Наполеона и вносившиеся им законопроекты подвергались ожесточенной критике. Знаменитый французский писатель-романтик Бенжамен Констан, подстрекаемый не менее знаменитой мадам де Сталь, сделал себе имя на яростных антибонапартистских речах. В Вандее продолжали действовать, говоря современным языком, незаконные вооруженные бандформирования шуанов, поддерживавшиеся роялистской эмиграцией и Лондоном, и разгромить их никак не удавалось.
Наполеон, конечно, затыкал рот наиболее яростным критикам и все время старался «закрутить гайки», но это были лишь частные изменения. После же взрыва на улице Сен-Никез пришло время глобальных изменений. Взамен «мягкого бонапартизма» во Франции установился режим прямой диктатуры — диктатуры Наполеона Бонапарта. В этой диктатуре не было места оппозиции, свободной прессе и критике. Законодательные органы были превращены в настоящую бутафорию. Стране была предложена «национальная идея», заключавшаяся в объединении всех французов вокруг Наполеона. Всех, начиная от бывших санкюлотов, ненавидевших аристократов, и кончая аристократами, ненавидевшими санкюлотов.
Быстро поняв свою выгоду, Наполеон был вынужден согласиться с мнением Фуше. «Фуше рассудил лучше многих других, — говорил Наполеон. — Он оказался прав. Теперь нужно зорко следить за вернувшимися эмигрантами, за шуанами и всеми принадлежащими к этой партии».
Министр полиции, благодаря этому делу, приобрел в глазах Наполеона больший вес, но не любовь. Никогда самодержцы не бывают благодарны человеку, обнаружившему их ошибку.
Все более распаляясь, Наполеон угрожал: «Я уверен, необходимо показать большой пример того, что я готов противостоять этим подлым злодеям, судить их и подписать им приговор. Но здесь я говорю не о себе. Я подвергался и не таким опасностям, моя фортуна меня от них сберегла, и я на нее еще рассчитываю. Здесь речь идет об общественном порядке, о морали и о национальной славе».
* * *
На самом деле события 24 декабря 1800 года, конечно же, были частью роялистского заговора.
Историк Альбер Вандаль дает следующее определение царивших среди роялистов настроений:
«Роялистское движение, обнаружившееся в последние времена Директории, не остановилось сразу. Возвышение Бонапарта замедлило его, толкнуло его на другой путь, но не поставило ему непреодолимой преграды. Положительно можно утверждать, что весьма значительная часть французов видела в Бонапарте только последнюю ступень к восстановлению королевской власти, только временного, хотя и поразительно даровитого правителя. Мирные роялисты, лишь теоретически отдавшие предпочтение королевской власти, теперь уже склонялись в пользу примирения, готовы были удовольствоваться той безопасностью, которую давало им Консульство; роялисты же боевого типа, люди пламенной веры и дела, не собирались сложить оружия. <…> Они порешили: в случае, если консул в ближайшем будущем не исполнит их требований, пустить в ход против него все те средства, при помощи которых они вели борьбу с его предшественниками, объявить ему войну не на жизнь, а на смерть, — и эти враги были бы действительно опасны, ибо они одни способны были стойко держаться против Бонапарта. Общественное мнение относилось к ним до известной степени сочувственно, видя в них открытых противников якобинства».
Наполеон успокаивал себя тем, что народу нужна сильная власть, что он примет ее как эквивалент королевской власти. Относительно народных масс Наполеон был прав: простые французы желали только одного: чтобы их не слишком угнетали и разумно управляли. Но и роялисты представляли собой немалую силу, способную взволновать народ и втянуть его в беспорядки.
Историк Поль-Мари-Лоран де л'Ардеш по этому поводу пишет:
«Со своей стороны и те, которые ожидали найти в Бонапарте нового Монка, не видя исполнения своих ожиданий, составили тоже против него заговор и устроили известную "адскую машину"».
Аналогичную мысль можно найти и у Стендаля:
«Умеренность первого консула, так сильно отличавшаяся от насилий предыдущих правительств, внушила роялистам безрассудные и безграничные надежды. Революция обрела своего Кромвеля; они были настолько глупы, что увидели в нем генерала Монка».
Упоминание Монка может быть не всем понятным, и оно нуждается в комментариях. Джордж Монк был одним из наиболее блестящих полководцев Великобритании XVII века. Он доблестно сражался против испанцев, ирландских и шотландских повстанцев, одно время был соратником могущественного Кромвеля. После смерти Кромвеля Монк выступил против генерала Ламберта, который в октябре 1659 года силой разогнал парламент. Монк занял Лондон, содействовал восстановлению парламента, а потом начал вести переговоры с принцем Карлом Стюартом, скрывавшимся до этого в Брюсселе. В мае 1660 года Карл высадился в Дувре и был провозглашен королем. За вклад в реставрацию королевского рода Стюартов Монка удостоили титула герцога и чина лорда-лейтенанта Ирландии.
Аналогичным образом, французские роялисты надеялись, что генерал Бонапарт посодействует реставрации Бурбонов, но они просчитались. Дальнейшие их действия Стендаль описывает следующим образом:
«Убедившись в своей ошибке, они стали искать способ отомстить за свои обманутые надежды и додумались до "адской машины"».
Убежденный в том, что это был роялистский заговор, Фуше послал в Бретань одного из своих опытных лазутчиков по имени Дюшателье с задачей разузнать о связях руководителя шуанов Жоржа Кадудаля с Парижем.
Дюшателье быстро разведал, что два помощника Кадудаля — Пьер Робино де Сен-Режан и Жозеф-Пьер Пико де Лимоэлан — тайно прибыли в Париж. Однако Кадудаль считал, что не имеет смысла убивать первого консула: его место тут же займет кто-либо другой, а роялисты останутся ни с чем. По его мнению, лучше было похитить Бонапарта и держать его в качестве заложника.
Сен-Режан и Лимоэлан прибыли в Париж как раз тогда, когда полиция сообщила об обнаружении взрывного устройства Шевалье. Шуаны решили последовать примеру Шевалье и, опираясь на имевшиеся у них связи в столице, принялись за изготовление «адской машины».
Зная, что Наполеон часто бывает в Опере, Сен-Режан провел разведку площади Каррузель, потом осмотрел консульские конюшни возле дворца Тюильри. Лучшим местом для покушения ему показался угол улицы Сен-Никез — она выходила на другую улицу Сент-Оноре, а та вела прямо к театру, по ней карета Наполеона обязательно должна будет проехать.
24 декабря заговорщики поставили на улице Сен-Никез повозку, где находился заряженный смертоносный механизм. Один из них дежурил на площади Каррузель, он должен был увидеть выезжающего Наполеона и подать сигнал своим сообщникам.
— Что-то они опаздывают, — озабоченно сказал Сен-Режан.
— Кажется, едут!
План оказался верным: на тихой улице Сен-Никез никто не обращал внимания на повозку с бочкой. А слабо тлеющий фитиль уже подкрадывался к начинке «адской машины»…
— Бежим! — крикнул Сен-Режан.
Вроде бы все было рассчитано, и сигнал был подан вовремя, но детонатор сработал чуть позже, чем следовало по плану, и карета Наполеона успела промчаться мимо. После этого заговорщики скрылись на одной из конспиративных квартир.
Полиция начала расследование. На месте взрыва были обнаружены останки лошади, которая была запряжена в повозку с «адской машиной». Как выяснилось, эту лошадь держала под уздцы четырнадцатилетняя девочка. Ее звали Пёсоль, и она была дочерью уличной торговки. Позже выяснилось, что за то, что она подержит лошадь, ей обещали двенадцать су. Девочку мощным взрывом разорвало на множество маленьких частей. Собственно, как и повозку с лошадью.
* * *
Префект полиции Луи Дюбуа и специально приглашенный им ветеринар тщательно собрали окровавленные останки лошади. Потом они стали опрашивать торговцев лошадьми, и 27 декабря некий Ламбель признал животное, которое он лично продал вместе с повозкой за двести франков. Он хорошо помнил покупателя и дал его подробное описание. Главной отличительной чертой покупателя был шрам над левым глазом.
Полиция быстро установила, что лошадь была куплена неким Франсуа Карбоном. После этого не составило труда узнать, что этот Карбон (кличка Маленький Франсуа, 45 лет) проживал на улице Сен-Мартен в доме своей сестры. Раньше он был моряком, потом сотрудничал с шуанами. Дома Карбона не оказалось, и тут же все полицейские Парижа получили приказ о его задержании.
18 января 1801 года Карбон был схвачен в своем новом убежище на улице Нотр-Дам-де-Шан, куда он перебрался сразу после взрыва. Арестованный сначала все отрицал, но потом у него была найдена записка весьма подозрительного содержания:
«Сидите спокойно и без надобности не выходите на улицу. Верьте только мне одному. Остерегайтесь других людей, даже если они будут представляться моими друзьями, они могут обманывать. Я о вас не забуду. Скоро увидимся».
Допрошенный «с пристрастием» Карбон признался, что это записка от одного из шуанских командиров Лимоэлана, по приказу которого он и купил лошадь с повозкой. А еще он назвал полиции имя главного сообщника Лимоэлана Пьера Робино де Сен-Режана. Карбон сказал, что его задачей было кормить лошадь и ждать дальнейших указаний. 24-го числа в четыре часа пополудни к нему пришел Лимоэлан и приказал запрягать лошадь. Он был одет с синюю робу извозчика, а потом сел в повозку и уехал. Больше Карбон ничего не знал, но и этого было достаточно, чтобы полиция объявила охоту на Сен-Режана и Лимоэлана.
Последнему из них удалось сбежать, прежде чем ловушка захлопнулась. Был арестован его отец, но тот либо продемонстрировал отменное мужество, либо действительно ничего не знал о делах своего сына.
Сен-Режана же, раненого во время взрыва, сначала захватить не удалось: он покинул конспиративную квартиру незадолго до прихода полиции, но не успел сжечь компрометирующие роялистов бумаги. На этой квартире полицейские Фуше нашли письмо Жоржа Кадудаля и отчет Сен-Режана о подготовке покушения.
Получив дополнительные данные, полиция стала арестовывать одного за другим помощников заговорщиков: женщин, у которых они жили в Париже, врача, который лечил раненого Сен-Режана, и некоторых других. Но это были второстепенные персонажи, более серьезным роялистам удалось скрыться. Однако работа полиции не прошла даром: вскоре она вышла на след Сен-Режана, который был захвачен полицейским на улице дю Фур.
* * *
Во время допроса Сен-Режан начал отрицать все, что говорил о нем Карбон.
— Но Карбон признал вас и сказал, что вы были вместе с Лимоэланом. Он сказал также, что вы приходили осмотреть купленную им лошадь и повозку.
— Я ничего не знаю об этом. Карбон лжет.
— Он сказал, что вы тоже были в синей робе извозчика.
— Он вам солгал.
На очной ставке Карбон подтвердил свои показания, но Сен-Режан настаивал на своем.
— Но вы не будете отрицать, что 24 декабря вы виделись с Карбоном?
— Буду отрицать.
— Вы знакомы с Лимоэланом?
— Он приходил ко мне несколько раз, ведь раньше мы служили вместе. Но приходили и другие. Что в этом удивительного? Я же болел.
— Вы заболели до 24 декабря?
— Задолго. Из-за этой болезни я и приехал в Париж.
— Сколько времени вы находитесь в Париже?
— Почти пять месяцев.
— Каковы были ваши намерения?
— Я же сказал: я хотел вылечиться от своей болезни.
— Вы знакомы с Жоржем Кадудалем?
— Я знал его раньше, но потом мы с ним поссорились.
— Но у вас было найдено его письмо.
— Мы с ним не переписывались.
— Это он направил вас в Париж?
— Нет.
— Вас предупредили о том, что Карбон арестован?
— Зачем меня нужно было об этом предупреждать? Меня это совершенно не касается.
— Неправда, вы ведь после этого оставили свою квартиру.
— Что же, по-вашему, все, кто в тот день оставили свою квартиру, являются участниками заговора?
— Значит, вы не знаете Карбона, не отдавали ему распоряжений, не одевались в робу извозчика?
— Нет.
— Что вы делали 24 декабря?
— Я хотел пойти прогуляться. Зашел в какое-то кафе. Там я услышал, что в Опере ожидается премьера. Я решил пойти туда. Пошел по площади Каррузель. Там я и услышал взрыв. Вот и все.
— Значит, вы только слышали взрыв?
— Он меня покалечил.
— И вы, конечно, оказались там совершенно случайно?
— Да, случайно.
— У вас были найдены письма, подписанные неким Гедеоном. Гедеон — это Жорж Кадудаль.
— Ничего не знаю об этом.
— Его письма были найдены в квартире, где вы жили. Они полностью изобличают вас.
— Но я давно не бывал там.
— Вы же спали там в ночь на 24 декабря.
— Я не видел никаких писем.
— С кем вы виделись вечером 24 декабря?
— Не помню. Я очень плохо себя чувствовал.
— Вы были ранены, так как это вы подожгли фитиль и просто не успели отойти.
— Я был на углу улицы Мальты. Обломки падали со всех сторон, меня задело, уши заложило так, что я перестал слышать.
Так продолжалось еще очень и очень долго. Сен-Режану задавали вопросы, он односложно отвечал на них, все отрицая или ссылаясь на плохое самочувствие. Ко всему прочему, вызванная для очной ставки мать погибшей девочки Пёсоль не узнала его. Тем не менее решение суда было предопределено заранее. Сен-Режан и Карбон были приговорены к смертной казни как участники заговора против первого консула. Сен-Режан был назван прямым участником покушения, а Карбон — человеком, оказывавшим ему в этом содействие.
Когда председатель суда спросил приговоренных, понятно ли им такое решение, Карбон закричал:
— Я не признаю себя виновным! Мне всего-навсего поручили купить лошадь и повозку, разве это преступление?
Сен-Режан лишь попросил, чтобы с казнью не затягивали, так как он не собирается подавать никаких протестов и жалоб.
Они были казнены 20 апреля 1801 года на глазах специально для этого собранной толпы парижан. Перед смертью Сен-Режан закричал:
— Люди добрые, мы умираем за короля!
* * *
На поимку Лимоэлана были брошены лучшие полицейские силы Франции. Оказалось, что его невеста, мадмуазель Альбер, жила в Версале. У нее-то он и прятался первое время после взрыва. Был найден священник, которому Лимоэлан исповедовался за месяц до покушения. Кольцо постепенно сжималось, но когда дом, где должен был находиться Лимоэлан, был окружен, оказалось, что там его уже нет.
Он в это время уже был в Бретани. Там он скрывался до конца марта 1802 года, а после этого уехал в Соединенные Штаты. Смерть маленькой Пёсоль настолько сломила его психику, что он совсем перестал спать по ночам. В Америке он стал священником под именем аббата де Клоривьера. Через год он написал своей невесте, приглашая ее приехать в Америку, но та не могла сделать этого, так как поклялась посвятить себя Богу, если ее жениху удастся ускользнуть от полицейских ищеек. Новоявленный аббат де Клоривьер был в отчаянии: зачем ему было с такими сложностями спасаться, если теперь он и его любимая не могут быть вместе?
Но надо было продолжать жить, и вплоть до самого падения Наполеона он служил кюре в Чарльстоуне, а в 1820 году стал управляющим монастыря в Джорджтауне и организовал за свой счет пансионат для маленьких девочек из бедных семей. Умер Жозеф-Пьер Пико де Лимоэлан лишь в 1826 году, через пять лет после смерти ненавистного ему Наполеона.
* * *
Роялисты, непосредственно участвовавшие в покушении, были казнены, многие были сосланы подобно якобинцам. Но все-таки гнев Наполеона против роялистов не был в тот момент так жесток, как можно было бы ожидать, судя по расправе с совсем не имеющими отношения к делу о взрыве на улице Сен-Никез якобинцами. И тут причина заключается вовсе не в том, что он уже потратил на якобинцев весь свой гнев, а на роялистов его уже не хватило. Наполеон умел быть жестоким, когда находил это нужным, оставаясь вполне хладнокровным и спокойным. Дело тут было вовсе не в этом, а в том, что он задался целью увести из-под знамен Бурбонов тех умеренных роялистов, интересы которых могли быть вполне примиримы с новым порядком во Франции. Другими словами, он хотел показать, что те роялисты, которые признают законность его власти и безропотно подчинятся ей, будут приняты им с готовностью и прежние грехи могут быть им прощены, а вот с непримиримыми, непременно желающими восстановить власть Бурбонов, он будет вести беспощадную борьбу.
По имеющимся оценкам, эмигрантов-роялистов в то время насчитывалось около 150 тысяч человек, и из них более половины уже вернулось в страну и поступило под надзор полиции. Только трем тысячам эмигрантов въезд во Францию по-прежнему был воспрещен. Вот эти-то люди и были главными противниками Наполеона.
* * *
Французский историк Жак-Оливье Будон констатирует:
«Покушения против Бонапарта провалились. Конечно, некоторые акты спорадического сопротивления еще отмечались, но в целом как минимум до 1803 года оппозиция переместилась в салоны. Как якобинцы, так и роялисты в бессилии наблюдали за ростом личной власти Бонапарта».
И действительно, уже в самом начале 1802 году второй консул Камбасерес начал намекать законодателям, что следовало бы как-то наградить Наполеона от лица всей нации. Но в ответ на это поступило предложение лишь о почетном титуле «Отец народа». Подобное никак не могло удовлетворить амбиций первого консула, и Камбасерес принялся поодиночке уговаривать членов Сената пожаловать Наполеону титул пожизненного консула. Удивительно, но у сенаторов хватило мужества воспротивиться, и они ограничились постановлением, согласно которому Наполеон провозглашался первым консулом на новый десятилетний срок.
Тогда по совету Камбасереса Наполеон написал Сенату, что хочет обратиться к народу, чтобы узнать, стоит ли ему принимать это предложение. 10 мая Камбасерес созвал Государственный совет, чтобы решить в связи с этим письмом первого консула, каким образом и о чем должен быть спрошен французский народ.
Результат подготовительной работы Камбасереса известен: перед народом Франции был поставлен вопрос «Быть ли Наполеону Бонапарту пожизненным консулом?». Такая формулировка вопроса была равносильна очередному государственному перевороту, ведь существовавшая конституция ничего подобного не предусматривала. Но французские законодатели лишь склонили головы перед свершившимся фактом.
В результате плебисцит состоялся, и его результаты, официально оглашенные 2 августа 1802 года, оказались следующими: за пожизненное консульство Наполеона «проголосовало» более трех с половиной миллионов человек (99,8 % голосовавших), «против» лишь 8272 человека.
Результаты эти оставляют двойственное впечатление. С одной стороны, показанные 99,8 % неудивительны: ведь голосование проводилось открыто, и тот, кто хотел проголосовать «против», должен был выражать свое мнение письменно и на глазах у многих свидетелей. Для этого и сама по себе необходима известная смелость, не говоря уж об имевших место в 1802 году условиях проведения «свободного волеизъявления граждан». В своих «Воспоминаниях…» Станислав де Жирарден, например, рассказывает об одном генерале, который созвал своих солдат и заявил им: «Товарищи, сегодня стоит вопрос о провозглашении генерала Бонапарта пожизненным консулом. Все свободны в своих мнениях, но я должен предупредить, что первый из вас, кто не проголосует за пожизненное консульство, будет мною расстрелян прямо перед строем».
С другой стороны, 8272 голоса «против» кажутся чем-то сверхъестественным. Ведь все эти тысячи людей очень сильно рисковали, причем рисковали жизнью в самом прямом смысле этого слова. Кто же были эти отчаянные храбрецы? Прежде всего, «против» голосовали идейные республиканцы, которых было много среди высшего офицерского состава армии. В частности, отважный генерал Латур-Мобур открыто обратился к Наполеону с заявлением, что сможет голосовать «за» только при условии, если будет восстановлена свобода печати.
Лора д'Абрантес, жена генерала Жюно, в своих «Мемуарах…» приводит рассказ о том, что, будучи простодушным и честным человеком, ее муж, бывший в то время военным комендантом Парижа, прямо сказал Наполеону о ходящих, особенно по провинциям, сомнениях относительно законности и правильности проведения всенародного голосования.
Честолюбивый Бонапарт вспылил:
— Что такое? Меня признала вся Франция, а я нахожу цензоров среди своих самых дорогих друзей!
— Ну вот, моя бедная Лора, — печально констатировал потом Жюно — я сказал, что думал, но мне начинает казаться, что у нас уже нельзя говорить правду, чтобы не прогневить кого-либо.
И так думал один из самых преданных Наполеону людей! Что же говорить об остальных, например: о генералах Моро, Пишегрю, Лекурбе, Карно и многих других, так и не признавших власти Наполеона Бонапарта?
Голосовали «против» и простые солдаты. Так, например, в «Мемуарах…» Мио де Мелито приводится такой факт: в одной артиллерийской роте, например, из пятидесяти человек «против» проголосовало 38 человек, или более трех четвертей.
Высказался против пожизненного консульства и такой знаменитый политический деятель эпохи революции, как маркиз Мари Жозеф Поль де Лафайет. В целом можно сделать вывод, что плебисцит о пожизненном консульстве окончательно положил конец связи Наполеона с либералами закалки 1789 года.
Стефан Цвейг по этому поводу пишет:
«Наконец Бонапарт сбрасывает личину скромности и ясно выражает свою волю: пожизненное консульство! И под тонким покровом этого понятия уже просвечивает видимая каждому зрячему грядущая императорская корона. И так велика в эту эпоху сила Бонапарта, что народ миллионным большинством голосов претворяет его желание в закон и избирает его пожизненным властелином. С республикой покончено — нарождается монархия».
* * *
Консул, первый консул, пожизненный консул — такова удивительная эволюция Наполеона за последние три года. Теперь во Франции, как писал Стендаль, «правление десятка трусливых казнокрадов и предателей сменилось военным деспотизмом». Простой генерал начал управлять государством. Очень скоро он станет императором.
1802 год принес Франции долгожданный мир. После многих лет бесконечной войны французы, наконец, зажили в мире со всеми своими соседями. В середине сентября Наполеон гостил у своего старшего брата Жозефа в его поместье Морфонтен. Там же находились второй и третий консулы — Камбасерес и Лебрён. Они представили Наполеону меморандум, в котором говорилось о том, что в связи с установлением мира «министерство полиции превратилось в ненужный и опасный орган»: ненужный, поскольку роялисты разоружились и не желают ничего большего, как только признать существующее правительство; опасный, так как оно покровительствует «анархистам», то есть якобинцам. Наполеон с радостью ухватился за представившуюся возможность избавиться от своего слишком знающего и влиятельного министра. Правда, для этого ему пришлось ликвидировать целое ведомство. Но ничего не поделаешь: лес рубят — щепки летят!
14 сентября 1802 года Наполеон, поблагодарив Фуше за службу, сообщил ему о том, что полиция передается в ведение министерства юстиции и его начальника Клода Амбруаза Ренье. Это была отставка. Последним актом спектакля, в сути которого не обманывался никто, явилось послание первого консула Сенату, где он расхваливал «таланты и активность» Фуше, а также подчеркивал, что, «если различные обстоятельства опять приведут к восстановлению должности министра полиции, то правительство не найдет на этот пост человека более достойного, чем Фуше».
Взамен Фуше получил должность сенатора и материальную компенсацию в размере полутора миллионов франков. «Отставник» стал часто бывать в Сенате, поддерживая старые связи и заводя новые. По-видимому, он был доволен своим положением. В своих «Мемуарах…» он потом написал:
«Я вернулся в частную жизнь и счастливо проводил время в своем поместье Пон-Карре, изредка наезжая в Париж».
Но был ли он счастлив на самом деле? Совершенно очевидно, что деятельный и честолюбивый по натуре Фуше не был создан для такой жизни. Бездействие тяготило его, но, будучи человеком, непоколебимо верящим в свою незаменимость, он ждал и надеялся, что восстановление министерства полиции и, следовательно, его самого в качестве министра полиции — дело недалекого будущего. А пока он, как примерный подданный, исполнял свои нехитрые обязанности в Сенате — высшем и безвластном органе государственного управления. Его время снова наступит уже очень скоро.
Глава третья. Кадудаль, Пишегрю, Моро и другие
Самое важное в политике — следовать своей цели: средства ничего не значат.
Существуют такие кризисные ситуации, когда во имя блага народа требуется осудить невинного человека.
Меня огорчает слава Моро. Мне ставили в вину его изгнание; так или иначе — ведь нас же было двое, тогда как нужен был только один.
Пока Наполеон во Франции медленно, но верно двигался к императорскому венцу, Лондон был буквально наводнен французскими эмигрантами. Наиболее агрессивно настроенные из них группировались там вокруг трех личностей: графа д'Артуа, герцога Беррийского и принца Конде.
Шарль-Филипп де Бурбон, граф д'Артуа, был младшим братом казненного в 1793 году Людовика XVI. После революции он вместе с другими французскими дворянами и уцелевшими вождями вандейского восстания нашел приют в Англии. Впоследствии (в 1824 году) он станет французским королем под именем Карла X.
Шарль-Фердинанд де Берри, или герцог Беррийский, был сыном графа д'Артуа, и в 1803 году ему было всего 25 лет.
Принц Луи-Жозеф Конде также принадлежал к свергнутому дому Бурбонов. Несмотря на свои почти 70 лет, он возглавлял эмигрантскую армию, которая в 1814 году вторгнется во Францию вместе с союзными русско-австро-прусскими войсками.
Все они, как говорится, «плели в Лондоне нити коварных заговоров» против революционной Франции. Правда, существует версия, что вся эта идея с заговором была разработана самим Жозефом Фуше и претворялась в жизнь через его тайного агента Жан-Клода Меге де ля Туша, которого историк Вильям Миллиган Слоон образно называет одним из «негодяев, столь часто появляющихся из мрака в смутные времена».
Жермена де Сталь в своих «Мемуарах…» в этом вопросе пошла еще дальше, обвинив во всем самого Наполеона. Она писала так:
«Этот заговор, послуживший поводом для бесчисленных злодеяний Бонапарта, был задуман им самим; он управлял заговорщиками с дьявольским искусством, которое следует описать во всех подробностях.
Он отправил в Англию якобинца, который мог заслужить право вернуться на родину, только оказав услуги первому консулу. Человек этот, звавшийся Меге, явился среди эмигрантов, словно Синон[7], представивший себя жертвой греков, среди троянцев. <…> Меге без труда ввел в обман несколько государственных мужей, управлявших страной в ту пору. <…> Агент Бонапарта, притворявшийся его врагом, утверждал, что во Франции есть множество недовольных, готовых поднять восстание».
Этот Меге де ля Туш, действительно, был агентом тайной полиции. Прибыв в Лондон, он вступил в контакт с представителями британского правительства и французскими эмигрантами, в частности с бывшим морским министром графом де Мольвиллем, соблазнив их планом заговора против Наполеона. Удалось ему «запудрить мозги» даже главе британской разведки в Мюнхене Фрэнсису Дрейку. Одновременно с этим Меге де ля Туш информировал обо всем французскую сторону.
Безусловно, обвинять одного Фуше в организации заговора против Наполеона нельзя. Да и зачем ему это было бы нужно? Не для того же, чтобы поднять свой авторитет, вовремя «раскрыв» заговорщиков? Это было бы слишком примитивно. По этому поводу очень верно написал в своих «Мемуарах…» барон де Барант:
«Не следует думать, что полиция собиралась руками агентов готовить покушения на первого консула с тем, чтобы в последнюю минуту их раскрыть. Ни один полицейский не рискнет ввязываться в игру столь глупую».
Первопричина заговора находилась гораздо выше. Ведь трудно не признать тот факт, что одной из целей Наполеона была компрометация генерала Моро через представление его лидером заговорщиков. Кроме того, его полиция стремилась заманить в заготовленную ловушку представлявших большую опасность бурбонских принцев.
Была у Наполеона цель и «покруче». Четкую формулировку этой цели можно найти в «Мемуарах…» мадам де Сталь:
«Но зачем было первому консулу разжигать заговор против самого себя, грозивший ему столькими опасностями? Все дело в том, что он нуждался в предлоге для перемены формы правления; что же касается заговорщиков, то он не сомневался, что сумеет вовремя их остановить…
Не существовало никакой явной причины для перемены порядка вещей и требовалось сослаться на заговор, в котором были бы замешаны англичане и Бурбоны, разжечь таким образом пыл сторонников революции и с их помощью, якобы для предотвращения возврата к старому порядку, ввести во Франции порядок ультрамонархический. Замысел этот кажется весьма сложным, между тем суть его была весьма проста: следовало внушить революционерам, что их интересы в опасности, а затем предложить им помощь и защиту в обмен на окончательный отказ от былых принципов. Именно так Бонапарт и поступил».
Как бы то ни было, заговор явно осуществлялся под контролем консульской полиции, и Наполеон (особенно поначалу) знал о многих шагах заговорщиков. Министерство полиции еще со времен Фуше имело картотеку, содержащую более тысячи досье на особенно опасных роялистов. Она носила название «шуанская география».
Помимо Лондонской, поддерживавшей графа д'Артуа, существовала еще и Варшавская группировка роялистов, поддерживавшая графа Прованского, среднего брата казненного Людовика XVI, именовавшего себя Людовиком XVIII (им он, собственно, через десять лет и станет. — Авт.). Третья роялистская группировка благоприятствовала молодому Луи де Бурбон-Конде, герцогу Энгиенскому, представителю родственного Бурбонам семейства Конде. Но эти две группировки никакой опасности не представляли, и их деятельность ограничивалась периодически издаваемыми манифестами, на которые во Франции никто не обращал внимания.
Согласно планам Лондонских заговорщиков весной 1800 года Жорж Кадудаль, один из главарей контрреволюционного восстания в Вандее, должен был устранить Наполеона, напав на него с группой вооруженных людей, когда тот будет ехать верхом из Парижа в свой загородный замок в Мальмезоне. Дело представлялось несложным: первого консула обычно сопровождал отряд из 10–12 гвардейцев, которых можно было перестрелять из засады в течение одной-двух минут.
По свидетельствам очевидцев, Жорж Кадудаль был фанатик в самом полном значении этого слова. Родился он в 1771 году в Оре (Бретань) в зажиточной крестьянской семье. После окончания учебы стал работать клерком у нотариуса. С 1787 года молодой человек увлекся новыми идеями, ставшими прелюдией будущей республики, но быстро разочаровался в них. В разразившейся после революции гражданской войне в Вандее Кадудаль уже воевал на стороне сторонников короля. Постепенно он превратился в одного из лидеров шуанского движения, стал генерал-лейтенантом Королевской армии и главнокомандующим Шуанской армией в Бретани. Он десятки раз рисковал своей жизнью, бывал в самых невероятных переделках и теперь без колебаний был готов предпринять все возможное, чтобы сместить Бонапарта, в котором он видел победоносное выражение ненавистной ему революции, узурпатора, мешающего законному королю из рода Бурбонов взойти на престол. В свое время министр полиции Фуше заслал двух своих агентов к Кадудалю, но тот оказался весьма проницательным и без труда разоблачил их. Обоих повесили на деревьях в назидание другим.
Историк А.З. Манфред пишет о Кадудале так:
«Жорж Кадудаль в шуанском движении, в роялистской партии занимал особое положение. Этот бретонский крестьянин, не получивший образования, не умевший грамотно писать, был наделен от природы живым и острым умом, наблюдательностью и зоркостью охотника, умением вести за собой людей. Огромного роста, поразительной физической силы, он мог казаться неуклюжим медведем, если бы не сочетал эту тяжеловесную массивность с непостижимой ловкостью и изворотливостью. Он был фанатически предан делу Бурбонов и брал на себя самые сложные поручения. То не был заурядный убийца вроде Маргаделя[8], в иное время, например в Средние века, такой человек мог бы стать предводителем какой-либо религиозной секты или движения жакерии. В начале девятнадцатого столетия он стал одним из главарей шуанского подполья, и заносчивые, чванливые аристократы беспрекословно выполняли приказы этого немногословного человека».
Первая попытка нападения на Наполеона не удалась, и Кадудаль бежал в Англию, где продолжал вести антинаполеоновскую деятельность.
В начале 1803 года Кадудаль и его помощники предложили графу д'Артуа новый план свержения Наполеона. В случае удачи власть временно должен был захватить популярный и честолюбивый генерал Моро, которого считали республиканцем, находившимся в молчаливой оппозиции к Наполеону, но скрыто сочувствовавшим роялистам. Через Моро можно было обеспечить поддержку армии, ведь среди большинства военных Моро пользовался непререкаемым авторитетом. Позднее для руководства роялистами во Францию должен был приехать кто-либо из принцев королевского дома — граф д'Артуа или герцог Беррийский.
До поры до времени Консульская полиция не мешала действиям роялистов, ведь ее бывший деятельный начальник Жозеф Фуше был в немилости, а новый начальник Ренье совсем не соответствовал важности стоящих перед полицией задач. А задача, как мы уже знаем, состояла в том, чтобы генерал Моро скомпрометировал себя участием в заговоре (даже ничего не делая в Париже, этот талантливый и заслуженный человек был опасен для Наполеона. — Авт.), а бурбонские принцы прибыли во Францию и попали в заранее расставленную ловушку.
Впрочем, сам отставной министр Фуше все равно продолжал следить за ходом дела и держать все под своим контролем. Иначе жить он не умел. О том, что Фуше многое знал о планах роялистов, говорит тот факт, что уже в мае 1803 года он написал Наполеону записку, которая заканчивалась такими словами:
«Воздух полон кинжалами».
Секретарь Наполеона Луи-Антуан Бурьенн первым увидел эту записку и, прежде чем передать ее первому консулу, бросился к Фуше за разъяснениями. Каково же было его удивление, когда он увидел бывшего министра полиции, собирающегося в свое загородное имение в Пон-Карре.
— Как же так! — воскликнул Бурьенн. — Вы утверждаете, что воздух полон кинжалами, а сами преспокойно покидаете Париж вместо того, чтобы мчаться в Тюильри и дать объяснения первому консулу?
— Я думал, что вы знаете это не хуже, чем я, — ответил Фуше, хитро улыбаясь. — Я посылаю эту записку и уверен, что не пройдет и часа в Пон-Карре, как я буду вызван в Тюильри. Увидите, уже завтра я буду на месте.
После этого он сел в карету, махнул Бурьенну рукой и уехал.
И точно, на следующий день Фуше уже снова был в Париже.
— Ну вот, мой дорогой, — сказал он Бурьенну, — а я что говорил? Не успел я приехать в Пон-Карре, как примчался посыльный с приказом срочно явиться в Тюильри. Уже вчера вечером у меня была длительная беседа с первым консулом о положении дел в стране. Я спросил его, что он скажет на то, что Жорж Кадудаль уже находится в Париже и готовит заговор против него, но Бонапарт лишь засмеялся в ответ. Он сказал, что, по его данным, три дня назад Кадудаля видели в Лондоне. По его данным… Похоже, он больше доверяет своим верным псам — Реалю и Савари.
* * *
Наполеон, действительно, гораздо больше доверял информации Реаля, государственного советника и фактического вице-министра полиции, и полковника Савари, командира легиона элитной жандармерии, фактически являвшегося личной полицией первого консула.
46-летний Пьер-Франсуа Реаль сначала занимался адвокатурой. Увлекшись новыми идеями, он вступил в Общество друзей конституции и, благодаря покровительству Дантона, стал прокурором революционного трибунала. После падения дантонистов Реаль был арестован и освобожден только после казни Робеспьера. Директория назначила его историографом республики. Как профессиональный адвокат Реаль приобрел блестящую репутацию: он защищал людей различных направлений — членов нантского революционного комитета, роялистов, заговорщика-утописта Бабёфа и его друзей. Он немало способствовал Брюмерскому государственному перевороту, после чего был назначен одним из четырех государственных советников, причисленных к министерству полиции.
28-летний Савари был родом из Шампани. Его полное имя было Анн-Жан-Мари-Рене Савари. Образование он получил в королевском колледже Святого Людовика в Меце. В 1790 году он поступил волонтером в Королевский кавалерийский полк, стал лейтенантом, участвовал в кампаниях на Рейне, потом воевал в Египте, отличился в сражении при Маренго. После этого на него обратил внимание Наполеон, сделавший его своим адъютантом, а потом и начальником своей личной полиции, одной из задач которой был контроль над самим Фуше.
Активный Савари (через несколько лет он станет герцогом де Ровиго и министром полиции. — Авт.) находился в постоянном контакте с одним из бывших вандейских командиров. Этот человек давно был им завербован и обещал поставлять информацию в обмен на безбедную жизнь за счет регулярного получения некоторых сумм из государственного бюджета. Так вот, этот человек сообщал, что недавно его посетила группа вооруженных людей — бывших соратников, которые предупредили его о том, чтобы он готовился. Они, правда, не сказали, к чему готовиться и когда, но все равно, он считал своим долгом доложить об этом Савари.
Полковник показал это письмо Наполеону, и тот приказал срочно разобраться, что такое опять готовиться в этой никак не утихающей Вандее. В тот же день Савари инкогнито отправился к вандейскому командиру в Гранвиле, и тот предоставил ему новые подробности. Оказалось, что несколько дней назад из Англии прибыли два каких-то важных начальника, и теперь они перемещались по деревням и хуторам, объявляя о скором изменении режима во Франции и призывая быть готовыми к этому. Савари сам видел, как местные крестьяне собираются и готовятся к предстоящему выступлению.
Кто были эти двое — пока было неизвестно, но, судя по развернувшейся активности местного населения, это действительно были какие-то очень высокопоставленные люди. Вполне возможно, что одним из них был сам Жорж Кадудаль, ведь он был единственным человеком, который, действительно, мог вновь поднять вандейцев на решительные действия.
Первый консул уже было начал волноваться из-за отсутствия новостей от своего адъютанта, но тут тот появился и сделал полный отчет об увиденном и услышанном. Детали, которые ему сообщил Савари, очень удивили и обеспокоили Наполеона. Он поблагодарил полковника за храбрость и начал предпринимать энергичные меры для выяснения того, что же на самом деле происходит.
В парижских тюрьмах в это время сидело достаточно много разных подозрительных личностей. Среди их находились некие Пико и Ле Буржуа, которые были схвачены в Нормандии как прибывшие из Лондона агенты англичан. Так, во всяком случае, значилось в их досье, составленных полицией. На допросах эти двое категорически отказались отвечать и сотрудничать с полицией, вели себя вызывающе и поэтому были приговорены к расстрелу. После этого они стали вести себя и вовсе развязно и заявили, что властям недолго осталось ждать и что за них есть кому отомстить. Эта бравада не осталась пропущенной мимо ушей, и о ней очень скоро узнал государственный советник Реаль. Тот немедленно доложил об этом Наполеону.
Первый консул потребовал, чтобы Реаль принес ему списки всех задержанных в последнее время в Бретани и Нормандии. Когда списки были доставлены, оказалось, что первым в них значится некий Керель, вторым — Дессоль де Гризоль.
— Что это за люди? — спросил Наполеон у Реаля.
Государственный советник ответил:
— Генерал, этот Керель служил у Жоржа Кадудаля в Вандее. Он прибыл во Францию два-три месяца тому назад и был арестован по доносу как возможный заговорщик. Что касается второго, то я никогда не слышал этого имени.
— Я думаю, что эти господа должны что-то знать. Их нужно хорошенько допросить. Займитесь этим, Реаль, и держите меня в курсе.
Когда Реаль навел справки, выяснилось, что Дессоль де Гризоль из-за отсутствия доказательств состава преступления уже был выпущен на свободу, несчастного же Кереля приговорили к расстрелу. Дотошный Реаль начал «копать» дальше и выяснил, что этот Керель сидел в тюрьме в одно время с Пико и Ле Буржуа, с которыми он был знаком еще в Англии.
Когда Реаль закончил это маленькое расследование и явился в кабинет первого консула, туда одновременно с ним вошел и генерал Мюрат, недавно назначенный на пост военного коменданта Парижа вместо генерала Жюно, отправленного в Булонь на формирование новой гренадерской дивизии для будущей Великой армии Наполеона.
— Что нового? — спросил первый консул своего шурина.
— Генерал, — ответил Мюрат, — я только что получил письмо от одного несчастного, приговоренного к смерти. Сегодня его должны расстрелять. Так вот, он хочет сделать какое-то признание.
— Ерунда! — сухо сказал Наполеон. — Ни вам, ни тем более мне не пристало заниматься подобными пустяками.
— Но, мой генерал, — снова начал Мюрат, — этот человек говорит, что хочет сделать очень важное признание.
— Я это прекрасно понял, но не считаю, что стоит тратить время на разглагольствования какого-то там приговоренного к смерти бандита. Наверняка будет умолять о помиловании.
— Кто знает? — возразил Мюрат.
— Хорошо, — сказал Наполеон. — Если вы так хотите, я не возражаю. Можете поговорить с ним. Но никаких отсрочек. Я думаю, этот человек не заслуживает никакого интереса, и уж тем более речи не может идти о каких-то индульгенциях для него. Реаль, не сочтите за труд подключиться к этому делу.
На этом Мюрат и Реаль удалились.
* * *
В то время пока происходила эта сцена во дворце Тюильри, в тюрьме Консьержери считал последние минуты своей жизни некий человек по имени Керель. Отряд солдат, который должен был препроводить его на площадь Гренель, где обычно происходили казни, уже прибыл. Ждали лишь гонца с подписанным парижским губернатором приговором. Керель стоял на стуле и напряженно всматривался в расположенное на высоте двух метров от пола маленькое окошко, свет из которого был единственным, что освещало его камеру. Его губы медленно шевелились, он то ли молился, то ли безуспешно пытался что-то крикнуть.
Все было готово. С минуты на минуту за ним должны были прийти, но вдруг на тюремный двор влетела карета, из нее выскочил какой-то щеголеватый человек в черном, офицер поприветствовал его, и они вместе направились внутрь здания.
Вскоре в замке двери камеры Кереля заскрежетали ключи: без сомнения, это пришли за ним. Побледнев, приговоренный к смерти спустился на пол, гордо поднял голову, распрямил плечи и сложил руки за спиной. Дверь отворилась, и на пороге появился… тот самый человек в черном, которого он только что видел во дворе тюрьмы. Это был государственный советник Реаль, прибывший «по приказу первого консула» для разговора с ним, Керелем. Нервный тик заставил щеку Кереля предательски задергаться…
— Вы утверждали, что хотите сделать какое-то важное признание, — сказал посланник Наполеона с усмешкой, усаживаясь на единственный в камере стул. — Что ж, я здесь и готов вас выслушать.
— Это правда, месье, — ответил Керель, — я очень многое мог бы сказать, но какой смысл делать это теперь, когда для меня все уже кончено?
— У меня нет полномочий обещать вам помилование, однако, если то, что вы скажете, окажется важным, кто знает…
— Возможно ли это, месье? Но нет… Час моей смерти пробил, стоит вам уйти, и меня тут же уведут на расстрел… Однако если бы вы знали… Впрочем, пусть и так, но моя совесть будет более спокойна, если перед смертью я сделаю доброе дело…
— Успокойтесь, надежда всегда умирает последней. Отвечайте, как вас зовут?
— Керель, месье.
— Так. И кто вы такой?
— Офицер медицинской службы.
— Хорошо, я вас слушаю.
— Да, месье, я буду говорить, но, бога ради, поверьте моим словам. Я нахожусь слишком близко от смерти, чтобы лгать.
— Хорошо-хорошо, — ободрил его Реаль, — отвечаю, что вы не умрете… По крайней мере, в ближайшее время. Соберитесь и начинайте говорить, у меня не так много времени. Какое признание вы хотели сделать?
— Вчера я предстал перед трибуналом вместе с еще одним человеком. Это был некто Дессоль де Гризоль, может быть, вы слышали это имя?
Реаль утвердительно кивнул ему в ответ.
— Ему повезло больше, чем мне, и его помиловали. Я же был приговорен к смертной казни.
— И что из этого следует?
— Вы мне не верите! — воскликнул Керель. — Вы думаете, что я, как и все приговоренные, просто хочу отсрочить свой конец…
— А разве не так?
— Ну, в принципе вы правы. Хотелось бы еще пожить.
— Один достойный интереса ответ — один день, — усмехнулся Реаль.
— Так не пойдет.
— Чего же вы от меня хотите?
— Мой ответ стоит всей моей жизни…
— Хватит торговаться. Вы будете говорить или нет? — перебил его Реаль, начиная нервничать. — Какое признание вы хотели сделать?
— Я участник заговора.
— Заговора? Но против кого?
— Против первого консула.
— Вместе с кем?
— С Жоржем.
— Жоржем Кадудалем?
— Им самым! Я из числа тех, кто высадился вместе с ним в Бивилле в прошлом году. Было воскресенье, я это прекрасно помню, мы еще чуть не разбились о скалы.
— Так вы хотите сказать, что Жорж Кадудаль во Франции! — воскликнул Реаль, вскочив со своего места.
— Он уже давно гуляет по Парижу.
— Вся жизнь! — напомнил ему Реаль.
— Нас было девять человек. Нас укрыли в Дьеппе у отца одного из наших товарищей, он, если я не ошибаюсь, часовщик. Потом нас перевели на какую-то ферму, и мы прожили там несколько дней. Потом вот так, от одной фермы к другой, мы добрались до Парижа, где нас ждали друзья Жоржа.
— Знаете ли вы их имена? — спросил Реаль.
— Я знаю только двоих. Один из них — это Дессоль де Гризоль, о котором я вам уже говорил…
— Как! Тот, которого отпустили вчера? — удивился Реаль.
— Он самый, месье.
— Странно… Но продолжайте, я вас слушаю.
— Другого зовут Шарль д'Озье, — продолжил свой рассказ Керель, — его я видел еще в Лондоне года два тому назад. Он вместе с Жоржем сели в экипаж и уехали. После этого я видел Жоржа всего три-четыре раза — каждый раз в каком-то новом месте: то в квартале Сен-Жермен, то на углу улицы Дю Бак, то на улице Варенн. Потом меня арестовали, но, я думаю, Жорж все еще находится в Париже, ведь он ждал прибытия новых людей из Англии.
— Вы уверены в том, что мне сейчас говорите? — Государственный советник Реаль посмотрел на Кереля пронизывающим взглядом. — Это может иметь для вас решающее значение.
— Мсье, я уверен и в том, что другие высадки последуют одна за другой и что граф д'Артуа или его сын, герцог Беррийский, со своими адъютантами прибудут во Францию по тому же пути. Но я не знаю точного времени. Знаю лишь, что ни тот, ни другой до моего ареста еще не находились во Франции.
— Вся жизнь! — снова сказал Реаль.
— Братья Полиньяки раздобыли форму консульской гвардии. Переодетые в эту форму люди Жоржа хотят устроить нападение на карету первого консула по дороге в Сен-Клу или в Мальмезон.
— Кадудаль встречался с генералом Моро?
И тут допрос сразу же дал осечку.
— Это невозможно, — ответил Керель. — Моро никогда не пойдет на контакт с роялистами из Лондона…
— Хорошо-хорошо, — спокойно сказал Реаль, которого эта информация привела в состояние сильного возбуждения, которое, впрочем, он не хотел показывать. — Я постараюсь заинтересовать вашими показаниями первого консула, но вы должны мне пообещать, что никому больше ничего не скажете, в противном случае я ничего не смогу для вас сделать. Пока же возьмите вот это.
Он протянул приговоренному несколько монет.
— Зачем они мне здесь, месье? — удивился Керель. — Да и говорил я все это не ради денег, вы же понимаете.
— Деньги никогда не бывают лишними. Я вернусь завтра или послезавтра… Держитесь.
— Ах, месье! — закричал Керель, падая на колени перед Реалем. — Вы уверены, что за это время меня не расстреляют?
— Я не могу вам этого обещать, но вы не должны терять надежду. Иногда надежда может значить больше, чем реальная действительность.
* * *
Едва выйдя из камеры Кереля, государственный советник Реаль направился к начальнику тюрьмы и приказал ему не трогать пока приговоренного к смерти, так сказать, «до особых распоряжений».
Когда он вновь прибыл к первому консулу, тот спросил:
— Ну, Реаль, я был прав? Пришлось съездить из-за какого-нибудь вздора?
— Вовсе нет, генерал. К счастью для меня и для вас.
— Что вы этим хотите сказать?
— Я хочу сказать, что мне удалось узнать очень важные и странные вещи.
— Ну-ка, не тяните, рассказывайте.
Наполеон начал расхаживать по кабинету, заложив руки за спину.
— Генерал, — сказал Реаль тихим голосом, — Жорж Кадудаль в Париже со всей своей бандой.
При этих словах Наполеон резко остановился…
— Но это невозможно!
— К сожалению, это так, генерал, и вы окружены потенциальными убийцами.
— Но ведь побережье надежно охраняется! Не на воздушном же шаре они все прилетели…
Наполеон нервно рассмеялся, но лицо Реаля оставалось сосредоточенным и напряженным.
— Имею честь вам доложить, что все обстоит не так весело, — серьезно сказал Реаль. — Уже было осуществлено несколько высадок. Береговая охрана и полиция прозевали их. К счастью, нам удалось вовремя среагировать. К приезду графа д'Артуа или герцога Беррийского мы будем готовы гораздо лучше.
— Приезду? Куда?
— Сюда, генерал, в Париж!
— Ну, знаете, это уж слишком! Впрочем, хорошо, пусть едут, я их встречу! Но расскажите мне сначала о Жорже и его бретонцах, сколько их?
— Человек, с которым я только что говорил, сказал, что не больше десяти, но за время, что он находится в тюрьме, их могло стать гораздо больше.
— Куда только смотрит полиция? А он назвал имена этих бандитов?
— Да, генерал. Прежде всего это Жорж Кадудаль.
— Отлично! Кто еще?
— Пико…
— Какой еще Пико? Мне почему-то знакомо это имя.
— Генерал, этот Пико — слуга Жоржа, безумец, отъявленный шуан. Он вроде бы брат или кузен того Пико, которого недавно расстреляли вместе с неким Ле Буржуа…
— Стоп, — перебил его Наполеон. — Это те самые, которые кричали, что недолго осталось ждать и что за них отомстят? Интересно. Продолжайте, Реаль.
— Да, генерал, это те самые Ле Буржуа и Пико, что высадились вместе с Жоржем.
— Интересно. Очень интересно. Кто еще?
— Дессоль де Гризоль.
— Что вы говорите? Но вы же сами рассказывали мне, что он был признан невиновным!
— Да, но именно он высадился во Франции до Жоржа, и именно он вместе с неким Шарлем д'Озье встречал Жоржа в Париже.
— Потрясающе! Есть ведь еще и другие?
— Некий Трош.
— Трош… Трош… Никогда не слышал этого имени. Кто еще?
— Лябонте, Рауль Гайяр, Лемэр. О них нам тоже ничего не известно.
— Но как же они все сумели приплыть во Францию?
— При помощи одного английского морского офицера.
— Сиднея Смита?
— Нет. Его адъютанта и секретаря, капитана Райта, но это почти то же самое.
— Ох уж эти мне англичане! — воскликнул Наполеон, стукнув кулаком по столу.
— Они высадились ночью. Днем прятались у своих сообщников. Шли только по ночам. Но будьте спокойны, генерал, я выловлю их всех, и этот несчастный Керель, которого должны были сегодня расстрелять, поможет мне в этом.
— А вы уверены, что он говорил правду?
— Уверен.
— Вы отсрочили исполнение приговора?
— Конечно, генерал, но теперь мне нужен будет официальный документ с вашей подписью.
— Я подпишу его сейчас же. А вы, Реаль, примите меры, чтобы никто их тех, кто уже здесь, не смог улизнуть.
Прервем на время наш рассказ и отметим, что существует еще одна версия изложенных выше событий. Она исходит от самого Наполеона и подробно излагается Стендалем. Ссылаясь на воспоминания английского врача Вильяма Уордена, беседовавшего с Наполеоном на острове Святой Елены, Стендаль приводит следующее заявление бывшего императора:
«Заговор был раскрыт благодаря одному необыкновенному обстоятельству. Однажды ночью я испытывал какую-то тревогу и не мог заснуть; я встал с постели и начал просматривать список заговорщиков. Случаю, который в конечном итоге управляет миром, угодно было, чтобы мой взгляд остановился на имени одного полкового лекаря, совсем недавно вернувшегося из Англии, где он содержался в заключении. Возраст этого человека, его воспитание, жизненный опыт, которым он обладал, — все это навело меня на мысль, что его поведение объясняется причинами, ничего общего не имеющими с юношеским преклонением перед Бурбонами. Насколько обстоятельства позволяли мне судить о нем, целью его действий должны были быть деньги. Этого человека арестовали. Он был предан суду, где заседали полицейские агенты, которых переодели судьями: они приговорили его к смертной казни, и ему было объявлено, что приговор будет приведен в исполнение через шесть часов. Эта хитрость имела успех: он сознался».
Весьма интересная версия, достойная самого лихо закрученного приключенческого романа. Впрочем, она не подтверждается никем, кроме самого Наполеона, и мы оставим ее на совести ее автора.
* * *
Наполеон вновь и вновь просматривал списки арестованных подозрительных личностей. Они были сгруппированы по провинциям и департаментам. Все-таки полиция умела, если хотела, работать аккуратно. В таблице под названием «Приморская Сена — Нормандия» взгляд первого консула вдруг остановился на фамилии некоего часовщика Троша из Дьеппа, активного эмиссара роялистов. Это имя ему недавно называл государственный советник Реаль. В примечании было указано, что у этого Троша был сын, и он вполне мог пойти по стопам арестованного отца.
— Смотрите, что я нашел, — сказал Наполеон вновь вызванному Реалю, указывая пальцем в имя Троша. — Не нужно далеко ходить: вот человек, который нам нужен. Вернее, не он сам, а его сын.
Приказ задержать юного Троша и срочно доставить его в Париж в тот же час был отправлен по телеграфу супрефекту города Дьепп.
Доставленный к Реалю Трош-сын, которому оказалось всего 18 лет, сначала все упорно отрицал, но когда ему организовали очную ставку с Керелем, тут же узнал его и рассказал полицейским все, что знал. Его роль была настолько проста, что ему совершенно не хотелось брать на себя ответственность за все происходящее. Дрожащим голосом он сообщил, что проводил одного из прибывших из Англии в Бивилль, там был дом одного моряка, где они провели весь день. С наступлением темноты они добрались до ближайшей фермы, а потом он оставил прибывшего и отправился назад. Также он сказал, что слышал, будто в районе Дьеппа состоялось уже три высадки с английского корабля, а теперь все ждут четвертую.
В тот же день Реаль подробно пересказал все первому консулу. Тот выглядел озабоченным и, отпуская Реаля, приказал:
— Найдите Савари! Пусть он срочно зайдет ко мне.
Адъютант Наполеона, ставший совсем недавно генералом, не заставил себя долго ждать и нашел его за столом перед картой Нормандского побережья Франции. Первый консул подробно объяснил Савари, чего хочет. В завершении он сказал:
— Поезжайте туда немедленно. Каждое утро информируйте меня обо всем, что вам удастся разузнать. Они все должны быть арестованы прямо на берегу. Нельзя допустить, чтобы вновь прибывшие вошли в контакт с местными бандитами.
* * *
Савари отбыл из Парижа в семь часов вечера, сопровождаемый отрядом элитных жандармов, переодетых в штатское. С собой он взял и юного Троша.
Позже Савари вспоминал:
«По дороге он с настоящей наивностью рассказывал мне о своей судьбе. Он только сейчас понял, что его втянули в интригу, которая могла привести его на эшафот, и теперь готов был проявить максимум усердия, чтобы расставить ловушку тем, кто должен был прибыть».
Вечером следующего дня они уже были в Дьеппе. Супрефект полиции этого порта на берегу Ла-Манша встретил их и повел к пристани.
— Откуда они могут появиться? — спросил Савари. Супрефект указал куда-то поверх его плеча, и, приглядевшись внимательнее, Савари рассмотрел на море два слабо мерцавших огонька.
— Английский парусник, — сказал супрефект своим сиплым надтреснутым голосом. — Он уже несколько дней курсирует в районе Дьеппа и соседнего городка Трепор.
Трош с готовностью подтвердил, что это именно тот корабль, с которого были осуществлены три предыдущих высадки. Но на этот раз парусник не подходил близко к берегу. Приказав местным полицейским продолжать быть начеку, Савари, оседлав лошадь, помчался в Бивилль, сопровождаемый Трошем и жандармами.
Бивилль был угрюмым приморским городком, открытым всем ветрам, сумрачным и неприветливым. Собственно, состоял он из одной единственной улицы, и однообразие серых домиков, крытых одинаковой черепицей, нарушали лишь скалы — темная масса скал и рифов, похожих на гигантских солдат в остроконечных шлемах. Более безрадостной и скучной местности Савари еще не приходилось видеть.
Местные жители смотрели на чужаков со смесью любопытства и страха. Над домом, на который указал Трош, поднимался тонкий столб дыма. Значит, в доме кто-то был. Дом был расположен очень удачно: он был самым крайним в городке, находился в двух шагах от моря, в него легко можно было войти и выйти, оставшись незамеченным. Два небольших окошка, дверь и облезлый бочонок для сбора дождевой воды. Казалось бы, ничего особенного. Но когда Савари подобрался поближе, он увидел, что окна оснащены тяжелыми засовами, а старая дверь обита железом. Весьма странные меры предосторожности для дома простого моряка.
Подобравшись совсем близко, Савари осторожно прильнул к оконному стеклу и заглянул внутрь. Довольно большая комната, освещенная бледным светом, была совершенно без мебели, если не считать большого стола и нескольких деревянных ящиков. На столе стояла корзина, из которой соблазнительно выглядывал окорок (ветчина), коврига хлеба и горлышко бутылки. Трош рассказал, что именно так встречают эмиссаров Лондона:
— Они должны скоро прибыть, я же говорил вам. Нужно следить за приливом.
Время поджимало, и Савари решил посмотреть, есть ли кто внутри. Он приказал жандармам окружить дом и подтолкнул Троша вперед. Тот сначала замялся, но потом медленно открыл дверь и вошел…
К счастью, в доме была лишь жена хозяина, которая знала Троша и, ни на секунду не сомневаясь, что перед ней вновь прибывшие, спросила того, сколько человек высадилось на этот раз.
— Я прибыл не с берега, — ответил ей молодой человек.
— Тогда, если вы туда пойдете, вы найдете там малыша Пажо. Он ждал вас здесь, а час назад пошел на берег вместе с беззубым Жаком.
Малыш Пажо был приятелем Троша, и его функции ограничивались тасканием багажа прибывающих из Англии. А на Жака вообще можно было не обращать внимания: это был местный сумасшедший, он ходил за малышом Пажо, как собачка, потому что тот не ругался и не прогонял его, как это делали все остальные жители Бивилля.
Начало быстро темнеть, и Савари решил посмотреть на место, где ожидалась высадка. До берега моря было всего несколько минут хода. Резкий, влажный, пронизывающий насквозь ветер дул ему в лицо, и генерал, укутанный в длинный черный плащ, поежился. Резкий запах морских водорослей щекотал ноздри. Вдруг до него донесся чей-то голос. Факелов и фонарей, чтобы не выдать себя, с собой не взяли. К тому же море и берег были затянуты густым туманом. Куда ни кинь взгляд — всюду туман. Трошу показалось, что он узнал голос Пажо, но вот, с кем он говорил и сколько всего человек было с ним, он не знал. Савари приказал жандармам спрятаться по обе стороны от тропинки и приготовить оружие. Говорившие приближались. Их было двое. Савари отдал короткий приказ, и идущие от моря были тотчас же повалены на песок. Малыш Пажо и его спутник не успели ничего понять. Их лица были страшно бледными, волосы слиплись, а с одежды струйками стекала вода.
— Какого дьявола! — сумел, наконец, выдавить из себя малыш Пажо, поочередно переводя неуверенный взгляд то на Троша, то на неизвестных ему вооруженных людей.
— Что там, на берегу? — не удосужил его ответом Трош.
— Волны слишком сильные. Уже третий день шлюпка не может подойти к берегу. А что это за люди? Что им надо?
— Этим людям лучше не перечить.
Савари провел остаток ночи в доме моряка, а на рассвете вместе с Трошем снова пошел посмотреть на море. Английский корабль стоял очень далеко от берега, вдоль которого тянулись одни рифы и скалы. И тем не менее именно здесь высадились Жорж Кадудаль и его сообщники. Невероятно! Ни один нормальный человек к такому берегу не стал бы и подходить. Все-таки эти бандиты — настоящие фанатики!
Позже в своих «Мемуарах…» генерал Савари писал:
«Никогда еще беда не казалась мне такой неизбежной, как среди этих скал. Но именно так Жорж и его спутники прибыли во Францию. Мне тяжело было видеть эти тысячи опасностей, которые нужно было преодолеть, чтобы приехать для совершения преступления, которое в результате никак не могло изменить положения тех, кто им подвергался. Любопытно было узнать, понимали ли эти люди, что им предстояло совершить».
Море продолжало штормить. Ветер еще более усилился, перейдя в настоящий ураган. Белые гребни волн со страшным шумом разбивались о берег. Грохотал гром, непрерывное сверкание молний озаряло небо. Непривычные к такому парижане, многие из которых вообще до этого никогда не видели моря, чувствовали себя не в своей тарелке. Как же хорошо было сидеть около ярко пылавших дров, в защите от пронизывающего до костей ветра и холода! Но важность их миссии заставляла забыть о собственном комфорте.
Так Савари и его такие же, как и он, измученные и продрогшие жандармы прождали несколько ночей, но никакой высадки так и не произошло. Потом все так же безрезультатно прошли еще две недели, и они наконец-то получили приказ первого консула возвращаться в Париж. За время отсутствия Савари в столице произошли важные события.
* * *
Знаменитая парижская тюрьма Тампль располагалась в бывшем монастыре ордена Тамплиеров, основанном в XII веке недалеко от нынешней площади Республики. В годы революции тамплиеры были изгнаны из монастыря, а его главная башня превращена в тюрьму, в которую и были помещены: король Людовик XVI, королева Мария-Антуанетта, сестра короля Элизабет, семилетний дофин и его сестра. Вскоре король был обезглавлен, затем за ним последовали королева и сестра короля. По одной из версий — дофин умер в Тампле 8 июня 1795 года, по другой версии — ему удалось бежать в Англию, а его место занял другой похожий на него ребенок, и умер якобы именно этот лжедофин. В 1808 году, чтобы прекратить монархические настроения и паломничество к месту захоронения дофина, башня-тюрьма Тампль будет снесена, а на ее месте организуют огромный рынок.
В то же время, о котором идет рассказ, тюрьма Тампль была переполнена: сюда были брошены без разбора роялисты, якобинцы, шуаны, республиканцы… Короче говоря, любые лица, вызывающие хоть небольшое подозрение у полиции. Всего здесь находилось более ста человек, в том числе персонажи достаточно интересные. Начнем с того, что здесь некоторое время находился и уже упоминавшийся английский морской офицер Сидней Смит. Его история достойна отдельного рассказа.
Сэр Вильям Сидней Смит родился в Лондоне в 1764 году. С детства он увлекался морем и совсем мальчишкой поступил на военный корабль. Продвижение по службе было очень быстрым: в 16 лет Вильям уже был лейтенантом, а в 19 — капитаном.
После того как во Франции произошла революция, Сидней Смит получил командование фрегатом, а вскоре, после нескольких удачных экспедиций к французским берегам, и небольшой эскадрой. Но в апреле 1796 года, погнавшись за французским кораблем, зашедшим в устье Сены, он был атакован, окружен множеством вооруженных пушками лодок и вынужден был сдаться вместе с тремя офицерами и 16 матросами.
После этого Вильям Сидней Смит был отправлен в Париж и заключен в каземат зловещей башни-тюрьмы Тампль. Все предложения об освобождении под честное слово офицера или об обмене остались без ответа. Пленный англичанин рассматривался как вражеский шпион и поджигатель, и дальнейшая судьба его была незавидной. Пока же ему оставалось довольствоваться лишь кувшином с водой, караваем хлеба из муки грубого помола да охапкой сена на холодном полу…
Но друзья, задумавшие освободить Сиднея Смита, упорно ждали подходящий момент. И такой момент наконец-то представился. После подписания мирного договора в Кампо-Формио в Париже начались празднества, посвященные возвращению генерала Бонапарта. Охрана тюрьмы ослабила внимание, и Сидней Смит смог совершить побег. Собственно, то, что произошло, нельзя назвать побегом: он просто ушел из тюрьмы среди бела дня в сопровождении своего друга роялиста-эмигранта де Фелиппо и без проблем добрался с ним до моря. Там они сели на лодку и вскоре были подобраны британским фрегатом, доставившим их в Англию.
Подробности этого удивительного спасения Сиднея Смита из Тампля изложены во втором томе так называемых «Мемуаров о жизни великого человека», опубликованных в Париже в 1819 году:
«Сэр Сидней Смит, английский коммодор, взятию которого французское правительство придавало большое значение, был заключен в Тампль, и надзиратель получил особый приказ наблюдать за ним самым внимательным образом. Из всех содержавшихся там пленников спасти этого, казалось, было труднее всего. Однако смелость и самопожертвование друга дали результат. Рано утром в Тампль прибыл человек, одетый в генеральскую униформу. Он потребовал к себе надзирателя и показал ему приказ правительства о взятии сэра Сиднея Смита и его лакея Джеймса для препровождения их в другую государственную тюрьму. Надзиратель, изучив приказ и найдя его подлинным, выдал обоих пленников под расписку и увидел, как они вместе с генералом сели в фиакр, ждавший их у ворот.
Этим так называемым генералом был вернувшийся эмигрант Фелиппо, который, подвергая себя риску, придумал эту хитрость для спасения своего друга. Так называемым лакеем Джеймсом был другой французский эмигрант, которому сэр Сидней Смит дал это имя, чтобы спасти ему жизнь. Непредвиденный случай, однако, чуть не погубил все мероприятие. Не успели они отъехать от стен Тампля, как неловкий кучер столкнулся с тяжелой ломовой повозкой. Колесо фиакра сломалось, вокруг собралась толпа, и пришлось выходить. Необходимо было спешно расплатиться с кучером, ответить на вопросы зевак, интересовавшихся, не поранился ли кто, и пешком пойти к ближайшей стоянке фиакров. Там трое друзей сели в другой экипаж, доехали до гостиницы на улице Круа-де-Пти-Шам, где их ждала почтовая карета и благодаря фальшивым паспортам, также аккуратно сделанным, как и приказ о переводе, который открыл им ворота Тампля, они беспрепятственно прибыли в Англию.
Каждые пять дней в министерство полиции передавался отчет о состоянии тюрем. Можно себе представить их бешенство, когда они прочитали о переводе сэра Сиднея Смита в другую государственную тюрьму. Во все порты и на все границы были посланы чрезвычайные гонцы, но было поздно. Отыграться смогли лишь на несчастном надзирателе».
Случай с Сиднеем Смитом был своего рода уникальным, никому больше не удавалось добровольно покинуть стены Тампля.
Но вернемся к нашему повествованию. Итак, в Тампле в описываемое нами время сидело более ста человек. Среди них был и принц Пинателли, сын посла Неаполя в Турине, и барон де Ларошфуко, служивший в эмигрантской армии принца Конде, и маркиз де Пюивер, и многие-многие другие. Сидел в этой тюрьме и некий Луи Фош-Борель, продавец книг из Невшателя.
Ему было лет сорок от роду, и, собственно, ради него мы и начали рассказ о тюрьме Тампль, ибо он не только торговал книгами, но и был еще одним из самых активных и эффективных тайных агентов французских эмигрантов, преимущественно принца Конде. В данный момент Фош-Борель прибыл во Францию с одной очень важной миссией: он должен был установить контакт между генералами Моро и Пишегрю.
В своих «Мемуарах…» Фош-Борель потом написал:
«Некоторые люди, преданные Бурбонам, подумали, что, чтобы остановить амбиции Буонапарте, было бы полезно объединить генералов Пишегрю и Моро одними взглядами и одними интересами. Углубляя эту идею, можно было надеяться, что такое объединение талантов и возможностей даст мир Европе и подтолкнет Францию к счастью и спокойствию. Всем было известно, что оба генерала, уставшие от амбиций Буонапарте, выражали свое недовольство им: поэтому цель британских министров и французских принцев состояла в том, чтобы найти возможность как можно быстрее соединить Пишегрю и Моро, и я был выбран самим Пишегрю как человек, способный вызвать полное доверие Моро. В этом и заключалась моя миссия».
Фош-Борель прибыл во Францию и тут же отправился в Париж. Там он написал генералу Моро, и тот согласился на встречу с ним.
Эта встреча действительно состоялась в парижском доме, принадлежащем теще генерала. Моро внимательно выслушал Фош-Бореля. Когда речь зашла о генерале Пишегрю, Моро не стал прерывать Фош-Бореля. Ему интересно было услышать новости о своем бывшем товарище, перешедшем в лагерь врагов революции. Но не более того. Обыкновенное уважение одного заслуженного генерала к другому. Ни о каких переговорах о свержении Наполеона и восстановлении власти Бурбонов не было и речи. А потом Фош-Бореля арестовали, как в то время арестовывали многих подозрительных, прибывших из Англии.
* * *
Жан-Виктор Моро родился в 1763 году в Бретани. В 17 лет стал солдатом, но его отец, достаточно преуспевающий в то время адвокат, попытался заставить сына покинуть военную службу, чтобы получить юридическое образование. К сожалению или к счастью, революционная волна вновь вынесла Моро на военную стезю. Во время формирования национальной республиканской гвардии он был избран солдатами командиром батальона.
В 1793 году вместе со своим батальоном Моро был направлен в Северную армию генерала Пишегрю, где вскоре получил чин дивизионного генерала и был назначен командующим правым флангом. Позже он стал главнокомандующим этой армии.
В 1796 году Моро был поставлен во главе Рейнско-Мозельской армии, которая вместе с Самбро-маасской армией Журдана предназначалась для действий против австрийцев. С июня по август, благодаря ряду побед Моро, противник был оттеснен к Дунаю, а когда армия Журдана была разбита австрийцами, Моро совершил свое знаменитое сорокадневное отступление через Шварцвальдские горы к Рейну. Этим самым он фактически спас свою армию от неминуемой гибели.
В 1799 году генерал Моро возглавил Французскую армию в Северной Италии, но потерпел поражение от Суворова при Кассано и отступил к Генуэзской Ривьере. Когда сменивший его генерал Жубер был убит в бою при Нови, Моро отвел остатки разбитой армии во Францию.
В 1800 году Моро был назначен главнокомандующим в Рейнскую армию, с которой он, одержав несколько громких побед над австрийцами, занял Регенсбург и Мюнхен.
В начале декабря 1800 года Моро одержал блестящую победу при Гогенлиндене, поднявшую его на необычайную высоту популярности. Эта победа окончательно решила военный вопрос в пользу Франции и успешно завершила затянувшуюся и всем изрядно надоевшую войну. Наполеон, ставший уже к тому времени фактически главой государства, никогда не сможет простить Моро этой победы. После Гогенлиндена он будет видеть в Моро своего главного соперника (другие равные по таланту и славе с Наполеоном военачальники к тому времени уже сошли со сцены: Дезе и Клебер были убиты в боях, Гош умер при странных обстоятельствах. — Авт.) и даже начнет в тайне побаиваться его, и было чего опасаться: Моро командовал прекрасной армией и в своих операциях не зависел теперь от такого самовластного начальника, каким был Наполеон. Солдаты и офицеры обожали бретонца, а правительство всячески поощряло, ведь действуя самостоятельно, он показал всю силу своей энергии и своего высокого таланта.
При Гогенлиндене австрийская армия насчитывала 150 000 человек, у Моро было лишь 120 000 человек, но это были превосходные войска, беззаветно преданные своему начальнику. Хладнокровие Моро, искусный расчет операций и строгая точность в исполнении его приказов обеспечили французам полный успех: все поле боя было усеяно убитыми и ранеными австрийцами, а также разбитыми повозками, брошенными орудиями и зарядными ящиками. Двадцать тысяч уничтоженных и взятых в плен, около сотни орудий и огромное количество снаряжения — таковы трофеи этой блестящей победы.
Победа при Гогенлиндене была тем более уникальна, что Моро после нее, в отличие от Наполеона, который всегда «раздувал» свои победы и даже присваивал себе чужие, как это случилось в знаменитом сражении при Маренго, не стал этого делать.
Французские историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо характеризуют эту победу и все, что происходило вокруг нее, следующим образом:
«Победа при Гогенлиндене была последней республиканской победой. Никогда больше Франция не видела такой скромности в своих военачальниках, такой сердечной к ним почтительности со стороны солдат, таких трогательных проявлений патриотизма, как объятия двух соратников, Нея и Ришпанса, на поле битвы, после того как они соединились, прорвав с двух сторон австрийскую армию. Моро и в голову не приходило раздуть свою победу хвастливыми рапортами: он донес о ней поразительно скромным письмом, заключавшим в себе всего несколько строк. Бонапарт сообщил о ней Законодательному корпусу как об одной из величайших побед, когда-либо одержанных, и написал Моро, что он превзошел себя. Но позднее он взял назад свои похвалы. Он утверждал, что эта победа была результатом чистой случайности и что операции эрцгерцога Иоанна далеко превосходили операции его противника. Странно видеть такую мелочность со стороны величайшего военного гения, какого знает история. Но в глазах Бонапарта всякая похвала, достававшаяся другому, являлась ущербом его собственной славе».
Шатобриан совершенно справедливо считал, что в Моро Наполеон видел соперника из чувства «мелкой зависти». На самом деле, никаким соперником он не был. Это был хоть и упрямый, как все бретонцы, но очень скромный человек, далекий от большой политики. Но все же очень правильно говорят: зависть есть своего рода невольная дань уважения, которую ничтожество платит достоинству, а ничтожество лучше всего постигается на самой вершине человеческих почестей.
После фактического воцарения Наполеона во Франции Моро встал в оппозицию к его режиму. Наполеон не мог с ним не считаться, приглашал его на обеды, на богослужения в Собор Парижской Богоматери, но Моро эти приглашения неизменно отклонял. У историка А.З. Манфреда читаем:
«Он не вел открытой войны, но и не шел на примирение. Чем наряднее и пышнее становились туалеты в Тюильрийском дворце, тем проще одевался Моро — он стал образцом, примером республиканской скромности. <…> Бонапарт мог рассчитывать, что по складу своего характера Моро не ввяжется ни в какие антиправительственные действия, он ограничится лишь словесной фрондой. Но Моро был знаменем оппозиции; хотел он того или нет, вокруг него будут объединяться все недовольные».
* * *
Шарль Пишегрю родился в 1761 году в крестьянской семье. Несмотря на бедность отца, он сумел окончить коллеж, а затем и военную школу в Бриенне. В эту школу, как известно, несколько позже поступил и Наполеон, и волей случая получилось так, что Пишегрю стал у него репетитором по точным наукам. Репетиторов в Бриеннской школе назначали из числа старших учеников или выпускников, а Пишегрю, бывший на восемь лет старше Наполеона, отличался выдающимся математическими способностями, поэтому его репетиторство ценилось очень высоко.
В 1783 году Пишегрю ушел добровольцем в армию и участвовал в войне за независимость в Северной Америке. После Великой французской революции он вступил в Якобинский клуб в Безансоне и стал подполковником добровольческого батальона, а в октябре 1793 года он уже был дивизионным генералом и главнокомандующим Рейнской армии. Весной 1794 года Пишегрю командовал Северной армией и участвовал в завоевании Бельгии, а затем и Голландии. В это время слава Пишегрю достигла зенита. После побед в Голландии Конвент наградил его почетным званием «Спаситель Отечества».
Затем Пишегрю стал главнокомандующим Рейнско-мозельской армии, в Голландии же его заменил генерал Моро. Между армиями этих двух главнокомандующих находилась еще и Самбро-маасская армия, которой командовал генерал Журдан. В случае совместных операций всех трех армий, главное начальство над ними должен был принять Пишегрю. Можно себе представить, какая огромная власть оказалась сосредоточена в руках этого незаурядного человека.
Летом 1795 года Журдан переправился через Рейн, дошел в южном направлении до Майна и обложил город Майнц. Австрийцы в смятении отступили. Что касается Пишегрю, то его успехи на новом театре военных действий заключались в капитуляции Маннгейма, без единого выстрела отворившего свои ворота перед лицом одной лишь угрозы артобстрела. В эксплуатации этого успеха Пишегрю не проявил, однако же, свойственной ему энергии. Более того, своими растянутыми и плохо согласованными маршами он дал возможность австрийскому генералу Клерфайту стянуть свои силы к позиции между Майном и Маннгеймом и разъединить таким образом двух французских военачальников.
Клерфайт произвел энергичное наступление на терпевшую бедствия и лишения армию Журдана и принудил ее отступить обратно за Рейн. Оставив здесь обсервационный корпус и сдерживая Пишегрю на юге, он сам переправился затем через реку под Майнцем и произвел решительную атаку осадных линий на левом берегу, которыми французы еще годом раньше оцепили город. Осадные войска были оттеснены по разным направлениям, австрийцы же с постоянно прибывавшими подкреплениями заняли местность, лежащую к западу от реки, окончательно отрезав таким образом Журдана от Пишегрю.
Маннгейм, сдача которого французам состоялась 20 сентября, снова перешел 22 ноября в руки австрийцев, которые тотчас же подкрепили войска, действовавшие на западном берегу против Пишегрю, тогда как Клерфайт отбросил еще дальше назад другую Французскую армию. Этим успехом завершились его блестящие операции 1795 года. При испортившейся донельзя погоде в австрийской армии обнаружилась большая заболеваемость, и 19 декабря Клерфайт предложил перемирие, на которое Журдан согласился чрезвычайно охотно. Австрийцы, находившиеся в начале года к востоку от Рейна, удержали за собой западный берег, где позиции их далеко заходили вперед, опираясь на Майнц и Маннгейм, эти два чрезвычайно важных опорных пункта для всех операций, производившихся на том или другом берегу реки.
Неудачные маневры генерала Пишегрю стали внушать тревогу французскому правительству. Причиной этому послужило следующее событие, на которое указывает историк А.З. Манфред:
«Позже стало известно, что в августе 1795 года к всесильному генералу явился некий Фош-Борель, агент Бурбонов; сначала он говорил о рукописях Руссо, затем повел осторожный разговор о склонности людей к переменам, о возможности восстановления монархии. Фош-Борель опасался, что после первых двусмысленных слов его расстреляют. Этого не произошло, он был выслушан. Позже граф Монгайяр вел переговоры с Пишегрю о том же».
Граф Морис де Монгайяр был одним из известнейших агентов-двойников, действовавших в период Великой французской революции. Он происходил из обедневшей дворянской семьи и до революции служил офицером на острове Мартиника. После возвращения во Францию он по расчету женился и сумел втереться в доверие к министру финансов Неккеру, что в значительной степени способствовало его карьере. После начала революции Монгайяр поступил на секретную службу короля и был в числе организаторов безуспешной попытки бегства короля Людовика XVI. В годы якобинской диктатуры Монгайяр остался во Франции, причем не подвергся ни аресту, ни преследованиям. Это было явно результатом того, что хитрому авантюристу удалось поступить на тайную службу революционному правительству.
Когда в 1794 году Монгайяр прибыл в Лондон, одни считали его тайным эмиссаром Робеспьера, другие — французским аристократом, сумевшим унести ноги от санкюлотов. Сам премьер-министр Вильям Питт предложил ему поступить на английскую секретную службу. Француз согласился на это предложение, так как знал, что англичане щедро платят своим агентам. Вернувшись во Францию, Монгайяр начал активно работать. Он стремился сразу же добиться какого-либо крупного успеха и с этой целью решил попытаться переманить на сторону эмигрантов одного из самых известных в то время республиканских генералов. Это был Пишегрю. Трудность заключалась в том, как завязать связь с ним, ведь при нем неотлучно находились три комиссара Конвента. И тогда Монгайяр прибег к услугам Луи Фош-Бореля, книготорговца из небольшого швейцарского городка Невшателя. Монгайяр пообещал ему золотые горы в случае реставрации монархии: миллион луидоров, место главного инспектора французских библиотек и орден на грудь.
Фош-Борелю удалось завязать с генералом Пишегрю переговоры. Но все закончилось для него одной большой неудачей: генерал позвал адъютанта и сказал: «Вы очень обяжете меня, если пристрелите этого господина, если он еще хоть раз явится ко мне».
Однако информация о переговорах Пишегрю с иностранными агентами не ускользнула от внимания французской секретной службы в Швейцарии, которую возглавляли секретарь французского посольства Баше и бывший член Конвента Бассаль. Французское правительство отдало приказ об аресте Фош-Бореля. 21 декабря он был захвачен в Страсбуре. При этом он успел сжечь все опасные бумаги, кроме одной. Это была записка от принца Конде, которую он получил незадолго до ареста и спрятал в потайном отделении своего портфеля. Полицейские, видимо, не очень внимательно осмотрели портфель, и записка осталась необнаруженной. Вскоре Фош-Бореля выпустили на свободу за недостатком улик.
Переговоры роялистских агентов с Пишегрю длились довольно долго. Пишегрю колебался, не доверяя принцу Конде и вдобавок опасаясь правительственных комиссаров, следивших за всеми его действиями. Конечно, он отказался открыто перейти на сторону противника, но после сдачи Мангейма правительство Директории, пришедшее на смену Конвенту, сместило Пишегрю сначала временно, потом, через месяц с небольшим, постоянно. Пост командующего французской Рейнско-Мозельской армии занял генерал Моро, который, впрочем, продолжил отступление.
В апреле 1797 года французские солдаты захватили у австрийцев фургон, в котором перевозили корреспонденцию генерала Клинглина. Зашифрованную переписку поручили прочесть главе армейской разведки лейтенанту Бранде, который быстро разобрался в том, что в бумагах речь идет об измене Пишегрю. Моро, который в конце апреля узнал о содержании бумаг, решил выждать. Лишь узнав о победе Директории, Моро отправил бумаги в Париж, датировав свое сопроводительное письмо задним числом. Хитрость не вполне удалась, и генерал Моро был смещен с занимаемого поста, хотя его и не предали суду.
В те непростые времена такой поступок Моро был крайне рискованным, и если генерал пошел на такое, то это означает, что Пишегрю был для него не просто коллегой, а очень близким другом. Запомним этот факт, он будет нам очень важен для понимания событий, которые произойдут через семь лет. Добавим также, что граф де Монгайяр вел переговоры и с Наполеоном, находившимся в Италии. Отметим, что там он тоже не был арестован и расстрелян, как это должно было бы произойти, а также был внимательно выслушан. Заметим, что сам факт подобных переговоров, вне зависимости от их результата, в те времена воспринимался как измена, поведение же Пишегрю и Наполеона не отличалось ровным счетом ничем.
Пишегрю, отстраненному от командования, предложили стать послом в Швеции, но он решительно отказался от этого, как он считал, позорного для боевого генерала назначения и в марте 1796 года вышел в отставку. А в апреле 1797 года отставной генерал был избран президентом Совета пятисот, высшей законодательной власти Франции. Это был открытый вызов Директории. Прославленный генерал, которого считали принадлежащим к лагерю оппозиции, занимал столь высокую должность, а солдаты, что с них возьмешь, могли вновь пойти за Пишегрю, помня о его былых победах во имя революции.
В этот самый напряженный момент, как всегда, в дело вмешался случай. В Вероне был захвачен роялистский агент граф д'Антрег. В его бумагах были обнаружены неопровержимые доказательства «измены» Пишегрю: там были свидетельства его переговоров с принцем Конде и с Фош-Борелем. Документы эти были переданы Наполеону, и (о, ужас! — Авт.) он нашел в них подтверждение своих встреч с графом де Монгайяром. Конечно, эти переговоры закончились ничем, но сам факт того, что Наполеон участвовал в них, был крайне опасен. Проще всего было бы уничтожить компрометирующие документы, но в них была информация и против Пишегрю, а ее-то уничтожать предусмотрительному Наполеону никак не хотелось. Вместо этого он приказал срочно доставить к себе д'Антрега и заставил его переписать некоторые бумаги. Арестованный не заставил себя долго уговаривать, а взамен ему было организовано «бегство» из-под стражи. После этого Наполеон отправил бумаги в Париж одному из лидеров Директории Баррасу, а вместе с ними он направил туда и верного генерала Ожеро.
Историк Е.Б. Черняк по этому поводу уточняет:
«Незадолго до ареста д'Антрег имел встречу с другим организатором роялистского подполья Монгайяром. В ходе беседы Монгайяр ознакомил д'Антрега со всеми деталями организации роялистов во Франции. Протокол беседы находился в портфеле д'Антрега и был прочтен Наполеоном. Однако этого протокола не оказалось среди бумаг, пересланных в Париж! Взамен сохранилась лишь копия, составленная д'Антрегом по требованию Бонапарта во время их долгого свидания без свидетелей. Впоследствии д'Антрег <…> сообщил, что протокол имел 33 страницы. В "копии", которая сохранилась в архивах, всего 16 страниц. Д'Антрег, чтобы успокоить встревоженных роялистов, уверял, что копия содержала лишь фальшивые сведения и была написана под диктовку Бонапарта. (Весьма вероятно, что Бонапарт, помимо всего прочего, пытался скомпрометировать д'Антрега в глазах роялистов и таким путем перетянуть опытного заговорщика на свою сторону.) Это заверение д'Антрега опровергается, однако, тем, что данные копии протокола совпадают с другими материалами о деятельности роялистов агентуры. Словом, обе стороны — и Наполеон, и д'Антрег — в своих объяснениях о чем-то умалчивают и хитрят. Можно лишь догадываться о том, что счел нужным изъять Наполеон из текста протокола… Бумаги, которые были пересланы в Париж, сообщали лишь об измене генерала Пишегрю».
Граф де Монгайяр, кстати сказать, вскоре сделался рьяным республиканцем, а потом столь же ярым бонапартистом. В 1810 году его было посадили в долговую тюрьму, но Наполеон лично выплатил его долги и назначил ему солидное ежегодное жалованье в размере 14 тыс. франков, используя Монгайяра для различных шпионских заданий. После реставрации Бурбонов Монгайяр, конечно же, всюду разъяснял, что всегда был и оставался в душе роялистом, но уверения эти уже не имели успеха.
А пока же (4 сентября 1797 года) верные Баррасу войска во главе с Ожеро окружили Тюильри, где заседал Совет пятисот, и большинство неугодных депутатов вместе с «изменником» Пишегрю были арестованы.
Следует отметить, что в те времена определение «изменник» навешивалось с такой легкостью, что изменниками была как минимум половина страны. Но мы и по своей истории прекрасно знаем, что изменник изменнику рознь, и не все те, кто был объявлен изменником, таковыми на самом деле являлись, и дело здесь не в компрометирующих документах и не в признаниях (все это легко фальсифицировалось).
С изменниками разговор короткий: без суда и следствия Пишегрю был депортирован в Гвиану. Эта заморская территория Франции с ее ужасным климатом представляла собой огромную тюрьму, из которой возвращались живыми очень немногие. Пишегрю прекрасно понимал, что его там ждет.
Пробыл он в Кайенне шесть месяцев, но потом со своими друзьями Обри и Рамелем напал на часового, разоружил его, добрался до берега, захватил лодку и пустился в открытый океан. Через десять дней их подобрали англичане и доставили в Лондон. Теперь его судьба была определена: он был беглым преступником, и если и раньше его объяснений никто не слушал, то теперь все пути к оправданию были ему отрезаны раз и навсегда. Своим побегом он лишь подтвердил факт своей «подлой измены».
* * *
Когда Жорж Кадудаль готовился к высадке во Франции, его самой главной задачей было войти в контакт с тем человеком, который после устранения Наполеона непосредственно в первый момент должен был захватить власть в свои руки и организовать приглашение Бурбонов на французский престол. Такого человека, как мы уже знаем, роялисты наметили в лице генерала Моро, жившего в своем имении в Гробуа. Посредником в предстоявших переговорах между Моро и Кадудалем, с которым благородный Моро встречаться и не подумал бы, должен был стать его бывший боевой товарищ генерал Пишегрю, который к тому времени уже нелегально был переброшен в Париж.
Пишегрю теперь терять было нечего. Официальные пути возвращения во Францию были ему заказаны, а узурпировавшего власть Наполеона он ненавидел лютой ненавистью. Заговорщики сумели убедить Пишегрю, что и Моро питает враждебные чувства к первому консулу.
Генерал Моро, конечно, был честолюбец, это Пишегрю прекрасно знал, но честолюбец он был крайне нерешительный. Да, он давно ненавидел Наполеона, и именно за Брюмерский переворот, приведший того к власти. С тех самых пор он поставил себя в молчаливую оппозицию новому режиму. Якобинцы считали, что Моро — убежденный республиканец; знавшие же его роялисты были уверены, что он из одной ненависти к первому консулу согласится им помочь. Но как он поступит на самом деле? Это для Пишегрю пока оставалось загадкой.
Всезнающая мадам де Сталь в своих «Мемуарах…» пишет так:
«Моро, человек, наделенный безупречной нравственностью, неоспоримым воинским талантом и умом, в высшей степени справедливым и просвещенным, позволил себе в разговорах жарко порицать первого консула. <…> Для человека благородного весьма естественно выражать свои мнения, не задумываясь о последствиях, однако действия Моро слишком явно занимали первого консула, и потому подобное поведение не могло не погубить генерала. Бонапарту требовался предлог, чтобы арестовать человека, выигравшего столько сражений; предлог отыскался если не в делах, то в речах Моро».
* * *
Полиция исправно делала свою работу и ежедневно доносила первому консулу о том, что успевала узнать. А рассказать было о чем, ведь уже были арестованы и допрошены тайный агент Бурбонов Фош-Борель, а также нескольких шуанов, участвовавших в заговоре. Один из них Буве де Лозье поведал, что Жорж Кадудаль высадился в Бивилле с борта английского корабля капитана Райта в конце августа 1803 года, а встреча Моро, Пишегрю и Кадудаля в Париже все же состоялась 25 января 1804 года.
Этот Буве де Лозье был офицером-роялистом, адъютантом Жоржа Кадудаля и одним из его самых ближайших соратников, отвечавшим за связь с Англией. На первом допросе государственному советнику Реалю не удалось «выбить» из него ничего определенного. Но когда Реаль удалился, тот повесился у себя в камере. Стражники услышали предсмертные хрипы арестованного и вытащили его полуживого из самодельной петли.
Когда Реаль вернулся в тюрьму Тампль, он велел снять с ног шуана обувь и посадить в кресло на колесиках. После этого Буве де Лозье придвинули к пылающему жаром камину. «Я все расскажу! — закричал он, не вытерпев боли. — Пишегрю в Париже! Бога ради, отодвиньте кресло! Кадудаль и Пишегрю встречались с генералом Моро!»
Вот так была получена эта важнейшая информация. Метод не очень гуманный, зато надежный и проверенный веками.
Американский историк Вильям Миллиган Слоон по этому поводу пишет:
«Тайная полиция первого консула не стеснялась прибегать к пытке, чтобы выудить у некоторых из участников показания, которым уже по этому самому нельзя придавать сколько-нибудь серьезного значения».
Измотанный длительным допросом Реаль помчался из тюрьмы во дворец Сен-Клу, где проходил бал, на котором присутствовал Наполеон. Обвитый лентами серпантина, осыпанный блестками и конфетти первый консул оставил танцующих и уединился с Реалем в дальнем кабинете.
— Ну, удалось узнать что-нибудь важное?
— Они встречались с Моро…
— Ну вот видите! Сколько раз я говорил вам, Реаль, что вы не знаете и четверти этого дела…
После этого Наполеон срочно потребовал протокол допроса Буве де Лозье.
В протоколе говорилось о том, что роялисты хотели воспользоваться услугами генерала Моро, что они прибегли для этого к помощи генерала Фредерика де Ляжоле, роялиста по взглядам, служившего в свое время под началом Моро. Тот изложил своему бывшему начальнику разработанный в Лондоне план. 25 января Ляжоле вместе с Пишегрю и Кадудалем ездили на встречу с Моро на Елисейские поля.
— И как только Моро мог позволить втянуть себя в подобную аферу? — удивленно спросил первый консул, возвращая протокол Реалю. — Ведь это единственный человек, который мог причинить мне беспокойство, единственный, кто мог иметь шанс против меня. И так попасться. Все-таки моя звезда не изменяет мне.
Однако дело тут было вовсе не счастливой звезде Наполеона. Истинную причину называет историк Вильям Миллиган Слоон:
«Расставляя свои ловушки неосторожным противникам, правительство Бонапарта не противилось пользоваться всеми средствами, какие только попадались ему под руку».
Поговаривали, например, что тот же Ляжоле, которого профессор Слоон называет «искателем приключений», «сильно скомпрометированным человеком» и просто «шпионом», перед встречей с Моро виделся с самим Фуше и получал от него подробные инструкции. Также, как мы уже знаем, агентом тайной полиции, но уже иного закала, был и Меге де ля Туш, который выдавал себя за противника Наполеона, втирался в доверие к эмигрантам и передавал важную информацию консульскому правительству. При этом он брал деньги и с французских принцев, и с англичан. Это он придумал версию о том, что в Париже действует якобинский комитет, готовящий восстание против первого консула, что этот комитет вступил в контакт с роялистами и избрал своим вождем генерала Моро.
Вообще следует отметить, что Фуше очень внимательно следил за ходом всего этого дела, особенно за действиями Реаля, которого он считал весьма дельным полицейским. Узнавая от своих людей новости, Фуше тут же шел в Тюильри и принимался рассказывать их, вызывая всеобщее восхищение своей осведомленностью. Однажды Наполеон не удержался и спросил:
— Вы все еще работаете в полиции?
— У меня там осталось несколько друзей. Они держат меня в курсе.
Позже, вернувшись к власти, Фуше не забудет людей, помогавших ему в период немилости.
Тот же Вильям Миллиган Слоон, занимавшийся этим вопросом, констатирует:
«Обнародованая переписка свидетельствует, что сам первый консул с величайшим увлечением руководил всей этой интригой».
Когда готовый на все, чтобы показать свою эффективность, Реаль предложил немедленно арестовать генерала Моро, Наполеон остановил его:
— Послушайте, Реаль, Моро — это очень важная фигура. С такими людьми, как он, не следует делать слишком поспешных шагов.
— Но Моро вступил в преступный заговор…
— O, это другое дело: докажите мне, что Кадудаль и Пишегрю в Париже, и я тут же прикажу арестовать Моро.
— Но это можно считать доказанным.
— Только не для меня, — возразил Наполеон. — Послушайте, в этом же очень легко убедиться. У Пишегрю, например, есть брат, который живет в Париже — где, я не знаю, но это уже ваше дело, найдите его, Реаль.
— Будет исполнено, генерал.
— Если его нет дома, это может значить, что Пишегрю в Париже, если же он спокойно живет у себя — значит, его опального брата здесь нет. Осторожно расспросите его, может быть, что-нибудь удастся выяснить.
Позже Наполеон вспоминал об этой истории. Его слова, адресованные на острове Святой Елены английскому врачу Уордену, приводит в своей книге «Жизнь Наполеона» Стендаль:
«Было известно, что у Пишегрю в Париже есть брат, старик-монах, живущий весьма уединенно. Монах этот был арестован, и в ту минуту, когда жандармы его уводили, у него вырвалась жалоба, наконец, открывшая мне то, что мне так важно было узнать: "Вот как со мной обращаются из-за того, что я дал приют родному брату!"».
Короче говоря, хитрость Наполеона удалась. Простодушный брат Пишегрю стал невольным доносчиком. Правильно говорят, что наивность — двоюродная сестра глупости.
— Что у вас есть еще? — спросил Наполеон государственного советника Реаля.
— Я поручил своим людям разыскать мне Ляжоле. Его нужно взять живым, без него мы ничего не узнаем точно о планах Моро. Я знаю генерала Ляжоле. Если его хорошенько напугать — он заговорит. Есть еще один интересующий меня человек — это Костер де Сен-Виктор. Он будет арестован сегодня. Но это еще не все, генерал. Вы собираетесь давать большой смотр войск послезавтра?
— В воскресенье? Но… конечно, а что?
— Нужно его перенести под каким-нибудь предлогом.
— Почему это?
— Потому что вся банда может быть там. Это отчаянные люди, и они могут решиться на крайние меры. Смотр нужно перенести на другой день. Ведь лишь одного выстрела из пистолета будет достаточно…
— Я сказал, нет! — резко оборвал его Наполеон.
— Позвольте заметить, генерал, что тогда мы не сможем гарантировать вашу безопасность. В конце концов, это ваша проблема, а не наша.
— Позвольте и вам заметить, господин государственный советник: каждый здесь находится на своем месте и выполняет свои обязанности: ваши состоят в том, чтобы охранять меня от любой опасности, а мои — в том, чтобы проводить запланированные смотры войск и не разводить панику.
— Генерал, это неосторожно!
— Неосторожно действовать в вашем стиле. Ведь об этом смотре было объявлено? Париж забеспокоится, если смотр не состоится, а я не хочу этого. Короче, выкручивайтесь, как хотите.
После этого первый консул и Реаль расстались очень недовольные друг другом.
* * *
В Париже была объявлена тревога. Все силы полиции и жандармерии были подняты на ноги. Как в былые времена террора, арестовывали всех подряд — достаточно было хоть малейшего подозрения или доноса. 15 февраля 1804 года был арестован и генерал Моро.
Проведение ареста было поручено майору элитной жандармерии Анри. Он встретил генерала по дороге из Парижа. Тот был в своей карете один. Майор Анри сидел в своем служебном кабриолете. Увидев генерала, он приказал кучеру остановиться, подошел к его карете, открыл дверь и полным уважения голосом сказал: «Извините, генерал, но мне поручена очень неприятная миссия — вот, посмотрите!»
Моро прочитал протянутый ему ордер и вернул его майору, не проронив ни слова. После этого он вышел из кареты, пересел в его кабриолет и позволил отвезти себя в тюрьму Тампль, не привлекая к себе ничьего внимания.
Что ему оставалось делать? С начала 1801 года он жил обособленно, почти никого не принимал, мало (во всяком случае, по внешним проявлениям) интересовался политикой, редко показывался на людях. Денег на жизнь ему вполне хватало, и заботиться о хлебе насущном не было никакой нужды. Единственное, в чем Моро был тверд и непоколебим, так это в нежелании служить первому консулу. Но это отнюдь не преступление. Славы у него было предостаточно, и компрометировать себя сотрудничеством с новым режимом он не желал. Со стороны могло показаться, что Моро превратился в обыкновенного сельского отшельника, индифферентного ко всему, что происходит за пределами его имения.
Когда Фош-Борель первый раз обратился к нему и заговорил о Пишегрю, генерал выслушал его. Да и глупо было бы упираться. В конце концов, почему бы ни узнать новости о бывшем товарище по оружию…
Факт возвращения Пишегрю во Францию Моро дипломатично назвал признанием его очевидных заслуг перед отечеством, и у Фош-Бореля сложилось впечатление, что Моро проявил большую заинтересованность во встрече. А еще ему показалось, что Моро весьма недоволен своим теперешним положением, ненавидит Наполеона и готов на все, чтобы столкнуть его с высоты, на которую тот забрался. После этого к делу подключился генерал Ляжоле, служивший раньше в армии генерала Моро и пользовавшийся его доверием, а уже он организовал встречу Моро с Пишегрю и Кадудалем.
Моро готовился увидеть одного Пишегрю и, увидев рядом с ним незнакомого человека, насторожился. Но Кадудаль не замедлил представиться:
— Я — Жорж Кадудаль, сын мельника из Бретани. Мы с вами равны в чинах, но я стал генералом королевской милостью.
Моро усмехнулся:
— А, Кадудаль — знаменитый вождь вандейских шуанов? Личность, достойная уважения, хотя бы как храбрый противник.
— Здравствуй, Моро, — вступил в разговор Пишегрю. — Знал бы ты, как странно мне видеться с человеком, предавшим меня. Знаешь, дружище, благодаря тебе я совершил увлекательное путешествие в Гвиану. Но мне повезло, я сумел бежать…
Моро решительно перебил его:
— Ты не прав, Пишегрю! Твою переписку с принцем Конде я никому не показывал несколько месяцев. Признай, в те непростые времена это было крайне опасно. Я рисковал жизнью ради тебя. А ты? Давай-ка вспомним, кто кого предал. Это не я — это ты изменил революции ради служения Бурбонам. Говоришь, сумел бежать? Что ж, молодец. Сидеть никому не хочется. А вот мне тогда бежать было некуда. Я был разжалован, оклеветан… Вот она, моя голова! Спроси, как она уцелела?
Пишегрю рассмеялся ему в ответ:
— Твоя голова уцелела, но не для того ли, чтобы проклятый корсиканец уселся тебе на шею? Ну и как тебе твоя новая жизнь? Где же твои былые убеждения?
Кадудаль резко оборвал перебранку двух генералов:
— Прекратите! Мы пришли сюда не для того, чтобы осыпать друг друга претензиями.
— Да уж, не для этого, — согласился Моро. — У вас, как я понял, есть ко мне дело…
Выслушав Кадудаля и Пишегрю, Моро быстро понял, что от него хотят. Понял он и то, что роялисты явно ошиблись адресом. Что за новость? Они что, все сошли с ума там, в Лондоне? Его, республиканского генерала Моро, они хотят сделать знаменем роялизма?
Кадудаль тем временем перечислял фамилии людей, находившихся в Париже и готовых хоть сейчас выступить вместе с ним.
— Я захвачу Бонапарта, а потом за деньги буду показывать его в клетке.
Моро был неприятен этот огромный человек, грубо слепленный из мышц и сухожилий, и он честно признался: да, он противник Наполеона, но у него совсем иные к нему претензии, нежели у роялистов.
— Роялистам важно, кто будет находиться на престоле, меня же волнует судьба народа Франции. Вас ввели в заблуждение относительно моих убеждений. Мы никогда не будем друзьями. Как бы ни презирал я зарвавшегося Бонапарта, я никогда не пойду за вами на его уничтожение, чтобы во Франции снова воцарились преступные Бурбоны.
— Ты всегда был идеалистом, — сказал Пишегрю. — Даже когда твоему отцу рубили голову, ты не пошел за мной в эмиграцию. И чего ты достиг? Ваша хваленая свобода теперь упрятана за решетки тюрем, ваше братство состоит в суетливой толкотне за чинами и наградами, а про ваше равенство я вообще не хочу говорить. Бонапарт уже показал всем, что он понимает под равенством. Ну и кто оказался прав? Ты или я?
— Знаешь, Пишегрю, я тоже не люблю Бонапарта. Вы можете делать с ним, что хотите, но не надо мне говорить о Бурбонах. Я не могу себе позволить встать во главе какого-либо движения, выступающего за их возвращение во Францию. Это глупо. Любая подобная попытка наверняка обернется провалом.
Все складывалось очень плохо. Слушая слова Моро, Кадудаль был оскорблен и возмущен. На героя Гогенлиндена очень серьезно рассчитывали, а он явно не хотел оправдывать этих ожиданий. Слишком уж все хорошо у него складывается. Слишком уж уверенно он себя чувствует. Вот если бы он оказался скомпрометированным в глазах новой власти, у него не было бы другого выхода, кроме как поддержать ее противников.
Генерал Моро был бретонцем, но он никогда не принимал движение шуанов и ненавидел подстрекателей-англичан. В неменьшей степени чужда ему была и аристократия в любых ее проявлениях. Он был сам по себе: гордый, неприступный, надменный.
Жорж Кадудаль тоже был бретонцем, не менее гордым и надменным, чем Моро.
— Довольно слов, Пишегрю! — сказал он. — Моро — честный человек, и он честно сказал нам, что думает. Мы не виноваты, что нас ввели в заблуждение относительно него. Я думаю, что нам лучше всего извиниться за беспокойство и уйти.
Но ушли не они, а Моро. Он повернулся и быстро зашагал прочь. При этом его не оставляло неприятное ощущение, что он оказался втянутым в опасную историю. Внезапно он остановился и сказал, обращаясь к Пишегрю:
— Попомни мои слова: любая попытка вернуть к власти во Франции Бурбонов наверняка обернется провалом.
После того как генерал Моро ушел, Кадудаль презрительно фыркнул:
— Роялист должен оставаться роялистом, и любой из них мне больше по душе, чем этот фанфарон.
Генералу Пишегрю ничего не оставалось, как держать свои эмоции при себе. Ему очень не нравился мужлан Кадудаль — такой же сорвиголова, как и вся его банда. Быть в одной упряжке с ним для бывшего генерала Республиканской армии было занятием не из приятных. Но что делать, так уж сложилась жизнь. После этого он еще несколько раз тайно встретился с Моро. Два заслуженных генерала, два бывших товарища, они подолгу беседовали, пытаясь разъяснить друг другу свои позиции, но 15 февраля переговоры вдруг оборвались: генерал Моро был арестован и препровожден в тюрьму Тампль.
* * *
Когда Наполеону доложили об аресте генерала Моро, тот спросил:
— Он оказал сопротивление при аресте?
— Нет, — ответил государственный советник Реаль.
— Он просил дать ему возможность написать мне?
— Нет.
— Просил о встрече со мной?
— Нет.
— Странно… Но этот Моро еще плохо меня знает. Его будут судить по всей строгости закона.
Когда вечером Жозефина поинтересовалась, что ждет несчастного генерала, Наполеон буркнул:
— Смерть или пожизненное заключение.
— Да как ты можешь так говорить! — воскликнула Жозефина. — Ты просто завидуешь Моро! Ведь его слава гремела повсюду, когда о твоем военном гении еще никому толком не было известно! Ты просто хочешь таким образом устранить опасного соперника!
Услышав подобные слова жены, Наполеон взвился:
— Это я завидую Моро! Да побойся бога! Ведь это он обязан мне своей славой! Это я отдал ему лучшие войска, оставив себе в Италии лишь одних новобранцев!
Все больше распаляясь, Наполеон заходил по комнате, заложив руки за спину:
— Запомни, Жозефина, я никому не завидую и никого не боюсь! Нас с Моро давно хотели поссорить, но он, ты сама видишь, оказался слишком слаб и тщеславен. Он поддался на посулы сомнительных политиканов, желающих свалить меня. Он вступил в контакты с заговорщиками — значит, он виновен. А они все еще меня узнают…
На следующий день стены всех домов в Париже были увешаны воззваниями следующего содержания:
«Пятьдесят бандитов, этих мерзких остатков гражданской войны во главе с Кадудалем и генералом Пишегрю проникли в столицу. Их проникновению способствовал генерал Моро, который вчера был передан в руки национального правосудия».
Противники Наполеона, в свою очередь, расклеили повсюду свои листовки:
«Моро невиновен! Этот друг народа и отец солдатам закован в цепи! Бонапарт, этот иностранец, корсиканец, превратился в узурпатора и тирана! Французы, вам обо всем судить!»
Неаполитанский дипломат маркиз де Галло, находившийся в те дни в Париже, писал:
«Общественное мнение было взволновано, как если бы произошло землетрясение».
* * *
В ночь с 27 на 28 февраля был арестован и Пишегрю, выданный полиции за 100 000 франков неким Лебланом, хозяином квартиры на улице Шабанэ, дом 39. Французский историк Андре Кастело пишет об этом так:
«26 февраля несчастный беглец постучался в двери дома торгового агента Трейля, который согласился его спрятать. Но в его просторных апартаментах, где всегда полным-полно народу, трудно все же спрятать человека, которого хорошо знал весь Париж и которого ищет полиция. Чета Трейль рассказала о своем затруднительном положении приятелю Леблану. Тот предложил генералу свою каморку, расположенную в двух шагах от суда, на улице Шабанэ. Тот с благодарностью принял такое предложение. Польщенный Леблан ответил, что это, мол, для него большая честь, и все сели за стол, чтобы отпраздновать удачное решение проблемы. Обед едва начался, как Леблан вдруг вспомнил, что у него неотложное свидание, нужно оформить кое-какие поставки.
Он тут же исчез, пообещав вернуться, как только все уладит.
Куда же он так спешил? Конечно, в полицию. Леблан был наводчиком. Он знал, что установлено вознаграждение сто тысяч франков тому, кто укажет, где находится Пишегрю».
Потом Леблан как ни в чем не бывало вернулся к Трейлям, а в девять вечера проводил генерала к себе домой. Сам он сказал, что переночует у приятеля. Ночью полицейские при помощи дубликата ключей неслышно проникли в квартиру, где находился Пишегрю, и набросились на него спящего. Комиссар Комменж написал потом в протоколе:
«Ворвавшись в комнату, мы увидели человека, в котором узнали бывшего генерала Пишегрю. Он, увидев нас, сел в кровати и вытащил из-под подушки пистолет, но выстрелить не успел, так как мои люди его опередили».
Три человека навалились на Пишегрю. Едва проснувшись, он почувствовал страшное давление чьих-то больших пальцев у себя на подбородке, остальные пальцы железным кольцом сдавили ему гортань.
— Смотри, не сломай ему шею! — крикнул кто-то.
С неимоверной силой, давление которой он все время чувствовал на своей шее, генерал был приподнят и приведен в сидячее положение, что дало ему возможность осмотреться вокруг себя и получше разглядеть нападавших. Очевидно, что это были опытные в подобных делах субъекты. Сопротивляться было невозможно, но Пишегрю все равно минут пятнадцать продолжал бороться. Наконец, совершенно обессиленный и израненный, он прохрипел:
— Все, я сдаюсь, отпустите меня.
Его завернули в одеяло, перетянули веревками, бросили в фиакр и повезли к Реалю на допрос.
— Ваше имя? — спросил государственный советник.
— Вы его знаете так же хорошо, как и я, — с презрением ответил генерал.
— Вы знакомы с Жоржем?
— С каким таким Жоржем?
— Тем самым, что прибыл из Англии, чтобы убить первого консула.
— Уж не думаете ли вы, что я могу быть связан с такими злодеями? — возмутился Пишегрю. — Я не знаю этого человека.
Пишегрю был красив, но тип его красоты нельзя было назвать симпатичным. Тонкие черты его лица были идеально правильны; все дело портил рот, контрастировавший с благородством черт верхней части лица. Это было умное и очень подвижное лицо, на котором выражение каменной решительности порой сменялось полным бессилием и неуверенностью.
— Откуда вы прибыли в Париж? — продолжал Реаль.
— Какая разница!
— С кем вы приехали?
— С самим собой.
— Знаете ли вы генерала Моро?
— Все знают, что раньше он служил под моим начальством.
— Виделись ли вы с ним после вашего приезда в Париж?
— Мы — военные. К тому же враги. В подобных условиях люди видятся друг с другом только со шпагами в руках.
— Знаете ли вы, кто я?
— Кажется, знаю.
— Я всегда отдавал должное вашим военным талантам.
— Рад за вас. Вы закончили?
— Вам сейчас перевяжут раны.
— Не нужно, ведь вы все равно меня расстреляете. Оставьте меня в покое.
По свидетельству личного секретаря Наполеона Бурьенна, Пишегрю отказался подписывать какие-либо бумаги. В своих «Мемуарах…» Бурьенн потом написал:
«Он сказал, что в этом нет необходимости, что он знает все средства, все махинации полиции и боится, что все уничтожат при помощи химических реактивов, а оставят лишь его подпись, а потом допишут все, что необходимо».
После этого генерал не ответил ни на один из вопросов, решив принять вид человека, настолько погруженного в мысли о своем бедственном положении, чтобы не замечать ничего вокруг себя. Его отправили в тюрьму Тампль, откуда живым ему уже не суждено было выйти.
В тюрьме допросы следовали один за другим, но Пишегрю решительно отказывался что-либо сообщить полиции. Стендаль в книге «Жизнь Наполеона» рассказывает:
«Говорят, будто Пишегрю был подвергнут пытке, будто ружейными курками ему сдавливали большие пальцы обеих рук».
Все было бесполезно. Тот же Стендаль констатирует:
«Надо сказать, что расчет посредством пытки добиться важных признаний не оправдывается, когда дело идет о людях такого закала, как Пишегрю».
* * *
В это время к генералу Моро постоянно обращались от имени Наполеона, обещая прощение и свободу, если он признается в том, что виделся с Пишегрю и Кадудалем. Моро молчал.
Тогда Савари прислал к нему префекта полиции Этьена Пакье, который явно не мог раздражать узника ни прежним якобинством, ни теперешним роялизмом.
— Наши отцы были адвокатами, — начал Пакье, — и оба они кончили жизнь на эшафоте. Причем неизвестно за что. Ведь так, Моро?
— Мой отец осмелился защищать в суде бедного крестьянина, засеявшего свое поле картофелем, — ответил ему Моро. — Тогда у меня был очень тяжкий период жизни, и Пишегрю был уверен, что я последую за ним в эмигрантскую армию принца Конде.
— Почему вы сразу не донесли о его измене?
— А черт его знает! — честно сказал Моро. — Я ведь думал, что бумаги о нем мне нарочно подкинули в карете, брошенной на дороге. У Пишегрю всегда было много завистников, и мне казалось, что враги решили его погубить…
— Я очень сочувствую вам, Моро. Предупреждаю, Бонапарт будет настаивать на смертном приговоре, чтобы затем помиловать вас и этим вердиктом поднять свой авторитет в народе. Но возможно и другое: добившись от судей смертного приговора для вас, он может утвердить его…
* * *
4 марта 1804 года были арестованы адъютант графа д'Артуа Шарль-Франсуа де Риффардо (он же маркиз де Ривьер) и граф Жюль де Полиньяк. Вот как это произошло.
Преследуемый полицией, маркиз де Ривьер решил найти убежище у своего друга графа де Лаборда, но, выйдя на Итальянский бульвар, увидел афишу префекта полиции, в которой говорилось об ответственности за укрывательство государственных преступников и английских шпионов. Решив, что не имеет права рисковать жизнями других людей, он стал метаться по городу, пока случайно не повстречал своего бывшего слугу Ля Брюйера, который сам предложил ему ночлег. У Ля Брюйера де Ривьер успешно скрывался 18 дней. Все испортил юный Жюль де Полиньяк, с которым маркиз поддерживал связь посредством записок, передаваемых через посыльного. Узнав, что его старший брат Арман арестован, он лично прибежал к де Ривьеру, чтобы поделиться с ним своим горем.
— Вас никто не видел, когда вы входили сюда? — озабоченно спросил его маркиз.
— Никто, даже консьержка. Я был очень осторожен.
— Вы уверены в этом, мой юный друг?
— Абсолютно, — уверил его де Полиньяк.
— Тогда можете считать, что вы спасены. Эта квартира — надежное место.
Все бы хорошо, но через пару дней Жюль де Полиньяк решил выйти на улицу для встречи, которую он называл очень важной и которую никак нельзя было отменить. Речь явно шла о женщине, но юноша не желал признаваться в этом. Протесты де Ривьера не помогли, а на улице граф был узнан одним из полицейских агентов, у которого хватило сообразительности не хватать юношу сразу, а проследить за ним с целью выявления сообщников.
На следующее утро маркиз де Ривьер и Жюль де Полиньяк были арестованы, не успев толком проснуться. Когда комиссар полиции спросил хозяина квартиры Ля Брюйера, знает ли он о том, что ждет укрывателей, тот гордо ответил:
— Маркиз де Ривьер для меня не преступник и не шпион. Он мне даже не бывший хозяин, ибо никогда не обращался со мной, как со слугой. Это мой друг, и, если бы случай предоставить ему кров еще раз представился, я бы сделал то же самое.
Все трое тут же были отправлены на допрос к государственному советнику Реалю.
— Месье, вы не узнаете от меня ничего, — заявил маркиз де Ривьер, — если не дадите мне обещания, что не причините зла человеку, который приютил меня у себя. Клянусь, он ничего не знал о причинах моего пребывания в Париже.
Реаль пообещал отпустить Ля Брюйера. После допроса маркиз де Ривьер, увидев в коридоре своего бывшего слугу, обнял его и сказал:
— Прощайте, друг мой. Вряд ли мы еще когда-нибудь увидимся. Но вам нечего бояться, и я спокоен.
Маркиз де Ривьер и Жюль де Полиньяк были заключены в тюрьму Тампль. Там уже находились почти все остальные заговорщики. Полиции оставалось сделать самое главное — арестовать их предводителя Жоржа Кадудаля.
* * *
В четверг 9 марта 1804 года в шесть часов вечера офицер полиции Каниолль получил из префектуры приказ организовать слежку за кабриолетом под номером 53. Каниолль быстро нашел этот кабриолет в районе площади Мобер и стал наблюдать за ним. Вскоре он увидел еще трех своих коллег, получивших аналогичные инструкции.
Через какое-то время появились четыре человека, среди которых Каниолль узнал массивную фигуру Жоржа Кадудаля. Двое пошли по улице дальше, а Кадудаль остался со своим самым молодым сообщником. Это был Луи Леридан, он квартировал в тупике Кордери у некоего Гужона, который и нанял для него названный выше кабриолет. Потом Кадудаль и Леридан направились к кабриолету, кучер которого с готовностью начал зажигать габаритные фонари. Каниолль резко двинулся к ним, без сомнения, чтобы лучше разглядеть лица.
— Что такое, месье? — закричал компаньон Кадудаля. — Улица недостаточно широка для вас?
— Я думаю, что можно спокойно разойтись, — ответил, извиняясь, полицейский.
Бояться ему было нечего. Он был в штатском, а его коллеги во главе с подошедшим офицером полиции Детавиньи были рядом. Кадудаль с Лериданом не имели никакого желания скандалить, они вскочили в кабриолет, и лошадь пошла в галоп.
Каниолль и другие агенты не имели других инструкций, кроме как следить за кабриолетом. У них и мысли не было пытаться арестовать Кадудаля на улице. Они бросились за кабриолетом и настигли его на углу улицы Сен-Жак, потом вместе с ним пересекли площадь Сен-Мишель и вышли на улицу Свободы. Полицейские бежали изо всех сил. Не заметить этого было невозможно, и Кадудаль крикнул Леридану:
— Смотри, за нами следят! Бери управление и гони, иначе мы пропали!
Леридан столкнул с козел кучера и принялся стегать испуганную лошадь. Когда кабриолет вылетел на перекресток Одеон, Каниолль из последних сил бросился вперед и схватил лошадь под уздцы. Задыхаясь, он закричал: «Стойте! Стойте! Именем закона!»
Кабриолет резко остановился. Агент Бюффэ вскочил на его подножку и опрометчиво сунул голову внутрь. Тут же раздались два выстрела. Стрелял Кадудаль. Одна пуля попала Бюффэ прямо в лоб, другая тяжело ранила Каниолля. После этого Кадудаль бросился от кабриолета вправо, а Леридан — влево. Третий агент полиции навалился на Леридана и быстро скрутил его. С Кадудалем дело обстояло сложнее: агент Пети и офицер полиции Детавиньи бросились к нему, но остановились, увидев в его руках кинжал. К счастью, один случайный прохожий по имени Тома, привлеченный криками и стрельбой, не побоялся и повис у Кадудаля на плече, позволив полицейским кое-как связать его. Арестованных тут же отправили в префектуру полиции, где их допросил префект Дюбуа.
Захваченный Кадудаль был настоящим колоссом: коренастого сложения и с непомерно развитыми мускулами. Его огромные ноги были искривлены, как у обезьяны; вместо рук у него были громадные лапы, и вообще во всей его внешности было что-то животное. Со своей бычьей шеей и головой, он возвышался над Дюбуа, как огромная неотесанная глыба. Он стоял, широко расставив ноги, словно монумент. Несмотря на свою устрашающую внешность, говорил Кадудаль четко, уверенно и на очень хорошем французском языке. Это даже удивило префекта полиции. На вопрос о взрыве на улице Сен-Никез заключенный спокойно ответил:
— Я отправил в Париж несколько своих людей, чтобы избавить Францию от Бонапарта. Я считал это необходимой мерой. Но я не предписывал им какого-то определенного способа покушения. Они сами выбрали «адскую машину». Это достойно порицания, так как погибли ни в чем не повинные люди.
Его маленькие глазки буравили Дюбуа. Тот не был трусом, но почему-то стал избегать прямого взгляда Кадудаля. Тот же все так же спокойно продолжал:
— На этот раз мой план заключался в том, чтобы атаковать первого консула открыто: мои силы должны были быть равными по численности его эскорту.
* * *
В час ночи, когда закончился допрос, Кадудаля перевезли в Тампль, где уже была собраны практически все его люди.
Наполеон, узнав о деталях задержания вождя шуанов, приказал, чтобы детей Каниолля и Бюффэ взяли на содержание государства. Деньги, найденные у Кадудаля — а это было почти 80 000 франков, были переданы вдове погибшего агента Бюффэ. Узнав, что тот не был примерным семьянином — часто пил и бил свою жену, Наполеон сказал:
— Черт возьми! Мадам Бюффэ должна быть довольна: она теперь богата и к тому же избавилась от своего муженька. Она одним выстрелом убила двух зайцев.
— Не она, — грустно усмехнулся государственный советник Реаль, — а Жорж Кадудаль.
Казалось бы, все было произведено полицией просто великолепно: заговор раскрыт, все заговорщики арестованы. Но невольно возникает ряд вопросов.
Во-первых, как полиции удалось «вычислить» такого осторожного и опытного заговорщика, как Жорж Кадудаль? Этот вопрос задает в своих «Мемуарах…» личный секретарь Наполеона Бурьенн, и тут же он дает и ответ на него:
«Не очевидно ли, что нужно было знать улицы, по которым он пройдет, и номер его кабриолета, чтобы схватить его в нужном месте, как это и было сделано? От кого можно было получить эти подробные детали, как не от человека, которого Жорж рассматривал как своего сообщника и друга, но который работал на полицию?»
Во-вторых, как полиции удалось практически одновременно арестовать всех участников заговора? Все тот же Бурьенн отвечает и на этот вопрос:
«Почти одновременный арест заговорщиков доказывает, что было известно, где их найти; для полиции они все находились как бы в комнате из стекла».
С того момента, как Керель донес полиции о готовящемся заговоре и до момента ареста заговорщиков, все парижские заставы были перекрыты, и никто не мог войти в столицу и выйти из нее без специального на то разрешения. Полиция проводила бесконечные обыски, повсюду были расклеены приметы главных заговорщиков, за содействие в их поимке были обещаны крупные денежные вознаграждения.
* * *
Аресты шли один за другим. Тюрьма Тампль вскоре оказалась настолько переполненной, что многих пришлось перераспределить по другим тюрьмам. Допросы велись по двум направлениям: одни происходили в полиции и осуществлялись Дюбуа и Демаре, другие производились Тюрьо, членом трибунала по уголовным делам.
Префект полиции Луи Дюбуа раньше работал прокурором в Шатле: он прекрасно владел искусством вытягивать признания у обвиняемых. Выглядел он вполне интеллигентно и действовал соответствующими методами. Его тихий голос не пугал, а мягкие манеры способствовали установлению почти доверительных отношений. Он поклялся государственному советнику Реалю, что докопается до мельчайших деталей заговора, и он собирался сдержать данное слово. Примерно таким же образом действовал и Пьер-Мари Демаре, бывший священник, а ныне начальник бюро секретной полиции, походивший на тюремщика, заботливо подкармливающего заключенного, приговоренного назавтра к смертной казни.
Тюрьо был человеком иного склада: ему больше по нраву были методы революционного трибунала времен Террора. Такие люди не знали ни пощады, ни жалости. Про них говорили, что они сделаны из железа, и они, по сути, таковыми и были.
Каждый вечер государственный советник Реаль приносил Наполеону протоколы допросов арестованных заговорщиков. Тот нервничал: ему срочно нужно было либо верное доказательство вины Моро, либо его признание. И генерал вроде бы сделал его в длинном письме, написанном первому консулу 8 марта, то есть на девятый день после того, как был арестован Пишегрю. В этом письме генерал излагал мотивы, по которым он решил встретиться с Пишегрю, и всю историю их взаимоотношений. Главной целью встречи он называл желание удалить бывшего боевого товарища из списков эмигрантов. Далее он писал:
«Что касается нынешнего заговора, то могу вас уверить, что я далек от того, чтобы принимать в нем хоть малейшее участие. Я даже не понимаю, как горстка людей может надеяться сменить правительство и восстановить на троне семейство, которое не смогли вернуть усилия всей Европы и многолетняя гражданская война. Уверяю вас, генерал, что все предложения, которые мне были сделаны, я отклонил, как совершенно безумные».
В заключение Моро заявлял:
«Доносы противны моему характеру: я сурово осуждаю их, особенно если они направлены на людей, к которым испытываешь старинные чувства признательности и дружбы».
Эта последняя фраза, по сути, являлась формальным признанием того, что названные выше предложения ему делал Пишегрю. Благородный Моро даже не заметил, что, осуждая доносы, сам фактически стал доносчиком.
Реакция первого консула на это послание была крайне сухой. На полях письма он размашисто написал:
«Присоедините письмо Моро к документам следствия».
Американский историк Вильям Миллиган Слоон дает этому письму Моро следующую оценку:
«Моро обратился к Бонапарту с письмом. Оно с некоторой натяжкой могло быть истолковано в смысле сознания виновности и было представлено в суд в качестве компрометирующего доказательства. Письмо это произвело глубокое впечатление, хотя в нем, собственно говоря, и не содержалось никаких самообвинений».
Историк А.З. Манфред по этому поводу более категоричен:
«Сторонникам оппозиции и самому себе Моро этим письмом, которое постарались сделать известным, нанес большой моральный урон».
Конечно же, письмо генерала Моро к первому консулу было конфиденциальным. Но можно ли обвинять Наполеона, передавшего откровения генерала в руки следствия, в отсутствии благородства? Вряд ли. Наполеон уже давно не был частным лицом. Он был главой государства и имел соответствующие обязанности. Если бы письмо было написано парой недель раньше, оно имело бы совершенно иной резонанс. Но теперь борьба с заговорщиками была в самом разгаре. Уже были даны показания, свидетельствующие о встрече Моро с Кадудалем и Пишегрю. Вот, например, что показал генерал Ляжоле на своем первом допросе 16 февраля, то есть за три недели до написания этого письма:
— Я виделся с Моро несколько раз прошлым летом. Он показался мне заинтересованным во встрече с Пишегрю. Я взялся организовать ее. Я поехал в Лондон, где переговорил с Пишегрю. Мы затронули тему Моро. Пишегрю тоже был заинтересован во встрече и сказал, что готов ради этого выехать из Англии. Через две недели представился случай, и мы им воспользовались. Первая встреча состоялась на бульваре де ля Мадлен. Две другие происходили в доме Моро на улице Анжу-Сент-Онорэ. Лично я на этих встречах не присутствовал.
На втором допросе Ляжоле подтвердил все свои признания и добавил, что в Англии виделся с Пишегрю в его имении Брэмптон близ Лондона. Там же он якобы видел и младшего брата казненного короля графа д'Артуа, который шепнул ему: «Если наши два генерала сумеют договориться, я не замедлю выехать во Францию».
По словам Ляжоле, он прожил у Пишегрю 15 дней. Потом они погрузились на английский корабль и высадились в Бивилле. Их было семь человек: Пишегрю все звали Шарль, Рюзийона — он явно был военным — все звали Майор, еще с ними были некие Лемэр и Ришмон, а также люди, которых Ляжоле не знал.
По поводу последней встречи двух прославленных генералов в Париже Ляжоле констатировал: «Вернувшись, Пишегрю выглядел очень недовольным. Говоря о Моро, он мне сказал: "Похоже, что у него полно амбиций и он хочет править сам. Отлично! Желаю ему успехов, но, на мой взгляд, он не в состоянии управлять Францией и в течение трех месяцев"».
Больше о встречах Моро и Пишегрю он ничего не знал. Про Жоржа Кадудаля Ляжоле рассказал следующее: тот имел целью восстановление монархии во Франции, его люди собирались в Париже и Пикардии. Для достижения своей цели он хотел устранить первого консула. Для встречи с генералом Моро он сначала вышел на некоего Вильнёва, который был дружен с секретарем Моро Френьером. Но ответ Моро был однозначным: генерал не любил Наполеона, но никогда и мысли не имел участвовать в покушении на его жизнь.
Информацию, полученную от Ляжоле, дополнил арестованный Роллан, который, как оказалось, вез генерала Пишегрю на встречу с Моро. Вот показания «По пути обратно Пишегрю сказал, что планы Моро отличаются от того, что предполагалось. Они не договорились. Моро сказал, что не может встать во главе какого-либо движения, направленного на восстановление власти Бурбонов. «У них все равно ничего не получится» — вот его точные слова. В любом случае он отказался брать на себя какие-либо письменные обязательства».
Роллан сидел, обхватив руками колени и покачиваясь из стороны в сторону. Необходимость доносить на других людей ему явно была неприятна, но другого выхода у него не было. Немного подумав, он добавил, что Моро, хоть и не согласился встать во главе движения, но признал, что, если Пишегрю удастся «убрать» первого консула, то он употребит свое влияние в Сенате, чтобы защитить Пишегрю и его сторонников. По словам Роллана, Моро заявил, что его дальнейший образ действий будет зависеть от общественного мнения Франции.
Показания генерала Ляжоле и Роллана накладывались на показания адъютанта Кадудаля Буве де Лозье, и все они так или иначе подтверждали факт того, что Моро встречался с главарем заговорщиков. Было очевидно, что Моро не желал принимать участие в роялистском заговоре, но был расположен понаблюдать, как они сами расправятся с ненавистным ему первым консулом.
Агент Бурбонов Фош-Борель, давая показания, боялся лишь одно. Он боялся, что у Моро при обыске нашли письмо графа Прованского (среднего брата казненного Людовика XVI и будущего Людовика XVIII), которое он, Фош-Борель, неосторожно оставил у генерала. Но Моро сам нашел способ успокоить Фош-Бореля. Однажды охранник тюрьмы Тампль, которому Фош-Борель сказал, что из любопытства хочет посмотреть на знаменитого генерала Моро, сообщил, что тот прогуливается в коридоре. Фош-Борель тут же воспользовался этой возможностью и тоже вышел из камеры.
«У нас есть лишь минута, — шепнул ему Моро. — Вы можете быть спокойны по поводу бумаги, которую вы оставили у меня когда-то. На допросах о вас мне не задали ни одного вопроса. Но, черт возьми, что за демон вселился во всех вас, заставив, словно сумасшедших, заявиться во Францию на свою погибель? И на мою тоже… Не знаю, чем все это закончится».
После этого Фош-Борель, более уверенный в себе, стал писать одно письмо за другим, требуя для себя свободы. Он обращался к самым влиятельным людям. Ответ всегда был один и тот же:
«Месье Фош-Борель слишком важный заключенный, чтобы выпускать его на свободу в нынешних обстоятельствах».
Да он и не мог быть иным, ведь сам Наполеон как-то сказал о Фош-Бореле: «Если мы выпустим его на свободу сегодня, завтра он начнет плести новые интриги против меня, а послезавтра его опять придется сажать в тюрьму Тампль. А раз он уже там, так пусть там и остается».
Как-то утром директор тюрьмы Тампль Фоконнье предложил Фош-Борелю выйти в тюремный двор. Там как раз прогуливался Моро. Сделано это было явно не случайно, и всегда осторожный Фош-Борель на всякий случай сделал вид, что не узнал генерала. Когда Моро прошел мимо, Фоконнье спросил:
— Вы узнали этого господина?
— Нет, а кто это?
— Это генерал Моро.
— Как! — воскликнул Фош-Борель, разыгрывая удивление. — Это и есть тот самый знаменитый генерал Моро?
Он даже повернулся, чтобы лучше рассмотреть объект разговора.
— Я думал, он выглядит иначе.
Полицейская провокация не удалась, но это ничего не изменило в судьбе арестованного генерала.
* * *
Поведение Кадудаля коренным образом отличалась от поведения других участников заговора. Он четко говорил о своих целях в Париже, на все вопросы отвечал коротко и ясно, но старался никого случайно не подвести и не предать. На вопрос о дате своего приезда во Францию он ответил:
— Это было пять или шесть месяцев тому назад. Не помню точно.
— Какова была ваша цель в Париже?
— Напасть на первого консула.
— С кинжалом в руке?
— Нет. С таким же оружием, как и у его эскорта.
— Объясните подробнее.
— Я посчитал, что при Бонапарте всегда находится порядка 30 охранников. Чтобы все было по-честному, я набрал 29 единомышленников. Я хотел натянуть через дорогу веревку, чтобы заставить эскорт остановиться. Потом все зависело бы от нашей храбрости и удачи.
— Кто прислал вас во Францию?
— Принцы крови, чтобы восстановить во Франции монархию. Один из них приехал бы, если бы я сообщил ему, что все прошло удачно.
— У кого вы останавливались в Париже?
— Не скажу. Не хочу увеличивать число ваших жертв.
Боевой генерал Пишегрю, похоже, был настроен более решительно. Едва прибыв в Париж, он заявил Кадудалю:
— Что значит вся эта длительная подготовка? В Лондоне вы не боялись ничего, так держите же свое слово. Не хотелось бы увидеть вас лишь после того, как все уже закончится.
Кадудаль же почти шесть месяцев прятался на парижских конспиративных квартирах и все ждал, когда ему подвернется удобный случай атаковать Наполеона. В Тюильри тот был под надежной защитой, а его прогулки по саду не носили регулярного характера и были трудно прогнозируемы. Убить его в театре после недавнего покушения якобинцев или по дороге в театр после недавнего покушения роялистов тоже было теперь невозможно. Реально можно было осуществить задуманный план лишь во время поездки Наполеона за город. Но тот за все это время лишь два раза ездил в Булонь, где формировалась его будущая Великая армия. И в тот и в другой раз Кадудалю еще не удалось собрать всех необходимых ему людей.
* * *
Рано утром 6 апреля 1804 года случилось непоправимое: генерал Пишегрю был найден в своей камере, удавленный собственным галстуком.
Генерал Савари, дежуривший в тот день у первого консула, узнал об этом из записки офицера жандармерии, командовавшего охраной в тюрьме Тампль. Савари тут же явился к Наполеону и показал ему эту записку. Пробежав глазами записку, Наполеон с презрением воскликнул:
— Прекрасный конец завоевателя Голландии! Потом он обратился к своему адъютанту:
— У вас есть какие-либо детали случившегося?
— Пока нет, — ответил Савари.
— Хорошо, — сказал Наполеон, — езжайте в Тампль, разузнайте все и быстрее возвращайтесь назад.
Савари незамедлительно прибыл в тюрьму и в сопровождении директора тюрьмы Фоконнье и доктора Супэ вошел в камеру Пишегрю. Смерть генерала оказалась весьма и весьма странной. В протоколе осмотра трупа записано следующее:
«У него на шее был галстук из черного шелка, под который была пропущена палка длиной примерно сорок сантиметров и диаметром четыре-пять сантиметров. Эта палка была провернута несколько раз и упиралась в левую щеку, на которой он лежал, что и привело к удушению, достаточному для наступления смерти».
Проще говоря, при помощи палки, вставленной под нашейный галстук и провернутой несколько раз, Пишегрю якобы сам сдавил себе горло так, что задохнулся. Оригинальный способ самоубийства? Но даже если и допустить столь экстравагантный способ сведения счетов с жизнью, то откуда заключенный, у которого обычно отбирается все, что хоть отдаленно напоминает оружие, мог взять в тюремной камере полуметровую палку? Вопросы, не требующие ответа.
Надо сказать, что, выдержав не менее десяти допросов, Пишегрю не выдал своим мучителям никого. Единственное, что он повторял из раза в раз, так это то, что, если его считают преступником, то он готов говорить, но только перед трибуналом в открытом судебном процессе. Секретарь Наполеона Бурьенн, хорошо знавший Пишегрю еще по годам, проведенным в Бриеннской школе, позднее вспоминал:
«Я совершенно точно знал, что во время допросов Пишегрю, всегда внимательный к тому, чтобы не сказать ничего, что могло бы повредить таким же арестованным, как и он, не пощадил того, кто его преследовал и кто желал его смерти, и заявил, что откроет глаза общественности на отвратительную паутину заговора, в который его втянула полиция».
По словам того же Бурьенна, страх, который вызвало проявление столь решительной откровенности, ускорил смерть Пишегрю.
Опасной была возможная встреча Моро и Пишегрю на судебном процессе. Первый был другом знаменитых генералов Бернадотта, Макдональда, Лекурба, Гувиона Сен-Сира, Монсея и Журдана, но он был достаточно скромным, нерешительным и далеким от политики. Второй же был активным и конкретным; он мог спокойно высказываться против правительства, обожал публичные выступления, был обожаем солдатами. И что было ему ответить, если бы он заявил: «Мы жертвы тайной полиции и агентов-провокаторов. Я прибыл в Париж потому, что полиция сама открыла мне двери, чтобы затянуть меня в этот заговор»?
Бурьенн уверен, что Пишегрю был убит в своей тюремной камере. В его «Мемуарах…» имеется следующая фраза:
«Для меня совершенно очевидно, что Пишегрю был задушен в тюрьме, и любая мысль о самоубийстве кажется мне недопустимой».
После этого он задается вопросом:
«Есть ли у меня основанные на фактах материальные доказательства? Нет, но сопоставление фактов и соединение вероятностей не оставляют сомнений относительно этого трагического события».
В подтверждение своей правоты Бурьенн приводит следующие доводы:
• во-первых, допросы Пишегрю проводились тайно и никогда не были опубликованы, следовательно, он говорил что-то такое, что никак нельзя было обнародовать;
• во-вторых, Пишегрю угрожал раскрыть на суде обстоятельства псевдозаговора, подготовленного полицией, и его истинные цели, а этого допускать было никак нельзя.
Похоже, его смерть была необходима, а эта необходимость и стала ее главной причиной.
«Мемуары…» Фош-Бореля не являются самым достоверным из источников, но он был связан с полицией. Вот его слова:
«Пишегрю был убит; убийство совершил Спон, бригадир элитной жандармерии, пришедший в тюрьму в сопровождении жандармов <…> Спон воевал в Египте и был доверенным лицом Савари».
Далее Фош-Борель рассказывает, что накануне смерти Пишегрю он играл в карты с директором тюрьмы Фоконнье. Дело было в соседней комнате. Они прекрасно слышали шум борьбы, который длился несколько минут. Фоконнье выбежал посмотреть, что происходит, а когда вернулся, губы его дрожали, и он не мог вымолвить ни слова.
Жермена де Сталь, как всегда, обвиняла во всем Наполеона:
«Когда следствие по делу о заговоре только начиналось, газетчики оповестили всю Европу, что Пишегрю удавился в тюрьме Тампль. Во всех газетах появился чудовищно нелепый протокол, полный анатомических подробностей. Творцы этой лжи не сумели придать ей правдоподобный характер; недаром говорят, что в иных обстоятельствах преступление смущает даже тех, кто с самым невозмутимым видом хвастает готовностью его совершить. Известно почти наверняка, что задушить генерала Пишегрю было поручено одному из мамелюков Бонапарта, а приказ ему отдал Савари. Отважный генерал уже много дней томился в тюрьме, лишающей мужества даже величайших храбрецов. Вообразите же, что он почувствовал, когда подлые трусы явились убивать его, а он не мог даже надеяться, что друзья узнают, какой смертью он умер, что они отомстят за него и не позволят надругаться над его памятью?»
Насильственной считал смерть Пишегрю и Талейран. В его «Мемуарах…» читаем:
«Насильственная, необъяснимая смерть Пишегрю, средства, примененные для того, чтобы добиться осуждения Моро, могли быть оправданны политической необходимостью; но убийство герцога Энгиенского, совершенное только для того, чтобы привлечь на свою сторону и стать в ряды тех, кого смерть Людовика XVI заставляла бояться всякой власти, исходящей не от них, — убийство это, говорю я, не могло быть и никогда не было ни прощено, ни забыто».
Французские историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо согласны с Талейраном:
«Генерал Пишегрю удавился в тюрьме, но никто не поверил, чтобы он действительно сам покончил с собою. Многие из современников утверждали, что смерть Пишегрю была делом рук Бонапарта, боявшегося впечатления, какое могла произвести публичная защита обвиняемого в предстоявшем процессе».
С другой стороны, А.З. Манфред в своей книге «Наполеон Бонапарт» описывает обстоятельства смерти Пишегрю следующим образом:
«Генерала Пишегрю нашли мертвым в камере в тюрьме. Он повесился на своем черном шелковом галстуке. Было объявлено, что он покончил жизнь самоубийством. Все враги Бонапарта поспешили разнести по свету вести о том, что Пишегрю был удавлен по приказу императора. Эта версия долгое время имела хождение, но она представляется малоправдоподобной. Пишегрю был давно уже в подавленном состоянии; его, видимо, угнетало, что он так плохо распорядился своей судьбой: когда-то знаменитый генерал Республики, он стал сообщником наемных убийц. Накинув на шею удавную петлю в одиночной камере, он, верно, надеялся хоть этим отомстить своему бывшему ученику по Бриеннскому училищу, далеко его опередившему и ставшему недосягаемым».
Человек, не позволивший сломить себя десятком мучительных допросов и требовавший открытого суда, чтобы сделать важные разоблачения, оказался вдруг в столь подавленном состоянии, что покончил жизнь самоубийством, не дожидаясь этого самого суда? Сомнительная аргументация.
В оправдание версии самоубийства также приводятся некоторые факты.
Государственный советник Реаль впоследствии отмечал, что на столе рядом с трупом Пишегрю была найдена книга, которую он сам передавал ему накануне. Это был томик римского философа Сенеки, и он был открыт на странице, где говорилось, что тот, кто готовит заговор, прежде всего не должен бояться смерти. Реаль утверждал, что чтение Сенеки было последнее, что делал Пишегрю перед смертью.
Савари указывал на то, что жандармы, охранявшие камеру Пишегрю, ночью ничего не видели и не слышали, кроме «кашля генерала около полуночи». Часовые под окнами тюрьмы тоже ничего не видели и не слышали. Но все это лишь слова. Гораздо более весомым аргументом в пользу самоубийства выглядят слова того же Реаля, сказанные им первому консулу сразу же после возвращения из тюрьмы Тампль:
— Генерал, мы потеряли лучшее вещественное доказательство против Моро.
Тот же Реаль утверждал, что Наполеон не собирался казнить Пишегрю. Он якобы говорил своему государственному советнику:
— Послушайте, до этой своей ошибки Пишегрю хорошо послужил своей стране. Мне не нужна его кровь. У него еще есть время, пусть он посмотрит на все случившееся, как на проигранное сражение. Он не сможет больше находиться во Франции, предложите ему Кайенну. Он знает эту страну, мы может обеспечить ему там хорошее положение.
Сам Наполеон впоследствии писал:
«Меня всегда удивляло, когда мне приписывали убийство Пишегрю: он ничем не выделялся среди других заговорщиков. У меня был суд, чтобы его осудить, и солдаты, чтобы его расстрелять. Никогда в своей жизни я ничего не делал без большой причины. Видели ли меня когда-нибудь проливающим кровь по капризу?»
Логика подобного заявления проста: зачем убивать человека, который и так вскоре должен был взойти на эшафот? Стендаль по этому поводу очень верно замечает:
«По поводу Пишегрю можно сказать следующее. Наполеон основывает все свои оправдания на старинном правиле: "Преступление совершает тот, кому оно полезно". Но разве у деспотов не бывает необъяснимых причуд?»
Заявление же о том, что Наполеон никогда не проливал кровь по капризу, вообще звучит более чем странно, особенно из уст человека, на глазах у всей Европы всего за пару недель до смерти Пишегрю приказавшего убить ни в чем не повинного герцога Энгиенского.
История эта достойна отдельного рассказа, так как она очень хорошо характеризует вошедшего во вкус узурпатора, «ничего не делавшего без большой причины», но вдруг запаниковавшего «в воздухе, полном кинжалами».
* * *
Как мы уже знаем, после ареста генералов Моро и Пишегрю Наполеон был в ярости. Помимо «руки Лондона», в этом деле ему представлялась очевидной и провокационная роль Бурбонов. Однажды в гневе Наполеон заявил, что напрасно Бурбоны думают, будто он не может воздать им лично по заслугам за попытки его уничтожить. Эти слова услышал министр иностранных дел Талейран и мгновенно поддакнул: «Бурбоны, очевидно, думают, что ваша кровь не так драгоценна, как их собственная».
Это привело Наполеона в полное бешенство. Тут-то и было впервые произнесено имя 32-летнего принца Луи де Бурбон-Конде, герцога Энгиенского, последнего представителя родственного Бурбонам рода Конде.
9 марта 1804 года Наполеон наскоро собрал тайный совет, в который входили ближайшие его соратники Камбасерес, Лебрён, Талейран и некоторые другие. Собрал их Наполеон не для того, чтобы узнать их мнение, а для одобрения и поддержки захвата герцога Энгиенского.
Талейран решительно выступил «за» (существует даже мнение, что именно он выступил инициатором этой идеи. — Авт.). Третий консул Лебрён долго мялся, но, в конце концов, тоже присоединился к его мнению. Единственным, кто попытался высказаться «против», оказался второй консул Камбасерес.
— Генерал, — сказал он, — герцог живет за границей, а нарушение границы нейтрального государства и его похищение всколыхнут всю Европу. От нас все отвернутся.
— Месье, — холодно ответил ему Наполеон, — страна, укрывающая моего врага, не может рассматриваться как нейтральная. Возникшие обстоятельства оправдывают нарушение границы.
Камбасерес не сдавался, и это вынудило первого консула язвительно заметить:
— Что-то вы стали излишне щепетильны и скупы на кровь ваших королей.
Испуганный Камбасерес тут же замолк, а Наполеон, как и следовало ожидать, решил поступать по-своему (или, если кому-то так угодно, последовать совету Талейрана, хотя очевидно, что он был не из тех людей, которым можно навязывать чужие мнения).
В этом деле имелось лишь два затруднения: во-первых, герцог жил не во Франции, а в Бадене; во-вторых, он решительно никак не был связан с заговором против первого консула. Первое препятствие для Наполеона было несущественным: он уже тогда распоряжался в Западной и Южной Германии как у себя дома. Второе препятствие тоже особого значения не имело, так как Наполеон уже заранее решил судить герцога Энгиенского военно-полевым судом, который за серьезными доказательствами никогда особенно не гнался.
* * *
Герцог Энгиенский спокойно жил в небольшом городке Эттенхайме, не подозревая о страшной угрозе, нависшей над его головой. В ночь с 14 на 15 марта 1804 года отряд французской конной жандармерии, подчинявшийся генералу Орденеру, вторгся на территорию Бадена, вошел в Эттенхайм, схватил герцога и увез его во Францию. Баденские официальные власти не показали никаких признаков жизни, пока происходила вся эта операция.
О начале этих ужасных событий мы знаем от самого герцога Энгиенского, сохранился его дневник, который он вел по дороге из Эттенхайма в Страсбург:
«В четверг 15 марта в пять часов (пополуночи) мой дом в Эттенхайме окружили эскадрон драгун и жандармские пикеты; всего около двухсот человек, два генерала, драгунский полковник, полковник Шарло из Страсбургской жандармерии. В половине шестого выломали дверь. Бумаги мои изъяты, опечатаны. Довезен в телеге между двумя рядами стрелков до Рейна. Посажен на корабль курсом на Риснау. Сошел на землю и пешком добрался до Пфорцхайма. Обедал на постоялом дворе».
До 18 марта арестованный герцог находился в Страсбуре, а 20 марта он был привезен в Париж и заключен в Венсеннский замок. Вечером того же дня собрался военно-полевой суд, обвинивший герцога Энгиенского в том, что он получал деньги от Англии и воевал против Франции. В три часа ночи 21 марта 1804 года несчастный, которому не дали даже сказать слова в свое оправдание, был приговорен к смертной казни.
Председатель суда генерал Юлен хотел написать Наполеону ходатайство о смягчении приговора, но адъютант последнего генерал Савари, специально посланный из Тюильри, чтобы следить за процессом, вырвал у Юлена перо из рук и заявил: «Ваше дело закончено, остальное уже мое дело». Через 15 минут герцог Энгиенский был выведен в Венсеннский ров и расстрелян.
Писатель Д.С. Мережковский по этому поводу высказывается коротко, но очень точно:
«Суд был пустая комедия, действительный приговор исходил от Бонапарта».
Кстати сказать, комендантом Венсеннского замка в то время был уже знакомый нам Аррель, в свое время донесший полиции на своих товарищей Черакки, Арену, Топино-Лебрёна и Демервилля. Это он с фонарем в руках вошел в камеру несчастного герцога Энгиенского и вывел его на расстрел.
— Соблаговолите следовать за мной, месье, — сказал он.
Парадокс истории: она отмечает печатью бессмертия не только прекрасные подвиги. Аррелю, для того чтобы войти в нее, хватило пары подлостей.
Сразу после расстрела «вдруг» возник и стал распространяться слух, что именно герцога Энгиенского Жорж Кадудаль и его сообщники планировали пригласить на французский престол после того, как будет покончено с Наполеоном. Все это была очевиднейшая клевета: несчастный герцог никогда не бывал в Англии и никогда не встречался ни с Моро, ни с Пишегрю, ни тем более с Кадудалем. Но слух этот сослужил отличную службу Наполеону.
* * *
Сразу после этого учреждения, изображавшие собой представительство народа (Трибунат, Законодательный корпус и Сенат), «вдруг» заговорили о необходимости раз и навсегда покончить с таким положением, когда от жизни одного человека зависит спокойствие и благо всего народа, когда все враги Франции могут строить свои надежды на покушениях. Вывод был ясен: пожизненное консульство просто необходимо превратить в наследственную монархию, а это — как раз то, что было нужно Наполеону. Таким образом, Венсеннский ров, где был расстрелян невинный потомок Бурбонов, по определению Д.С. Мережковского «есть рубеж между старым и новым порядком», важная ступень, приведшая Наполеона прямиком на императорский трон.
Анализируя описанные выше события, Шатобриан пишет в своих знаменитых «Замогильных записках»:
«Изучив все факты, я пришел к следующему выводу: единственным, кто желал смерти герцога Энгиенского, был Бонапарт; никто не ставил ему эту смерть условием для возведения на престол. Разговоры об этом якобы поставленном условии — ухищрение политиков, любящих отыскивать во всем тайные пружины. Однако весьма вероятно, что иные люди с нечистой совестью не без удовольствия наблюдали, как первый консул навсегда порывает с Бурбонами. Суд в Венсенне — порождение корсиканского темперамента, приступ холодной ярости, трусливая ненависть к потомкам Людовика XIV, чей грозный призрак преследовал Бонапарта.
Мюрат может упрекнуть себя лишь в том, что передал комиссии общие указания и не имел силы устраниться: во время суда его не было в Венсенне.
Герцог де Ровиго[9] приводил приговор в исполнение; вероятно, он получил тайный приказ: на это намекает генерал Юлен. Кто решился бы «безотлагательно» предать смерти герцога Энгиенского, не имея на то высочайших полномочий?
Что же до господина де Талейрана, священника и дворянина, он выступил вдохновителем убийства; он был не в ладах с законной династией… Трудно отрицать, что господин де Талейран подвиг Бонапарта на роковой арест вопреки советам Камбасереса. Но также трудно допустить, что он предвидел результат своих действий. Если он позволил себе дать роковой совет, то, разумеется, оттого, что недооценил возможных последствий. Князя Беневентского не смущала проблема добра и зла, ибо он не отличал одного от другого: он был лишен нравственного чувства и потому вечно ошибался в своих предвидениях».
Далее Шатобриан делает вывод, что смерть герцога Энгиенского стала в жизни Наполеона одним из тех «дурных поступков», которые «начали и довершили его падение».
«Напрасно надеялся он, что его слава вытеснит его злодеяния из памяти людской — они перевесили и погубили его. Подвело его именно то, в чем он видел свою силу, глубину, неуязвимость, когда попирал законы нравственности. Пока он нападал только на анархию да на иноземных врагов Франции, он одерживал победы, но стоило ему вступить на путь нечестия, как он лишился всей своей мощи.
В доказательство этой истины прошу отметить, что со смертью принца начался раскол, который вкупе с военными поражениями погубил виновника Венсеннской трагедии.
Смерть герцога Энгиенского, подчинив поведение Бонапарта иному закону, подорвала его здравомыслие: ему пришлось усвоить, дабы пользоваться ими, как щитом, максимы, которые он не мог применить в полной мере, ибо его слава и гений постоянно им противоречили. Он стал подозрителен; он сделался страшен; люди потеряли веру в него и в его звезду; ему пришлось терпеть, если не искать общество людей, с которыми он в ином случае никогда не стал бы знаться и которые из-за его деяния сочли себя равными ему: их позор пал и на него. Он не смел ни в чем упрекнуть их, ибо утратил право осуждать. Достоинства его остались прежними, но благие намерения переменились и уже не служили поддержкой этим великим достоинствам; первородный грех точил его изнутри».
Другой современник Наполеона Стендаль характеризует историю с герцогом Энгиенским следующим образом:
«Герцог Энгиенский, внук принца Конде, проживавший на территории герцогства Баденского, в нескольких километрах от Франции, был арестован французскими жандармами, увезен в Венсенн, предан суду, осужден и как эмигрант и заговорщик расстрелян. Раскрытие этого заговора дало Наполеону возможность осуществить последний, величайший из его честолюбивых замыслов: он был провозглашен французским императором, и его власть была объявлена наследственной. "Этот хитрец, — сказал о нем один из его посланников, — из всего умеет извлечь выгоду"».
Стендаль приводит очень интересные слова самого Наполеона, пытавшегося оправдать чрезмерную жестокость в отношении герцога Энгиенского исходившую от него угрозой его собственной жизни:
«Министры настаивали на том, чтобы я приказал арестовать герцога Энгиенского, хотя он проживал на нейтральной территории. Я все же колебался. Князь Беневентский[10] дважды подносил мне приказ и со всей энергией, на которую он способен, уговаривал меня подписать его. Я был окружен убийцами, которых не мог обнаружить. Я уступиллишь тогда, когда убедился, что это необходимо. Мое законное право на самозащиту, справедливая забота о спокойствии общества заставили меня принять решительные меры против герцога Энгиенского. Я приказал его арестовать и назначить над ним суд. Он был приговорен к смертной казни и расстрелян… Разве не все средства являются законными против убийства?»
Позаботиться хоть о каких-то доказательствах «вины» несчастного герцога Наполеону даже не пришло в голову. Зато на это не могло не обратить внимание ближайшее окружение Наполеона и так называемое общественное мнение. Тот же Стендаль, например, писал:
«После того как герцог Энгиенский был казнен, при дворе говорили, что его жизнь была принесена в жертву. Я слышал от генерала Дюрока, что императрица Жозефина бросилась к ногам Наполеона, умоляя его помиловать молодого герцога; Наполеон с досадой отстранил ее; он вышел из комнаты; она ползла за ним на коленях до самой двери».
Большинство историков также сурово осудило убийство Наполеоном герцога Энгиенского. Так, например, немецкий историк Эмиль Людвиг в книге «Наполеон» пишет:
«Никто и не вспомнил бы об этом расстреле, не иди речь о Бурбоне — символе коронованных правителей Европы. Таким образом, этот поступок консула был наглым вызовом европейским тронам и многим миллионам европейцев, веривших в то, что королевская власть дается Божьей милостью. Он стал сигналом к борьбе против диктатора, который никогда раньше не прибегал к террору».
Ниже приводятся еще несколько высказываний известных историков.
Поль-Мари-Лоран де л'Ардеш:
«В это время Наполеон запятнал себя кровавым, неизгладимым из памяти народов преступлением. Он велел похитить из баденских владений герцога Энгиенского, последнюю ветвь знаменитого дома Конде, и предал его смерти. Наполеон чувствовал и сам, что убийство герцога навлечет на него негодование современников и потомства».
Эрнест Лависс и Альфред Рамбо:
«Его бумаги с полной очевидностью обнаружили его невиновность в деле о покушении на жизнь Бонапарта; несмотря на это, он был приговорен к смерти комиссией, составленной из полковников парижского гарнизона, и тотчас расстрелян во рву Венсеннского замка (21 марта). Это убийство вызвало во всей Европе чувство ужаса и тревоги».
Вильям Миллиган Слоон:
«Сам Бонапарт до конца жизни был убежден, что его жертва была виновна, и считал герцога Энгиенского соучастником в злодейском заговоре. Одно время Наполеон прибегал к недостойным себя уловкам, стараясь доказать, будто герцога расстреляли по недоразумению, но впоследствии он оправдывал свое поведение, ссылаясь на государственные соображения, и утверждал, что казнь герцога Энгиенского была делом самообороны.
Известие об этом юридическом убийстве заставило содрогнуться всех и каждого. Император Александр оказался, однако, единственным из европейских монархов, осмелившимся протестовать против злодеяния. Он прервал дипломатические отношения с Францией и наложил при дворе траур. Первый консул страшно злился и обижался. Многие из самых близких к нему людей с самого начала высказывались против суда над герцогом Энгиенским, и он болезненно чувствовал дурно замаскированное их неодобрение. Все, что он мог сделать, это запретить рассуждения о казни герцога, и он действительно прибег к этой мере. Следует заметить, что Бонапарт намеревался достигнуть прямо противоположного результата. Он хотел, чтобы позор злоумышлений в убийстве пал на Англию и на Бурбонов, но меры, принятые им для этого, побудили всех глядеть на него самого почти как на убийцу».
Как видим, все в один голос отмечают негативную реакцию общественности на кровавую выходку Наполеона («вызвало во всей Европе чувство ужаса и тревоги», «заставило содрогнуться всех и каждого» и т. д.), один лишь Жан Тюлар по одной ему ведомой причине говорит следующее:
«Смерть герцога Энгиенского, что бы там ни утверждал Шатобриан, не произвела никакого впечатления на французское общество».
Шатобриан, как известно, указывал на то, что убийство герцога Энгиенского коренным образом изменило отношение людей к Наполеону. Самым бесповоротным образом изменило оно и самого Наполеона.
Не менее жестко оценивает последствия убийства герцога Энгиенского для Наполеона и А.З. Манфред. Он пишет:
«Нетрудно заметить, что с течением времени по мере "возвышения Бонапарта" менялся и он сам — элементы реакционного и агрессивного в его политической деятельности усиливались, возрастали. Эта тенденция неоспорима, и чем дальше, тем явственнее будет проступать ее гибельное влияние. Попирающее всякую законность, всякие основы права дело герцога Энгиенского, начиная от захвата его на территории нейтрального государства и кончая расстрелом при отсутствии состава преступления, было полностью на ответственности Бонапарта. Казнь герцога Энгиенского от начала до конца была политическим актом».
* * *
16 мая 1804 года, то есть всего через неполных два месяца после казни герцога Энгиенского во рву Венсеннского замка, Наполеон был официально провозглашен императором Франции с правом наследования.
По этому поводу французский историк Жак Бэнвилль восклицает:
«Глядя на календарь, сопоставляя даты, как не признать, что Венесннское дело имело успех? Герцог Энгиенский погиб 21 марта рано утром, а уже 27-го имело место первое открытое проявление желания восстановить монархию в лице Наполеона Бонапарта».
Следует отметить, что поначалу слово «империя» даже не произносилось, а Сенат лишь назвал пожизненного первого консула «столь же бессмертным, как и его слава». Затем осторожно была заведена речь о праве наследования его титула. И лишь через несколько дней бесконечных интриг и сомнений некий депутат по имени Кюре впервые озвучил тезис о том, что Наполеон может стать императором французов с правом наследования этого титула для членов его семьи.
Продолжая мысль Жака Бэнвилля, заметим, что депутат Кюре выступил 3 апреля, генерала Пишегрю нашли мертвым в его тюремной камере 6 апреля, а 18 апреля был оглашен специальный указ Сената, заложивший фундамент новой власти во Франции. Действительно, «дело имело успех».
Публично выступил против империи лишь Лазар Карно, бывший член Конвента и Комитета общественного спасения, бывший президент Директории и бывший военный министр. Против были и такие влиятельные люди, как бывший член Директории и бывший консул Сийес, но к мнению этих «героев вчерашних дней» уже никто не прислушивался. Остальные трибуны и сенаторы дрожали от страха от одной только мысли о том, что их всех разгонят, как в свое время Наполеон поступил с Директорией и Советом пятисот.
Была создана специальная комиссия, от имени которой 3 мая 1804 года депутат Панвиллье сделал доклад, главная мысль которого заключалась в том, что всеобщее мнение состоит в признании необходимости единой власти и права наследования этой власти.
Законодательный корпус находился на каникулах, но его президент провел поспешное голосование среди тех, кого ему удалось найти в Париже. На факт отсутствия кворума никто не обратил внимания. Президент Сената Камбасерес и специальная сенатская комиссия быстро сформулировали вопрос к французскому народу: «Согласен ли народ с наследованием императорской власти по прямой, естественной, легитимной и приемной линиям наследования Наполеона Бонапарта?» Вопрос о том, желает ли народ Франции установления империи, был дипломатично обойден. Этот вопрос уже был решен и без всякого участия народа.
6 ноября 1804 года были обнародованы результаты плебисцита: «за» проголосовало более трех с половиной миллионов человек (99,9 % голосовавших), «против» осмелилось высказаться лишь 2569 человек.
В 11 департаментах не было ни одного голоса «против». Сказочное единодушие! Также ни одного голоса «против» не было отмечено среди 400 000 голосовавших в сухопутной армии и среди 50 000 голосовавших во флоте. В это тоже верится с трудом, ибо республиканцев по духу в вооруженных силах оставалось еще более чем достаточно. В частности, открыто критиковал провозглашение империи генерал Мале в городе Ангулеме. Он оказался единственным комендантом, который не стал устраивать в своем городе праздничной иллюминации. Можно ли себе представить, что этот человек, организовавший в 1812 году захват власти в Париже, объявив Наполеона погибшим, голосовал в 1804 году за установление империи? А сторонники и друзья генерала Моро, которых было немало: могли ли они все до единого высказаться за провозглашение ненавистного им Наполеона императором?
Скорее всего, голоса Мале и ему подобных были по той или иной причине признаны недействительными. Широко известные ныне методы приписок и подтасовок при голосовании были детально проработаны к далекому 1804 году с одной лишь разницей, что 200 лет назад все это было гораздо сложнее физически, так как еще не были изобретены ЭВМ и компьютерные программы, облегчающие этот труд.
Французский историк Франсуа Блюш приводит следующие данные: по его оценкам, в сухопутной армии проголосовало «за» лишь 120 000 человек, а во флоте — 16 000. Эти результаты «округлили» до 400 000 и 50 000.
Так при помощи «свободного волеизъявления граждан» Наполеон стал императором французов. Опытные юристы быстро оформили все эти изменения, ведь, как говорил еще Людовик XII, они умеют «растягивать и поворачивать законы подобно тому, как сапожники вытягивают и выворачивают кожу». Ну а Наполеон, посчитавший себя после этого единственным правомочным представителем всей нации, за все годы своего императорства никогда больше не беспокоил свой народ какими бы то ни было голосованиями.
* * *
Начало процесса над заговорщиками имело место 28 мая 1804 года, то есть через 11 дней после того, как Наполеон был провозглашен императором.
Общественное мнение крайне отрицательно относилось к Жоржу Кадудалю и к некоторым его сообщникам, отличавшимся особенно бандитским видом. При этом отношение к дворянам — братьям де Полиньякам, маркизу де Ривьеру, Шарлю д'Озье и Костеру де Сен-Виктору — было совершенно иным. Особняком стоял генерал Моро. Авторитет и слава этого человека были огромны, поэтому и отношение к нему общества и органов правосудия было совсем не таким, как к остальным: с одной стороны, его следовало надежно охранять, а для этого нужны были солдаты, с другой — их не должно было быть слишком много, так как те же солдаты могли в любой момент встать на защиту любимого генерала. Для этого им достаточно было одного его слова. Этим герой Гогенлиндена был очень опасен: все зависело от того, как он себя будет вести во время процесса и не захочет ли он обратиться к помощи армии.
Невозможно себе представить наплыв народа во Дворце правосудия и на прилегающих к нему улицах. Процесс длился 13 дней, и все это время толпа не уменьшалась. Буквально все искали возможность на нем поприсутствовать, все ждали неординарного развития событий, у всех еще были свежи в памяти смерти герцога Энгиенского и генерала Пишегрю.
В десять часов утра 12 судей, одетых в длинные мантии и парики, вошли в зал заседаний и расселись по своим креслам. Председателем суда был назначен Эмар, его заместителем — Мартино. Среди прочих можно выделить: Лекурба (брата известного генерала), Тюрьо, Бургиньона, Дамо-Лягийоми, Клавье, Риго, Гранже и Демезона. Жерар был государственным обвинителем, Фремин — секретарем.
Председатель суда начал с того, что приказал ввести обвиняемых. Их вводили в зал по одному, каждого окружали по два вооруженных жандарма.
Генерал Моро вошел в зал суда и сел вместе со всеми. Вид его выражал полное спокойствие. Он как будто медитировал. На нем был синий редингот без каких-либо знаков отличия, выдававших его высокое положение. Рядом с ним сидели его бывший адъютант Фредерик Ляжоле, друг — Пишегрю Виктор Кушери и Шарль д'Озье.
Жоржа Кадудаля можно было узнать по его огромной голове и широким плечам. Рядом с ним сидели Луи-Габриэль Бюрбан и Пьер Кадудаль, его родственник, которого вандейцы за его необычайную силу прозвали Железной рукой.
Братья Арман и Жюль де Полиньяки и маркиз де Ривьер сидели во втором ряду и выражали явный интерес ко всему происходящему. Но все взгляды притягивал к себе Жан-Батист Костер де Сен-Виктор. Он был одет в домашний халат и тапочки из красного сафьяна (именно в этой одежде его и арестовали). Но, несмотря на забавный вид, было в Сен-Викторе нечто такое, что внушало к нему большое уважение. Наверное, настоящий рыцарь всегда остается рыцарем, даже если он и не в доспехах.
За Костером де Сен-Виктором в третьем ряду сидели менее высокопоставленные и известные вандейцы, которые во все глаза следили за своим предводителем Кадудалем и старались повторять малейшие его жесты. Посреди них можно было заметить Луи Пико, бывшего слугу Кадудаля, которого за его зверства по отношению к республиканским солдатам и по цвету их мундиров прозвали «Палачом синих». Это был тот еще здоровяк, под стать самому Кадудалю. Все у него было квадратным: и плечи, и кулаки, и голова. Круглыми были лишь маленькие красные глазки, которые смотрели так неприязненно, что любой при встрече с ним взглядами невольно съеживался.
Тут же сидели: Жан-Батист Денан, Атанас Буве де Лозье, Николя Дютри, Гастон и Мишель Троши, Виктор Девилль, Ноэль и Луи Дюкоры, Жозеф Эвен, Арман Гайяр, Жан Лелан, Гийом Лемерсье, Луи Леридан, Жан Мерий, Пьер Моннье, Мишель Роже, Анри Роллан, Этьенн Франсуа Рошелль де Бреси, Франсуа Рюзийон, Ив Лягримодьер, Пьер Спэн, Жак Верде и другие.
Всего обвиняемых было 42 человека, из них пятеро были особами женского пола достаточно жалкого вида. Это были жены вандейцев, наиболее активно помогавшие принимать прибывающих из Англии.
Маркиз де Ривьер наклонился к Моро и шепнул ему на ухо:
— Что за злая шутка, генерал! Волею Бонапарта мы с вами записаны в одну шайку. Я теперь бандит, и я мысленно заключаю вас в свои пылкие бандитские объятия.
— Но я, маркиз, — холодно ответил ему Моро, — вовсе не планировал грести с вами одним веслом на одной каторжной галере…
Первое заседание полностью было посвящено судебным формальностям: у каждого из обвиняемых спрашивали его имя, фамилию, возраст, профессию и место жительства. Государственный обвинитель Жерар зачитал обвинительный акт, и одно это чтение длилось почти пять часов. Отметим, что каждый раз, когда произносилось имя генерала Моро, по залу заседаний проносился шум, и председателю суда приходилось вмешиваться, чтобы восстановить порядок. Так прошел целый день. Все настолько устали, что с радостью встретили объявление об окончании заседания.
* * *
Второе заседание началось во вторник, 29 мая, в девять часов утра. Председатель суда Эмар начал опрос свидетелей. Всего их было более ста человек, все они дали письменные показания, но заслушать успели лишь 12 из них.
Сначала заслушали свидетелей и участников ареста Жоржа Кадудаля: оправившегося от ранения Каниолля, Детавиньи и других. После этого председатель суда спросил Жоржа Кадудаля, есть ли у того какие-либо замечания:
— Нет, — ответил Кадудаль, даже не повернув головы в его сторону.
— Вы действительно произвели два выстрела?
— Я не помню.
— Но ведь при этом вы убили человека?
— Не знаю.
— При вас был кинжал?
— Возможно.
— А два пистолета?
— Возможно.
— С кем вы были в кабриолете?
— Даже не знаю, кто бы это мог быть.
— Где вы жили в Париже?
— Нигде.
— Но в момент вашего ареста разве вы не жили на улице Монтань-Сен-Женевьев?
— В момент моего ареста я был в своем кабриолете — значит, я не жил нигде.
— Что вы делали в Париже?
— Я гулял.
— С кем вы виделись?
— Ни с кем.
По этим ответам Кадудаля председатель суда быстро понял, каким будет поведение главаря заговорщиков: ни на один важный вопрос тот не ответит. Напрасная трата времени.
* * *
Третье заседание суда, состоявшееся 30 мая, не представляло никакого интереса, но вот четвертое было уже совершенно иным: судья Тюрьо задавал вопросы генералу Моро.
Чем больше задавалось вопросов, тем все более отчетливо складывалось впечатление, что Моро действительно не имел никакого отношения к заговору. Никто из заговорщиков его толком не знал, и он не знал практически никого из сидящих рядом с ним. Генерал спокойно и уверенно отбивал все атаки судьи. Так, например, когда ему выдвинули обвинение в претензиях на диктаторство, он ответил: «Я диктатор? Но пусть мне покажут моих сторонников! Мои сторонники — это французские солдаты, я командовал многими из них. Арестовали моих адъютантов, офицеров, которых я знал, но что у вас есть против них?»
Поясним, что версия о претензиях генерала Моро на диктаторство, выгодная первому консулу, исходила от самого Наполеона. Ее, со слов Наполеона, излагает Стендаль, рассказывая о встрече Моро, Пишегрю и Кадудаля:
«Во время этой беседы было решено, что Жорж покончит с Бонапартом, Моро будет первым консулом, а Пишегрю — вторым. Жорж настаивал на том, чтобы третьим консулом назначили его, но оба других возразили, что, поскольку он известен как роялист, всякая попытка включить его в состав правительства погубит их всех в общественном мнении. Тогда вспыльчивый Жорж вскричал: "Уж если стараться не ради себя — так я за Бурбонов! А если не ради них и не ради себя, а для того, чтобы заменить одних синих другими — так уж пусть будет лучше Бонапарт, чем вы!"»
Напомним, что «синими» шуаны называли республиканских солдат, носивших синие мундиры.
Версия эта не выдерживает никакой критики: во-первых, на этой встрече никто ничего решать не мог — для Кадудаля и Пишегрю все уже было решено в Лондоне, и они были лишь исполнителями чужой воли; во-вторых, у самого генерала Моро и мысли не было ни о каком диктаторстве (он, кстати сказать, наглядно продемонстрировал это, когда готовились события 18–19 брюмера). По словам историка Е. Тарле, «он был человеком совсем другого типа». Другой не менее известный и уважаемый историк А. Манфред вообще называет Моро «слабым и колеблющимся» человеком.
Историк А.К. Дживелегов, рассказывая о подготовке Брюмерского переворота, характеризует генерала Моро следующим образом:
«Он чувствовал, что сам он не годится на ту политическую роль, которая ему предназначалась. Хладнокровный, настойчивый, полный непоколебимого мужества перед лицом врага, один из самых больших мастеров военного маневра Моро очень быстро терялся, как только попадал в центр сложной и путанной политической игры. Он никогда не умел в ней найти себя, чрезвычайно легко поддавался всякого рода влияниям и охотнее всего отступал на задний план».
А еще генерал был очень честным и порядочным человеком, и это, наверное, самое главное. Уделом таких людей являются не государственные перевороты, а молчаливая оппозиция.
Когда накануне 18 брюмера появился Наполеон, Моро, обрадованный, что ему не придется марать свою шпагу насилием над законным правительством, заявил готовившему переворот Сийесу: «Вот тот — кто вам нужен. Он устроит вам все лучше, чем я».
И сейчас, несколько лет спустя, Моро категорически отрицал версию о своей возможной роли диктатора. Он говорил суду:
— Вы пытаетесь доказать, что сторонники Бурбонов хотели провозгласить меня диктатором? Но я воевал против них с 1792 года, воевал успешно, и вы хотите, чтобы они были моими сторонниками? Все это полная чушь!
— Мы уже немало наслышались тут о ваших военных успехах, — злобно прошипел судья Тюрьо. — Но ответьте теперь суду: кому вы обязаны успехами в своей головокружительной карьере? Не вы ли продвигались по службе под эгидой изменника Пишегрю?
— Как вы можете так говорить? Генерал Пишегрю мертв! — крикнул Моро.
— И что с того? — усмехнулся судья Тюрьо.
— Призываю вас быть осторожным со словом «изменник». Революция уже наплодила столько «изменников», что не успевала работать гильотина, а ее нож, не успев обсохнуть от вчерашней крови, сегодня уже обрушивался на тех, кто еще вчера сам судил за так называемую измену.
Судья Тюрьо резко вскочил с кресла, его всего трясло от возмущения. По залу пробежал шумок, но его пресек председатель суда Эмар, долгое время молчавший, а теперь закричавший низким дрожащим голосом, что прикажет жандармам навести порядок.
— Оглянитесь вокруг! — продолжал Моро. — Здесь меня пытаются осуждать за общение с генералом Пишегрю, но как же тогда быть с теми его друзьями, которых мы сейчас наблюдаем довольными и благополучными? Вечером вы увидите многих из них во дворце Тюильри, они будут пить и танцевать!
Лицо Тюрьо сделалось белым как полотно. Он попытался перехватить инициативу и ехидно спросил:
— Но свидетель Роллан показал во время следствия, что вы все же контактировали с изменником Пишегрю в Париже? Вы даже говорили, что если Пишегрю удастся устранить первого консула, то вы употребите свое влияние в Сенате, чтобы защитить его и его сторонников. Вы же говорили такое, не правда ли?
— Либо Роллан — человек, связанный с полицией, — ответил Моро, — либо он сделал подобное заявление из страха! Наверняка ему сказали, что он в ужасном положении: либо он пойдет как сообщник заговорщиков, либо как свидетель. Если он не скажет того, что от него требуют, — значит, он сообщник, если скажет — он спасен. Все это только лишний раз подтверждает то, как проводилось следствие.
Судья Тюрьо вновь торопливо переменил тему:
— Ваша измена Франции доказывается характером ваших речей, в которых вы с завидным постоянством осуждали действия правительства, оскорбляя священную особу императора.
Моро возмущенно всплеснул руками:
— Свобода выражения своих мыслей! Мог ли я предполагать, что это может считаться преступлением у народа, который узаконил свободу мысли, слова и печати, который пользовался этими свободами даже при королях! Признаюсь, я рожден с откровенным характером и как француз не утратил этого свойства, почитая его первым долгам любого нормального гражданина.
— Но вы же сами отказались служить этому народу? — перебил его Тюрьо.
— Вот как? Меня упрекают уже даже в моей отставке, — парировал и этот вопрос Моро. — Но подумайте сами, допустимо ли, чтобы заговорщик, каким меня здесь рисуют, уходил от высшей власти? Вы же прекрасно знаете, что тот же Брут, например, не уходил от Цезаря. Зачем? Ведь так ему было легче его убить.
После заседания, когда обвиняемых увозили в тюрьму, Кадудаль почтительно кивнул Моро:
— Генерал, еще один такой день, и я не удивлюсь, если вечером вы поедете спать не в Тампль, а в Тюильри, и Наполеон будет подносить вам шампанское.
— История рассудит нас, — ответил ему Моро.
— Нашли адвоката — историю! — горько усмехнулся Кадудаль. — Разве эта беззубая старуха способна быть справедливой?..
* * *
Начало шестого заседания, имевшего место в субботу, 2 июня, было отмечено инцидентом: дивизионный генерал Клод Лекурб, близкий друг Моро, воевавший вместе с ним и бывший его заместителем в Рейнской армии, ворвался в зал заседаний с маленьким ребенком на руках, поднял его над головой и закричал:
— Солдаты! Я обращаюсь к вам! Вот сын вашего генерала!
При этих словах все военные, которые находились в зале, повскакивали со своих мест. По свидетельствам очевидцев, если бы в этот момент слово взял Моро, всеобщий настрой был таков, что суд был бы тотчас разогнан, а генерал выпущен на свободу. Но Моро сохранял спокойствие и, казалось, не замечал того, что происходит.
Генерала Лекурба кое-как успокоили и выпроводили из зала заседаний (через три месяца он будет уволен из армии и выслан из Парижа под надзор полиции). Но после этого уважение к Моро достигло такой высоты, что, когда ему задавали вопросы и он вставал, все вооруженные жандармы, находившиеся в зале, вставали вместе с ним и продолжали стоять, пока он говорил.
После инцидента с Лекурбом в качестве свидетеля был допрошен английский капитан Райт. Он был одет в униформу офицера британского флота, а правая рука у него была на перевязи. Он был смертельно бледен, и секретарь суда, проявив сострадание, предложил ему стул. Райт поблагодарил его на ломаном англо-французском языке и сел.
Но из тюрьмы его доставили напрасно. Как оказалось, капитан не желал отвечать на вопросы. Он лишь сделал короткое заявление:
— Я был взят в плен в бою. Я не преступник, а военнопленный. Требую к себе соответствующего отношения.
Председатель суда Эмар спросил Кадудаля, знает ли он англичанина.
— Никогда его не видел, — ответил тот.
— А вы, Райт, знаете этого человека? — спросил Эмар, показывая на Кадудаля.
— Нет, месье, и я требую к себе отношения как к военнопленному.
— Как вам будет угодно. Заседание продолжится завтра.
Все были удивлены, ведь был всего полдень. Никогда еще заседания суда не были такими короткими.
* * *
Мужественному англичанину Райту, пожалуй, следует уделить еще несколько строк. Он был капитаном британского корабля, с которого высадились во Франции Жорж Кадудаль и его сообщники. Потом, потерпев крушение, он был захвачен у берегов Франции местными таможенниками. Стендаль пишет:
«Капитан Райт, высадивший мятежников и, судя по всему, осведомленный об их замыслах, был захвачен у берегов Франции; больше года он просидел в башне Тампль, и с ним обходились так сурово, что он покончил жизнь самоубийством».
Действительно, Наполеон отказался обменять его на равного ему по чину французского морского офицера, как это обычно практиковалось. Вместо этого Райту была уготовлена одиночная камера, бесконечные допросы, а из питания лишь черствый хлеб и вода.
В «Мемуарах…» генерала Савари о капитане Райте можно найти такие слова:
«Этот несчастный оставался в Тампле до 1805 года, там он умер. О его смерти ходило столько слухов, что я, став министром полиции, решил сам разобраться в этом. Райт перерезал себе горло от отчаянья, когда узнал о капитуляции австрийского генерала Мака при Ульме».
Весьма странное суждение. Чего бы это вдруг английскому офицеру до такой крайней степени переживать поражение австрийской армии? Но слова Савари точно повторяют сообщение в «Мониторе», а это был официальный печатный орган самого Наполеона. Савари, ставший к тому времени герцогом де Ровиго, был явно не из тех, кто противоречит мнению императора.
Относительно смерти капитана Райта у более объективного Стендаля можно найти еще два суждения. Вот одно из них:
«Что касается дела капитана Райта, то на нем нужно остановиться несколько подробнее. Райт не был ни изменником, ни шпионом; он открыто служил своему правительству, находившемуся в состоянии войны с Францией».
А вот другое:
«Можно говорить о том, что Наполеон приказал исключительно сурово обращаться с заключенным в тюрьму Райтом, но <…> ничто не доказывает, что Наполеон велел его умертвить. Что он мог выиграть от этого злодеяния, которое — он достаточно хорошо знал английскую прессу — неминуемо должно было прогреметь на всю Европу?»
Много лет спустя на острове Святой Елены Наполеон спросил у английского врача Уордена, помнит ли тот дело капитана Райта. Тот ответил: «Отлично помню, и в Англии нет человека, который не был бы убежден, что его умертвили в Тампле по вашему приказанию».
Наполеон с живостью возразил. Его слова приведены в «Мемуарах…» доктора Уордена и цитируются Стендалем:
«Ради чего? Его жизнь для меня была нужнее чьей бы то ни было другой. Где бы я мог найти более достоверного свидетеля для процесса о заговоре, по которому тогда велось следствие? Не кто иной, как он, доставил на берег Франции главарей заговора. Выслушайте меня, и вы все узнаете. Ваше правительство снарядило бриг под командой капитана Райта; он высадил на Западном побережье Франции шайку убийц и шпионов. Семьдесят человек из их числа сумели пробраться в Париж, и дело велось так ловко, что хотя граф Реаль, ведавший полицией, и сообщил мне об их прибытии, однако невозможно было выяснить, где они скрываются. Ежедневно я получал от своих министров доклады, в которых они сообщали мне, что на мою жизнь готовится покушение, и, хотя мне это представлялось менее вероятным, чем им, я все же принял меры, чтобы обеспечить свою безопасность. Случилось так, что бриг, которым командовал капитан Райт, был захвачен поблизости от Лориана. Командир был препровожден в Ванн, к префекту Морбигана. Префект, генерал Жюльен, сопровождавший меня во время похода в Египет, тотчас узнал в нем капитана Райта. Генералу Жюльену было предписано допросить в отдельности каждого матроса и каждого офицера английского экипажа и представить их показания министру полиции. Вначале их заявления казались малозначащими; однако под конец свидетельство одного из матросов дало то, чего доискивались. Он показал, что бриг высадил на берег нескольких французов, из которых ему особенно запомнился один — общительный, веселый малый, которого звали Пишегрю. Это имя дало возможность раскрыть заговор, который, если бы он удался, вторично подверг бы французский народ всем превратностям революции. Капитан Райт был отправлен в Тампль; там он должен был содержаться до той поры, когда сочли бы уместным назначить суд над заговорщиками. По французским законам Райту пришлось бы взойти на эшафот. Но эта подробность не имела никакого значения. Важно было захватить главарей заговора».
В заключение император несколько раз повторил Уордену, что капитан Райт сам положил конец своей жизни.
Заметим, что на острове Святой Елены Наполеон сам завел этот разговор. Видимо, эта тема не давала ему покоя. С другой стороны, задолго до этого на острове Эльба, когда лорд Эбрингтон в беседе с Наполеоном упомянул о смерти капитана Райта, тот даже не смог (или сделал вид, что не смог) припомнить, кто такой был этот англичанин. Когда же ему напомнили, что он был одним из помощников сэра Сиднея Смита, бывший император воскликнул:
— Как! Разве он умер в тюрьме? Я совершенно забыл всю эту историю!
После этого он решительно отверг любые предположения о том, что кто-либо мог быть умерщвлен по его приказу тайно и без судебного приговора.
— В этом отношении моя совесть чиста, — заявил сосланный на Эльбу Наполеон. — Если бы я не испытывал такого отвращения к пролитию крови, возможно, я сейчас не был бы здесь.
Но что бы ни говорил Наполеон, смерть капитана Райта была весьма и весьма странной и очень походила на смерть в тюремной камере генерала Пишегрю.
Американский историк Вильям Миллиган Слоон отмечает:
«Сам Бонапарт был архизаговорщиком, но под влиянием собственного самообмана он искажал в собственных глазах не только истинный характер заговоров, устроенных, главным образом, собственными его шпионами, но также и значение совершившихся фактов, в смысле влияния их на Францию и остальную Европу».
Он был убежден, что все должны смотреть на него, как на невинно преследуемого человека, вынужденного к самообороне. Эта версия была ему очень выгодна, так как она развязывала руки, оправдывая насилие и средневековую жестокость. При этом Наполеон прекрасно отдавал себе отчет в том, что никакой реальной опасности не было и в помине, ведь он сам писал 6 марта 1804 года графу Франческо Мельци:
«Я не подвергался серьезной опасности, так как полиция внимательно следила за каждым шагом заговорщиков».
И право же, если деятельность Жоржа Кадудаля еще можно трактовать как потенциальную угрозу жизни будущего хозяина всей Европы, то ни генерал Пишегрю, ни герцог Энгиенский, ни тем более капитан Райт к этому не имели ни малейшего отношения и никак не заслуживали своей трагической участи.
* * *
Заседание 3 июня было открыто, как обычно. Заслушали несколько свидетелей, но ничего интересного не происходило. Однообразие процесса было нарушено лишь ближе к полудню, когда заговорил старший из братьев де Полиньяк.
— Посмотрите на Жюля, — сказал Арман де Полиньяк судьям, — это всего лишь ребенок. Спасите его, ведь он не понимал, что делает! Я один виновен. Лишь я отдавал себе отчет в том, что делал. Если вам непременно нужна голова кого-то из Полиньяков, возьмите мою, я вам ее дарю…
Брат перебил его. Голос его был пронзительным, высоким, дрожащим:
— Нет! Нет! Господа, не слушайте его! Я совсем один, у меня нет ни жены, ни детей! Арман же отец семейства! Возьмите мою жизнь, но сохраните жизнь моему брату!
Аудитория была потрясена этой сценой до глубины души, многие в зале плакали. Потом наступила очередь маркиза де Ривьера. Председатель суда Эмар показал найденный у него миниатюрный портрет графа д'Артуа, младшего брата казненного короля Людовика XVI и одного из вождей контрреволюционной эмиграции, и спросил:
— Обвиняемый, узнаете ли вы эту миниатюру?
— Я что-то плохо отсюда вижу, — ответил маркиз, — пожалуйста, передайте портрет мне?
Когда портрет оказался у него в руках, он поцеловал его, прижал к сердцу и закричал:
— Как вы могли подумать, что я не узнаю этот портрет?! Я хотел лишь последний раз поцеловать его перед тем, как подняться на эшафот. Теперь, господа, я счастлив, и вы можете делать со мной, что хотите!
Эта сцена произвела на аудиторию не меньшее впечатление, чем предыдущая. Благородство молодых дворян вызывало уважение даже у самых закаленных в революционных боях республиканцев.
После этого был объявлен перерыв, а во второй части заседания слово взял государственный обвинитель, который призвал суд обрушить на головы обвиняемых всю мощь закона, дабы их возможные последователи не тешили себя иллюзиями: любое покушение на жизнь императора будет сурово наказано.
* * *
Заседания 5, 6, 7, 8 и 9 июня были полностью посвящены выступлениям защитников обвиняемых. В их числе следует отметить знаменитых адвокатов Биллекока (он защищал маркиза де Ривьера) и Боннэ (он защищал генерала Моро). Адвокат Доммаже защищал Жоржа Кадудаля, Коттерель — генерала Ляжоле, Готье — Костера де Сен-Виктора и Пико, Гишар — братьев де Полиньяков, Лебон — Буве де Лозье, Рюзийона и Шарля д'Озье и т. д.
5-го числа выступило девять человек, но все ждали речи мэтра Боннэ, который должен был выступать десятым. Однако уставший председатель суда решил закрыть заседание и перенести слушания на завтра.
6 июня, как только открылось очередное заседание суда, председатель Эмар пригласил на трибуну адвоката Моро мэтра Шарля Боннэ, но генерал тут же вскочил с места и заявил, что хочет сказать несколько слов до этого.
— Вы можете выступить после вашего защитника, — попытался урезонить его Эмар.
— То, что я хочу сказать, — возразил генерал, — должно предшествовать выступлению моего защитника. И дело тут не в том, что мое доверие к нему не полное — вовсе нет, но я чувствую, что мне необходимо самому обратиться к суду и к нации.
— Так и быть, предоставляю вам слово.
— Несчастливые обстоятельства, — начал Моро, — могут, случайно или нет, за несколько мгновений перечеркнуть жизнь самого благородного человека. Сейчас я кладу всю свою жизнь на одни весы с обвинениями, выдвинутыми против меня. Моя жизнь всем хорошо известна. Я стал военным, потому что так было надо, ведь я был гражданином своей страны. Мой характер формировался под боевыми знаменами, и я сохранил его неизменным.
— Все это замечательно, но почему вы попросили слова? — удивился Эмар. — Неужели лишь для того, чтобы сказать это?
— Нет, — спокойно продолжал Моро. — Я надеюсь, что нация не забыла, как я вел себя на полях сражений, не забыла моей репутации. Мне много раз предлагали встать во главе правительства, но я всегда считал себя созданным для командования армиями, а не государством.
В этом Моро был прав. Много или немного, но один раз точно предлагали. Вспомнить хотя бы события 18–19 брюмера: Наполеону ведь помогли совершить этот государственный переворот! Одним из действительных авторов этого переворота был влиятельный член Директории Эмманюэль Сийес, ставший потом вторым консулом. Так вот, не будь Наполеона, он использовал бы для этой цели какого-нибудь другого популярного в армии генерала. Известно, что он предлагал этот проект генералу Моро, но тот отказался сотрудничать с Сийесом. А ведь будь его амбиции посильнее, история не только Франции, но и всей Европы могла бы сложиться совершенно иначе.
— Когда мне поручили командование Рейнской армией, — продолжал Моро, — мои успехи были, как никогда, быстрыми и многочисленными. Какой был удачный момент для заговора! Разве амбициозный человек упустил бы такую возможность, будучи во главе победоносной и верной ему стотысячной армии? Я же оставил армию и отошел к простой гражданской жизни.
И в этом Моро был прав. В зале суда по рядам пошел шум одобрения. Председатель суда Эмар забил в колокол, требуя тишины.
— Господа, мне больше нечего сказать. Таков мой характер. Такова была моя жизнь. И вот теперь меня пытаются обвинить в том, что я бандит и заговорщик. Благородный человек, которому поручена моя защита, надеюсь, убедит вас в том, что эти обвинения ни на чем не основаны. Вы, господа судьи, знаете свои права и свои обязанности, вся Франция будет вас слушать, вся Европа будет на вас смотреть, не забывайте об этом!
Моро оглядел зал. Стояла гробовая тишина. Все ждали продолжения.
— Вся моя жизнь была посвящена только Франции, только революции! — продолжил он. — Сейчас же она стоит лишь капли чернил, необходимой для подписания смертного приговора. Но никто в этом мире не заставит меня раскаиваться в чем-либо. Клянусь: я жил и умру гражданином Франции!
Весь зал дружно разразился аплодисментами. Некоторые женщины бросали к ногам Моро цветы, через окна послышался гул солдатских выкриков:
— Моро невиновен! Свободу генералу Моро!
Мадам де Сталь в своих «Мемуарах…» восторженно написала:
«Генерал Моро произнес в суде одну из прекраснейших речей, какие знает история человечества. Сохраняя необходимую скромность, он напомнил о сражениях, которые выиграл с тех пор, как Францией правит Бонапарт; он попросил прощения за то, что порой высказывал свои мысли с чрезмерной откровенностью и обиняками сравнил бретонский характер с корсиканским; наконец, в эту опаснейшую минуту он обнаружил разом, и незаурядный ум, и беспримерное присутствие духа».
После того как зал кое-как успокоили, слово было предоставлено мэтру Боннэ, который тут же поднялся на трибуну.
Боннэ говорил целых шесть часов с перерывом в один час. Он начал свою речь следующим образом:
— Итак, генерал Моро в оковах! Конечно, самыми большими и славными заслугами, самыми блестящими победами, самыми важными завоеваниями, спасением многих армий — ничем нельзя приобрести гнусного права вредить своей родине внутренними междоусобицами. Но эти подвиги, эти завоевания, эта геройская и безграничная самоотверженность, столько доблести, так много побед, двадцать пять лет настоящей честности — будет ли все это потеряно при решении дальнейшей судьбы моего знаменитого подзащитного? Нет, господа: разум и справедливость сильнее неразумия и неблагодарности! Эти спасительные воспоминания, которые витают над моим подзащитным, еще не есть оправдания, но они являются более чем вероятным предзнаменованием их.
Председатель суда несколько раз останавливал защитника. Когда после очередной остановки государственный обвинитель вставил со своей стороны замечание и назвал Моро изменником, мэтр Боннэ ответил следующей замечательной тирадой:
— Господин прокурор! Позвольте мне сказать вам, что генерал Моро достаточно хорошо продемонстрировал, изменник ли он. Никто из нас не мог бы представить на этот счет больше возвышенных доказательств. Ни вы, ни я не руководили военными кампаниями республики. Ни вы, ни я не побеждали в стольких битвах врагов нашей страны. Ни вы, ни я не уничтожили тех, кто хотел сражаться против нашего отечества. Ни вы, ни я не совершали изумительных отступлений из Германии и Италии и не спасли жизни стольких людей из своих армий. Ни вы, ни я не заплатили столь щедро своему отечеству долга любви и преданности. Вспомните, не только я, но и вся Франция испытала острую боль в сердце, узнав, что генерал Моро арестован. Здесь его пытаются судить за то, что его мнение не совпадает с мнением правительства. Но, помилуйте, общественное мнение всей нации тоже очень часто не совпадает с мнением правительства! Осудив генерала Моро, вы осудите всю Францию, весь народ, принесший колоссальные жертвы ради тех принципов, за которые с юных лет сражался мой подзащитный. Но если здесь и осудят генерала Моро, общественное мнение Франции все равно его оправдает…
Никогда еще адвоката не слушали с таким вниманием, как в этот раз слушали мэтра Боннэ, а когда он закончил, все принялись бурно аплодировать ему.
Все та же мадам де Сталь в своих «Мемуарах…» пишет:
«Суд над Моро продолжался, и, хотя газеты хранили по этому поводу единодушное молчание, одного лишь известия о речи, произнесенной в его защиту, оказалось довольно, чтобы пробудить души ото сна; никогда у Бонапарта не было в Париже столько противников, как в эту пору».
На следующий день Наполеон вызвал к себе курировавшего полицию министра Ренье и осведомился, сильную ли речь накануне произнес Моро.
— Очень слабую, — с важным видом ответил ему Ренье.
— В таком случае велите ее напечатать и распространить повсюду в Париже.
Когда же Наполеон увидел, как сильно ошибся его министр, он вновь вспомнил о Фуше, единственном человеке, который ничего не боялся и всегда говорил ему то, что думает, а не то, что от него хотят услышать.
Говорят, Наполеон был страшно рассержен на Ренье, а также и на мэтра Боннэ за его речь. Он даже хотел арестовать и сослать последнего, и только благодаря вмешательству архиканцлера Камбасереса дело ограничилось одним выговором.
* * *
Заседания 7, 8 и 9 июня также были посвящены выступлениям адвокатов. В частности, мэтр Гишар, защищавший братьев де Полиньяков, призвал суд обратить внимание на древность и благородство их рода. Он сказал:
— Полиньяки, господа, происходят от древних патрициев. Они всегда пользовались дворянскими привилегиями, важнейшей из которых являлась привилегия миловать заблудших. Я надеюсь, что суд, в свою очередь, окажется справедливым и милостивым к моим подзащитным, ибо они не совершили никакого преступления и не нарушили данную присягу.
Защитник Луи Пико мэтр Готье обратил внимание суда на то, что его клиенту во время следствия сначала предлагали 200 луидоров за информацию о месте жительства Жоржа Кадудаля, а когда тот отказался отвечать, принесли ружье и его затвором стали сдавливать пальцы. В доказательство Пико показал свои искалеченные руки.
— Как могло получиться, что вы впервые говорите об этом обстоятельстве? — спросил его судья Тюрьо.
— Черт возьми! — закричал Пико. — Да вы прекрасно об этом знали! Вы же сами были у меня в камере и сказали, что все уладите!
— Первый раз об этом слышу, — возразил ему Тюрьо.
— Я боялся, что они снова начнут меня пытать.
— Пико! — крикнул государственный обвинитель. — Вы можете говорить неправду, закон не обязывает свидетельствовать против себя, но вы должны вести себя более уважительно по отношению к суду.
— Ничего себе! — в ярости закричал в ответ Пико. — Уж не хотите ли вы, чтобы я еще поблагодарил вас за это! Ну, хорошо, огромное спасибо!
Жорж Кадудаль, до этого всецело погруженный в свои мысли, не удержался и голосом, полным сарказма, поддержал своего бывшего слугу, назвав судью Тюрьо цареубийцей. Потом он повернулся к жандарму, стоявшему у него за спиной, и попросил:
— Как противно произносить это имя. Дайте мне стакан водки, я хочу прополоскать рот.
После этого внимание суда переключилось на Жоржа Кадудаля. После короткого выступления своего адвоката мэтра Доммаже тот сказал:
— Я могу лишь немногое добавить к словам моего уважаемого защитника. Например, то, что я спокойно мог развязать новую войну в Вандее, но не сделал этого. Это доказывает то, что я хотел мира для Франции. В Англии мне казалось, что общественное мнение во Франции склоняется в пользу Бурбонов. С несколькими моими друзьями я приехал сюда, чтобы лично в этом убедиться. Можно ли это назвать заговором? Я что-то не слишком силен в новом французском законодательстве. Вы, господа, разбираетесь в этом лучше меня, вам и судить.
* * *
Чтобы не повторять каждый раз одну и ту же формулировку, которую председатель суда должен был обратить к каждому из подсудимых по завершении судебного процесса, ограничимся лишь их последними словами, представляющими наибольший интерес.
Генерал Моро:
— Ничто на этом процессе не свидетельствовало против меня. Ясно как божий день, что я никогда не принял бы никаких предложений от бывших французских принцев. Единственное, что существует у суда против меня, — это показания пары свидетелей, но они явно продиктованы следователями.
Генерал Ляжоле:
— Мне никто никогда не сообщал никакого плана заговора, поэтому я не могу считать себя заговорщиком. Мне кажется, что мои рассуждения логичны.
Пьер Кадудаль:
— Во время моего ареста жандарм стоял в пяти-шести шагах передо мной. Мои пистолеты были заряжены, они торчали за поясом, как это принято у нас дома. В кармане у меня был кинжал. Если бы я хотел убить этого жандарма, я легко мог бы это сделать, я знаю, как всем этим пользоваться. Вместо этого я позволил себя арестовать и даже предложил ему стакан вина. Почему я это сделал? Потому что я невиновен.
Шарль д'Озье:
— Все мое преступление, если это можно назвать преступлением, состоит в том, что я предоставил ночлег моим сообвиняемым. Я говорил это с самого своего ареста. Мне грозят смертной казнью, но за что? За мои политические убеждения? Но знаете, господа, они мне никогда не мешали подчиняться законам той страны, где я живу. Я с надеждой жду вашего решения.
Луи Пико:
— Делайте со мной что хотите, и не будем больше об этом.
Жюль де Полиньяк:
— Так как я был очень взволнован после выступления моего брата, я не смог сказать ничего путного. Теперь я более спокоен и заявляю, господа, если нужно, чтобы кто-то из нас погиб, это должен быть я. Я еще слишком молод, чтобы почувствовать настоящий вкус к жизни, так что же о ней сожалеть?
— Нет! — закричал его старший брат Арман. — Ты не умрешь! Пусть это буду я… Умоляю, мой дорогой Жюль…
При этих словах председатель суда Эмар поспешил закрыть заседание. Суровым голосом он сказал:
— Слушания закончены. Суд удаляется на совещание для вынесения приговора.
* * *
Всех, прежде всего, интересовало, каков будет приговор суда в отношении генерала Моро. Двенадцать судей долго совещались, и семью голосами против пяти Моро был оправдан. При этом судья Лекурб заявил, что вообще не увидел на процессе и тени заговора.
Эмар, Гранже и Тюрьо, всем обязанные Наполеону, собрались на закрытое совещание.
— Оправдание Моро, — заявил Эмар, — означает для всех нас и для всей Франции начало новой гражданской войны.
Тюрьо поддержал своего коллегу:
— Моро необходимо казнить. Мы же прекрасно понимаем, что процесс этот не юридический, это дело огромного политического значения.
— Смерть Моро, — подхватил Эмар, — необходима для сохранения той формы правления, которая уже сложилась, и нет смысла ее менять ради сохранения жизни одного человека.
— Согласен, — сказал Гранже. — Какое значение сейчас имеет степень виновности Моро? Нам важно преподать урок страха французам, чтобы сохранить безопасность государства. Это важнее всего. Вспомним слова Робеспьера: «Всякий благоразумный человек должен признать, что страх — единственное основание его поведения».
Вернувшись к другим судьям, Эмар сказал:
— Вы хотите выпустить Моро на свободу. Хорошо. Но этим вы толкаете страну к государственному перевороту. Иностранные государства ждут завершения процесса, чтобы окончательно признать Наполеона в качестве императора. Безопасность государства зависит сейчас от нас.
После этого слово взял решительно настроенный Лекурб:
— Председатель суда открыто попирает принцип юриспруденции, который гласит, что обвиняемый невиновен, если большинство высказалось за него. Поступать так — это преступление.
— Господа, — возразил ему Эмар, — но наше решение еще не оглашено, и мы имеем полное право немного изменить его, я бы сказал, подкорректировать.
Новое обсуждение длилось еще 24 часа. В результате повторным голосованием Моро был осужден на два года тюрьмы.
Остальные обвиняемые были поделены на несколько категорий: Жорж Кадудаль, Буве де Лозье, Рюзийон, Рошелль де Бреси, Арман де Полиньяк, д'Озье, де Ривьер, Луи Дюкор, Пико, Ляжоле, Роже, Костер де Сен-Виктор, Девилль, Гайяр, Лемерсье, Пьер Кадудаль, Лелан и Мерий были приговорены к высшей мере наказания; к двум годам тюремного заключения, помимо Моро, были приговорены Жюль де Полиньяк, Леридан и Роллан; остальные были оправданы.
После оглашения приговора Жорж Кадудаль печально пошутил:
— Теперь, когда мы закончили с королями земными, надо переключиться на короля небесного.
* * *
Утром следующего дня государственный советник Реаль имел беседу с маркизом де Ривьером.
— Император, — сказал он, — оценил вашу храбрость и готов подарить вам жизнь. Более того, он готов пойти еще дальше и предложить вам военную службу. Хотите командовать полком?
— Я был бы счастлив командовать французскими солдатами, но не могу, — ответил маркиз. — Я уже присягнул другому знамени.
— Может быть, вас больше прельстит дипломатическая карьера? Хотите стать нашим послом, например, в Германии?
— Я много времени провел за границей. Я был вашим врагом, что подумают обо мне в иностранных дворах, если увидят, что теперь я служу другим интересам? Никто не станет меня уважать, да я и сам перестану себя уважать.
— Хорошо, займитесь управлением. Хотите возглавить префектуру?
— Я всего лишь солдат. Управление — это не мое дело. Я буду очень плохим префектом.
— Но что же вы хотите?
— Понести наказание!
Реаль был поражен откровенностью де Ривьера. Прощаясь с ним, он сказал:
— Вы — честный человек! Если я могу быть вам полезен, рассчитывайте на меня. У меня был приказ доставить вас в Фонтенбло, если вы согласитесь с предложением императора, но раз вы, к моему огромному сожалению, хотите испытать свою судьбу — оставайтесь здесь.
С аналогичным предложением Реаль обращался и к Жоржу Кадудалю, пообещав ему от имени Наполеона помилование в обмен на обещание не участвовать в заговорах против него и согласие служить в его армии. Все было бесполезно. Кадудаль ответил ему лишь одной короткой фразой:
— Мои друзья последовали за мной во Францию, теперь я последую за ними на эшафот.
* * *
Наполеон работал в своем кабинете в Тюильри, когда к нему вошла заплаканная Жозефина и рассказала, что к ней приходила герцогиня де Полиньяк, жена осужденного Армана де Полиньяка, а также ее тетка, мадам д'Андло, дочь знаменитого французского философа Гельвеция. Они умоляли ее вступиться за их родственника. Наполеон взорвался:
— Для чего вы, мадам, суете свой нос не в свои дела? Я не стану встречаться с ними!
— Но я хочу, — взмолилась Жозефина, — лишь помочь несчастным женщинам. Они в отчаянии. Не пора ли тебе, Бонапарт, начать проявлять великодушие? Ведь одного твоего слова достаточно, чтобы спасти жизнь человека, столь им дорогого. Воспользуйся же своим правом на помилование, чтобы увековечить свою императорскую славу.
Наполеон вышел из комнаты, хлопнув дверью. Но Жозефина не сдавалась и вскоре привела к Наполеону двух рыдающих женщин.
— Сир, пожалейте нас, — голосила мадам д'Андло, — ведь я дочь Гельвеция…
Выдержать такое было невозможно, и Наполеон сказал:
— Хорошо, я прощаю его. Думаю, что акт милосердия не помешает началу моего исторического правления.
Когда две счастливые и полные благодарности женщины удалились, Наполеон спросил Жозефину:
— Надеюсь, теперь ты удовлетворена?
Конечно же, она была удовлетворена.
— Предупреждаю, — продолжил Наполеон, — больше ко мне с подобными просьбами не обращайся.
Тем не менее, благодаря Жозефине, ему придется помиловать еще несколько заговорщиков. Сначала она лично представила мужу мадам де Риффардо, сестру маркиза де Ривьера. Потом она вместе с мадам Мюрат и еще двумя императорскими сестрами, принцессами Элизой и Полиной, пришла просить о помиловании для Этьенна-Франсуа Рошелля де Бреси, Атанаса Буве де Лозье и Шарля д'Озье. Потом она умоляла помиловать Армана Гайяра. За генерала Ляжоле, не без содействия Жозефины, приходила просить его 14-летняя дочь. Она рыдала и падала перед императором на колени. Наказание всем этим людям было смягчено — за них было кому замолвить слово.
По поводу помилования братьев де Полиньяков и маркиза де Ривьера историк А.З. Манфред замечает:
«Это было сделано не без умысла; милуя адъютантов графа д'Артуа, бросившего их на произвол судьбы, он унижал тем самым брата короля».
Не повезло только герцогине де Ляфорс, приходившей просить за Костера де Сен-Виктора. Поговаривали, что решающую роль здесь сыграла ревность: Сен-Виктор в свое время был любовником одной очень популярной в то время актрисы, которой оказывал знаки внимания и Наполеон, тогда еще первый консул. Впрочем, это всего лишь слухи, ни доказать, ни опровергнуть которые невозможно.
Уже в день казни в шесть часов утра банкир Шерер прибежал, рыдая, во дворец Сен-Клу и стал умолять генерала Раппа посодействовать помилованию его родственника Франсуа Рюзийона. Вместе с ним пришли просить за этого человека еще несколько богатых швейцарцев, соотечественников приговоренного.
— Мы знаем, — говорили они хором адъютанту Наполеона, — что майор заслуживает смерти, но он отец большого семейства, и мы просим милости императора не за него, а за его детей.
Рапп направился к Наполеону и изложил тому просьбу швейцарцев.
— О ком идет речь? — спросил Наполеон.
— О Франсуа Рюзийоне, Сир.
— Он в тысячу раз опаснее, в тысячу раз виновнее, чем Жорж! — закричал император в ярости.
— Возможно, Сир, но помилуйте его, не ради него, а ради многих хороших людей, которые пострадают из-за его глупости. Ваше Величество совершит доброе дело.
— Вот, — сказал Наполеон, обращаясь к доктору Корвизару, — слышите, за кого меня держат мои адъютанты, они не боятся поучать меня.
— Сир, я не поучаю вас, — взмолился Рапп, — да и кто осмелится это делать?
— Так и быть, — кивнул Наполеон. — Но бегите быстрее, времени мало, казнь, если я не ошибаюсь, назначена на сегодня.
Так был помилован еще и Рюзийон. Как видим, Наполеон не скупился на милости. Но, как говорил известный французский моралист Клод Буаст: «Милосердие государей часто бывает только политической хитростью для снискания народной любви». Вот только милостей императора почему-то не удостоился ни один из представителей этого самого народа — одни лишь графы, маркизы да родственники богатых банкиров. Странная, но очень даже понятная избирательность…
* * *
14 июня Наполеон срочно вызвал к себе своего секретаря Бурьенна.
— Бурьенн, вы присутствовали на процессе по делу Моро с начала до конца? — спросил император.
— Да, Ваше Величество! — ответил Бурьенн. — И вы ежедневно получали от меня об этом подробные отчеты.
— Конечно, конечно, я внимательно их прочитал. Но скажите мне честно, что говорили зеваки: виновен Моро или невиновен?
— Сир, невиновен — это не совсем подходящее слово; виновен — это тоже немного не то.
— Объяснитесь!
— Я хочу сказать, что против генерала не было выдвинуто ни одного серьезного обвинения.
— Черт возьми! Я знаю. Все обвиняемые словно сговорились. Но мне с этим все и так ясно. Я сначала был против ареста Моро, но когда Буве де Лозье заговорил, мог ли я оставить его показания без внимания?
— Конечно, Сир, однако вы могли бы…
— Мог ли я предвидеть… — перебил своего секретаря Наполеон, — что этот болтун Буве де Лозье потом начнет менять свои показания? Я приказал арестовать Моро, лишь когда стало известно о его тайных встречах с Пишегрю и Кадудалем. Разве Англия не подсылала ко мне убийц?
— Сир, позвольте напомнить вам один разговор, имевший место в моем присутствии с мистером Фоксом[11]. Вы тогда сказали: «Бурьенн, от этого честного человека я узнал, что английское правительство неспособно организовать покушение на меня. Мне нравится с уважением относиться к своим врагам».
— Вот о чем вы! — воскликнул Наполеон. — Я никогда не утверждал, что какой-то английский министр может вызвать к себе убийцу и сказать: «Вот деньги и кинжал, пойди и убей первого консула». Конечно, в это я не верю. Однако нельзя отрицать, что все, кто замышлял недоброе против меня, в той или иной мере были на содержании у Англии. Разве у меня есть в Лондоне люди, которые вредили бы английскому правительству? Я веду с ними честную войну.
Потом, вернувшись к теме Моро, Наполеон сказал:
— Он обладает многими хорошими качествами. Он храбр, но ему не хватает энергии. Он вял, изнежен, в армии он жил, как турецкий паша: утром и вечером курил кальян, любил поспать, обожал вкусно поесть. Он был очень ленив и не любил учиться, ни разу он не открыл ни одной книги. С тех пор как он уцепился за юбку мадам Моро, он стал конченым человеком. На мир он смотрел глазами жены и тещи, которые и втягивали его во всякие интриги. Ну не смешно ли! Ведь это я сам склонил его к этому браку. Мне сказали, что мадмуазель Юло — креолка, и я подумал, что в ее лице он обретет вторую Жозефину. Как же жестоко я ошибся!
Бурьенну, внимательно слушавшему императора, ничего не оставалось, как почтительно кивать головой.
— Моро всегда принижал успехи моих военных кампаний, — продолжал Наполеон. — Он всегда критиковал меня и мое правительство. Все это происходило на ваших глазах, и вы видели мою реакцию. Порой он ужасно раздражал меня. Я еще говорил, что он кончит тем, что сломает себе нос о решетку сада Тюильри. Ему вбили в голову, что я завидую ему. Но чему тут завидовать? Сейчас я у власти. Что мне с ним теперь делать? Заточить его в Тампль? Но там он станет знаменем всех сторонников республики или этих глупцов-роялистов. Вокруг него опять начнет собираться весь этот подпольный сброд. Нет уж, увольте!
— Сир, я думаю, что Ваше Величество немного ошибается…
— Что значит, немного? Скажите уж лучше, что я сильно ошибаюсь. У меня всего два глаза, и я не могу видеть все. Кроме того, Моро и сам ошибается, если думает, что я испытываю чувство враждебности к нему. После его ареста я посылал к нему своих людей, но он не захотел понять моего благородства, он держался гордецом, разговаривал свысока. Потом он пошел на попятную и написал мне длинное письмо. Послушайте, каждому свое. Моро ошибся на свой счет. Чтобы организовывать заговоры против меня, нужно быть совсем другим человеком.
Бурьенн удивленно поднял брови. Это его движение не ускользнуло от императора, и он продолжил свою мысль:
— Смотрите, среди заговорщиков есть люди, которые мне нравятся. Среди них Жорж. Это человек иной закалки. Будь он со мной, он многого бы добился. Я мог бы достойно оценить его характер. Я пытался немекнуть ему, что, примкнув ко мне, он получил бы не только помилование, но и… Возможно, я сделал бы его своим адъютантом. Другие бы радовались, но ему на это наплевать. Жорж от этого отказался. Это железный человек. Он заслуживает своей судьбы. Если я не преподнесу ему урок, Англия начнет присылать сюда всех своих бандитов-эмигрантов. Но у меня длинные руки, я сумею их достать! Пусть они только посмеют…
* * *
23 июня по всем остальным просьбам о помиловании был дан отказ, и приговоренным объявили, что казнь состоится в течение ближайших 24 часов.
В понедельник, 25 июня 1804 года, в четыре часа утра две повозки, которые на языке заключенных назывались «салатными корзинами», приехали в Бисетр за приговоренными, чтобы отвезти их в Консьержери. Наблюдая отъезд своих товарищей, маркиз де Ривьер закричал им из окна своей камеры:
— Прощайте, друзья! Гревская площадь сегодня будет площадью чести!
В это время на Гревской площади сооружался эшафот. И пока дворяне один за другим получали решения о помиловании, простые бретонские крестьяне, собранные во дворе тюрьмы Консьержери, готовились к смерти, слушая призывы Жоржа Кадудаля, своего вождя. Им оставалось жить всего несколько часов.
— Мне казалось, что обычно казнят по субботам? — спросил одного из охранников Костер де Сен-Виктор.
Усатый охранник не проронил ни слова, и Костер де Сен-Виктор повторил свой вопрос.
— Иногда это делают и по понедельникам, — ответил, наконец, охранник.
— А казни происходят в четыре часа пополудни? — снова спросил Костер де Сен-Виктор.
— Иногда и раньше, — последовал ленивый ответ.
— Не могли бы вы пока принести мне бритву?
— Бритву? — удивился охранник.
— Да, бритву, — спокойно подтвердил свою просьбу Костер де Сен-Виктор, — но не думайте, что это для того, чтобы перерезать себе горло. Даю вам честное слово, что у меня нет и таких мыслей. Я что-то совсем зарос и просто хотел бы подравнять бороду. Уверен, что там будут знакомые мне женщины.
— Месье, — перебил его Девилль, — скоро нам всем подравняют бороды.
— Я знаю, мой друг, — весело ответил ему Костер де Сен-Виктор, — но, боюсь, они нас побреют слишком коротко.
Жорж Кадудаль в это время поинтересовался у начальника охраны:
— Будут ли помилованы мои офицеры?
Услышав отрицательный ответ и последовавшие за этим объяснения, он гордо перебил отвечавшего офицера:
— Не будем больше об этом, какой смысл.
Часы на городской Ратуше пробили половину двенадцатого. 12 приговоренных к смерти были готовы отправиться в свой последний путь. Все они были в кандалах. Их быстро погрузили на три больших повозки. Рядом с каждым находились священник и солдат охраны. Мрачный кортеж двинулся в сторону Гревской площади, где его уже давно ждала огромная толпа парижан, жаждавших посмотреть на готовящееся кровавое представление.
Жорж сидел в первой повозке вместе со своим кузеном Пьером, Мишелем Роже и Луи Пико, своим бывшим слугой. Казалось, он был совершенно спокоен. Уже на площади, обращаясь к палачам, он сказал:
— Господа, вам, надеюсь, сообщили, что я хотел бы умереть первым. Я должен показать пример другим. Продемонстрируйте потом мою голову моим товарищам, пусть они не думают, что я их переживу.
Когда палач поднял его отрубленную голову, чтобы показать ее присутствующим, все увидели, что она презрительно улыбается. Произошло это в 11 часов 55 минут.
Пьер Кадудаль взошел на залитую кровью плаху после Жоржа. Потом наступила очередь Луи Пико, затем и всех остальных, кто приехал в двух первых повозках. Вскоре восемь приговоренных уже были обезглавлены, оставались еще четверо: Девилль, Костер де Сен-Виктор, Лемерсье и Луи Дюкор, вышедшие из третьей, чуть задержавшейся в дороге повозки. Согласно инструкциям, данным палачам, Костер де Сен-Виктор должен был быть казнен последним. Не теряя самообладания при виде гибели одного за другим своих товарищей, он и в столь драматических обстоятельствах нашел место шутке:
— Господа! — обратился он к палачам. — Что-то солнце начинает припекать, покончим с этим побыстрее, прошу вас.
Потом он сделал несколько шагов к эшафоту. Его красивое лицо в последний раз повернулось в сторону Тюильри.
— Какая жалость! Такой красивый мужчина! — послышались женские вздохи.
— Да здравствует король! — закричал Костер де Сен-Виктор и сам бросился под нож, уже оставивший без головы 11 человек.
То ли по небрежности палачей, то ли каким-то чудом его голова упала не в специальную корзину, а на землю. Некоторые свидетели — им можно верить или не верить — потом утверждали, что пока она катилась, его губы продолжали шептать какие-то слова.
Казнь длилась 27 минут. После ужасных 1793 и 1794 годов никто еще не видел, чтобы за один день на эшафоте было пролито столько крови. Несмотря на охватившее парижан чувство ужаса, уже вечером все улицы и аллеи парков были полны элегантно одетыми людьми, которые только и говорили, что о мужестве, продемонстрированном Жоржем и его товарищами.
* * *
Судьба генерала Моро после казни главных заговорщиков сложилась самым замысловатым образом.
Узнав о приговоре, Фуше явился к Наполеону и заявил:
— Ваше Величество, разве вы желаете спать на штыках?
— Почему? — удивился император. — Я люблю мягкие перины.
— Тогда следовало бы учитывать силу народного мнения, — сказал Фуше. — Оно более влиятельно, нежели вы полагаете. С такими людьми, как Моро, нельзя идти наперекор нации. Если ошибка допущена, ее надо исправить. Умейте слушать ропот французов!
— Моро лично виноват передо мною, — ответил Наполеон, — а Францию и ее мнение представляю я. Только я.
— Сир, Моро тоже представитель Франции, причем далеко не последний. Он не может сидеть в тюрьме, как обычный воришка. Даже находясь в заключении, он будет очень опасен.
Наполеон вдруг побледнел оттого, что Фуше так легко проник в его тайные опасения. Он раздраженно крикнул ему:
— Так что мне делать? Ехать в Тампль, отворить камеру и сказать Моро, чтобы он возвращался на улицу Анжу?
— Его следует удалить подальше из страны.
Наполеон задумался. Потом на губах его заиграла злорадная усмешка.
— Так значит добровольная ссылка? В Соединенные Штаты. Пусть нас разделяет океан. Решено! Я сам оплачу все его дорожные расходы. Вы, Фуше, займетесь этим.
Действительно, когда генерал Моро был осужден всего на два года тюрьмы, народ встретил этот мягкий приговор с таким удовольствием, что Наполеон почувствовал себя оскорбленным. От этого человека следовало избавиться окончательно и бесповоротно. Заключение лишь прибавит ему популярности. А если он уедет, то французы очень скоро забудут о нем.
Но больше всех был оскорблен приговором сам Моро! По-человечески генерал должен был быть счастлив, что остался жив, но с политической точки зрения… Похоже, что в этот момент он даже немного завидовал Кадудалю, приговоренному к гильотине. Держаться на допросах и на суде, внутренне готовить себя к эшафоту, и вдруг узнать, что все напрасно, — это было нелегко. Но Моро воспрянул духом, когда понял, что в его оправдании не столько жалости к нему Наполеона, сколько страха перед народом, который сковал волю новоявленного императора. После этого Моро переслал своей жене записку, в которой говорилось следующее:
«Если было установлено, что я принимал участие в заговоре, меня следовало приговорить к смерти. Нет сомнения, что такой приказ был отдан, но страх помешал судьям его осуществить».
При свидании с Фуше он сказал, что оправдательным вердиктом его унизили: из великого полководца сделали жалким капралом.
— Два года тюрьмы! Это наводит на мысль, что главные персоны пошли на эшафот, а всякая мелочь вроде меня будет теперь доедать чечевицу. Но кто же во Франции поверит, что я, генерал Моро, был простым жучком, прогрызающим дырки в престоле Бонапарта? Где логика, Фуше?
— Так чего же вы хотели, Моро?
— Пулю! А мне дали остатки сладкой булочки…
Разговор Моро и Фуше был долгим, но результат его оказался точно таким, каким был нужен Наполеону. Фуше умел решать любые вопросы. Ночью 29 июля 1804 года Моро был тайно вывезен из тюрьмы Тампль. Удивительно, но факт: операцию осуществлял тот же жандармский майор Анри, который арестовывал генерала пять месяцев тому назад. Моро высказал пожелание отправиться в Барселону, а уже оттуда взять курс на Америку. Он не выражал ни малейшего сожаления по поводу оставления Франции.
Приехав на границу, Моро и Анри вышли из кареты, чтобы немного размяться. Они сели на придорожный камень, и тут майор, изображая забывчивость, воскликнул:
— Черт! Генерал, я вспомнил, что получил приказ от господина Реаля передать вам письмо, когда мы доберемся до Испании. Вот оно.
Моро удивился:
— Письмо? Что ему от меня еще надо? Вы не знаете, о чем может идти речь?
— Понятия не имею, генерал, — ответил майор Анри, — но это можно легко узнать. Читайте.
Моро сломал сургучную печать и быстро просмотрел письмо. Теперь была его очередь воскликнуть:
— Они хотят, чтобы я подписал обязательство никогда не поднимать оружия против Франции! Замечательно! Но как они могли подумать, что я способен на такое преступление? Майор, я даю вам слово, если императору (это был первый и единственный раз, когда Моро употребил это слово в отношении Наполеона. — Авт.) понадобятся мои услуги, ему достаточно будет лишь уведомить меня об этом.
— Генерал, мы все восхищаемся вами и вашим благородством, но мне был дан приказ привезти в Париж ваш письменный ответ.
— Я напишу вам его. Следуйте за мной до Барселоны, там я сделаю то, что вы от меня хотите.
Но в Барселоне решение генерала изменилось. Он заявил, что соглашается на изгнание, соглашается никогда больше не возвращаться во Францию, а значит, обязательство, которое от него требуют, теряет смысл. Майор Анри так и уехал в Париж ни с чем.
Отъезд Моро в Америку прошел почти незаметно. Наполеоновская газета «Монитор» дала лишь краткое сообщение мелким шрифтом:
«Генерал Моро отбыл сегодня утром в Соединенные Штаты».
Наполеон сам купил его имение в Гробуа и дом в Париже на улице Анжу-Сент-Онорэ. Фуше надеялся, что имение будет передано ему, но Наполеон распорядился иначе: он подарил его военному министру генералу Бертье, а дом в Париже — Дезире Клари, жене генерала Бернадотта, в которую, как говорят, Наполеон был в свое время влюблен.
Чтобы закончить с историей генерала Моро, скажем, что он жил сначала в Филадельфии, а потом приобрел усадьбу Моррисвилль на красивом берегу реки Делавэр.
Наполеон периодически интересовался судьбой генерала Моро. Однажды, уже после поражения в России, он сказал:
— Теперь он пойдет по дороге вправо. Он кончит тем, что окажется в стане наших врагов.
Эти его слова оказались пророческими.
В 1813 году Моро будет приглашен русским императором Александром, примет участие в войне на стороне антинаполеоновской коалиции и будет смертельно ранен французским ядром в сражении при Дрездене. Ему оторвало правую ногу и раздробило левую. Существует легенда, что Наполеон сам наводил орудие для этого рокового выстрела. Предсмертная записка, которую Моро отправит своей жене, будет заканчиваться следующими словами:
«Этой шельме Бонапарту опять повезло. Он и здесь оказался счастливее меня».
Генерал Моро сдержал слово: он так никогда и не вернулся во Францию. Похоронен генерал в Санкт-Петербурге в католическом храме Святой Екатерины. Все заботы о погребении взяло на себя русское военное ведомство.
* * *
Судьбы других участников заговора, избежавших казни, оказались не менее захватывающими и полными неожиданных поворотов.
Так, например, Жюль де Полиньяк, долгое время сидевший в тюрьме, сумел бежать и разыскивался полицией вплоть до 1814 года. После Реставрации он станет дипломатом, будет послом в Англии. В августе 1829 года он будет назначен министром иностранных дел, а потом станет и главой кабинета министров. Правительство его окажется крайне непопулярным. Будучи ультрароялистом, он подпишет пресловутые ордонансы об отмене свободы печати и о роспуске Палаты депутатов, приведшие к политическому кризису и Июльской революции 1830 года.
Король Карл Х (тот самый неоднократно упоминавшийся граф д'Артуа, получивший корону в 1824 году. — Авт.) даст согласие на отставку правительства де Полиньяка, но будет поздно: королю самому придется отречься от престола.
Сам Жюль де Полиньяк будет лишен всех титулов и званий и посажен в тюрьму — в ту самую тюрьму, где он находился до падения Наполеона. Его приговорят к пожизненному заключению, но помилуют в 1836 году, а еще через десять лет он умрет: старый, больной и всеми забытый.
Арман де Полиньяк после Реставрации станет пэром Франции. Он проживет долгую жизнь и умрет в том же году, что и его младший брат, в возрасте 76 лет.
Шарль-Франсуа де Риффардо, маркиз де Ривьер, четыре года просидит в одиночной камере форта Жу, а потом будет депортирован из Франции. После Реставрации он вернется на родину, будет назначен капитаном лейб-гвардии графа д'Артуа, потом послом в Константинополе, потом губернатором Бордо. Выйдя в отставку, он станет воспитателем юного герцога Бордоского, внука ставшего к тому времени королем Карла Х. Он умрет в июле 1828 года в возрасте 64 лет.
Генерал Фредерик Ляжоле также будет заточен в темницу форта Жу, а потом переведен на печально известный остров Иф. Там он странным образом умрет 28 сентября 1808 года, накануне того дня, когда его должны были освободить.
Шарль д'Озье станет шталмейстером графа д'Артуа, Рошелль де Бреси — подполковником королевской гвардии.
Рюзийон в 1805 году будет выпущен на свободу и уедет к себе в Швейцарию?
Арман Гайяр женится и получит хорошую должность при королевском дворе.
Атанас Буве де Лозье будет освобожден и в 1814 году отправлен на остров Бурбон (ныне Реюньон) в Индийском океане, где станет генерал-губернатором этой французской колонии. В период Ста дней он организует оборону острова и не сдастся англичанам. В 1817 году его отзовут во Францию. Как воспоминание о прекрасном острове ему останется жена — молодая креолка удивительной красоты.
Семья Жоржа Кадудаля после Реставрации будет дарована дворянством, а его брат, Жозеф Кадудаль, в 1815 году станет полковником.
Известный канадский почитатель Наполеона Бен Вейдер по этому поводу констатирует:
«Людовик XVIII открыто наградил отца Жоржа Кадудаля за единственное отличие — его сын погиб, выполняя миссию, заключавшуюся в попытке убить всенародно избранного главу государства. Таким образом, король признал, что приказ об убийстве исходил от него или от его брата графа д'Артуа».
Что касается Пишегрю, то ему будет воздвигнута величественная бронзовая статуя. Она стоит сейчас в Лувре.
Завершая рассказ о событиях 1803–1804 годов, приведем цитату из книги «Жизнь Наполеона» Стендаля:
«Раскрытие этого заговора дало Наполеону возможность осуществить последний величайший из его честолюбивых замыслов: он был провозглашен французским императором, и его власть была объявлена наследственной. "Этот хитрец, — сказал о нем один из его посланников, — из всего умеет извлечь выгоду". Таков был, как мне кажется, подлинный ход этих великих событий».
С этим мнением невозможно не согласиться.
* * *
Весь 1803 год и половину 1804 года, до предела заполненные событиями, Жозеф Фуше провел в относительном бездействии. За это время Франция стала империей, а Наполеон — императором французов; был расстрелян во рву Венсеннского замка «заговорщик» герцог Энгиенский; осужден и изгнан из страны соперник Наполеона по воинской славе генерал Моро. Европейские монархи трепетали: с мая 1803 года вновь началась война с Англией.
Во всем этом Фуше не принимал непосредственного участия. Его серая тень возникала, правда, то тут, то там. Будучи сенатором, он посещал обязательные торжества в Париже и «навещал» императора как «добрый советчик», озабоченный благополучием «хозяина». Узнав, что Наполеон велел расстрелять герцога Энгиенского, он произнес свою ставшую знаменитой фразу: «Это больше, чем преступление, это — ошибка!»
В процессе генерала Моро Фуше, по его словам, сыграл роль двойного благодетеля: во-первых, он уговорил Моро согласиться на изгнание и тем самым избавил императора от дальнейших хлопот по его делу; во-вторых, благодаря его заступничеству, Наполеон заменил смертный приговор Моро «простым изгнанием».
Возможно, роль Фуше во всем этом заговоре была и гораздо большей. Во всяком случае, хорошо информированный личный секретарь Наполеона Бурьенн в своих «Мемуарах.» написал:
«Невозможно убедить сколько-нибудь разумного человека, что заговор Моро, Жоржа, Пишегрю и других осужденных имел место без молчаливого покровительства полиции Фуше».
Не менее информированный Савари в своих «Мемуарах…» пошел еще дальше:
«Фуше, который больше не был министром, направлял к Моро своих людей, он следил за его настроениями, чтобы воспользоваться им при необходимости. Но я думаю, что не он был автором проекта сближения между вандейцами и Моро, так как характер последнего не давал ему никакой гарантии в случае их успеха. Но, я думаю, что он вполне мог предусматривать реанимацию республики и свержение первого консула; в ту эпоху ничто не было невозможным. Возможно также, что Фуше имел целью породить опасные обстоятельства, чтобы спровоцировать необходимость восстановления его министерства, которое он рассматривал, как свое собственное достояние».
Очень интересно посмотреть, что писал обо всем этом сам Фуше. В своих тысячестраничных «Мемуарах…» он посвятил описанным выше событиям всего несколько строк: он отметил, что, когда Реаль доложил Наполеону об откровениях Кереля, тот сначала ему не поверил.
«Он посоветовался со мной, я сказал, что это заговор, в него нужно проникнуть и проследить за ним. Я тогда мог восстановить министерство полиции и взять бразды правления в свои руки».
Очень многозначительное заявление, открывающее нам мотивы Фуше.
Потом он рассказал о том, что Моро в глазах всех выглядел жертвой ревности и амбиций Наполеона; что все его усилия приговорить генерала к смерти завершились ничем; что в армии все сочувствовали Моро, а Наполеон даже в страхе прятался во дворце Сен-Клу. Фуше рассказывает:
«Я повстречался с Моро и показал ему перспективу опасности двухлетнего заключения, то есть нахождения на милости у его врага. Действительно, существовала опасность для обоих: Моро могли убить или освободить. Он последовал моим советам и отправился в Соединенные Штаты. На следующий день я был принят и отблагодарен в Сен- Клу».
Вот так. Не больше и не меньше.
В 1802 году Наполеон решил ограничить влияние Фуше и нашел ему замену. Но за два последующих после этого года заметно расцвела преступность, начались политические волнения и проявились просчеты правительства с тяжелыми последствиями во внешней и внутренней политике. Когда же Наполеон спросил своих советников, кого они могут предложить на министерский пост, воцарилось молчание. А потом министр иностранных дел Талейран ответил: «Я не знаю лучшего преемника для Фуше, чем сам Фуше».
Фуше в своих «Мемуарах…» пишет:
«В стране отсутствовал властный центр, генеральная полиция, которая соединяла в себе настоящее и прошлое и гарантировала безопасность государства. Наполеон сам осознавал этот недостаток, и 10 июля 1804 года я вновь был по высочайшему распоряжению назначен начальником полиции. При этом мне были предоставлены широкие полномочия, поскольку без меня произошло бессмысленное смешение полномочий полиции и органов юстиции. За два дня до этого назначения я был приглашен на секретное совещание кабинета Наполеона в Сен-Клу. Там я сформулировал свои условия и изложил императору причины, обусловившие реорганизацию структуры моего министерства».
18 июля 1804 года французам было объявлено:
«Сенатор Фуше назначается министром полиции. Министерство полиции восстанавливается».
Министерство полиции «укрепили», дав Фуше в помощники четырех советников (в том числе Реаля и Дюбуа), одной из главных функций которых, несомненно, была слежка за собственным шефом.
Во время второго министерства Фуше оставил без изменения систему, созданную им ранее. На помощников-соглядатаев он возложил нудную, рутинную, совершенно не представлявшую для него интереса работу по министерству. Все четверо являлись к нему с докладами один раз в неделю и выслушивали его мнение. Сам же он, как и прежде, взял в свои руки «высшую полицию».
Глава четвертая. Кухонный нож Фридриха Штапса
Этот несчастный не выходит у меня из головы. Все-таки это выше моего разумения.
С установлением империи попытки покушений на Наполеона не прекратились. Несмотря на неудачи, английская разведка продолжала работу в этом направлении. Так, например, в 1805 году были арестованы два ее новых агента — братья Даниэль и Шарль Тома, которые по заданию английского консула в Касселе, готовили очередное покушение на императора.
В 1806 году аналогичное поручение было дано британской разведкой еще двум французам-авантюристам — Лесэмплю и Дранобу. Французская полиция в Гамбурге выследила Драноба, который поспешил после ареста выдать Лесэмпля. Этот самый Драноб разругался со своим сообщником еще до того, как они покинули Англию, и теперь был рад рассчитаться с ним руками французских полицейских. Оба они были схвачены и посажены во французскую тюрьму.
В январе 1809 года в Париже были расстреляны без суда и следствия два человека: Раймон де Гранмон, бывший эмигрант, 38 лет, и швейцарец Кудрие 24 лет. Они тоже готовили покушение на Наполеона, но были вовремя схвачены агентами полиции.
Всего по аналогичным причинам было арестовано множество людей. Тюрьмы империи были переполнены. Они делились на пять категорий. Самыми главными были государственные тюрьмы: Тампль, Венсенн, Ля Форс и некоторые другие. Там содержались важные государственные преступники, ожидавшие суда или приведения в исполнение смертного приговора. Кроме того, имелись специальные тюрьмы для священников. Были также тюрьмы для тех, кому смертная казнь была заменена длительным заключением. Тюрьмы местного значения имелись практически во всех городах и крепостях. Самым низшим звеном были тюрьмы для простых бродяг и воров.
По оценке Анри Форнерона, число государственных заключенных в период с установления режима Консульства и до 1811 года постоянно составляло от полутора до двух тысяч человек. После 1811 года это число заметно увеличилось, превысив две с половиной тысячи человек.
* * *
Среди покушавшихся на жизнь Наполеона были не только французы. В их числе было немало и жителей покоренных ненасытным в своих завоеваниях императором стран, в частности немцев.
Ненавидевшая Наполеона мадам де Сталь объясняет это так:
«Разве даровал он иностранным нациям больше свободы? Ни один европейский государь не позволил бы себе в течение года совершить столько наглых беззаконий, сколько Бонапарт совершал ежедневно. Он вынуждал европейские народы променять их покой и свободу, их язык, законы и состояние, их кровь и их детей на несчастья и стыд, на утрату национальной независимости и всеобщее презрение».
Когда те же немецкие правители поняли свою неспособность противостоять Наполеону обычными средствами, т. е. выставляя свои армии против его армий, они обратились к своим народам. Как это всегда бывает, когда угрожают коронам, речь пошла о свободе и равенстве. В манифесте, ходившем по всей Германии в начале 1809 года, говорилось:
«Саксонцы! Немцы! С этого момента наши генеалогические деревья не имеют никакого значения. Возрождение Германии может произойти только благодаря новым людям. Сейчас нет других достоинств, кроме таланта и рвения, с которыми защищают свою родину! Свобода или смерть!»
Эти слова оказали огромное влияние на немцев. Наполеон для всех стал врагом не только их родины, но и свободы вообще. Молодежь, охваченная патриотическими чувствами, загорелась идеей возмездия. Фридрих Штапс, о котором пойдет речь в этой главе, юноша наивный и впечатлительный, стал одним из представителей этой волны политической экзальтации.
* * *
С первых дней октября 1809 года Наполеон находился в Шёнбрунне, близ Вены, где он вел переговоры с австрийцами. Как-то раз он вдруг заговорил со своими приближенными о своей безопасности.
— Я читал секретные донесения и точно знаю, — сказал Наполеон, — что принц Лихтенштейн, австрийский посол, говорил министру иностранных дел Шампаньи, что в Германии немало горячих голов, настроенных убить меня, но главы государств якобы отказываются даже обсуждать предложения на эту тему. Хитрецы, они специально говорят такое, чтобы сделать нас более сговорчивыми при подписании договора. У них ничего не выйдет! И кстати, хотелось бы посмотреть, что это за человек, который отважится нанести мне удар?
— Послушайте, Сир, — ответил ему генерал Савари, — таковые, может быть, и найдутся, но Вашему Величеству всегда удавалось избежать смерти в многочисленных сражениях. А вот этот человек должен понимать, что ему живым не уйти.
— Конечно, никто не хочет умирать, — согласился Наполеон.
— Да, Сир, но тому, кто решится на такое, неизбежно придется погибнуть, и он об этом не может не знать.
Потом речь зашла о возможной попытке отравления. Гофмаршал двора Дюрок высказал такую мысль, что это мог бы быть единственный способ, который оставлял бы преступнику хоть какую-то возможность избежать сурового наказания. Савари согласился с ним, но Наполеон лишь нервно повел плечами.
— А знаете ли вы, — заявил он, — что химик Бертоле объяснил мне, что яды не действуют через внешние органы? При малейшем подозрительном привкусе, например, напитка, достаточно мгновенно выплюнуть его, и ничего не случится.
На этом разговор и закончился.
* * *
12 октября 1809 года Наполеон проводил на площади перед своим дворцом в Шёнбрунне смотр гвардии. На подобные смотры обычно приезжало и приходило много публики. Особенно в праздничные дни. Всем хотелось посмотреть на Наполеона, личность которого возбуждала повсюду самое ненасытное любопытство. Какое событие! Будет, о чем вспомнить и рассказать внукам!
С раннего утра в Шёнбрунне собирались люди. Ими были заняты все дворцовые аллеи, а некоторые даже пытались взобраться на деревья, чтобы лучше увидеть происходящее на площади.
Наполеон охотно допускал публику на смотры, и вообще столица Австрии нравилась ему своей полной покорностью.
— Вот он, вот он! — неслось по восхищенной толпе. — Смотрите, это Наполеон!
Великаны-гвардейцы мерным шагом медленно двигались по площади. Наполеон принимал парад сидя на белой лошади. Он был в своем неизменном сером сюртуке, из-под которого виднелся его любимый полковничий мундир и белый жилет.
Смотр уже подходил к концу, когда какой-то хорошо одетый молодой человек, почти мальчик, с очень белым и нежным, как у девушки, лицом, вдруг начал пробираться между лошадьми императорской свиты к лошади, на которой сидел Наполеон.
Маршал Бертье первым заметил это движение и своим могучим конем преградил путь неизвестному.
— Куда это вы направляетесь? — сурово спросил он.
— Я хочу поговорить с императором.
— Месье, так с императором не разговаривают. Сейчас же отойдите в сторону!
Бертье сделал знак часовым, сдерживавшим напор зрителей, чтобы те побыстрее убрали этого мальчишку, возомнившего о себе бог знает что. Но через некоторое время этот же человек вновь попытался приблизиться к тому месту, где находился император. На этот раз его заметил дежурный адъютант императора генерал Рапп, который лично бросился к нему и довольно грубо оттолкнул.
— Если вы хотите о чем-то попросить, вас выслушают после парада, — сказал Рапп.
О дальнейшем Рапп в своих «Мемуарах…» рассказывает:
«Его правая рука находилась в нагрудном кармане пальто; казалось, что он держит там какое-то прошение. Но взгляд его был какой-то странный. А его решительный вид вызывал у меня подозрения, и я позвал офицера жандармерии, находившегося поблизости».
Жандармы начали теснить молодого человека, обхватив его за руки и за плечи. Эти ребята умели делать свое дело настойчиво, и не привлекая к себе внимания. Но тут один из них с удивлением нащупал за поясом у нарушителя порядка огромный неловко завернутый в серую бумагу кухонный нож.
Это был юноша, почти ребенок. По одежде и манере держаться было видно, что он из хорошей семьи. Наверняка какой-нибудь студент.
Генерал Рапп спросил задержанного, как его зовут. Тот гордо вскинул голову, сложил руки на груди и ответил:
— Я скажу это только Наполеону.
— Для чего вам был нужен нож? — продолжил задавать вопросы Рапп.
— И это я скажу только Наполеону.
— Ах, вот как! Только Наполеону?
Генерал Рапп сплюнул и раздраженно сказал:
— Вы хотели воспользоваться ножом, чтобы покуситься на жизнь императора! Это же очевидно!
— Да, месье, — ответил юноша.
Лицо его было бледным, а взгляд устремлен куда-то вдаль. У генерала Раппа от возмущения даже выступили на лбу капли пота.
— Да, месье! — воскликнул он. — И это все, что вы можете мне ответить? Но почему? Хотелось бы знать, почему вы хотели сделать это?
— Это я скажу только ему самому.
* * *
Провоевавшему ровно половину из своих 38 лет генералу Раппу захотелось врезать этому нахалу по физиономии, но он сдержался и слово в слово передал все императору. Тот внимательно выслушал его и сказал:
— Да, я заметил, что что-то произошло. Пусть его приведут ко мне после смотра. Я хочу сам задать ему несколько вопросов.
Когда смотр завершился и последняя рота гвардейцев скрылась в арке, ведущей с площади на внутренний двор, Наполеон приказал нескольким генералам проследовать вместе с ним во дворец. Там он увидел своего министра иностранных дел Шампаньи и холодно спросил его:
— Вы, конечно же, как всегда, совершенно не в курсе? Так вот, принц Лихтенштейн был прав, когда говорил вам о предложениях убить меня.
— Что вы этим хотите сказать, Ваше Величество? — удивился министр.
— Да-да, убить меня, повторил Наполеон, — и это только что пытались сделать. Следуйте за мной, и вы все увидите сами.
Через минуту привели задержанного. Два жандарма крепко держали его за руки. Внешне тот выглядел совершенно спокойным. Присутствие императора, казалось, не производило на него ни малейшего впечатления.
Император спросил, говорит ли молодой человек по-французски.
— Очень немного, — ответил тот.
— Как вас зовут?
— Меня зовут Фридрих Штапс. Я — саксонец.
— Откуда вы родом?
— Из Наумбурга.
— Кто ваш отец?
— Протестантский священник.
— Сколько вам лет?
— Восемнадцать.
— Для чего вам был нужен найденный у вас кухонный нож?
— Чтобы убить вас.
— А вы, случайно, не сумасшедший? — засмеялся Наполеон, но смех его был каким-то нервным. — Нет, вы — иллюминат[12], молодой человек! Вы жалкий сектант, излишне возомнивший о себе!
Словно ища поддержки, Наполеон повернулся к своим генералам и воскликнул:
— Посмотрите, вот они — плоды иллюминатства, которым заражена буквально вся Германия! И с этим ничего не поделаешь: пушками секты не истребишь.
— Я не сумасшедший, — гордо ответил Фридрих Штапс. — И я не знаю, кто такие иллюминаты.
— Тогда вы просто больной, другого объяснения я не вижу.
— Я не болен, я чувствую себя хорошо.
— За что же вы хотели меня убить? — спросил Наполеон, и голос его снова стал суровым.
— За то, что вы делаете зло моему отечеству, а я желаю ему мира.
— Но и я хочу мира для Германии, — возразил Наполеон. — Я воюю против Австрии, но австрийцы что-то совершают попыток убить меня.
Молодой человек ничего на это не ответил.
— Не я начал эту войну, — продолжал Наполеон. — Почему же вы не хотели убить того, кто ее начал? Это было бы справедливее?
— Не вы, но вы сильнее всех остальных вместе взятых. Легче убить одного. Я знаю одно: смерть одного злодея может дать мир всей Европе, и этот злодей — вы.
— Очень интересно! И какое же зло я, например, сделал лично вам?
— Не мне, а всем немцам. Я считаю, что пока вы живы, моя родина и весь мир не будут знать ни свободы, ни покоя.
— И кто же это вбил вам в голову подобную чушь?
— Никто. Я просто уверен, что, убив вас, я окажу огромную услугу моей стране и всей Европе.
— Наверное, этому вас учат в ваших университетах?
— Нет.
— А, я понял! Вы, наверное, хотели быть похожим на Брута?
Фридрих Штапс ничего не ответил. Как потом говорил Наполеон, он, похоже, не очень хорошо знал, кто такой был Брут.
— Вы видите меня в первый раз?
— Нет, я видел вас во время вашей встречи с русским императором в Эрфурте.
— И там у вас не возникало мысли убить меня?
— Нет. Тогда я думал, что вы прекратите войну в Германии. Я верил в вас, я даже был вашим самым искренним поклонником.
— И сколько времени вы уже находитесь здесь, в Австрии?
— Десять дней.
— Почему же вы так долго ждали и не пытались осуществить ваш безумный план?
— Я приехал в Шёнбрунн восемь дней назад, но я никак не мог найти возможности приблизиться к вам.
— Нет, дорогой юноша, — покачал головой Наполеон, — вы определенно больной.
Потом император вновь повернулся к своим генералам и резко приказал:
— А ну-ка, позвать сюда Корвизара!
— Кто такой Корвизар? — не понял задержанный.
— Это мой личный доктор.
— Но я не болен! Я не нуждаюсь в его услугах! — закричал Штапс, безуспешно пытаясь вырваться из рук жандармов.
Прибежал доктор Корвизар, лейб-медик императора.
— Посмотрите, доктор, — попросил его Наполеон, — что с этим несчастным: он, должно быть, сошел с ума?
— Месье, — закричал Штапс, обращаясь к Корвизару, — подтвердите им всем, что я не болен!
Корвизар был человеком обстоятельным, но долгого осмотра ему не потребовалось. Он пощупал Штапсу пульс, приложил руку ко лбу. Повернувшись к императору, он вскоре подтвердил, что юноша совершенно здоров и чувствует себя хорошо, разве что… излишне перевозбужден.
— Я же говорил, я же говорил… — обрадовался Штапс. — Проще всего свалить все на чье-то безумие, вместо того чтобы посмотреть правде в глаза.
После этого Наполеон, сложив руки на груди, продолжил допрос.
— Вы и впрямь очень возбуждены. Ваша семья вряд ли будет рада, узнав о вашей глупой выходке. Но так и быть, я вас помилую, если вы попросите у меня прощение, — сказал он.
— Я не нуждаюсь в вашем прощении! Более того, я очень жалею, что мне не удалось осуществить свой план, — воскликнул Штапс.
— Черт побери! Кажется, для вас преступление ничего не значит?
— Убить вас — это не преступление, — возразил Штапс, — это мой святой долг, и я.
— Молодой человек! — не дал ему закончить Наполеон. — Вы знаете, как бог относится к преступлениям!
— Пусть это будет необходимая жертва.
Понимая, что юноша находится на грани истерики и вот-вот разрыдается, Наполеон решил сменить тему и спросил:
— Что это за портрет, что нашли при вас?
— Это одна молодая особа, которую я люблю и которая любит меня.
— Она что, тоже замешана в вашей авантюре!
— Она будет очень огорчена, когда узнает о моей неудаче. Она ненавидит вас так же, как и я. Как и все честные немцы.
— Ну а если я вас все-таки помилую, — вновь вернулся к своему Наполеон, — будете ли вы опять предпринимать попытки убить меня?
Штапс долго молчал, прежде чем ответить:
— Буду, Ваше Величество.
По свидетельствам очевидцев этого разговора, Наполеон остолбенел. Поняв, что дальнейшие расспросы ни к чему не приведут, он приказал генералу Савари увести задержанного.
— Пусть свершится правосудие, — приказал он.
Когда жандармы увели Штапса, Наполеон еще долгое время находился в глубокой задумчивости. Потом он взял министра Шампаньи за локоть и тихо сказал:
— Господин герцог, нужно заключать мир с этими дикими животными, вы слышите меня? Срочно возвращайтесь в Вену, я рассчитываю на вас.
* * *
Военно-полевой суд собрался в тот же вечер. Расследование, проведенное полицией, показало следующее. Фридрих Штапс выехал из Эрфурта 12 сентября в открытой повозке, одолженной у друга его отца. При этом он никому ничего не сказал. Нашли лишь его записку, в которой было сказано, что он отправляется записываться в немецкую армию. Записка эта заканчивалась следующими словами:
«Меня найдут либо среди победителей, либо мертвым на поле боя».
Недалеко от Эрфурта он продал лошадь и повозку, что позволило ему получить деньги, достаточные, чтобы добраться до Вены и поселиться в одном из пригородов. Потом он купил кухонный нож и стал ходить на военные парады в Шёнбрунн, поджидая удобного случая, чтобы осуществить свой замысел.
Следствие длилось четыре дня. Когда председатель военно-полевого суда спросил у Штапса, знает ли тот, что его ждет, юноша ответил:
— Я знаю, что мне предстоит перенести муки. Я с самого начала был готов к этому. Но смерть положит им конец и даст мне перед лицом бога достойное вознаграждение за мои страдания.
В ответ председатель военно-полевого суда заявил ему, что пытки уголовников не предусмотрены законом и не в традициях французского судопроизводства. Потом он сурово посмотрел на подсудимого и сказал:
— А вот насчет смерти вы правы, завтра вы будете расстреляны.
Историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо констатируют:
«Наполеон велел расстрелять его втихомолку, желая сохранить втайне покушение, обнаруживавшее ненависть немцев к нему. Префекту полиции велено было распространить слух, что Штапс был сумасшедшим».
В ночь перед казнью Штапс написал отцу:
«Этой ночью ко мне явился Бог — он был похож на солнце. Его голос сказал мне: "Иди вперед, ты преуспеешь в своем замысле, но ты погибнешь". Я чувствую, что меня поддерживают непобедимые силы».
Далее он писал о вознаграждении, которое ждет его на небе.
В понедельник, 16 октября, в день, когда он должен был быть расстрелян, в армии объявили о заключении мира между Францией и Австрией. В полдень, услышав артиллерийский салют в честь этого события, Штапс озабоченно спросил, что происходит.
— Это салют в честь мира, подписанного императором Наполеоном, — ответили ему стражники.
— О, мой бог, — воскликнул Штапс, поднимая руки к небу, — как же я тебе благодарен! Мир наконец-то заключен, я же так и не стал убийцей!
В два часа дня его повели к месту казни, а в четыре часа его уже не было в живых.
Юный Фридрих Штапс принял смерть как герой. Когда его поставили перед шеренгой солдат, он воскликнул:
— Да здравствует свобода! Да здравствует Германия! Смерть тирану!
* * *
В тот же день, 16 октября, Наполеон покинул Шёнбрунн и отправился в Баварию, где его ждал для переговоров местный правитель. Погода была великолепная. Любуясь чудесным пейзажем, Наполеон вдруг услышал выстрелы. Он удивленно посмотрел на генерала Савари и спросил его, что это может означать.
Савари осведомился у своих адъютантов, и те предположили, что, должно быть, это казнили того мальчишку, который пытался убить императора во время смотра.
— Ах! — сказал Наполеон. — Вот она — несчастная жертва этих тайных обществ, которыми наводнена Германия! Когда-нибудь надо будет истребить их всех!
Потом Наполеон долго не мог забыть Штапса.
— Этот несчастный не выходит у меня из головы, — говорил он. — Когда я о нем думаю, мысли мои теряются. Все-таки это выше моего разумения!
Писатель Д.С. Мережковский по этому поводу замечает:
«Может быть, на допросе Штапса Наполеон понял, что воюет уже не с царями, а с народами».
Французский историк Андре Кастело придерживается иного мнения. Называя Штапса убийцей, он иронично заключает это слово в кавычки:
«Император приказал расстрелять своего "убийцу". Но, как ни странно, он так ничего и не понял. Он не понял, что стал деспотом Европы и лишь констатировал факт: он и его громадная империя зависят от кинжала какого-то психа!»
Генерал Савари в своих «Мемуарах…» назвал Штапса фанатиком, но тоже отметил, что судьба казавшейся всем незыблемой империи Наполеона на самом деле зависела от какой-то случайности:
«Эта странная авантюра заставила меня задуматься: все увидели, какой малости не хватило, чтобы она завершилась успехом, и я стал опасаться, что пример этого юного фанатика найдет последователей. Но так как все рано или поздно забывается, постепенно забылось и это дело».
* * *
Министр полиции Фуше в это время не прекращал своей активной деятельности во Франции. Его биограф Стефан Цвейг пишет:
«Фуше был единственным, кто в весьма критический момент, среди всеобщего смятения, действовал своевременно и разумно ради спасения отечества. И Наполеон не может отказать ему в почести, которую он оказал уже столь многим. Теперь, когда на французской почве, обильно удобренной кровью, выросло новое дворянство, когда получили титулы все генералы, министры и приближенные, настала очередь и для Фуше, старого врага аристократии, вступить в ее ряды».
Сначала он получил графский титул, и вот теперь, осенью 1809 года, Наполеон даровал ему титул герцога Отрантского.
Интрига была так же необходима Фуше, как пища: он интриговал всегда, везде, всеми способами и со всеми.
У меня никогда не было сомнений в том, что Талейран не поколебался бы приказать повесить Фуше; но, кто знает, может быть, они пожелали бы идти на виселицу вместе.
Для находившихся рядом с человеком, подобным Наполеону, выбор был невелик: либо стушеваться и дать его величию полностью затмить себя как личность, либо попытаться последовать его примеру и напрячь все силы ради возвышения. В первом случае человек неизбежно становился рабом императора, во втором — его соперником. Выдающаяся личность, вроде Наполеона, не терпит половинчатости.
Жозеф Фуше явно не относился к людям первой категории. Напротив, это был человек умный, волевой и ненасытный. Подобно Наполеону, он постоянно стремится расширить границы своей власти и не был способен к мирному и уютному самодовольству.
Наполеон, ведя бесконечные войны, подолгу отсутствовал. Историки подсчитали: с начала Аустерлицкой кампании 1805 года и до возвращения в Париж после сражения при Ваграме в 1809 году он пробыл за пределами Франции 750 дней. В это время Фуше, постоянно находившийся в Париже, мог распоряжаться по собственному усмотрению, принимать смелые решения, властвовать. По сути, он оставался единственным человеком, ответственным за безопасность страны.
Сам Фуше в своих «Мемуарах…» писал:
«Никогда я не обладал такой властью и такой большой ответственностью в связи с важностью исполняемых мною функций. Я в некотором роде представлял собой премьер-министра».
Историк Жан Саван идет еще дальше и утверждает:
«Фуше в действительности управлял страной. С ним советовались остальные министры. Фуше был настоящим вице-императором».
На самом деле, Наполеон поручил Фуше временно исполнять функции министра внутренних дел. Будучи министром полиции, он с упоением следил за недовольными, составлял из шпионских донесений ежедневные бюллетени.
Историк Е.Б. Черняк по этому поводу констатирует:
«Фуше превратился в силу. Перед ним, посвященным во все закулисные стороны жизни великих мира сего и их слабости, испытывали больший страх, чем перед самим императором».
Его интересовало буквально все. Но, помимо этого, он еще вел набор в национальную гвардию, боролся с вражескими десантами, рассылал приказы в департаменты, возбуждал во французах патриотизм.
В самом деле, в стране было неспокойно: вновь заволновалась Вандея, начались проблемы в соседней Бельгии, оппозиционеры подняли голову в самом Париже. Война в Германии затягивалась, и англичане подготовили и в конце июля 1809 года осуществили десантную операцию, захватив остров Вальхерн, расположенный близ берегов голландской провинции Зеландия.
Фуше в своих «Мемуарах…» без ложной скромности написал:
«Наделенный на время отсутствия императора большей частью его полномочий, я пробудил энергию в Совете, душой которого я был, и заставил принять ряд серьезных мер. Нельзя было терять время: Бельгию следовало спасти. Войск, которыми мы располагали, было недостаточно, чтобы обезопасить эту важную часть империи. Я распорядился, но без согласия императора, чтобы в Париже и в нескольких северных департаментах был декретирован немедленный и чрезвычайный набор в национальную гвардию. По этому поводу я направил циркуляр, в котором была следующая фраза: "Докажем Европе, что, если гений Наполеона может придать блеск Франции, его присутствие необязательно для того, чтобы отразить врага"».
Набор волонтеров в департаментах прошел успешно и дал почти 40 000 человек, необходимых для отражения вражеской угрозы. Фуше не только обеспечил призыв достаточного числа национальных гвардейцев, но и назначил главнокомандующим войск, действовавших на севере империи, маршала Бернадотта.
Принимая такое решение, Фуше «играл с огнем», так как император уже давно не доверял Бернадотту. Архиканцлер Камбасерес настаивал на том, чтобы связаться с Наполеоном и дождаться от него ответа, но Фуше не стал этого делать. В результате принятых им решительных мер Вальхернская экспедиция англичан провалилась. И основная заслуга в этом, без сомнения, принадлежала министру полиции.
Узнав об этом, Наполеон сначала одобрил действия Фуше. Но это была лишь его первая реакция, ведь чья-либо инициатива была немыслима в государстве, где все уже давно замыкалось на одном человеке.
Фуше же все больше и больше входил во вкус большой политики.
Как-то раз Наполеон, оставшись наедине с министром, в упор спросил его:
— Что бы вы сделали, если бы я погиб от пушечного ядра или вследствие какого-либо подобного происшествия?
— Сир, — ответил Фуше, — я бы захватил в свои руки всю власть, которую бы только смог, чтобы контролировать события, а не подчиняться им.
Наполеон несколько секунд пристально смотрел на Фуше, а потом кивнул:
— Что ж, в добрый час. Таковы правила игры.
Успехи буквально окрылили Фуше. Большая политика! Как это обычно и бывает, человек, однажды подержавшийся за ее руль, уже не может больше довольствоваться какими-то мелочами и жалким бумагомаранием. Кто вел большую игру, тот уже никогда не сможет удовлетвориться какими-нибудь пустяками.
У биографа Фуше Стефана Цвейга читаем:
«Нервно, лихорадочно, ревниво озирается честолюбие Фуше в поисках достойной задачи, и, действительно, в здании мирового господства недостает еще одного, самого верхнего зубца — мира с Англией. И этот последний европейский подвиг хочет совершить Жозеф Фуше, один, без Наполеона».
* * *
Англия традиционно была самым опаснейшим противником Франции. Вот и сейчас повсюду, от Лиссабона и до Каира, воля Наполеона наталкивалась на спокойную, обдуманную, методическую силу англосаксов, и пока Наполеон завоевывал всю европейскую сушу, британцы захватили другую половину мира — моря и океаны.
Много лет Англия и Франция уничтожали друг друга. Обе стороны потеряли в этой бессмысленной борьбе массу сил и, конечно же, устали. Но никто не желал сознаться в этом. Начинавшиеся было переговоры срывались, страсть в очередной раз брала верх над разумом, и война все тянулась и тянулась.
Решил принять в этом участие и Фуше. Наполеон приказал прекратить переговоры? И что с того? Фуше сам знал, что делать. Почему бы ни продолжать вести переговоры? Тянуть, торговаться, обещать, обманывать — это была его стихия. В этом он был как рыба в воде. И Фуше составил дерзкий план.
Стефан Цвейг пишет:
«Он решил на свой страх и риск продолжать переговоры, впрочем, делая вид, что исполняет поручение императора, оставляя как своих агентов, так и английское министерство в полной уверенности, что через их посредство о мире хлопочет император, тогда как в действительности пружину приводит в действие один лишь герцог Отрантский. Это — отчаянная затея, дерзкое злоупотребление именем императора и собственным положением, беспримерная в истории наглость. Но подобные тайны, такая двусмысленная и запутанная игра, ведя которую он разыгрывает не одного, а одновременно троих или четверых, — исконная страсть прирожденного, неисправимого интригана Фуше. Подобно школьнику, высовывающему язык за спиной учителя, он проказничает за спиной императора так же, как отчаянный мальчишка, рискуя получить нагоняй».
Это уже было вторжением в сферу внешней политики. Фуше явно брался не за свое дело, но это его в тот момент мало заботило. Много раз прежде забавлялся он подобными политическими играми, но никогда еще не позволял себе столь дерзкого, своевольного и опасного поступка, как переговоры, которые он начал вести с британским Министерством иностранных дел о мире между Францией и Англией. Трудно даже поверить: он пошел против воли императора, но под прикрытием его имени!
Понятно, Фуше надеялся, что его затея удастся, а когда все благополучно завершится, он сообщит о результатах Наполеону, и тот не только простит его, но и будет ему благодарен. Непростительная наивность для такого умного и хитрого человека, как герцог Отрантский…
Затея эта была гениально подготовлена. Для ее осуществления он привлек банкира Габриэля Уврара, финансового воротилу, который уже несколько раз едва не оказался в тюрьме за свои «художества». По меткому определению историка Луи Мадлена, «это был Бонапарт финансов», гений спекуляций и биржевых афер.
Габриэль Уврар был сыном бумажного фабриканта. Когда во время Французской революции потребность в бумаге сильно возросла, Уврар ловко воспользовался этим и составил себе огромное состояние. С 1797 года он был поставщиком флота и мог свободно предлагать государству огромные суммы взаймы, но после 18 брюмера он отказал правительству в ссудах, чем навлек на себя гнев Наполеона.
Наполеон презирал эту темную личность за скверную репутацию, но это мало трогало Фуше, тесно сотрудничавшего с Увраром по материальным вопросам. В этом человеке Фуше был уверен, ибо неоднократно вытаскивал его из беды и поэтому крепко держал в своих руках.
В помощь Уврару Фуше выделил своего агента Франсуа Фагана. Потом он послал Уврара в Голландию к влиятельному банкиру Пьеру де Лябушеру, который обратился к своему тестю банкиру Берингу, жившему в Лондоне, а тот уже свел Уврара с представителями британского кабинета министров.
Уврар, разумеется, полагал, что Фуше действует по поручению императора и официально передает предложения Франции. Это показалось англичанам достаточным основанием для того, чтобы серьезно отнестись к переговорам. Но на самом деле, Англия, полагая, что ведет переговоры с Наполеоном, переговаривалась лишь с Фуше, который, разумеется, тщательно скрывал происходящее от императора. Он хотел дать делу созреть, чтобы потом внезапно предстать перед императором и французским народом и гордо заявить: «Вот мир с Англией! То, к чему вы стремились, что не удалось ни одному из ваших дипломатов, сделал я, герцог Отрантский». Знал ли об этом Наполеон? На этот вопрос отвечает Е.Б. Черняк:
«У Наполеона имелась не только полиция Фуше, но и другая полиция, шпионившая за Фуше, а также полиция главного директора почт, которая должна была наблюдать за полицией, следившей за хитроумным герцогом Отрантским. Были у императора еще и другие полиции… Но ведь и сам Фуше, в свою очередь, следил за следившими за ним полициями. Как бы то ни было, этот переплетенный "клубок змей" продолжал извиваться, а нужной информации Наполеон от своих агентов так и не получил. Узнал он о действиях Фуше совсем случайно».
Как это обычно и бывает, маленькая глупая случайность прервала эту великолепно продуманную партию. Наполеон после развода с Жозефиной отправился со своей молодой женой Марией-Луизой в Голландию навестить своего брата, короля Луи. Там в случайном разговоре Луи, который, как и все, не сомневался, что тайные переговоры велись с согласия императора, поинтересовался, успешно ли они проходят. Наполеон не понял, о чем идет речь, и насторожился. Он тут же вспомнил, что встретил в Антверпене ненавистного ему Уврара. Что же тут такое происходит? Но император не выдал своего удивления: как бы мимоходом он попросил брата показать ему при случае переписку банкира. Тот сейчас же исполнил эту просьбу, и на обратном пути из Голландии в Париж Наполеон нашел время с ней ознакомиться. Действительно, это были переговоры с англичанами, о которых он не имел ни малейшего понятия. Придя в ярость, Наполеон быстро разгадал интригу герцога Отрантского.
Дальнейшее поведение Наполеона Стефан Цвейг характеризует так:
«Но, переняв приемы этого хитреца, он прячет свое подозрение за сдержанной вежливостью, чтобы не возбудить подозрения у ловкого противника и не дать ему улизнуть».
Доверился он только своему верному Савари, герцогу де Ровиго. Он приказал ему быстро и незаметно арестовать банкира Уврара и завладеть его бумагами.
* * *
2 июня 1810 года Наполеон созвал своих министров в Сен-Клу. Грубо и без обиняков он спросил Фуше: известно ли тому что-нибудь о поездке Уврара и не сам ли он послал его в Амстердам?
Фуше был удивлен. Он и не подозревал, в какую западню попал, и стал действовать, как всегда, когда его в чем-нибудь уличали, то есть начал выворачиваться и отрекаться от своего сообщника. Но у Наполеона была крепкая хватка, и отделаться от него было не так-то просто.
— Не вы ли взяли на себя решение вопросов мира и войны?
Фуше молчал.
— Это неслыханное превышение власти, — продолжал Наполеон. — Вы ведете за спиной своего государя переговоры с врагами на условиях, которые ему неизвестны и на которые он вряд ли когда-либо согласится. Это нарушение долга, которое невозможно терпеть.
Фуше стало не по себе, но он продолжал упорно молчать.
На следующий день, в воскресенье, Наполеон пригласил к себе всех министров. Не пришел лишь один человек — герцог Отрантский: он не был приглашен, хотя и занимал министерский пост. Император обратился к своим советникам с вопросом:
— Какого вы были бы мнения о министре, который злоупотребляет своим положением и без ведома своего государя завязывает отношения с иностранной державой? О министре, который ведет переговоры на выдуманных им основаниях и таким образом ставит под удар политику страны? Какое наказание предусмотрено нашим кодексом за подобное нарушение долга?
Поставив этот суровый вопрос, император оглядел всех присутствующих, ожидая, без сомнения, от своих приближенных немедленного выдвижения предложений об изгнании или о других столь же позорных мерах. Но, увы! Министры знали, в кого были направлены испепеляющие стрелы императорского гнева, и хранили молчание. В душе они были солидарны с Фуше, который энергично стремился к заключению мира, но как истинные слуги, они были еще и рады дерзкой шутке, сыгранной с самодержцем.
Наконец, архиканцлер Камбасерес, нарушив молчание, высказался в примирительном духе:
— Это безусловная ошибка, заслуживающая строгой кары, и простительная лишь в том случае, если виновный совершил ее из чрезмерного усердия.
— Из чрезмерного усердия?! — гневно воскликнул Наполеон.
Этот ответ ему не понравился. Он желал наказать виновного за самоуправство и потребовал немедленно предложить кандидатуру преемника Фуше.
И опять никто из министров не поспешил вмешаться в это неприятное дело. Фуше внушал им не меньший страх, чем Наполеон.
Наполеон закрыл заседание и позвал к себе в кабинет Камбасереса.
— Право же, не стоит труда обращаться за советами к этим господам. Они ни на что не способны. Но, надеюсь, вы не думаете, что я обратился к ним за советом, не решив прежде этого вопроса? Я уже сделал выбор, министром полиции будет герцог де Ровиго.
Мнение Камбасереса его не интересовало.
В тот же вечер Наполеон вызвал к себе Савари и объявил ему:
— Теперь вы министр полиции. Достаточно ли у вас смелости для того, чтобы принять на себя обязанности, сопряженные с этой деятельностью?
— Решимости у меня хватит, — ответил Савари, — но осмелюсь заметить, что это дело совершенно чуждо моим теперешним занятиям.
— Ничего страшного, любое дело можно освоить. Для этого нужны лишь желание и время.
* * *
Отставку Фуше обсуждали повсеместно, при этом многие оказались на его стороне. Ничто не могло больше способствовать популярности герцога, чем его сопротивление неограниченному самодержавию человека, выдвинутого революцией, которое уже стало в тягость привыкшему к свободе поколению французов. Никто не хотел понять, почему стремление заключить долгожданный мир с Англией, пусть даже против воли воинственного императора, является преступлением, заслуживающим столь суровой кары.
Молодая жена Наполеона — Мария-Луиза Австрийская — вступилась за Фуше. Единственный человек при французском дворе, на которого ее отец, австрийский император, указал как на достойного доверия, теперь был уволен, и она не сочла необходимым молчать по этому поводу.
Герцог де Ровиго, характеризуя ошеломляющее впечатление, произведенное увольнением Фуше, в своих «Мемуарах…» написал так:
«Я полагаю, что весть о появлении чумы не могла бы вызвать большего испуга, чем мое назначение».
Выставив за дверь Фуше, Наполеон все же поспешил загладить неприятное впечатление. Потеря министерского кресла была компенсирована герцогу Отрантскому почетным титулом государственного советника и назначением генерал-губернатором в Риме. Личное письмо Наполеона к Фуше, в котором сообщается об отставке, как нельзя лучше говорит о колебаниях, охвативших императора. Наполеон писал:
«Господин герцог Отрантский, я ценю услуги, которые вы мне оказали, верю в вашу преданность и усердие в служении моей особе. Однако я не имею возможности оставить вас на посту министра, этим я уронил бы свое достоинство. Пост министра полиции требует полного, совершенного доверия, каковое не может иметь места с тех пор, как вы в весьма важном деле поставили на карту мое спокойствие и спокойствие государства, что в моих глазах не может быть оправданно даже самыми похвальными побуждениями. Ваше странное представление об обязанностях министра полиции не сообразуется с благом государства. Не сомневаясь в вашей преданности и верности, я все же был бы вынужден прибегнуть к постоянному, утомительному надзору, что мне претит. Наблюдение за вами было бы необходимым вследствие многочисленных шагов, которые вы предпринимаете по собственному побуждению, не интересуясь, соответствуют ли они моей воле, моим намерениям. <…> Я не могу надеяться, что вы измените ваш образ действий, так как уже в течение нескольких лет явные выражения моего недовольства не смогли ничего изменить. Опираясь на чистоту своих намерений, вы не желали понять, что добрые побуждения могут привести к немалым бедам. Моя вера в ваши способности и в вашу преданность непоколебима. Я надеюсь, что скоро вам представится случай применить первое и доказать, находясь у меня на службе, второе».
Это письмо наглядно демонстрирует самые сокровенные чувства Наполеона к Фуше: с одной стороны, император стремился от него отделаться, с другой — боялся обратить его во врага. Ему было жаль его терять, и вместе с тем он был счастлив, что избавляется от такого опасного человека.
Возросшие популярность и симпатии общественного мнения заставили Фуше проявить несвойственную ему прямолинейность. Он не позволит себя так просто отстранить, он покажет Наполеону, что стоит большего, чем окружающая его толпа придворных льстецов и покорных слуг с министерскими портфелями. Полицейская машина была создана им, Фуше, и не будет иметь другого хозяина! Пусть теперь Наполеон полюбуется, какой вид примет министерство полиции, когда выставят за дверь его создателя! Пусть почувствует его преемник, что, отважившись его заменить, он сел в осиное гнездо! Его увольнение дорого обойдется императору. Оба они, и Наполеон и Савари, узнают, что Жозеф Фуше умеет не только гнуть спину, но и показывать зубы.
Стефан Цвейг описывает настроение Фуше так:
«Фуше решил не уходить с покорно склоненной головой. Он не желает худого мира, не желает спокойной капитуляции. Он, конечно, не настолько глуп, чтобы оказывать открытое сопротивление, это не в его натуре. Он позволят себе только небольшую шуточку, остроумную, веселую шуточку, над которой посмеется Париж и которая покажет Савари, что в лесах герцога Отрантского расставлены превосходные капканы. Не надо забывать удивительной, сатанинской черты характера Жозефа Фуше: именно крайнее озлобление вызывает у него потребность в жестокой шутке, его мужество, вырастая, превращается не в отвагу, а в гротескно-уродливую надменность. Тех, кто его оскорбляет, он никогда не бьет кулаком, он это делает шутовским бичом, и при этом так, что оставляет противника с носом. И тогда, пенясь и шипя, в эти мгновения мнимого веселья, вырываются наружу все тайные побуждения, скрытые в этом замкнутом человеке, обнажая глубоко затаенную жгучую страстность и демонизм его натуры».
Злую шутку с преемником было нетрудно придумать. Фуше начал рассыпаться перед Савари в любезностях. Он не только поздравил его со столь почетным назначением, но и поблагодарил за то, что Савари освобождает его от этой обременительной должности, от которой он, Фуше, так устал. Он уверял, что счастлив получить, наконец, возможность отдохнуть от тяжелого труда, ибо управление этим министерством — это работа не только огромная, но и неблагодарная, и в этом герцог де Ровиго сам скоро убедится.
Фуше выразил даже готовность быть полезным новому министру в ознакомлении с множеством новых и незнакомых для него вопросов. Конечно, для этого потребуется немного времени, чтобы привести в порядок дела, ведь императорский приказ последовал так неожиданно. Если герцог Ровиго не возражает, он, Фуше, в течение нескольких дней все подготовит.
Прямодушный солдат Савари не заметил ложки дегтя в бочке меда. Он был приятно поражен исключительной любезностью человека, которого все считали злобным и хитрым, и даже растроганно пожал ему руку.
Едва Савари удалился, Фуше запер дверь в кабинет и принялся вытаскивать из дел все самые важные и секретные бумаги. Те, что могли еще когда-нибудь пригодиться, он откладывал для личного употребления, все остальное беспощадно сжигал. Зачем месье Савари знать, кто из придворных оказывал бывшему министру услуги шпионского характера? Это слишком облегчит ему работу.
Папки очищались молниеносно. Так исчезли списки с именами наиболее опасных роялистов и тайных корреспондентов, была приведена в беспорядок система регистрации…
Вся разведывательная сеть Фуше была порвана на множество мелких, не связанных между собой частичек, главные звенья ее бесследно исчезли. Для вида были оставлены лишь сведения о малозначительных агентах, от которых невозможно было узнать ничего серьезного.
Биограф Фуше Стефан Цвейг пишет:
«Винт за винтом вытаскивает и выламывает Фуше из громадного механизма, чтобы в руках доверчивого преемника не сцеплялись шестеренки и срывались передачи. Четыре дня и четыре ночи дымится камин, четыре дня и четыре ночи продолжается эта дьявольская работа».
Лишь после того, как все важнейшие государственные тайны переместились в личные архивы Фуше или были рассеяны вместе с дымом по ветру, можно было сказать ничего не подозревающему преемнику: будьте добры, садитесь на мое место.
К сожалению, Фуше допустил в этой «веселой мистификации» одну маленькую оплошность. Полагая, что потешается над неопытным солдафоном Савари, этим министром-младенцем, он совсем забыл, что его преемник был назначен человеком, не терпящим подобных шуток.
Наполеону не понравились медлительность Фуше в передаче дел и откладывание его поездки в Рим.
Савари, начисто лишенный способностей Фуше, но трудолюбивый и настойчивый, начал шаг за шагом входить в курс дел. Когда он обнаружил ограбление министерства полиции, он доложил об этом императору. Тот тотчас потребовал, чтобы Фуше немедленно вернул незаконно присвоенные им бумаги. Шутки были явно окончены.
* * *
Но Фуше, словно одержимый дьяволом, вдруг решил всерьез помериться силами с Наполеоном, с самым сильным на тот момент человеком в мире. Он заявил, что очень сожалеет, но у него нет названных бумаг. Он все сжег. Этому не поверил ни один человек и меньше всех Наполеон. Но императора волновали не только дела министерства полиции. Он хотел получить назад и свою частную переписку с Фуше. В связи с этим отставной министр получил от государственного секретаря Марэ лаконичную записку следующего содержания:
«Возвратите Его Императорскому и Королевскому Величеству вашу частную переписку с ним за весь период вашего министерства».
Фуше столь же лаконично ответил, что сжег и все личные письма императора. На следующий день Марэ повторил свой запрос и получил тот же ответ. Через неделю Марэ потребовал от Фуше переписку в третий раз, подчеркнув, что император считает ее собственностью министерства. И вновь в ответ раздалось упрямое «нет».
Тут уже Наполеон совсем вышел из себя. Впервые во Франции кто-то позволял себе столь открыто оказывать ему сопротивление — ему, Великому Императору, перед которым трепетали, словно школьники, все европейские короли, против которого не смогли устоять лучшие европейские армии. Е.Б. Черняк по этому поводу пишет:
«Фуше просчитался — он недооценил решительность Наполеона. Тот сразу отдает приказ начальнику своей личной полиции Дюбуа: или Фуше вернет требуемые бумаги, или его надлежит отправить в тюрьму под конвоем десятка жандармов, и он скоро почувствует, что значит навлекать на себя императорский гнев».
В приступе ярости Наполеон кричал:
— Пусть этот мерзавец не надеется, что ему удастся поступить со мной так, как он поступил с Конвентом и Директорией, которых он подло предал и продал! У меня более зоркий взгляд, чем у Барраса, со мной игра не будет такой легкой, я советую ему быть настороже. Я знаю, что у него есть документы и инструкции, переданные ему мною, и я настаиваю, чтобы он их вернул. Если он откажется, передайте его немедленно в руки жандармов, пусть его отправят в тюрьму. Клянусь богом, я покажу ему, как быстро я умею расправляться со смутьянами.
В воздухе запахло жареным, и нос Фуше учуял этот угрожающий запах: он начал понимать, что коса нашла на камень. Чего же так боялся Наполеон? Зачем ему вдруг потребовались его собственные письма? Ответ прост: в них содержались приказы и инструкции императора министру полиции, спрятанные в надежном месте (а Наполеон был уверен, что предусмотрительный Фуше их сохранил. — Авт.), они могли послужить для опального министра своего рода охранными грамотами.
В своих «Мемуарах…» Фуше потом написал:
«Более чем когда-либо я утвердился в мысли не уступать и тщательно сохранить неопровержимые доказательства того, что наиболее жестокие и инквизиторские меры, исполненные во время моего министерства, были настоятельно предписаны приказами, исходящими из кабинета и собственноручно подписанными императором».
Как всегда, в случаях, когда обстоятельства прижимали его к стене, Фуше сделал неожиданный ход: он сел в карету и поехал в Париж, чтобы лично объяснить все императору. Тот принял его на удивление приветливо. Лишь в самом конце аудиенции он как бы «случайно» вспомнил о письмах.
— Сир, — ответил Фуше, — у меня их нет. Я сжег их.
— Это неправда.
— Я должен был сделать это…
— Убирайтесь!
— Но, Сир, я…
— Убирайтесь, я вам говорю!
Теперь примирение было невозможно. Тот, кто посмел публично бросить вызов Наполеону, должен был подвергнуться публичному унижению.
На следующий день маршал Бертье передал Фуше письмо, такое суровое и резкое, какого, вероятно, Наполеону ни разу не приходилось писать своим министрам. Это было, как пинок ногой под зад:
«Господин герцог Отрантский, ваши услуги мне больше не угодны. В течение двадцати четырех часов вы обязаны выехать в свое поместье».
И никакого упоминания о назначении в Рим. Это было откровенное и грубое увольнение. И к тому же изгнание. Но бывший министр полиции нашел, что ответить Бертье. Он сказал: «Скажите ему, что я давно привык укладываться спать с головой на эшафоте. Мне известна степень его могущества, но я не страшусь его».
Фуше храбрился, но на душе у него было неспокойно. Процитированное письмо императора стало последней каплей: надо было начинать заботиться об эмиграции. Нервы герцога не выдержали, и он бросился раздобывать себе заграничный паспорт. В этом ему помог его бывший секретарь, а ныне генеральный комиссар лионской полиции Мэйошо. Из Лиона Фуше без остановок помчался в Италию. Он прекрасно понимал, что сейчас главное для него — это оказаться вне досягаемости Наполеона, там, куда не дотянется его карающая рука.
Но даже Италия казалась ему недостаточно надежной, и он нанял в Ливорно корабль, чтобы перебраться в Америку, в это надежное убежище всех несчастных друзей свободы. Но страшная морская болезнь не позволила ему это сделать. В своих «Мемуарах…» он с ужасом вспоминал об этом:
«Я почти лишился чувств, и чуть было не умер к моменту, когда меня доставили на берег».
«Одиссея» сорвалась. После этого загнанный в угол Фуше обратился к сестре Наполеона — Элизе, великой герцогине Тосканской. Она приняла его достаточно хорошо, но что она могла сделать…
Положение Фуше стало критическим: он почти обезумел от страха, повсюду ему мерещились тайные агенты Наполеона, которым приказано найти и убить его. Приехав во Флоренцию, он написал императору письмо, в котором признался, что скрыл у себя кое-какие документы. Ничего другого ему просто не оставалось. В обмен на эти документы он просил у Наполеона охранную грамоту для себя и для своей семьи.
Вскоре компромисс был достигнут. Наполеон получил свою переписку, а Фуше — столь желанные гарантии неприкосновенности. Позже эта компрометирующая императора переписка бесследно исчезла.
У Стефана Цвейга читаем:
«Кто-то, либо сам Наполеон, либо Наполеон III, окончательно уничтожил документы, которые могли не соответствовать канонизированному изображению Наполеона».
В начале сентября Фуше получил милостивое разрешение вернуться во Францию, в городок Экс, депутатом от которого он был в Сенате уже девять лет. Гроза стала постепенно рассеиваться, да и то лишь потому, что Фуше в данный момент потерпел полное поражение. Подчеркнем слова «в данный момент», ведь очень скоро он вновь появится на политической сцене и вновь начнет играть на ней одну из главных ролей.
* * *
25 сентября Фуше прибыл в Экс. Он выглядел бледным и безумно уставшим. Но там, в провинции, у него будет достаточно времени, чтобы привести свои нервы в порядок: те, кто хоть раз оказал сопротивление Наполеону, надолго становились свободным от всех общественных дел.
На три долгих года лишился Жозеф Фуше своего положения и должности. Началось его очередное изгнание.
В Эксе он жил в великолепном замке. Ему было 52 года. Он до конца познал огонь, воду и медные трубы, успехи и неудачи, вечную смену приливов и отливов бурного моря судьбы. Он вкусил милость власть имущих и отчаяние отверженного, он был любим и ненавидим, прославляем и изгоняем. Теперь он был просто герцогом, сенатором и миллионером. Он не зависел больше ни от кого и мог, наконец, отдохнуть. Он мог спокойно гулять по парку, наносить визиты местному дворянству, он был полностью избавлен от треплющего нервы общения с глупыми чиновниками и деспотом-императором.
Но насколько обманчив был его довольный вид? Не было ли все это лишь спектаклем, который деятельный Фуше разыгрывал перед императором? Вот что написал по этому поводу Фуше своих «Мемуарах…»:
«Въевшаяся в меня привычка знать все обо всем не покидала меня и мучила во время скучного и однообразного, хотя и приятного изгнания. С помощью верных друзей и надежных посланцев я организовал тайную переписку с Парижем, регулярно получая взаимно друг друга дополнявшие известия. Одним словом, я имел в Эксе свою частную полицию».
Этот неугомонный человек стал теперь заниматься ради интереса тем, чем ему теперь не дозволено было заниматься по службе. Ему хотелось хотя бы чужими глазами подглядывать в замочные скважины, чужими ушами подслушивать различные совещания, вынюхивая, не явится ли какая возможность вновь предложить свои услуги, вновь пролезть к большому игорному столу. И вскоре он уже по-прежнему знал все и обо всем.
Но Наполеон в нем не нуждался. Он стоял на вершине своего могущества. Он был покорителем Европы, зятем австрийского императора и, наконец-то, отцом ребенка, с рождения названного Римским королем. У него в данный момент все было благополучно, а благополучие балует людей, расслабляет их, порождает иллюзию, что так будет всегда.
То, что Фуше для Наполеона больше не существовал, подтверждает тот факт, что изгнаннику разрешили переехать поближе к Парижу, в его замок Феррьер, что в двух часах езды от столицы. Но Париж и Тюильри по-прежнему были для него закрыты.
Только один-единственный раз за эти два пустых года Фуше был приглашен в императорский дворец. Это было в январе 1812 года. Наполеон готовил войну против России, но все отговаривали его, и поэтому ему захотелось, чтобы всегда независимый в своих суждениях Фуше высказал свое мнение. Фуше, если верить ему самому, страстно предостерег император от этой безумной затеи. Но Наполеон уже давно был способен внимательно выслушивать лишь тех, кто поддерживал его собственное мнение, он нуждался лишь в рабском подтверждении своих слов.
Фуше холодно отослали обратно в его замок, в его праздное изгнание. Очень скоро все вспомнят о нем, ибо очень скоро его пророчества сбудутся, а в Париже произойдут события, которые никогда не случились бы, будь на посту министра полиции Жозеф Фуше.
Глава шестая. Париж: ночь с 22 на 23 октября 1812 года
Так вот как прочна моя власть! Одного человека, беглого арестанта, довольно, чтобы ее поколебать. Значит, корона едва держится на голове моей, если дерзкое покушение трех авантюристов в самой столице может ее потрясти.
Ничего необыкновенного в побеге Мале не было, другое дело — арест де Ровиго или бегство Пакье. Все потеряли голову, начиная с самих заговорщиков.
Этого бы не произошло, если бы Фуше был министром полиции.
В книге Е.В. Тарле «Наполеон» можно прочитать довольно странный абзац, описывающий события, произошедшие в 1812 году в Париже, в то время как Наполеон со своей Великой армией находился в России:
«Диковинные сообщения привез ему в Дорогобуж курьер из Парижа. Некий генерал Мале, старый республиканец, давно сидевший в парижской тюрьме, умудрился оттуда бежать, подделал указ Сената, явился к одной роте, объявил о будто бы последовавшей в России смерти Наполеона, прочел подложный указ Сената о провозглашении республики и арестовал министра полиции Савари, а военного министра ранил. Переполох длился два часа. Мале был узнан, схвачен, предан военному суду и расстрелян вместе с одиннадцатью людьми, которые ни в чем не были повинны, кроме того что поверили подлинности указа: Мале все это затеял один, сидя в тюрьме.
На Наполеона этот эпизод (при всей несуразности) произвел сильное впечатление. Чуялось, что его присутствие в Париже необходимо».
После прочтения этого небольшого абзаца, оставив в стороне явные ошибки типа ранения военного министра, которого уважаемый историк путает с военным губернатором Парижа, невольно начинаешь задавать себе вопросы: во-первых, как мог «некий генерал», давно сидевший в тюрьме, подготовить и совершить в Париже государственный переворот? во-вторых, верно ли, что он «все это затеял один»? в-третьих, если это действительно так, то чего же стоила вся эта Великая Империя, созданная Наполеоном, если для ее развала (пусть и кратковременного) потребовались усилия лишь одного человека и подделка лишь одного документа? в-четвертых, если этот «эпизод» был столь несуразен, то почему он произвел на Наполеона такое сильное впечатление, что заставил его бросить на произвол судьбы остатки своей армии и поспешить в Париж?
* * *
Для ответов на эти и многие другие вопросы рассмотрим события конца октября 1812 года подробнее. Что же на самом деле произошло в Париже в это время?
Глубокой ночью 22 октября 1812 года два офицера, укутавшись в плащи, шли по темным улицам Парижа по направлению к казармам национальной гвардии, расположенным на улице Попенкур. Офицеры приблизились к часовому, который, несмотря на проливной дождь, смог признать в одном из них генерала.
— Я — генерал Лямотт, — уверенно сказал человек в генеральском мундире, — и я имею распоряжения от Сената. Император погиб в России, и Сенат образовал своим указом Временное правительство.
Офицер охраны немедленно доложил об этом своему командиру, который, в свою очередь, приказал построить полусонных солдат во внутреннем дворе. Вскоре известие о том, что император убит, облетело нестройные шеренги. К всеобщему удивлению, никто не выразил никаких эмоций и не закричал «Да здравствует император!» Некоторые старые солдаты в глубине души были даже рады этому, быстро представив себя дома, в кругу уже начавшей забывать их семьи. Без сомнения, многие во Франции тайно желали смерти Наполеону, и это были не только монархисты или республиканцы по духу, но также и тысячи простых людей, уставших от бесконечных войн и потерявших в них своих родных и близких.
Человеком, представившимся генералом Лямоттом, на самом деле был бригадный генерал Мале.
* * *
Клод-Франсуа Мале родился 28 июня 1754 года в Доле (Юра) в семье отставного офицера. В 17-летнем возрасте он был зачислен в полк королевских мушкетеров и пробыл в нем два года, вплоть до расформирования полка в конце 1775 года.
Будущий генерал был весьма симпатичным мужчиной, обладавшим большим обаянием и хорошими манерами. В 1788 году он женился. Его жена — Дениза также происходила из провинциальной аристократической семьи, и была сильной личностью. Когда Мале женился на ней, ей было 17 лет, ему — 34. Вскоре у них появился сын Аристид — их гордость… Семья эта была добропорядочной и счастливой. Так что версию о неудачном браке как одной из причин психической неустойчивости генерала Мале не следует даже и рассматривать — это все неправда.
Во время революции Мале стал командиром отряда национальной гвардии своего родного города. В 1792 году он был направлен в Рейнскую армию, где служил капитаном в 50-м пехотном полку. Там он познакомился с генералом Богарнэ. Кстати сказать, знаменитую революционную «Марсельезу» написал двоюродный брат Мале — Руже де Лилль.
Но вскоре тучи начали сгущаться над ним. Комитет общественного спасения неодобрительно смотрел на бывших аристократов в армии, и в 1795 году Мале был вынужден оставить службу. Однако в марте 1797 года он получил возможность вернуться под знамена и оказался при генерале Шампионнэ в Альпийской армии. 19 октября 1799 года Директория утвердила Мале в звании бригадного генерала. В 1801 году он командовал войсками в департаменте Жиронда.
После возвышения Наполеона Мале вполне мог использовать свое знакомство с покойным генералом Богарнэ как повод для представления Жозефине, и таким образом он мог оказаться среди людей, близких к Бонапарту. Но он решительно отказался от этой возможности, так как этого самого Бонапарта он не любил. Будучи искренним республиканцем, Мале последовательно выступал против пожизненного консульства, затем против империи. Это не помешало ему заслужить наполеоновский орден Почетного легиона. После этого Мале созвал друзей на веселую пирушку, на которой торжественно произвел своего повара в кавалеры Почетной ложки.
* * *
Некоторое время генерал Мале служил в Дижоне, затем командовал бригадой в Итальянской армии, выполнял обязанности губернатора Павии и состоял при генерале Миоллисе в Риме, но в конечном итоге был отправлен Эженом Богарнэ во Францию, где в 1807 году вышел в отставку.
Официальной версией, объясняющей это, было подозрение в растрате, но истинной причиной были откровенно республиканские взгляды и заявления генерала:
— Я, — говорил Мале, — остаюсь верен идеалам республики! А корсиканец ведет себя так, будто вся революция делалась исключительно ради его возвышения.
В армии генерал Мале слыл, как бы сейчас выразились, непримиримым диссидентом, причастным ко многим антинаполеоновским акциям. Префект полиции Парижа Пакье впоследствии писал о Мале:
«Он принадлежал к тем, кого в армии называли террористами».
Как известно, от подобной репутации до тюрьмы — один шаг. Так было всегда, и для Мале все закончилось именно этим. 1 июля 1807 года он был заключен в тюрьму Ля Форс, а через год освобожден, но не надолго: в 1809 году он снова оказался в Ля Форс, обвиненный в принадлежности к тайной организации республиканских офицеров — противников возвышения Наполеона. Эти офицеры были искренне уверены в том, что Наполеон — диктатор, и он разрушил все то, что было создано революцией и республикой. Эта тайная организация была известна под странным названием Союз филадельфов.
* * *
Фактически «филадельфы» были масонами. Впервые это название появилось во Франции в XIV веке, когда некий Гийяр де Крессонессар объявил себя «ангелом Филадельфийской церкви», о которой шла речь в Апокалипсисе. «Ангела» тут же объявили еретиком и заточили в темницу. Через несколько веков (в XVII веке) оккультное движение «филадельфов» началось в Англии, а через столетие — во Франции, где это название присвоила себе масонская ложа, поставившая себе целью освобождение всех народов мира от тиранов[13].
Французские «филадельфы» тесно смыкались с Обществом адельфов в Италии, которым руководил знаменитый Филиппе Микеле Буонаротти, потомок Микеланджело, величайший конспиратор своего века. Именно этот человек держал в своих руках неосязаемые для непосвященных тончайшие нити заговоров, подрывавших престолы венценосцев мира…
Генерал Мале был принят в «филадельфы» в Италии своим же адъютантом, носившим подпольное имя Фелипомен. Подпольным именем генерала Мале стало имя Леонид.
Следует отметить, что среди «филадельфов» были не только офицеры-республиканцы, давние враги Наполеона, но и простые рабочие, врачи, нотариусы, писатели, садовники, буржуа и рядовые солдаты. И эти самые «филадельфы», возглавляемые де Севаном, были не только приверженцами республиканских принципов, крайне раздражавших Наполеона, но и даже разрабатывали планы физического устранения диктатора.
Оказался причастен к этим планам и генерал Мале. В свое время, вскоре после переворота 18 брюмера, ставший первым консулом Бонапарт прибыл на несколько дней в Дижон. Генерал Мале в то время тоже был там. Убежденные в необходимости физического устранения Бонапарта, заговорщики приняли решение воспользоваться этой поездкой диктатора для осуществления задуманного ими покушения. По всей видимости, Мале был в курсе готовившейся акции, которая, впрочем, благополучно провалилась.
Но Мале продолжил сотрудничество с противниками нового режима. В результате его продвижение по службе затормозилось, и он стал получать все менее и менее привлекательные назначения. Все это, конечно же, оскорбляло гордого Мале, который чувствовал, что его назначения никоим образом не соответствуют его способностям. Звезда же Наполеона продолжала сиять все ярче и ярче.
* * *
В 1808 году лидер Общества филадельфов де Севан неожиданно скончался, и Мале занял его место. К этому моменту генерал стал все больше задаваться вопросом: является ли убийство Наполеона единственно необходимым или есть другие средства для отстранения его от власти? Долго думая над этим, генерал Мале начал рассматривать возможность осуществления государственного переворота, и самым удобным моментом для этого он видел отсутствие императора в Париже во время его продолжительных военных кампаний. Очень скоро Мале убедился, что Наполеон может быть свергнут и без его физического устранения — путем тщательного и осторожного планирования заговора. А как только удар будет нанесен, привыкшее к покорности французское общество смиренно последует за заговорщиками.
В 1807 году уже была упущена подходящая возможность нанесения удара, когда Наполеон находился далеко в Испании. Расстояние до Испании и проблемы Наполеона с организацией связи с Парижем могли бы дать заговорщикам, по крайней мере, четыре дня, чтобы осуществить их план. Но как всегда, когда слишком много людей вовлечены в тайну, одного неосторожного слова оказалось достаточно, чтобы все развалить. Информация о заговоре дошла до министра полиции Фуше, и его участники были арестованы. Именно тогда, летом 1807 года, генерал Мале в первый раз оказался в парижской тюрьме Ля Форс. Пробыл он там ровно год, затем был освобожден, но в 1809 году снова оказался за решеткой.
Вместе с Мале были арестованы генералы Гюне, Дютэртр и несколько офицеров. Им инкриминировался заговор с целью восстановления во Франции республиканского строя. По-видимому, к заговору были также причастны бывший военный министр Серван де Жерби и бывший член Конвента Ланжюине.
Историк А.З. Манфред пишет:
«Наполеон дал директиву не предавать дело огласке. Он не хотел никому давать повод поставить под сомнение его популярность в империи. То ли Фуше, воспользовавшись этими директивами, не захотел выяснить дело до конца, то ли заговор еще полностью не созрел, но дело было приглушено, хотя и внушало Наполеону немалые опасения».
Мале был объявлен сумасшедшим и переведен в клинику для умалишенных знаменитого доктора-психиатра Дюбюиссона на улице Фобур Сент-Антуан, в которой были заключены некоторые государственные преступники. Многие из них носили весьма известные фамилии, например: братья Полиньяки, приговоренные к смерти в 1804 году за участие в деле Жоржа Кадудаля, но затем помилованные; маркиз де Пюивер; Бертье де Совиньи. Здесь же находился и аббат Жан-Батист Лафон, ненавидевший Наполеона за его политику относительно церковной недвижимости и за содержание под стражей в Фонтенбло папы римского Пия VII.
Клиника Дюбюиссона — это не казематы тюрьмы Ля Форс. Только решетки на окнах свидетельствовали здесь об ограничении свободы. Пансион был окружен старинным садом, пациенты имели хороший стол, каждый — отдельную комнату и свободный доступ родственников и друзей. «Сумасшедшие» здесь пребывали особые: это были люди, предпочитавшие не сидеть в тюрьмах, а «лечиться» у доброго доктора Дюбюиссона, стремительно богатевшего от наплыва гонораров. «Острое помешательство» — такой диагноз ставили здесь всем якобинцам и роялистам.
Находясь здесь, Мале и аббат Лафон сблизились друг с другом и приступили к разработке плана очередного заговора. Кто должен быть устранен во время государственного переворота в первую очередь? Какие армейские части должны быть использованы, и какие распоряжения необходимы для этого? Сколько времени необходимо заговорщикам, чтобы получить контроль над ключевыми государственными постами? Документы, необходимые для успешного развития заговора, были подготовлены заранее, в том числе и самый важный из них — указ Сената о падении наполеоновской империи и учреждении Временного правительства.
* * *
В то время как Мале и Лафон совершенствовали свой план, наступил 1812 год, и Наполеон начал свой поход в Россию. В отличие от Испании, связь между Москвой и Парижем требовала, по крайней мере, двух с половиной недель. Это время позволяло заговорщикам объявить Наполеона убитым и, воспользовавшись всеобщей растерянностью, успешно совершить задуманное.
Мале предполагал легко собрать многочисленных недовольных офицеров, мечтавших положить конец войне, и создать отряды, необходимые для совершения переворота. Он предполагал, что Наполеон, узнав об удачном развитии заговора, немедленно поспешит вернуться в Париж, однако к тому времени заговорщики надеялись собрать армию достаточно сильную, чтобы встретить его. Мале планировал подписать мир с союзниками, и Франция, и все человечество должны были быть ему благодарны за это.
22 октября 1812 года Мале и аббат Лафон тайно бежали из клиники доктора Дюбюиссона.
Как всегда, вечером они сели играть в шахматы. Мале выиграл несколько партий и выглядел веселым и возбужденным. В полночь, когда все легли спать, пришел садовник, с которым у Мале существовала договоренность. У садовника была лестница, при помощи которой генерал и его сообщник могли перебраться через стену, отделявшую внутренний двор клиники от улицы Фобур-СентАнтуан.
Первым перелез через стену генерал Мале, а вот со священником все оказалось гораздо сложнее: спрыгивая по ту сторону стены, Лафон то ли действительно подвернул ногу, то ли просто испугался и сделал вид, что не может идти. Кривясь от боли, он спросил:
— А вы уверены, что нам удастся повести за собой полки национальной гвардии?
Мале уверенным голосом ответил:
— Сегодня все военные просто мечтают о мире. К тому же я не оставлю их командирам времени для размышлений. Все будет сделано очень быстро.
— Но префект Фрошо может начать говорить о сыне Наполеона?
— Он будет думать лишь о том, как бы сохранить свое место в префектуре. Для революций такие люди — находка. Когда власть меняется, они следуют за ней, группируются вокруг новых хозяев. Увидите, о сыне императора никто и не вспомнит! Сенат будет на нашей стороне.
— А мы разве его не распустим?
— Зачем? Разве есть лучшие трубы, чтобы возвестить о нашей победе?
— Боже мой! — застонал аббат. — Но когда Наполеон вернется…
— Не бойтесь, святой отец, бог с нами, и он нам поможет.
Аббату Лафону так хотелось посмотреть на разворачивающуюся драму со стороны, что он даже сам поверил в то, что нога его вывихнута, а боль не позволяет ему передвигаться. Он заплакал, причем сделал это так искренне, что генерал Мале поверил ему.
В ту же ночь аббат благополучно улизнул из Парижа. Мале же направился к дому, где его жена заранее приготовила оружие и генеральскую униформу. Затем он пошел к казармам, расположенным на улице Попенкур.
Около четырех часов утра 23 октября генерал Мале явился к майору Габриелю Сулье, командиру 10-й когорты национальной гвардии, представился генералом Лямоттом и предъявил документы, «подтверждавшие» смерть Наполеона, якобы убитого 7 октября в Москве, и учреждение Временного правительства с президентом Лазаром Карно, бывшим членом Директории и бывшим военным министром, во главе. Генерал Моро в этом правительстве был назван вице-президентом. Кроме него, в правительство были включены также такие известные люди, как вице-адмирал Трюге, ярый республиканец, ушедший в отставку после установления империи, сенаторы Волнэ, Ламбрехт, Дестю де Траси и Гара, бывшие сенаторы Бигонэ и Флоран-Гюйо, виконт Матьё де Монморанси, граф Алесис де Ноай, префект Фрошо (всего 15 человек).
Все было разыграно как по нотам. В документе, переданном майору Сулье «генералом Лямоттом» и подписанном «командующим войсками Парижского военного округа генералом Мале», говорилось следующее:
«Господин майор!
Я отдаю приказ господину генералу Лямотту явиться к вам в казарму в сопровождении комиссара полиции, чтобы зачитать когорте, которой вы командуете, указ Сената, в котором объявляется о смерти императора и о роспуске правительства. Этот генерал передаст вам также приказ по округу, в котором говорится о том, что вы производитесь в бригадные генералы, и указаны функции, которые вы должны выполнять.
Поставьте когорту под ружье как можно тише и со всей возможной поспешностью. Чтобы лучше выполнить эту двойную задачу, запретите предупреждать об этом офицеров, ночующих вдали от казармы. Пусть старшие сержанты командуют ротами, где не окажется офицеров. Когда наступит день, офицеры, появившиеся в казарме, должны быть направлены на Гревскую площадь, где им надлежит ждать свои роты, которые соберутся там после выполнения приказов господина генерала Лямотта, заместителем которого вы должны стать.
Когда эти приказы будут выполнены, вы сами направитесь на Гревскую площадь для принятия командования, предписанного вам приказом. Вы должны принять командование над следующими войсками:
1) вашей когортой;
2) двумя ротами второго батальона ветеранов;
3) ротой первого батальона полка Парижской гвардии;
4) двадцатью пятью драгунами Парижской гвардии;
5) всей гвардией, которую вы найдете на площади.
Примите меры для охраны Ратуши и прилегающих к ней улиц. Разместите на колокольне Сен-Жан отряд, чтобы быть готовым ударить в набат, если это будет необходимо.
Выполнив все это, вы должны явиться к господину префекту, находящемуся в Ратуше, чтобы вручить ему прилагающийся пакет. Договоритесь с ним о подготовке зала, в котором соберется Временное правительство, а также помещения для моего штаба, который прибудет со мной к восьми часам.
Если к вам прибудут комиссары от моего имени, то у них должны быть документы с такой же печатью, что и та, что находится в нижней части этого приказа: с ними вы можете принять меры, которые будут диктовать обстоятельства во время моего отсутствия.
Относительно всего того, что предусмотрено в этой инструкции, я надеюсь на вашу мудрость, ваш опыт и ваш патриотизм, о которых я имею самые наилучшие отзывы. Поэтому я и полностью доверяю вам в ваших действиях.
Точно выполнив этот приказ, вы можете быть уверены, что полезно послужили нашей родине и что она будет вам благодарна за это.
Честь имею приветствовать вас.
Подпись: Мале.
P.S. Господин генерал Лямотт передаст вам чек на сто тысяч франков, предназначенный для оплаты премий солдатам и двойных жалований офицерам. Примите также меры для питания ваших войск, которые не вернутся в казарму до того, как национальная гвардия Парижа не будет достаточно хорошо организована для несения службы. Эта сумма является дополнительной по отношению к вознаграждению, которое вам полагается».
«Генерал Лямотт», которого сопровождал капрал Рато, игравший роль его адъютанта, передал майору Сулье приказ о том, что 10-я когорта должна была арестовать министра полиции генерала Савари, военного министра генерала Кларка, архиканцлера Камбасереса и военного коменданта Парижа генерала Юлена — того самого Юлена, который в свое время возглавлял военный совет, приговоривший к смерти герцога Энгиенского. Ошеломленный этими новостями (особенно своим производством в генералы и чеком в 100 тысяч франков), Сулье запричитал:
— Император погиб! О, небо! Какое несчастье!
— Увы! — кивнул головой Рато. — Это очень большое несчастье! Все мы печалимся вместе с вами.
— Майор, — сказал Мале, — надо немедленно поднимать вашу когорту.
— Да, мой генерал, я сейчас, — засуетился Сулье.
После этого, накинув на плечи мундир, он стал отдавать приказания:
— Быстро позовите сюда капитана Пикереля! Разбудите офицеров! Бейте в барабаны…
— Нет, нет! — прервал его Мале, — не нужно никаких барабанов. Не надо поднимать шум. Все должно быть сделано быстро и тихо.
Вскоре прибыл капитан Пикерель.
— Вы слышали новость, капитан? — спросил его Сулье. — Впрочем, как вы могли слышать, ведь я сам узнал об этом только что. Император умер!
— И что мы теперь будем делать без него? — ошарашенно спросил Пикерель.
— То же, господин капитан, что вы делали и с ним, — холодно ответил генерал Мале.
— А как же Великая армия?
— Она больше не существует.
— Это же катастрофа! — воскликнул Пикерель.
— Да, Великая армия полностью уничтожена в России, но для вас лично это не катастрофа. Теперь, господин капитан, вы — майор. И извольте быстро выполнять приказы.
Вскоре 10-я когорта была построена во дворе. Солдатам зачитали сообщение о смерти императора, но многие из них отказались в это верить.
— Он умер? Наш Маленький капрал? Но этого не может быть!
— Еще как может! — крикнул Рато. — Сколько нас, простых солдат, погибло за последние годы! Император или простой солдат — перед вражеским ядром все равны!
— Так его убило ядром? Вот бедняга!
— Нет, штыком. Штык попал ему в правый глаз и вышел через левое ухо, — разошелся Рато, совсем потеряв голову от возбуждения, — император позвал на помощь, но было поздно. Впрочем, спросите у генерала, он лучше меня знает. Он только что получил депешу из России.
Мале понял, что дальнейшие разговоры до добра не доведут, и начал раздавать приказы. Солдаты 10-й когорты, видя перед собой генерала, беспрекословно подчинились.
* * *
После этого «Лямотт-Мале» повел солдат к тюрьме Ля Форс, где были заключены два генерала, два его товарища, необходимые ему для осуществления заговора. Войдя в тюрьму, генерал разбудил начальника и ознакомил его с «новостями из России» и с «указом Сената» об установлении Временного правительства.
— Да, генерал, — ответил начальник тюрьмы.
— Вот документы, касающиеся двух этих генералов.
То ли начальник тюрьмы что-то заподозрил, то ли разбудивший его человек показался ему странным, но, ознакомившись с бумагами, он вдруг сказал:
— Генерал, этот приказ неправильно оформлен. Наши инструкции требуют подписи министра полиции, а ее здесь нет.
— Вы что! — пришел в ярость генерал Мале. — Вы меня не узнаете?
— Извините, генерал, — забормотал начальник тюрьмы, опустив глаза, — как я могу забыть, что мне оказали честь, доверив вас совсем недавно моей охране, но я хотел бы получить подтверждение приказа от господина Савари.
— Он больше не министр, — прервал его генерал Мале, — а если вы хотите остаться на своем месте, рекомендую вам не умничать, а подчиняться. Вы должны помнить, что умники мне не нравятся.
Начальник тюрьмы подчинился и сам побежал за генералами Фанно де Лаори и Гидалем, и те были немедленно освобождены. Один из них, генерал Виктор Клод Александр Фанно де Лаори, бывший начальник штаба опального генерала Моро, арестованный в 1810 году по подозрению в заговорщической деятельности, ожидал выдачи Соединенным Штатам; второй, генерал Максимен-Жозеф Эммануэль Гидаль, арестованный в Марселе, был вообще приговорен к расстрелу. Этого старого якобинца обвиняли в том, что он вступил в контакт с англичанами и даже посещал их корабли, стоявшие возле Тулона, передавая им сведения о расположении французских войск.
Следует отметить, что генерал Фанно де Лаори слыл интеллектуалом, джентльменом и поэтом. Он был любовником жены генерала Жозефа Гюго, и многие полагают, что именно он был отцом Виктора Гюго, ставшего впоследствии всемирно известным писателем. Когда его разбудили, он быстро понял, что происходит, а вот генерал Гидаль подумал, что его собираются этапировать в Марсель, и закричал: «Вы не имеете права! Пусть меня расстреливают здесь, я никуда не поеду!»
Понадобилось минут пятнадцать, чтобы он понял, что его пришли освободить. Вместе с двумя генералами из тюрьмы Ля Форс был освобожден также и некий корсиканец Жозеф Боккечиампе, тут же назначенный генералом Мале префектом полиции. Гидалю же Мале приказал взять часть 10-й когорты и арестовать военного министра Кларка, тогда как генерал Фанно де Лаори должен был арестовать министра полиции Савари, ставшего за четыре года до этого герцогом де Ровиго.
* * *
Однако генерал Гидаль имел личные счеты с Савари, и поэтому, вместо того чтобы арестовать генерала Кларка, он также заявился к министру полиции.
В «Мемуарах…» герцога де Ровиго можно найти следующее признание:
«Лаори был моим боевым товарищем в нескольких походах во время революции, и, несмотря на разницу наших политических убеждений, мы были с ним на «ты», и я сохранил к нему дружеские чувства».
Сейчас от прежней дружбы ничего не осталось. Фанно де Лаори с Гидалем разбудили Савари и арестовали его.
— Ты удивлен? — спросил министра Фанно де Лаори.
— Удивлен — это не то слово! — воскликнул еще толком не проснувшийся Савари.
— Ты арестован и можешь быть рад, что делаю это я, ведь я не причиню тебе зла.
— Может быть, ты все же объяснишь мне, что происходит? — вопросом на вопрос ответил министр полиции.
— А происходит то, что император седьмого октября погиб в России.
— Этого не может быть, — уверенно сказал Савари. — Император жив, и у меня есть письма от него, датированные именно седьмым октября. Ты напрасно пытаешься дурачить меня и своих солдат.
— Как бы то ни было, — перебил его генерал Гидаль, — вы больше не являетесь министром полиции.
После этого он повернулся к солдатам и приказал:
— Увести арестованного!
— Постой, Лаори! — закричал Савари. — Мы столько времени провели вместе на биваках, мы дышали дымом одних и тех же сражений! Я надеюсь, ты не позволишь им убить меня как собаку!
— Кто тебе сказал, что тебя убьют? — взволнованно воскликнул Фанно де Лаори.
— Да об этом говорит все, что я вижу вокруг, — ответил Савари. — Вспомни, ведь мы же были друзьями.
Генерал Фанно де Лаори ничего не ответил и вышел из комнаты.
Когда Савари вели в тюрьму Ля Форс, он спросил конвоировавших его солдат:
— Кто вы такие?
— Мы солдаты 10-й когорты национальной гвардии.
— Вы что, решились на мятеж?
— Нет, нет! Мы с нашими офицерами. Нас сюда привел генерал.
— А вы его знаете?
— Нет.
Савари был удивлен и, опасаясь за свою жизнь, задал еще один вопрос:
— А вы хоть знаете, кто я такой? Кого вы арестовали?
— Нет. Мы просто выполняем приказ.
— Так вот, я министр полиции, а генерал, который вами командует, — это самозванец. Он сидел в тюрьме и вышел оттуда без моего разрешения. Это опасный заговорщик, и вы, выполняя его приказы, тоже становитесь заговорщиками. Вы играете в опасную игру.
— Никакие мы не заговорщики. Нам приказали, и мы доставим вас туда, куда нам сказал наш командир.
— Несчастные, — тяжело вздохнул Савари, — когда все это закончится, а это, поверьте, произойдет очень скоро, вам останется пенять лишь на самих себя и на свою глупость.
* * *
Вслед за герцогом де Ровиго был арестован Пьер-Мари Демаре, его начальник службы безопасности. Барон Пакье, с октября 1810 года префект Парижской полиции куда-то предусмотрительно исчез и появился лишь тогда, когда заговор был подавлен.
Буквально за несколько минут до ареста Демаре виделся с Пакье. Он еще спросил префекта:
— Не знаете, что происходит?
— Ничего не знаю, — ответил тот, — но могу предположить, что это заговор.
— С какой целью?
— Чего не знаю, того не знаю, — ответил Пакье и удалился.
К половине девятого утра заговорщики, не встречая нигде никакого сопротивления, заключили в тюрьму всех главных полицейских Парижа, и Фанно де Лаори занял пост министра полиции.
В сотрудничестве с охотно поверившим в смерть императора префектом департамента Сена Николя Фрошо для встречи членов Временного правительства быстро было приготовлено помещение в городской Ратуше.
— Господа, — говорил граф Фрошо, — поход в Россию и не мог окончиться иначе. Но мы остаемся на своих местах и будем продолжать выполнять свой долг.
Перепуганные чиновники закивали головами. Поддельные бумаги работали безотказно. Самым удивительным было то, что никто не казался опечаленным смертью императора. Нигде не слышались возгласы «Да здравствует император!» Никто даже не поднял вопроса о регентстве, об императрице Марии-Луизе и о сыне Наполеона. Позднее генерал Савари вспоминал:
«Планы Мале осуществлялись безукоризненно, ни один из батальонов Парижа не оказал сопротивления».
Французам, особенно уставшим от бесконечных войн солдатам, похоже, была уже безразлична судьба Наполеона.
Париж постепенно переходил в руки заговорщиков. Генералу Мале уже доложили о захвате банка и казначейства. После этого Мале и верные ему солдаты направились к Вандомской площади, где располагался штаб Парижского гарнизона. Дойдя до места, Мале приказал молодому офицеру доставить портфель с распоряжениями к полковнику Дусэ, адъютанту начальника штаба гарнизона. Сам же Мале направился к дому генерала Пьера-Огюстена Юлена, командовавшего Парижским гарнизоном.
* * *
Скромный часовщик из Женевы, этот Юлен был когда-то приятелем Мале. Вместе они ходили на штурм Бастилии, участвовали в боевых походах. В 1808 году Юлен стал графом империи и верой и правдой служил Наполеону, который высоко ценил службу своего дивизионного генерала: он успел побывать и личным адъютантом генерала Бонапарта, и командиром пеших гренадер Консульской гвардии, и председателем суда над герцогом Энгиенским, и губернатором Вены, и комендантом Берлина. С августа 1807 года он был военным губернатором в Париже, охраняя в отсутствие Наполеона столицу Франции.
В восемь утра его дом был окружен, солдаты наводнили прихожую и стали, громко разговаривая, подниматься по лестнице на второй этаж.
— Что за шум?! — проворчала мадам Юлен. — Кто это позволил себе прийти в такую рань?
Через минуту в их спальню ворвался генерал Мале и объявил об аресте губернатора.
— Император убит в России, а ты больше не военный губернатор Парижа! — заявил Мале. — Временное правительство назначило на этот пост меня! Вставай и будь любезен отдать мне шпагу, а заодно и штабную печать.
Не до конца проснувшийся Юлен уже готов был поверить Мале.
— Ничего не понимаю, — бормотал он. — Я вроде бы всегда служил исправно…
Трясущимися руками он начал искать печать, но тут в дело вмешалась его жена Луиза, которая закричала:
— Но, друг мой, если этот господин отнимает у вас пост, спросите хотя бы, есть ли у него на это мандат! Пусть он его покажет.
Это было вполне справедливым требованием, и Юлен перешел в атаку:
— Почему я должен верить твоим словам, Мале? Покажи мне документы.
— Я тебе сейчас все покажу, — холодно ответил ему генерал Мале, — перейдем только к тебе в кабинет.
В кабинете, едва Юлен повторил свое требование, Мале выхватил из-за пояса пистолет и со словами «Вот он, мой мандат!» выстрелил ему прямо в лицо, раздробив своему бывшему другу челюсть. Командующий Парижским гарнизоном рухнул на ковер, истекая кровью. Теперь он был не опасен.
Услышав выстрел, мадам Юлен вскочила с кровати и прибежала в кабинет мужа, испуская душераздирающие крики. Мале запер их обоих и спокойно спустился вниз, прихватив с собой столь необходимую ему печать. Потом он отдал приказ полковнику Раббу, командующему полком национальной гвардии Парижа, привести войска в боевую готовность.
Таким образом, управляя одной лишь 10-й когортой национальной гвардии, Мале получил все необходимые документы и печати для того, чтобы принять командование над всем столичным военным округом. После подчинения полковника Рабба под контролем генерала Мале оказались бы почти все военные силы Парижа.
* * *
Один лишь старый полковник Дусэ заподозрил в Мале заговорщика. Он получил от Мале документы, в которых говорилось о смерти Наполеона и указе Сената об учреждении Временного правительства. Согласно этим документам полковник Дусэ должен был принять меры к занятию ключевых пунктов Парижа. Но он знал, что начиная с 7 октября, даты, которая была объявлена датой смерти Наполеона, император несколько раз писал военному министру Кларку и генералу Юлену и что Сенат вообще не заседал ночью 22 октября. Таким образом, Дусэ понял, что не существовало никакого указа Сената об установлении Временного правительства.
По пути к Дусэ генерал Мале размышлял о ходе действий. После устранения командующего столичным гарнизоном успех переворота был предопределен. Мале уже представлял себя выступающим на балконе перед восхищенной и послушной толпой. Солдаты горячо приветствовали бы его, а он с внутренним волнением принял бы их признание.
При входе в здание штаба он спросил, как ему пройти к полковнику Дусэ и поднялся по лестнице. Войдя в кабинет, он заметил, что Дусэ продолжал сидеть на месте, хотя полученные им распоряжения назначали Мале на его пост. В долю секунд Мале понял, что его карты раскрыты. Дверь отворились, и в кабинет ворвались верные Дусэ капитан Лаборд, инспектор полиции Фавье и солдаты. По сути, игра была проиграна…
— Господин Мале, — сказал ему полковник Дусэ, — вы прекрасно знаете, что никто не давал вам права покидать заведение господина Дюбюиссона. Почему же вы сейчас находитесь здесь, да еще в генеральской форме?
Генерал Мале ничего не ответил и попятился в сторону двери. Капитан Лаборд крикнул:
— Полковник, позвольте его сначала арестовать, а потом мы разберемся, что все это значит.
Мале выхватил пистолет и направил его на Лаборда. Тот бросился вперед и закричал:
— Солдаты! Ко мне! На помощь!
Тут же три солдата схватили генерала Мале за руки и выбили у него пистолет, давший осечку.
— Солдаты! — воскликнул Мале. — Император умер!
— Не верьте ему! — вмешался в дело полковник Дусэ.
— Солдаты! Я — губернатор Парижа!
— Не верьте ему, — поддержал полковника капитан Лаборд.
— Вы будете отвечать перед Сенатом…
— Не слушайте его! Это разбойник! Это заговорщик!
— Кто это тут говорит о заговорщиках? — это в комнату вдруг ворвался Рато.
— Солдаты! — закричал Лаборд. — Хватайте и этого человека! Это эмигрант, шуан!
— Я — шуан! Я — эмигрант! — взревел Рато. — Что это за гадство? Я Жан Рато из Бордо! Я — адъютант вот этого генерала.
— Никакой это не адъютант, — перебил его Лаборд. — Разоружите его и свяжите!
Приказ был выполнен, и брызжущего слюной Рато повалили на пол.
— Оставьте его! — крикнул генерал Мале. — Во всем виноват лишь я один. Даю слово, что я не буду сопротивляться.
* * *
Арестованного и связанного генерала вывели на балкон, где полковник Дусэ объявил, что Наполеон жив, а Мале — самозванец.
— Французы! — крикнул он собравшейся на площади толпе. — Наш Великий Император бессмертен! Тревожные слухи, возмутившие вас, порождены врагами порядка. Весть о гибели императора — провокация! Возвращайтесь к своим обычным занятиям…
— Да здравствует император!!! — неуверенно закричали солдаты.
Затем полковник Дусэ приказал обескураженной 10-й когорте возвратиться назад в казармы. Деятельный Лаборд отправил гонца в тюрьму Ля Форс с приказом срочно освободить министра полиции и его чиновников. Савари и Демаре были тут же выпущены на свободу.
В девять часов утра с заговором было покончено, оставалось арестовать лишь отдельных его участников, пустившихся в бега. Все, что было запланировано на протяжении четырех лет, рассыпалось в один момент.
Архиканцлер Камбасерес созвал в Тюильри экстренный совет министров. Министры Кларк и Савари начали упрекать друг друга за неосмотрительность, но Камбасерес резко прервал их:
— Сейчас не время для подобного ребячества. Эта попытка государственного переворота должна быть наказана примерно и быстро. Отсутствие мгновенной и суровой реакции может вызвать ощущение, что заговорщики были правы, и может начаться паника. Нужно действовать, а не заниматься взаимными обвинениями.
По результатам заседания был создан военный совет, приступивший к допросу захваченных заговорщиков.
Вечером того же дня многоопытный Камбасерес написал своему старому другу, бывшему третьему консулу Лебрёну:
«Теперь хотелось бы узнать, как император отреагирует на это неприятное дело. Эта неизвестность для меня мучительна».
О первой реакции Наполеона на события в Париже рассказывает в своих «Мемуарах…» генерал де Коленкур:
«Согласно донесениям, полученным императором, поведение префекта департамента Сены господина Фрошо было небезупречным, а то, что император узнал позже, укрепило его в этом мнении».
Военный министр генерал Кларк смотрел на этот заговор иначе, чем министр полиции Савари.
— Кларк, — сказал Наполеон, — убежден, что это большой заговор и что имеются еще другие, более важные руководители.
— Министр полиции утверждает обратное, — возразил де Коленкур.
— В первый момент, — продолжил Наполеон, — сообщение о моей смерти заставило всех потерять голову. Военный министр, вечно распинающийся передо мною в своей преданности, не потрудился даже надеть сапоги, чтобы пойти в казармы, привести войска и вытащить Савари из тюрьмы. Один лишь Юлен проявил мужество.
— Полковник Дусэ и капитан Лаборд тоже показали присутствие духа.
— Да, но поведение префекта полиции Пакье непостижимо. Как полагаться на подобных людей, — прибавил император с горечью, — если первокласснейшее воспитание отнюдь не гарантирует с их стороны верности и чести? Слабость и неблагодарность Пакье приводит меня в бешенство.
После первых сообщений император с нетерпением ожидал следующей эстафеты, желая поскорее узнать результаты предпринятого расследования.
— Этот бунт, — говорил он, — не может быть делом одного человека.
Прибывшая очередная эстафета, чудом прорвавшаяся сквозь казачьи заставы, доставила подробности, которые подтверждали сообщения генерала Савари. Но военный министр Кларк по-прежнему усматривал в этом деле обширный заговор, и его сообщения все время беспокоили императора, которого поведение скомпрометированных лиц возмущало до такой степени, что он говорил об этом, не переставая.
— Рабб — дурак, — негодовал Наполеон. — Ему достаточно показать большой печатный бланк с поставленной на нем печатью. Но как был обойден и обманут Фрошо, человек умный, человек с головой?
— Он — старый якобинец, — предположил де Коленкур, — наверное, его снова соблазнила республика.
— Конечно, он привык к переворотам, и этот переворот удивил его не больше чем десяток других, которые он видел на своем веку. Известие о моей смерти показалось ему, по-видимому, правдоподобным, и, прежде чем вспомнить о своем долге, он задумался о том, как бы сохранить свое место. Он присягал добрых 20 раз, и присягу, которая связывает его со мной, он забыл так же, как и другие. Быть высшим должностным лицом города Парижа и без всякого сопротивления приготовить в городской Ратуше, в своем собственном помещении, зал заседаний для заговорщиков, не навести никаких справок, не принять никаких мер, чтобы воспротивиться заговорщикам, не сделать ни одного шага, чтобы поддержать авторитет своего законного государя! Он, должно быть, участник заговора, потому что подобная доверчивость со стороны такого человека, как Фрошо, необъяснима.
— Савари сделал большую ошибку, не арестовав его.
— Он еще больший изменник, чем Мале, которого я прощал четыре раза и который всегда занимался заговорами. Что касается Мале, то это его ремесло.
— Милосердие Вашего Величества тяготило его. Это же сумасшедший.
— Да, но Фрошо — член государственного совета, начальник администрации важнейшего департамента Франции, человек, осыпанный моими благодеяниями! Это возмутительная подлость и измена! Ему нечего было бояться умереть с голоду, если он потеряет свое место. Зато он потерял свою честь. Думает ли он, что его честь менее драгоценна, чем его место? Если бы даже Мале сделал Фрошо первым министром, то он не спас бы его от позора измены своему долгу и своему благодетелю. Я хорошо знаю, что не всегда можно особенно полагаться на людей, которые смотрят на военную карьеру только как на ремесло, на выгодную спекуляцию и готовы служить всякому, кто оплачивает их риск соответствующим окладом, но ведь Фрошо — высшее должностное лицо, человек с большим состоянием, отец семейства, обязанный показывать своим детям пример верности своему государю, которая является первейшим долгом каждого! Я не могу поверить в такую подлость.
Император был в негодовании. Он казался оскорбленным до глубины души.
Судя по тому, что император говорил потом Коленкуру и что он рассказывал также Дюроку и Бертье, он изменил свое мнение насчет министра полиции Савари и понимал, быть может, лучше, чем это понимали в Париже, как именно мог быть захвачен врасплох и арестован этот министр, даже если заговор являлся замыслом и делом одного Мале.
Генерал Кларк продолжал подозревать, что к заговору причастны и высокопоставленные лица. Имя Фрошо, который скомпрометировал себя, придавало этому мнению вес в глазах императора.
Камбасерес и Савари держались, к счастью, противоположного мнения. Последний продолжал говорить о генерале Фанно де Лаори как о жертве обмана, который ничего не знал до того, как за ним пришли в его тюрьму. Донесение префекта полиции и другие донесения были в том же духе.
Генерал де Коленкур в своих «Мемуарах…» пишет:
«Пример, который показал смельчак Мале, и поведение префекта департамента Сены дали императору пищу для серьезных размышлений. В особенности его беспокоило то впечатление, которое это происшествие должно было произвести в Европе. Была доказана возможность подобного предприятия, хотя результат и показал невозможность успеха; уже одно это казалось императору серьезным посягательством против власти, открывающим для кое-каких горячих голов, агентов Англии, путь к созданию беспорядков и покушений. В Париже он забыл бы об этом происшествии через двадцать четыре часа, но в шестистах лье от Парижа в тот момент, когда там могли в течение некоторого времени оставаться без известий о нем и об армии, были все основания для беспокойства. Предприятие, которое человек оказался в состоянии задумать один в стенах своей тюрьмы и осуществить с помощью ложных сообщений через четверть часа после выхода из нее в центре столицы, на глазах устойчивого правительства и бдительной администрации, могло соблазнить также и других интриганов.
Таковы были мысли, осаждавшие императора, а также и нас, и обстоятельства, в которых мы находились, придавали им особое значение».
Но вернемся в Париж. Сидя в тюремной камере, обессиленный генерал Мале старался ни о чем не думать. До него уже дошла информация о том, что в соседних камерах находятся почти все участники заговора. Один лишь аббат Лафон, как мы уже знаем, сумел предусмотрительно исчезнуть из Парижа. В тюрьму была заключена также и жена Мале. (После смерти мужа, она будет освобождена, и ей будет дана небольшая пенсия, а после Реставрации Людовик XVIII предоставит сыну генерала Мале военную пенсию. — Авт.)
* * *
Следствие длилось всего четыре дня, и 28 октября заговорщики предстали перед военным судом.
В половине восьмого утра председательствующий граф Дежан открыл заседание. Обвиняемые Мале, Фанно де Лаори, Гидаль и их сообщники были введены в зал и усажены слева от судей.
Начался традиционный опрос обвиняемых: имя, фамилия, место рождения, возраст и так далее. Всего на скамье подсудимых сидело 22 человека. Это были: Мале, родился в Доле (Юра), 58 лет, бригадный генерал; Фанно де Лаори, родился в Гавру (Майен), 46 лет, бригадный генерал; Гидаль, родидся в Грассе (Вар), 47 лет, бригадный генерал; Сулье, родился в Каркассоне (Од), 45 лет, командир батальона, майор 10-й когорты национальной гвардии; Рабб, родился в Пеме (Верхняя Сона), 55 лет, полковник национальной гвардии Парижа; Пикерель, родился в Нёфмарше (Приморская Сена), 41 год, капитан 10-й когорты национальной гвардии; Стинхувер, родился в Амстердаме (Нидерланды), 49 лет, капитан той же когорты; Прево, родился в Клермоне (Уаза), 23 года, лейтенант той же когорты; Ренье, родился в Шато-Рено (Луара), 34 года, лейтенант той же когорты; Леби, родился в Вимутьере (Орн), 39 лет, лейтенант той же когорты; Гомон, родился в Меце (Мозелль), 44 года, су-лейтенант той же когорты; Лефевр, родился в Лилле (Нор), 45 лет, су-лейтенант той же когорты; Бордерьё, родился в Роанне (Луара), 41 год, капитан полка гренадеров Парижской гвардии; Руфф, родился в Буксвейе (Нижний Рейн), 48 лет, капитан того же полка; Годар, родился в Париже, 52 года, капитан того же полка; Бомон, родился в Пуатье (Вьенна), 39 лет, аджюдан того же полка; Виальвией, родился в Кресе (Пюи-де-Дом), 31 год, аджюдан того же полка; Карон, родился в Париже, 39 лет, аджюдан того же полка; Жюльен, родился в Фарен-Вонтэн (Форез), 29 лет, сержант того же полка; Кометт, родился в Париже, 28 лет, сержант того же полка; Рато, родился в Бордо (Жиронда), 28 лет, капрал того же полка; Боккечиампе, родился в Олеста (Корсика), 42 года, в течение десяти лет заключенный в государственной тюрьме Парижа.
Когда формальности были закончены, обвиняемый Фанно де Лаори попросил слова. Он сказал:
— Господин председатель, бумаги, которые были отняты у меня при аресте, необходимы мне для защиты. Я надеюсь, меня не осудят, предварительно не выслушав. Во время допросов в полиции меня обвинили в том, что я был одним из главных действующих лиц еще одного заговора, имевшего место два года назад. В бумагах, о которых я говорю, якобы есть доказательства этого. Сейчас они мне нужны.
— Но сегодня речь не пойдет о прошлых заговорах, — возразил ему председатель суда. — Ваша прошлая деятельность никак не повлияет на решения суда, который я имею честь возглавлять.
— Раз вы отказываете мне в том, что я прошу и на что я имею полное право, мне нечего больше сказать.
— Вас будут судить только по факту того обвинения, которое обращено на вас сегодня. Я обещаю вам.
Сказав это, граф Дежан велел Фанно де Лаори сесть и обратился к генералу Мале:
— Обвиняемый Мале, прошу вас встать.
При этих словах взгляды всех присутствующих сконцентрировались на генерале, одетом в синий мундир без знаков отличия. Мале встал, сложил руки на груди и гордо посмотрел на судей.
— На столе лежат два пистолета, изъятые у вас. Вы их узнаете?
— Да, узнаю.
— Теперь, когда вы признались, нет смысла задавать вам другие вопросы. Мой следующий вопрос обвиняемому Лаори: вы участвовали в аресте министра полиции, потом заняли его место и даже успели подписать несколько документов — что вы можете сказать по этому поводу?
— Идя арестовывать министра полиции, — сказал генерал Фанно де Лаори, — я подчинялся приказам Мале. Что касается должности министра, то я согласился на нее исключительно потому, что волновался за судьбу герцога де Ровиго. Это был мой единственный мотив, но если бы я, действительно, считал себя министром, я воспользовался бы своим положением не только для того, чтобы освободить нескольких пленников, с которыми я находился в тюрьме Ля Форс. Скажу больше: я согласился стать министром из благородных побуждений, я хотел спасти жизнь министра. Когда он попал в мои руки, моими первыми словами было заявление о том, что ему повезло, что он попал ко мне, что я не причиню ему зла. И в тюрьму я его отправил для его же безопасности. Я отказываюсь признавать то, что я узурпировал эту должность. Покажите мне хоть один документ, где я реально пользовался бы своим новым положением.
— Вы слишком умны, чтобы не понимать характер происходившего. Признайте: ведь вы сразу догадались, что показанные вам Мале документы не являются подлинными?
— Господин председатель, — снова заговорил Лаори, — мне объявили, что я свободен. Выйдя из тюрьмы, я встретил генерала Мале, который передал мне пакет с указом Сената и рассказал о гибели императора. Речь шла о формировании нового правительства. Честно говоря, я думал, что это революция, а вовсе не заговор.
— Но вы должны были знать бывшего генерала Мале. — перебил его граф Дежан, — Не сидел ли он сам раньше в тюрьме Ля Форс?
— Да, но, после того как он вышел из тюрьмы, у меня с ним не было ни прямых, ни косвенных контактов. Я не знал, что происходило, а сам должен был уехать в Соединенные Штаты. Выходя из тюрьмы лишь для того, чтобы быть высланным за границу, я больше, чем кто-либо, заслуживал лучшей участи. Если попытаться прочувствовать мое душевное состояние, можно лучше понять причину, по которой я согласился на сделанные мне предложения. Тем более мне не оставили времени подумать. Мале сказал мне: «Нельзя терять ни минуты». Я пережил 18 брюмера. Это была революция, которая делалась почти так же, и вы все это прекрасно знаете. В конце концов, любой человек имеет право на ошибку.
— Никто и не утверждает, что вы были главой заговора, — сказал председатель суда. — Но тем не менее есть объективные доказательства того, что вы в нем участвовали.
Затем вопросы были заданы генералу Гидалю, но тот каждый раз отвечал одно и то же: что он все сказал на предварительных допросах и что он имеет право на защитника…
После этого попросили подняться нескольких офицеров 10-й когорты национальной гвардии, и Гидалю был задан вопрос, узнает ли он этих людей.
Генерал лишь пожал плечами:
— Я не знаю этих людей.
Когда обратились к майору Сулье, тот так разволновался, что не мог толком отвечать на вопросы.
— Вы лично видели так называемый указ Сената об учреждении Временного правительства?
— Нет, монсеньор, — еле выдавил из себя Сулье. — Мне что-то зачитали, но я так плохо себя чувствовал, что ничего не понял.
Потом он начал сбивчиво объяснять, что лишь дал приказ своей когорте построиться. Судорожно ища оправдания, он заявил:
— Увы, монсеньор! Весть о смерти императора лишь усилила мою болезнь. Начался жар, и я вынужден был за четверть часа поменять четыре рубашки.
— Это правда, — подтвердил капитан Пикерель. — Я готов.
— Раз уж вы заговорили, — перебил его председатель суда, — вам слово: что вы можете сказать в свое собственное оправдание?
— Черт возьми! Господин председатель, меня разбудили в три часа ночи и сказали, что господин майор требует меня к себе. Когда я явился к майору, он сказал мне: «Мой капитан, должен сообщить вам грустную новость». Я еще переспросил его, не отправил ли меня военный министр в отставку. «Нет, — сказал он, — император умер!» Я был так поражен, что еле удержался на ногах. Потом майор сказал мне, чтобы я сходил за шпагой и был готов к выступлению. Это что, преступление?
Когда майора Сулье вновь спросили, кто отдал приказ 10-й когорте выходить из казармы, тот замялся. Генерал Мале повернулся к нему и что-то шепнул ему на ухо. После этого майор ответил:
— Я плохо помню, но генерал Мале мне подсказал, что этот приказ отдал он.
— Это правда, — подтвердил генерал Мале.
— Да, вы же видите, я просто был вынужден. — промямлил майор Сулье.
— Если мне предоставят слово, — вновь вмешался в ход заседания генерал Мале, — я расскажу, как все было. Когда я пришел к майору, я застал его в постели. Он был очень болен. Я потребовал, чтобы когорту построили для зачтения документов, подтверждающих смерть императора. Майор приказал когорте поступить в мое распоряжение. Он подчинился, так как думал, что я, действительно, являюсь генералом, присланным Сенатом. Я играл свою роль, а его долг предписывал ему подчиняться мне.
— Его долг состоял в том, — крикнул возмущенный граф Дежан, — чтобы остановить вас!
Не моргнув глазом, Мале продолжил:
— Еще раз повторяю, господин председатель, это я ввел всех в заблуждение! Все эти офицеры невиновны. Прошу виновником всего считать меня, и только меня одного.
Ему возражали, что заговор невозможно осуществить одному. Особенно настаивал на этом граф Фрошо, тоже попавший в число судей.
— Но тогда кто же ваши сообщники? Назовите их.
— Странный вопрос, — хмыкнул генерал Мале. — Мои сообщники — это вся Франция. И вы тоже, месье Фрошо, если бы я довел свое дело до конца.
Потом председатель суда обратился к капитану Пикерелю:
— Вы присутствовали при аресте министра полиции?
— Да, господин председатель. Он мне еще сказал, что он министр полиции. Я ответил, что не имею чести его знать. Он спросил, кто направил меня к нему? Я сказал, что меня направил какой-то генерал, которого я никогда до этого не видел. Честное слово, я ничего не знал.
Председатель уточнил:
— Это вы или Гидаль сопроводили министра полиции в тюрьму?
— Ну, это был точно не я…
— Это был я, — перебил его Фанно де Лаори. — Я сидел в тюрьме и готовился эмигрировать в Соединенные Штаты. Потом появился генерал Мале, и я поверил ему. В этом заключается вся моя вина. Кроме того, я получил от Мале приказ убить министра полиции, но я не сделал этого и препроводил его в тюрьму. Таким образом, я спас ему жизнь.
— Когда капитан Лаборд сказал, что император жив, — продолжил Пикерель, — все стали кричать «Да здравствует император!», а я кричал громче всех.
После этого граф Дежан переключился на Боккечиампе.
— Кто освободил вас из тюрьмы? Это был обвиняемый Мале?
— Я нисего не снал, — ответил корсиканец со страшным акцентом. — Камеру окрыфали, и я фисел потисать сфесим фостуком.
— Что вы делали в префектуре полиции?
— Я присол тута полусить документи для моей песопасности. Меня там арестофали. Я нефинофен.
Потом председатель суда обратился к полковнику Раббу:
— Вы читали указ Сената, приказы и прокламации?
— Да, господин граф. И вот, как это произошло. В восемь утра прибежал мой адъютант и принес мне пакет. Он сказал, что сегодня много новостей. Он был очень взволнован. С первых его слов я понял, что император погиб под стенами Москвы. Я был так поражен этим известием, что даже вынужден был опереться о камин, чтобы не упасть. Когда он закончил чтение, я сказал: «Мы пропали. Что с нами теперь будет?!» Я быстро оделся и поехал на Вандомскую площадь. Там я увидел капитана Лаборда, и он спросил: что значит все происходящее? Я пошел к полковнику Дусэ, он закричал: «Что вы наделали, Рабб?»
— Почему вы не сохранили при себе все эти документы?
— Это моя ошибка, господин граф. Я был сам не свой. Я к ним даже не притронулся, их читал мой адъютант. Мне не 20 лет, и после известия о смерти императора, меня словно парализовало.
После этого были допрошены еще несколько обвиняемых, но они ничего толком не знали и не могли сообщить ничего интересного. Наконец, председатель суда начал допрос капрала Рато.
— Вы показали, что много раз видели обвиняемого Мале до 23 октября?
— Прошу прощения, монсеньор, — отчеканил Рато, — но это чистая правда.
— Это противоречит показаниям Мале, который утверждает, что никогда раньше вас не видел.
— Прошу прощения, монсеньор, но я с ним виделся пять или шесть раз.
— Свидетельствует ли это о том, что обвиняемый Мале посвятил вас в свои планы или хотя бы в часть своих планов?
Рато отрицательно замотал головой.
— Он вам сказал, что вы будете его адъютантом?
— Прошу прощения, монсеньор, он сказал мне это только 23-го числа.
— Кто познакомил вас с обвиняемым Мале?
— Прошу прощения, монсеньор, меня с ним познакомил господин Лафон.
— Но вас все же предупредили, что 23-го вы должны быть в униформе адъютанта?
— Прошу прощения, монсеньор, меня никто не предупреждал. Утром генерал Мале сказал мне: «Вы теперь — мой адъютант. Теперь вы должны мне подчиняться». Я согласился, ведь никто не захочет вечно оставаться капралом.
— Достаточно. Садитесь.
Рато щелкнул каблуками и с достоинством дворового пса сел на свое место.
— Заседание прерывается на два часа, — объявил граф Дежан. — Жандармы, уведите обвиняемых.
* * *
Было уже восемь часов вечера. Все страшно устали, и перерыв оказался весьма кстати. В десять часов вновь прозвенел звонок, объявляющий заседание открытым.
— Жандармы, — провозгласил граф Дежан, — введите обвиняемых.
Через десять минут все расселись по своим местам.
— Все обвиняемые имели возможность высказаться? — спросил председатель суда у секретаря.
— Да, господин председатель.
— Тогда приступим к защите. Обвиняемый Мале, что вы можете сказать в свою защиту?
Мале встал и громко объявил:
— Человек, который взял на себя защиту прав своей угнетенной страны, не нуждается в защите: он либо побеждает, либо умирает!
Шум прошел по залу заседаний, и председатель суда поспешил обратиться к другому обвиняемому:
— Обвиняемый Лаори, вам слово.
— Хочу сказать, господа, я думал, что начинается новое 18 брюмера. Я пошел за генералом Мале, как 12 лет назад я пошел за генералом Бонапартом.
— Это серьезное преступление — верить в возможность революции при правлении Его Величества Императора.
Фанно де Лаори лишь усмехнулся.
— Вчера вечером, — сказал он, — я узнал, что нас будут судить сегодня. Я попросил света, чтобы иметь возможность хорошо подготовиться к защите. Мне его не дали. Я не говорю уже об адвокате.
— Точно! — выкрикнул Гидаль. — Не дали ни свечи, ни бутылки вина!
Граф Дежан сурово посмотрел на Гидаля:
— Обвиняемый Гидаль, правильно ли я вас понял, вы хотите что-то сказать в свою защиту? Мы вас внимательно слушаем.
Гидаль, и так уже приговоренный к смертной казни как английский шпион, лишь усмехнулся в ответ и сказал:
— Пусть свершится моя участь!
— Теперь вы, майор Сулье защищайтесь, — сказал граф Дежан, а затем спросил: — Что вы можете сказать в свое оправдание?
— Увы, монсеньор, — пробормотал Сулье, оглядываясь по сторонам, словно ища защиты у окружающих, — я обращался к адвокату, но мне не ответили.
— Пока его нет, защищайтесь сами.
Сулье встал. Он был бледен. Словно через силу он вымолвил:
— Господа, мне 45 лет, 25 из них я нахожусь на службе. У меня 14 ранений и четверо детей. В прошлом году нас окружили в Испании. Я командовал гарнизоном. Мне предлагали 500 тысяч франков и чин генерала, но я не сдался. Я ответил им огнем. Потом мы сделали вылазку и пробились к своим. Проверьте у Его Превосходительства военного министра, он вам все это подтвердит. Я невиновен и взываю к справедливости. У меня четверо детей…
— Майор, — сказал граф Дежан, — будьте спокойны. Мы тщательно изучим ваше дело.
Потом он обратился к Боккечиампе:
— Суд предоставляет вам слово.
— Я просил атфоката, я плоко кофорю по-франсуски. Кте мой атфокат?
— Все адвокаты во Франции уже давно спят! — выкрикнул с места Гидаль.
— Говорите, Боккечиампе, мы вас поймем.
— Коросо! Я нефинофен. Мой атфокат опяснил пы фам… Я нефинофен.
— Вы, полковник Рабб?
— Господин граф, я полностью полагаюсь на торжество правосудия…
— Тогда вы пропали, — перебил его Гидаль, сопроводив свои слова грязным ругательством.
— Вы, капитан Бордерьё?
— Моя защита не будет долгой. Да здравствует император!
— Кто еще хочет что-то сказать в свое оправдание?
— Я еще ничего не сказал, — поднял руку капитан Пикерель.
— Хорошо, говорите.
— Минуточку, — сказал Пикерель, легко сказать «говорите», но я не адвокат, а ведь я просил себе защитника.
— Говорите.
— А что говорить, если я невиновен. Мы оказались втянуты в это дело случайно. В наших действиях нет и капли злого умысла. Нас разбудили ночью и сказали, что император погиб. Можно ли было в таких обстоятельствах сохранить ясность ума? Как бы вы сами повели себя на нашем месте?
— Пусть нам дадут адвокатов! — понеслось с разных сторон.
— Если защитники не явились, это их вина! — сказал секретарь суда.
При этих словах генерал Мале вскочил со своего места и крикнул, показывая пальцем на судей:
— Это ваша вина, господа, и вы это прекрасно знаете!
— Точно, — поддержал его Рато.
Испуганный граф Дежан переключился на капрала Рато:
— Хорошо, что вы можете сказать в свою защиту?
— Прошу прощения, монсеньор, я — как другие. Пусть лучше генерал скажет.
— Господин председатель, — сказал Мале, — защита Рато волнует меня больше, чем моя собственная. Рато приходил в клинику доктора Дюбюиссона, где я находился, чтобы повидать кого-то из своих друзей. Да, я видел его четыре или пять раз. Этот его друг попросил меня: «Могли бы вы, зная капрала Рато, содействовать его повышению». Случай представился. Я предложил Рато стать моим адъютантом. Он согласился. Я сказал, что являюсь уполномоченным Сената. Он ничего не знал. Вот вся правда о Рато. Оправдав его, вы отдадите должное ему и мне.
— Прения закончены, — объявил председатель суда. — Суд удаляется на совещание.
— Постойте, господа! — закричал майор Сулье. — Мы тут почти все — старые солдаты, отцы семейств. Так уж получилось. Но что теперь станет с нашими женами, с нашими детьми? Имейте жалость хотя бы к ним!
— А я? — закричал капитан Бордерьё. — Я всегда был предан императору, и все это знают! Да здравствует император!
— Точно! Да здравствует император! — поддержал его капрал Рато.
— И справедливость! — добавил с улыбкой Фанно де Лаори.
— А я хочу сказать судьям, — крикнул Гидаль, что все они рабы, не имеющие права голоса! Мы никогда не дождемся справедливости!
— Жандармы, — закричал, в свою очередь, граф Дежан, — успокойте и уведите обвиняемых!
Жандармы бросились исполнять приказ. Зал заседаний вскоре был очищен, и лишь с улицы донесся последний крик генерала Мале:
— Граждане! Да здравствует свобода!
* * *
Было уже два часа ночи. Судьи собрались в совещательной комнате, а к четырем часам у них уже было готово решение. Комиссия в составе генералов Дерио и Анри, полковников Женеваля и Монсея (брата маршала), майора Тибо и капитана Делона постановила: из 22 обвиняемых в заговоре против империи 13 человек приговорить к смерти. Двое из них, в частности полковник Рабб (за многолетнюю безупречную службу) и псевдоадъютант «генерала Лямотта» Рато (его отец был генеральным прокурором в Бордо), впоследствии были помилованы. Первым в списке приговоренных значился Мале, вторым — Фанно де Лаори. Далее следовали имена Гидаля, Сулье, Пикереля, Боккечиампе, Стинхувера, Бордерьё, Лефевра, Ренье и Бомона. Остальные обвиняемые были оправданы.
Кавалеры ордена Почетного легиона — а это были Мале, Рабб, Сулье, Пикерель, Бордерьё и Лефевр — были лишены этого почетного звания.
Жители Парижа даже не заметили, что в городе практически произошел государственный переворот. Правда, начали ходить какие-то слухи, но никто толком ничего не знал. Лишь после оглашения приговора на стенах домов появилась официальная прокламация, в которой говорилось следующее:
«Министерство полиции.
Три бывших генерала, Мале, Лаори и Гидаль, ввели в заблуждение национальных гвардейцев и направили их против членов министерства полиции и военного губернатора Парижа. Они пустили слух, что Его Величество император умер. Эти три бывших генерала были арестованы. Они были уличены в обмане и теперь предстали перед судом. Полное спокойствие царит в столице. Оно на короткое время было нарушено лишь в трех домах, где собирались разбойники.
Подпись: герцог де Ровиго».
* * *
В четверг, 29 октября 1812 года, в Париже с утра шел холодный мелкий дождь. Небольшой отряд жандармов и полуэскадрон драгун выстроились около тюрьмы, в которой находились вчерашние заговорщики. В три часа дня семь закрытых фиакров выехали из ворот тюрьмы, и драгуны тут же окружили их плотным кольцом. После этого фиакры, в которых по двое находились приговоренные, направились к площади Гренелль.
По пути почти все приговоренные сохраняли выдержку, один лишь майор Сулье не прекращал причитать, закрыв лицо руками: «О, моя бедная жена, что с ней теперь станет? О, мои бедные дети.»
Корсиканец Боккечиампе тихо молился и жаловался на то, что к нему не допустили священника.
Когда грустный кортеж выехал на площадь, она уже была заполнена людьми, желавшими посмотреть на казнь. Все ставни окружавших площадь домов были открыты, а некоторые любопытные сидели даже на крышах.
Едва дверь первого фиакра, в котором ехали Мале и Фанно де Лаори, открылась, последний тихо сказал:
— Генерал, это ваша нерешительность привела нас сюда.
Потом он сплюнул и закричал, обращаясь к собравшимся парижанам:
— Граждане, мы умираем, но мы не последние римляне, за нами идут другие…
Войска парижского гарнизона были построены на площади в каре. Были здесь и солдаты печально прославившейся 10-й когорты национальной гвардии. Рота усатых ветеранов должна была привести приговор в исполнение. Противный дождь не прекращался, и настроение у всех было соответствующее. Заунывно трещали барабаны.
— О, моя бедная семья! О, мои бедные дети! — бормотал, как заведенный, майор Сулье.
— Майор, — обнял его генерал Мале, — моя жена Дениза позаботится о них.
Боккечиампе что-то сказал одному из жандармов. Тут же подбежал офицер:
— Что он тебе сказал?
— Капитан, он просил исповедника.
— Ничего, пусть себе просит, а ты не должен его слушать, это строго запрещено!
Приговоренных построили в шеренгу. Рота ветеранов выстроилась в два ряда напротив них.
Генерал Мале обратился к своим товарищам:
— Не держите на меня зла за всю эту историю.
На это генерал Гидаль хмуро ответил:
— Да уж история получилась с дерьмовым концом.
— Ничтожества! — выкрикнул генерал Фанно де Лаори, обращаясь к недавним судьям. — Три четверти приговоренных невиновны, и вы это прекрасно знаете!
Во время чтения приговора Боккечиампе упал на колени, а капитан Пикерель спокойно спросил:
— Кто-нибудь может мне объяснить, за что меня сейчас расстреляют?
— Всем тихо! — вдруг скомандовал генерал Мале. — Я начальник тех, кого собираются казнить, поэтому командовать здесь буду я.
После этого он сделал шаг вперед и обратился к стоящим напротив ветеранам:
— Рота, внимание! Товсь! Цельсь!.. Нет, так дело не пойдет. Начнем сначала…
Убеленные сединой ветераны в нерешительности переминались с ноги на ногу, не зная, что делать. Мале вновь скомандовал:
— Внимание! Товсь! Цельсь!.. С богом, огонь!
Раздался залп, и шеренга приговоренных рухнула, как подкошенная. Стоять остался лишь один генерал Мале. Он был легко ранен в плечо.
— А я, друзья мои! — воскликнул он. — Про меня вы что, забыли?
Второй залп доделал то, что не удалось первому. Но перед этим генерал Мале успел выкрикнуть:
— Наши смерти будут отомщены! Через шесть месяцев все изменится во Франции.
Французские историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо констатируют:
«Постановлением военного суда Мале был приговорен к смерти и расстрелян вместе со своими сторонниками, из которых большинство было виновно лишь в излишней доверчивости».
Писатель Вальтер Скотт в своей книге «Жизнь Наполеона Бонапарта» отмечает:
«По прибытии Наполеона в столицу он нашел парижан такими же равнодушными к казни преступников, какими они были и по отношению к их кратковременным успехам».
Но через шесть месяцев во Франции действительно изменилось многое. Разбитый в России и преследуемый союзниками Наполеон из последних сил сражался в Германии. Впереди его ждали лишь череда неудач, отречение, остров Эльба, а вслед за этим — остров Святой Елены и смерть.
* * *
Всесильная еще недавно при Жозефе Фуше полиция Наполеона продемонстрировала полную несостоятельность и была скомпрометирована.
Историк Жан Тюлар по этому поводу пишет:
«Нельзя не признать, что хваленая имперская полиция продемонстрировала несостоятельность, допустив арест своих руководителей».
В Париже потом еще долго ходила такая шутка: «Вы не знаете, что происходит?» — «Нет, не знаю!» — «А, понятно, вы — из полиции…» Министра полиции Савари по названию тюрьмы, в которую он угодил, стали называть не иначе, как Герцог де Ля Форс.
С другой стороны, события 23 октября 1812 года многим показались странными, и на это указывает Вальтер Скотт, который отмечает, что заговор Мале был
«… столько же замечательным кратковременным своим успехом, как и скорым его уничтожением».
Когорты национальной гвардии первого призыва были расформированы и преобразованы в обычные линейные полки, два полка Парижской гвардии были переформированы в полк муниципальной гвардии Парижа, а затем тоже в обычный линейный полк.
Если не считать расстрелянных, больше всех пострадал за свою «доверчивость» префект департамента Сена Николя Фрошо. Наполеон выбрал его и обрушил на него всю мощь своего негодования. В результате 23 декабря Фрошо был отстранен от исполнения функций государственного советника и префекта департамента Сена и заменен графом де Шабролем, префектом Савонны, очень кстати находившимся в Париже в отпуске.
Вальтер Скотт пишет о нем так:
«Несчастный Фрошо спасся, как лишенный снастей корабль уходит из боевой линии под огнем других сражающихся».
Умер Фрошо в 1828 году.
Полковник Пьер Дусэ за активное участие в аресте Мале был произведен в бригадные генералы. Позже он сражался в Германии, был взят в плен в районе Дрездена, но служить Бурбонам отказался. Выйдя в отставку, он умер в Париже в 1834 году.
Дивизионный генерал Пьер-Огюстен Юлен, получивший от Мале пулю в щеку, получил прозвище Проглотивший пулю, после Реставрации перешел на сторону Бурбонов, но во время Ста дней снова занял пост губернатора Парижа. В июле 1815 года он вынужден был покинуть Францию, жил в Германии, Бельгии и Голландии. Юлен был амнистирован и вернулся во Францию лишь в конце 1819 года. Умер он в Париже в 1841 году.
Министр полиции Савари, герцог де Ровиго, после Реставрации попал в опалу и находился в эмиграции. После Ста дней, в декабре 1815 года, он был заочно приговорен к смертной казни. Амнистировали Савари, как и Юлена, в 1819 году. В 1831–1832 годах он командовал оккупационным корпусом в Алжире, но вернулся оттуда по состоянию здоровья. Умер Савари в Париже в 1833 году.
Генерал Анри-Жак-Гийом Кларк, герцог Фельтрский, прозванный в армии Генералом-чернильницей, пробыл военным министром Наполеона до конца марта 1814 года. Он оказался одним из первых, кто изменил императору и перешел на сторону Бурбонов. В 1816 году был произведен в маршалы и снова стал военным министром. Умер в 1818 году.
Дольше всех прожил префект столичной полиции Этьенн-Дени Пакье. В 1819–1821 годах стал министром иностранных дел, а при короле Луи-Филиппе — председателем палаты пэров. Умер в 1862 году в возрасте 95 лет.
* * *
Историк Е.В. Тарле утверждает:
«Мале все это затеял один».
И он, скорее всего, неправ. Генерал де Коленкур в своих «Мемуарах…» приводит следующий факт. Сразу после получения первых сведений о событиях в Париже Наполеон сказал ему: «Этот бунт не может быть делом одного человека».
Очень важное признание, свидетельствующее о том, что Наполеон сразу понял суть произошедшего! У А.З. Манфреда по этому поводу читаем:
«Он еще в России, под Дорогобужем, когда ему было доложено дело Мале, понял его истинный смысл. То был республиканский заговор, в том не могло быть сомнения. Материалы дела, с которыми он, прежде всего, ознакомился в Париже, полностью укрепили его в этом мнении».
Историк Жан Тюлар по этому поводу высказывается несколько иначе:
«Кто стоял за спиной Мале? Талейран и Фуше? Маловероятно. Нотабли? Конечно же, нет. Скорее всего, речь шла об уже наметившемся на юге сближении роялистов, объединившихся в Общество рыцарей веры (хотя они и действовали еще чрезвычайно осторожно), и горстки неисправимых республиканцев».
Такое объяснение кажется более справедливым. Несмотря на различия во взглядах, роялисты и республиканцы вполне могли найти общий язык, чтобы объединить свои усилия во имя свержения Наполеона, узурпировавшего власть в дорогой им всем Франции.
Но дальновидный Наполеон сразу понял, что ему было выгодно утвердить версию о том, будто бы генерал Мале был лишь психически больным одиночкой, ведь только безумец мог бы покуситься на власть императора.
На Францию и всю Европу произвели глубочайшее впечатление та легкость, с которой Мале сумел убедить войска в смерти императора, и та пассивная покорность, с которой муниципальные власти подчинились его приказам.
Французские историки Эрнест Лависс и Альфред Рамбо совершенно справедливо отмечают:
«Инцидент этот свидетельствовал о том, насколько дело Наполеона, поставленное на карту в равнинах России, было непрочно в самой Франции. Все "установления Империи", весь ее блеск — все это держалось жизнью одного человека».
Писатель Вальтер Скотт развивает эту мысль:
«Во время пребывания Наполеона в русском походе составился заговор, доказавший, как нетверда была народная привязанность к императорскому правлению, какими легкими средствами можно было его ниспровергнуть. Власть императора казалась подобной крепкому высокому сосновому дереву, которое, распространяя вокруг себя обширную сень и вознося чело свое к облакам, не может, однако же, как дуб, пускать корни свои глубоко в недра земли, но расстилая их в стороны по поверхности, подвергается опасности быть низверженным первым ударом бури».
В этих условиях ему, императору, было очень даже опасно признать перед всем миром, что заговорщик Мале не был одиночкой, а за ним стояли мощные подпольные силы той самой Революции, которые ему, Наполеону, так и не удалось до конца растоптать. Именно потому лживая версия о генерале Мале как о «безумном одиночке», столь удобная для Наполеона, надолго утвердилась в литературе, поддерживаемая сторонниками Великой Личности в истории.
* * *
После того как герцог де Ровиго стал посмешищем всей Франции, позволив арестовать себя во время попытки переворота, предпринятого генералом Мале, друзья стали советовать Фуше, что наступил подходящий момент, чтобы попытаться вернуться. Но ответ опального министра их удивил.
— Мое сердце закрыто для всей этой человеческой суеты, — сказал он. — Власть больше не привлекает меня, в моем теперешнем состоянии мне не только желателен, но и совершенно необходим покой. Государственная деятельность представляется мне сумбурным, полным опасностей занятием.
Что это было? Кокетство? Или этот человек, действительно, научился житейской мудрости, пройдя полный курс обучения в школе страдания?
Биограф Фуше Стефан Цвейг пишет об этом следующее:
«После двадцати лет бессмысленной погони за почестями стареющим человеком овладела глубокая потребность в отдыхе, во внутреннем успокоении. Кажется, в нем навсегда угасла страсть к интригам, и воля к власти наконец-то окончательно сломлена в этой так много метавшейся, беспокойной, ненасытной душе».
Надо сказать, весьма спорное мнение. Все-таки не такой человек был Жозеф Фуше, чтобы быть окончательно сломленным. Для него, скорее всего, больше подходит следующее определение историка Альбера Сореля:
«Партия жертв никогда не была его партией».
Заговор генерала Мале заставил Наполеона бросить свою разбитую армию в снегах России и срочно вернуться в Париж. Среди прочих неотложных дел он отдал приказ и о проведении секретного расследования на предмет возможности участия в заговоре бывшего министра полиции Фуше. Впрочем, никаких доказательств этого обнаружено не было. Однако это никоим образом не говорит о том, что изгнанник Фуше совсем не был в курсе происходившего. Был, еще как был! И имел об этом весьма профессиональное суждение. Оно до такой степени интересно, что его хотелось бы привести практически без сокращений. Вот что написал Фуше о заговоре Мале в своих «Мемуарах…»:
«Как Мале смог осуществить свой заговор, как смог стать хозяином в Париже?
Вы скажете, что не было никакого указа Сената, но уверены ли вы, что внутри Сената не существовало очага оппозиции, который мог действовать в зависимости от обстоятельств? Я настаиваю на факте, что среди ста тридцати сенаторов было по меньшей мере шестьдесят, находившихся под влиянием господина де Талейрана, господина де Семонвилля[14] и под моим собственным, которые оказали бы содействие любой революции в целях самоспасения или для демонстрации своего согласия с этим тройным влиянием. Подобная каолиция не была ни невозможной, ни неосуществимой.
Эта возможность объясняет создание Временного правительства, в которое вошли господа Матьё де Монморанси[15], Алексис де Ноай[16], генерал Моро, префект граф Фрошо и еще пятый человек, которого не назвали. Замечательно! Этим пятым человеком был господин де Талейран, а я должен был заменить отсутствующего генерала Моро, имя которого стояло в списке либо на всякий случай, либо для того, чтобы польстить армии.
Что касается Мале, ценного инструмента, то он должен был уступить командование в Париже Массене[17], который, как и я, находился в отставке и немилости».
Потрясающее признание! Фуше обвиняет господина де Талейрана в покровительстве заговору, называет себя в числе возможных членов незаконного Временного правительства.
Далее Фуше анализирует причины поражения Мале и утверждает, что его погубила излишняя снисходительность:
«Вместо того чтобы тут же убить Савари, Гюлена и его двух помощников Дусэ и Лаборда, Мале счел возможным ограничиться их арестом без пролития крови. Это ему удалось в отношении представителей полиции, которая была дезорганизована, как только Савари позволил себя схватить и позорно препроводить в тюрьму. Но как только сопротивление Гюлена заставило Мале вытащить пистолеты, его нерешительность тут же его и погубила».
Своеобразная, но очень точная оценка! Нерешительность — это удел посредственности. Она идет от слабости характера. Очевидно, что сам Фуше в подобных обстоятельствах действовал бы по-другому.
А теперь ознакомимся с главным выводом Фуше относительно того, был ли Мале безумным одиночкой:
«Легкость, с которой был осуществлен захват власти, является признаком того, что это не было неожиданностью. Все было готово в Ратуше для начала работы Временного правительства. Бледный и дрожащий архиканцлер ждал, что его придут убить или отправить в тюрьму, как Савари. Что касается народа, то он не сделал ничего для успеха предприятия, сначала покрытого сумраком ночи, но потом он последовал бы за победителями в силу инерции, всегда вредной для слабых правительств».
Очень суровый для Наполеона вывод. Его, конечно, нельзя считать полностью объективным, но и совсем проигнорировать его также невозможно.
В книге Вальтера Скотта «Жизнь Наполеона Бонапарта» можно найти следующее мнение:
«Мале держался перед смертью с наивеличайшей твердостью. Солнце всходило над Домом инвалидов, и работники золотили великолепный купол его, по именному повелению Наполеона, в подражание, как сказывали, виденных им в Москве. Пленник сделал несколько замечаний о том, как это украсит столицу. Идя к месту казни, он сказал таинственно, но угрюмо: "Вы поймали хвост, но вам не захватить головы!" Из этих слов заключили, что подобно тому как умысел адской машины, первоначально составленный якобинцами, был приведен в исполнение роялистами, так и этот заговор принадлежал роялистам, хотя был исполнен руками республиканцев. Истина эта, которая должна быть известна нескольким живым еще людям, до сих пор никем не обнаружена».
* * *
Заявление Фуше относительно заговорщической роли Талейрана невозможно оценить, не зная предыстории отношений этих двух неординарных личностей: с одной стороны, они были очень разными и непримиримо враждовали друг с другом, с другой — их противодействие безграничной власти Наполеона объединяло их и делало во многом похожими.
Стефан Цвейг дает очень точную картину сопоставления этих двух выдающихся и противоречивых политических деятелей:
«Эти два самых способных министра Наполеона — психологически самые интересные люди его эпохи — не любят друг друга, вероятно, оттого, что они во многом слишком похожи друг на друга. Это трезвые, реалистические умы, циничные, ни с чем не считающиеся ученики Макиавелли. Оба выходцы из церкви, оба прошли сквозь пламя революции, оба одинаково бессовестно хладнокровны в денежных вопросах и в вопросах чести, оба служили, одинаково неверно и с одинаковой неразборчивостью в средствах, республике, Директории, Консульству, империи и королю. Беспрестанно встречаются на одной и той же сцене всемирной истории эти два актера в характерных ролях перебежчиков, одетые то революционерами, то сенаторами, то министрами, то слугами короля, и именно потому, что это люди одной и той же духовной породы, исполняющие одинаковые дипломатические роли, они ненавидят друг друга с холодностью знатоков и затаенной злобой соперников. Они принадлежат к одному и тому же типу безнравственных людей, но если их сходство проистекает из их характеров, то их различие обусловливается их происхождением».
Действительно, Талейран был из очень знатной аристократической семьи, а Фуше — из семьи потомственных моряков и купцов. Талейран пришел к революции сверху, как господин, вышедший из своей кареты, Фуше — снизу. Талейран, обладая тонкими манерами, добивался своего со снисходительностью барина, Фуше — с ревностным старанием хитрого и честолюбивого чиновника. Оба они любили деньги, но Талейран делал это их как аристократ (он любил сорить деньгами за игорным столом и в обществе красивых женщин. — Авт.), а Фуше — как купец, превращая их в капитал, получая барыши и бережливо накапливая.
Стефан Цвейг пишет:
«Для Талейрана власть только средство к наслаждению; она представляет ему лучшую и пристойнейшую возможность пользоваться земными наслаждениями, роскошью, женщинами, искусством, тонким столом, между тем как Фуше, уже владея миллионами, остается спартанцем и скрягой. Оба не в состоянии окончательно избавиться от следов своего социального происхождения: никогда, даже в дни самого разнузданного террора, Талейран, герцог Перигорский, не может стать истинным сыном народа и республиканцем; никогда Жозеф Фуше, новоиспеченный герцог Отрантский, несмотря на сверкающий золотом мундир, не может стать настоящим аристократом. Более ослепительным, более очаровательным, может быть, и более значительным из них является Талейран. Воспитанный на изысканной древней культуре, гибкий ум, пропитанный духом восемнадцатого века, он любит дипломатическую игру как одну из многих увлекательных игр бытия, но ненавидит работу. Ему лень собственноручно писать письма: как истый сластолюбец и утонченный сибарит, он поручает всю черновую работу другому, чтобы потом небрежно собрать все плоды своей узкой, в перстнях рукой. Ему достаточно его интуиции, которая молниеносно проникает в сущность самой запутанной ситуации. Прирожденный и вышколенный психолог, он, по словам Наполеона, легко проникает в мысли другого и проясняет каждому человеку то, к чему тот внутренне стремится. Смелые отклонения, быстрое понимание, ловкие повороты в моменты опасности — вот его призвание; презрительно отворачивается он от деталей, от кропотливой, пахнущей потом работы. Из этого пристрастия к минимуму, к самой концентрированной форме игры ума вытекает его способность к сочинению ослепительных каламбуров и афоризмов. Он никогда не пишет длинных донесений, одним-единственным, остро отточенным словом характеризует он ситуацию или человека.
У Фуше, наоборот, совершенно отсутствует эта способность быстро все постигать; как пчела, прилежно, ревностно собирает он в бесчисленные мелкие ячейки сотни тысяч наблюдений, затем складывает, комбинирует их и приходит к надежным, неопровержимым выводам. Его метод — это анализ, метод Талейрана — ясновидение; его сила — трудолюбие, сила Талейрана — быстрота ума. Ни одному художнику не придумать более разительных противоположностей, чем это сделала история, поставив эти две фигуры — ленивого и гениального импровизатора Талейрана и тысячеглазого, бдительного калькулятора Фуше — рядом с Наполеоном».
Не бывает ненависти более сильной, чем между различными видами одной и той же породы. Взаимное отвращение Талейрана и Фуше проистекало из понимания ими друг друга на уровне инстинктов. С самого начала большому барину Талейрану был противен этот прилежный работяга, кропатель доносов и собиратель сплетен Фуше. Фуше же раздражали легкомыслие, мотовство и презрительно-аристократическая небрежность Талейрана. Они, где только было возможно, создавали друг другу проблемы, а если представлялась возможность навредить, каждый хватался за малейший к тому повод.
Эта их взаимная зависть — ненависть была очень удобна для Наполеона: ведь они лучше, чем сотни шпионов, следили друг за другом и доносили друг на друга. Это была очень странная пара, и Наполеон, будучи превосходным психологом, умело использовал соперничество своих лучших министров. Но при этом, сам того не желая, Наполеон и удивительно сплачивал эту пару. Почему? На этот вопрос очень точно отвечает Стефан Цвейг:
«Когда между кошкой и собакой вспыхивает такая внезапная дружба — значит, она направлена против повара; дружба между Фуше и Талейраном означает, что министры открыто не одобряют политику своего господина, Наполеона».
* * *
Так все же были ли у Фуше достаточные основания для обвинения Талейрана в заговоре против Наполеона? Для того чтобы ответить на этот вопрос, следует рассмотреть события, произошедшие за несколько лет до этого.
В сентябре 1808 года Наполеон встретился в городе Эрфурте с русским императором Александром I. На этой встрече его сопровождал опытнейший дипломат Шарль Морис де Талейран-Перигор, князь Беневентский.
По поводу приглашения Талейрана в Эрфурт историк А.З. Манфред не может скрыть своего недоумения:
«Бонапарт давно относился к нему с недоверием, и именно потому, что он ему не доверял, он отстранил князя Беневентского от руководства внешней политикой. Тем поразительнее допущенная Наполеоном в 1808 году ошибка».
Действительно, это была очень серьезная ошибка, и она сильно повлияет на будущее империи. К этому времени репутация Талейрана была уже вполне устоявшейся: его называли и предателем, и профессиональным взяточником, и казнокрадом. Но при этом никто не мог отрицать его выдающегося ума, проницательности и дальновидности. Эти его качества и были нужны Наполеону.
Александр I давно знал Талейрана, но он все равно был поражен предложением, которое ему в первый же день Эрфуртской встречи сделал этот известнейший французский дипломат. Это предложение сводилась к следующему: он, Талейран, не согласен с безудержными завоевательными планами Наполеона, не согласна с этим и Франция. Страна хочет лишь границ по Рейну, Альпам и Пиренеям. Все остальное — это личные амбиции императора, до которых простым французам нет никакого дела.
— Для чего вы сюда приехали? — убеждал Александра I Талейран. — Вы должны спасти Европу, и вы в этом преуспеете, если будете сопротивляться Наполеону. Французский народ цивилизован, французский же император — нет; вы цивилизованы, а русский народ — нет. Следовательно, вы должны быть союзником французского народа.
Но Талейран пошел и дальше: он выразил готовность тайно поступить на русскую службу. Естественно, за полагающееся в таких случаях вознаграждение. Историк Е.В. Тарле пишет:
«Для Александра поступок Талейрана был целым откровением. Он справедливо усмотрел тут незаметную пока еще другим, но зловещую трещину в гигантском и грозном здании великой империи. Человек, осыпанный милостями Наполеона, со своим земельными богатствами, дворцами, миллионами, титулом "Высочества", царскими почестями, вдруг решился на тайную измену!»
Получается, за шесть лет до крушения империи Талейран предвидел неминуемую катастрофу. Ну, не ради же денег, в конце концов, он это сделал. Это было бы слишком банально для столь незаурядной личности.
Историк Е.Б. Черняк описывает происходившее следующим образом:
«Чтобы доказать серьезность своих намерений, Талейран тут же стал выдавать царю секреты Наполеона, указывать пределы, до которых можно доходить, когда случится противостоять требованиям и планам французского императора, не вызывая окончательного разрыва. А потом в беседах с Наполеоном Талейран горестно вздыхал, слушая его жалобы на неожиданное упорство, проявленное царем в ходе переговоров».
— Мне ничего не удалось от него добиться, — сетовал Наполеон. — Русский император упрям, как мул, он твердо стоит на своем, и я не продвинулся вперед ни на шаг.
— Что вы, Сир, — притворно улыбаясь, возражал ему Талейран, — мне кажется, что Александр целиком попал под ваше обаяние.
После Эрфуртской встречи двух императоров это «сотрудничество» продолжилось. В секретной переписке с Петербургом Талейран стал именоваться то Юрисконсультом, то Кузеном Анри, а то и просто Анной Ивановной.
За поставляемую информацию Анна Ивановна неукоснительно требовал значительной оплаты и проявлял при этом неуемное корыстолюбие.
Вскоре через посредничество австрийского посла в Париже Клеменса фон Меттерниха Талейран по совместительству нанялся и на службу к Австрии, ловко маневрируя между двумя нанимателями, интересы которых далеко не всегда совпадали. В Вену Анна Ивановна в 1809 году поставлял сведения о передвижениях французских войск. И это происходило накануне новой войны Наполеона против Австрии.
* * *
Наполеон, конечно, поначалу ничего не подозревал об опасных интригах Талейрана. Узнал он о них чуть позже. Это дало основания биографу Талейрана Ю.В. Борисову констатировать:
«События в Эрфурте решительно и навсегда изменили отношения между главой французского государства и первым дипломатом Франции».
Тайные агенты Наполеона донесли ему и о непонятном сближении Талейрана и Фуше: что это? очередной заговор?
Австрийский посол в Париже Меттерних, поддерживавший самые тесные связи с Талейраном и прекрасно знавший Фуше, в то время писал в Вену:
«Я их вижу, Талейрана и его друга Фуше, по-прежнему твердо решившихся воспользоваться случаем, если этот случай представится, но они недостаточно храбры, чтобы сами этот случай вызвать. Они находятся в положении пассажиров, видящих руль в руках сумасбродного кормчего, готового разбить корабль о скалы, которые он сам по своему капризу ищет. Они готовы овладеть рулем в тот самый момент, когда их спасение окажется под еще большей угрозой, чем теперь, и когда первое столкновение корабля опрокинет самого рулевого».
Если говорить без столь любимых Меттернихом аллегорий, это означало, что оба министра никогда бы не отважились подготовить покушение на Наполеона, но заранее принимали меры на случай, если Наполеон окажется убитым, чтобы воспользоваться создавшейся ситуацией. Талейран и Фуше в таком случае собирались возвести на императорский престол маршала Мюрата, незадолго до того ставшего королем Неаполитанским. Мюрат был женат на сестре Наполеона Каролине, поэтому Меттерних имел сведения из самого надежного источника: он состоял в любовных связях с Каролиной.
Честолюбивая Каролина была заведомо готова одобрить этот план и послала в Неаполь письмо для своего мужа, умоляя новоявленного Неаполитанского короля не упустить возможности, если она представится ему во Франции. Говорят, написал письмо на сей счет и Талейран, а Фуше услужливо подготовил смену лошадей, чтобы ускорить прибытие Мюрата в Париж. Однако у Наполеона недаром было несколько секретных полиций, разведок и контрразведок. Переписка с Мюратом была перехвачена людьми министра почт Лавалетта, который поспешил сообщить обо всем императору.
Это сообщение заставило Наполеона примчаться в Париж. На торжественном приеме 23 января 1809 года император в ярости набросился на Талейрана, публично напомнив ему все измены и соучастие в самых темных делах. «Вы заслужили, — кричал он, — чтобы я вас разбил, как стекло, и у меня есть власть сделать это! Но я слишком вас презираю, чтобы взять на себя этот труд! Почему я вас еще не повесил на решетке площади Каррузель? Но есть, есть еще для этого достаточно времени! Вы — грязь в шелковых чулках! Грязь! Грязь!»
Эту сцену многократно описывали. И действительно, это одна из наиболее драматических сцен в наполеоновской истории. Император был в настоящем бешенстве, он осыпал Талейрана самыми грубыми ругательствами, называл его вором, клятвопреступником, изменником, продажным человеком, способным за деньги продать собственного отца, обвинял его в убийстве герцога Энгиенского.
Присутствовавшие при этом придворные словно окаменели. Всем было не по себе. Каждый чувствовал, что император ведет себя не очень достойно. Только Талейран, равнодушный и не чувствительный к оскорблениям, продолжал стоять со спокойно-высокомерным выражением на лице. По окончании бури он, прихрамывая, покинул приемную, по пути заметив:
— Как жаль, господа, что такой великий человек так плохо воспитан.
А в передней он прошептал одному из своих близких знакомых:
— Такие вещи не прощают.
Все думали, что после этого Талейрана арестуют, но этого не произошло.
О том, что произошло дальше, биограф Талейрана Ю.В. Борисов пишет так:
«Но неприятности только начинались. Быть в опале у могущественного монарха — дело опасное. Вот-вот могли обнаружиться преступные связи князя с австрийским двором. Этого не произошло. Но полиция перехватила несколько писем, которые ставили под сомнение лояльность Талейрана. На этот раз Наполеон хотел отдать своего бывшего Великого камергера под суд. Но вмешались влиятельные заступники. Судебное преследование не состоялось. Приказ о высылке отменяли дважды. Император угрожал, но решительного удара почему-то не наносил».
Все ждали отставки и Фуше, но и тут ожидания оказались обманутыми: Фуше пока остался на месте. Как всегда, он спрятался за спину более сильного, который и послужил ему громоотводом. Его отставка, как мы уже знаем, наступит лишь в июне 1810 года.
Талейран же, как ни в чем не бывало, заявил, что ничто не способно ни преодолеть, ни ослабить его признательности и верности императору, которые он сохранит до конца жизни.
«Такие вещи не прощают», — сказал Талейран. Эти слова многое объясняют. Каждый знает, что прощать легко лишь тогда, когда это не затрагивает наших интересов. Интересы Талейрана были затронуты капитально, и оставить это без адекватного ответа он не мог. Как говорится, люди мы не злопамятные, но очень злые и с очень хорошей памятью…
А еще через некоторое время были не менее капитально затронуты интересы и другого влиятельного политика — а именно Жозефа Фуше. Поэтому и его слова о легкости, с которой был осуществлен захват власти в Париже генералом Мале, а также о том, что все было готово для начала работы Временного правительства, отнюдь не кажутся не только неправдой, но и даже преувеличением.
Глава седьмая. Горе-террорист Эрнест фон Ла Сала
Что я, собака, что ли, которую всякий прохожий на улице может убить?
На меня производит впечатление величие страсти, но я всегда страдаю, когда она выходит за рамки вероятного.
В одном из многочисленных писем Наполеон писал своей жене Жозефине:
«Королева Пруссии очень привлекательна; она полна кокетства в отношении меня, но не надо ревновать, мое сердце, как натертый воском холст, — все это с него стекает на пол».
Но королева Пруссии Луиза Макленбургская не была единственной привлекательной женщиной в Берлине, желавшей понравиться повелителю всей Европы. Почти все придворные дамы мечтали об этом, и готовящийся приезд Наполеона в Берлин перевел эту их страсть из разряда грез во вполне практическое русло. Больше других старалась молодая графиня Н…, признанная красавица, избалованная вниманием мужчин и не без оснований считавшая себя неотразимой.
Однажды за ужином, когда весь запас новых сплетен был исчерпан (а без этой приправы светская беседа теряет всякую остроту), графиня сказала:
— Хоть этот ненасытный завоеватель Наполеон и дикарь, но я уверена, что отнюдь не невозможно приручить его и сделать сговорчивым.
— Будьте осторожны, графиня, — строго заметила ей королева Луиза. — Мне кажется, что с ним гораздо более опасно преуспеть, чем потерпеть неудачу. Не советую вам играть с огнем.
— Будьте уверены, Ваше Величество, — засмеялась графиня, — что касается меня, то при любых обстоятельствах мой патриотизм даст мне достаточно утешения.
Это самоуверенное заявление графини Н… слышали многие придворные дамы. Отступать было некуда, да графиня и не думала отступать. Она, действительно, была очень хороша собой, обладала живым умом, была приятной собеседницей, хорошо изучила мужчин и тайные пружины, коим они повинуются. Но на ее беду Наполеон уже давно был не тем человеком, которым можно было легко манипулировать. Прибыв в Берлин, он едва обратил внимание на графиню и вскоре уехал в Париж. Обычно он терпеть не мог женщин, которые сами бросались ему на шею.
— Итак, дорогая графиня? — спросила королева Луиза на следующий день после того, как Наполеон покинул Берлин. — Император Наполеон так и уехал непобежденным дикарем?
— Ну, нет! — процедила сквозь зубы графиня. — Вот увидите, я еще не сказала своего последнего слова.
Самолюбие — это ахиллесова пята любого человека, тем более женщины. Уязвленная красавица решила отомстить, и ей в голову пришел жестокий и коварный план. В Германии уже давно царили антинаполеоновские настроения: до открытого выступления было еще далеко, однако во всех салонах и пивных только и делали, что говорили о попранной независимости и о любви к родине. Особенно популярны были подобные мысли среди праздной молодежи, для которой патриотизм был лишь дивной горячкой, возможностью показать себя, выделиться среди себе подобных.
Среди наиболее ярых критиков Наполеона выделялся юный саксонский барон Эрнест фон Ла Сала, субтильный семнадцатилетний юноша, богатый и инфантильный, который никогда не держал шпаги в руке, но которому идея освобождения Германии от наполеоновского ига горячила кровь. Барон любил графиню H… — по всей видимости, это была его первая любовь.
— Благородная графиня, — говорил он ей через несколько недель после отъезда Наполеона, — обожаемая моя Мари, сжальтесь надо мной, ведь я готов отдать жизнь за один ваш взгляд.
— Барон Эрнест, — сухо отвечала ему графиня, прекрасно видя беспорядок в голове и смятение в сердце молодого человека, — я приняла решение отказаться от всех радостей жизни, пока будет процветать тиран моей родины Наполеон Бонапарт.
— Так пусть он умрет! — воскликнул юный саксонец.
— Ваша решимость очаровательна, барон, — сказала графиня. — Да, пусть он умрет! Пусть не станет больше того, кто осмелился сказать, что заставит прусское дворянство просить милостыню!
Весь вид графини говорил о том, что она преисполнена восторгом. Она смотрела на влюбленного юношу с таким восхищением, что того понесло и уже невозможно было остановиться:
— Хорошо, — сказал он угрожающим тоном и сжал кулаки, — я буду просить милостыню, если потребуется, но я… Я его… Но тогда я могу рассчитывать. Моя дорогая Мари, я готов на все ради вас!
В ответ графиня протянула ему руку, и он прильнул к ней губами.
Прошло несколько дней, в течение которых юный барон готовился к отъезду. В разговорах с графиней он заряжался мужеством, ведь ее намеки, ее обещания были для него, как наркотик. В результате он дошел до такой степени экзальтации, что один вид французской униформы стал доводить его до бешенства. В таком душевном состоянии он и отправился в Париж.
— Поезжайте, барон Эрнест, — сказала графиня, обнимая его на прощание, — и возвращайтесь быстрее. Да поможет вам бог, да направит он вашу руку возмездия!
* * *
Приехав во Францию весной 1811 года, барон Ла Сала начал следить за перемещениями Наполеона. Все внутри него кипело от любви к графине Н… и от ненависти к этому человеку, ставшему препятствием его счастью. Ненависть, как известно, очень пагубна: она сильно ранит душу ненавидящего. Но она еще и удивительно упряма. Юноша был поглощен своей идеей до такой степени, что не мог ни есть, ни пить, ни спать.
Через три дня после приезда во французскую столицу он написал своей любимой такое письмо:
«Мари, думайте обо мне и молитесь! Сегодня тиран должен ехать на охоту. Я буду поджидать его, и когда вы получите это письмо, возможно, ни его, ни меня уже не будет в живых. <…> Храбрость не оставит меня, моя любимая Мари! И в самый последний момент моей жизни мысли о вас будут согревать мне сердце».
Но надеждам саксонца не суждено было сбыться. Вооруженный кинжалом и парой пистолетов, он весь день дежурил у ворот Тюильри, но звезда, хранившая Наполеона, не изменила ему и на этот раз: планы императора изменились, и он остался во дворце.
Прошло шесть месяцев, а юный барон все никак не мог приблизиться к Наполеону на необходимое для покушения расстояние. Видя безнадежность задуманного им плана, он начал сомневаться в успехе. Решимость его таяла на глазах. К тому же любимая графиня не отвечала на его письма. Деньги кончились, и он вынужден был одалживаться у случайно встреченных соотечественников. Это постыдное обстоятельство несколько всколыхнуло его ненависть к Наполеону, но никак не облегчило его задачу. Молодой человек был на грани отчаяния.
Однажды он бесцельно шел по улице, погруженный в свои невеселые мысли. Вдруг кто-то шепнул ему на ухо: «Барон Эрнест, тиран Германии еще жив!» Барон вздрогнул и обернулся. Вокруг не было никого, кто мог бы знать его по имени. Обыкновенная толпа парижан, торопящихся по своим делам, которым не было никакого дела до несчастного саксонца и судьбы его родины. Голос, однако, показался ему знакомым. Неужели это была его обожаемая Мари?
Со следующего дня он возобновил свое дежурство у дворца Тюильри. Вскоре ему повезло. Был день военного парада на площади Каррузель. После смотра войск Наполеон, как обычно, направился к захлебывающимся от восторга зрителям. Такой момент нельзя было упускать. Ла Сала бросился вперед, но, как и в случае с Фридрихом Штапсом, был перехвачен одним из офицеров охраны, не успев даже вынуть из кармана пистолет.
Наполеон даже ничего не заметил, но, узнав о случившемся, вновь захотел лично допросить человека, пытавшегося напасть на него.
— Если это не сумасшедший, — сказал он, — то наверняка человек отчаянный. Он что, хотел стрелять в меня прямо посреди моих гвардейцев?
Арестованного привели, и Наполеон с удивлением увидел перед собой субтильного блондина с бледными щеками, безусого и жалкого.
— Что вам пообещали за мое убийство? — спросил Наполеон.
— Ничего. Я лишь хотел избавить мир от тирана. Никакой иной цели я не преследовал.
— Вы сошли с ума. А может быть, рассчитываете на безнаказанность?
— Моя дальнейшая судьба меня не волнует.
— Вы выглядите таким безобидным, и как только подобная мысль могла прийти к вам в голову?
— Да, я выгляжу безобидным, даже робким, но у меня достаточно сил и мужества, чтобы убить угнетателя моей родины.
— Я вижу, что это настоящий фанатик, — сказал Наполеон, обращаясь к своему сверкающему золотом окружению. — И чем только забиты головы у таких юнцов, считающих себя спасителями всего человечества.
После этого император надолго замолчал, и юный саксонец принялся усиленно делать вид, что не боится. Его руки предательски дрожали, но их можно было спрятать за спину. Хуже обстояло дело с лицом: левая щека все время дергалась от нервного тика. Оказалось, что хладнокровие и храбрость — это единственные добродетели, которые невозможно подделать.
— Послушайте, — вновь заговорил император, обращаясь к пленнику, — я верну вам ваше оружие, я подарю вам свободу, и уже завтра вы сможете вернуться домой, ведь у вас есть отец и мать, о горе которых вы даже не подумали. За это я попрошу у вас лишь честного слова, что вы никогда ничего не будете предпринимать против меня.
Слезы блеснули в глазах юноши. Он был настолько растроган, что не мог ответить сразу, и попросил сутки на размышления.
На следующий день он объявил, что не может дать слова, которого от него требовали накануне.
— Все ли вы правильно поняли? — спросил его генерал Савари, лично приехавший в тюрьму, чтобы узнать ответ заключенного. — Вы поняли, что речь идет о вашей свободе? Мы могли бы отправить вас в вашу страну, к вашей семье, которая, наверное, уже оплакивает вас.
— Я все это отлично понял, — ответил молодой саксонец, — но я также отдаю себе отчет в том, что есть вещи поважнее, и их тоже можно потерять безвозвратно. Мой выбор сделан. Я уже дал слово, и лучше умру, чем ему изменю.
Секретарь Наполеона Бурьенн (к тому времени бывший) в своих «Мемуарах…» так описывает историю барона Ла Сала:
«Я был в Париже уже примерно два месяца, когда был арестован молодой человек по имени Ла Сала за то, что он приехал из Саксонии, чтобы попытаться лишить жизни императора. Ла Сала заявил министру полиции герцогу де Ровиго, что хотел бы видеть меня, объяснив это репутацией, которая сложилась у меня в Германии. Император не возражал, и я получил приглашение нанести визит заключенному. Я прибыл в отделение министерства полиции на улицу Сен-Пэр, где мне представили молодого человека семнадцати-восемнадцати лет. Мой разговор с этим юношей, дядя которого был, как мне кажется, министром короля Саксонии, тронул мня. Я решил, если это возможно, спасти Ла Сала, и я в этом преуспел».
Барону Ла Сала сохранили жизнь. Как государственный преступник, он был заключен в башню Венсеннского замка. Там он пробыл почти три года, и никто ни разу не услышал от него ни одной жалобы, ни одного упрека в суровости обращения. Удивительно, но он даже не просил о смягчении наказания. Один раз, правда, он пытался передать на волю письмо. Собственно, он ни к кому не обращался, а просто бросил письмо из окна своей камеры, надеясь, что ветер унесет его и оно попадет в руки порядочным людям, которые передадут его адресату. Директор тюрьмы (это был тот самый Фоконнье, который во времена Консульства был директором тюрьмы Тампль. — Авт.) подобрал это письмо и переправил его министру полиции. Письмо было адресовано в Берлин. Вот содержание этого письма:
«Мари, я хотел слишком много счастья и славы. Бог у меня все отобрал. Но в моем сердце остался ваш образ, и я не жалуюсь на судьбу. Я точно не знаю, где нахожусь и что со мной собираются сделать, но, что бы ни произошло, я не чувствую себя несчастным, так как пока я жив, все мои мысли были о вас. И на небе я тоже буду помнить и ждать вас.
Не сожалейте обо мне, дорогая Мари, оставьте лишь меня в своем сердце, и это будет поддерживать меня в этом и ином мире.
Эрнест фон Ла Сала».
* * *
Поражение Французской армии и вступление союзников в Париж в 1814 году подарили барону Ла Сала свободу. Выйдя из тюрьмы в середине апреля, он узнал, что его любимая графиня вышла замуж за молодого прусского полковника и они в данный момент находятся в Париже. Об этом ему рассказал маркиз де ля Мезонфор, прибывший во французскую столицу вместе с графом д'Артуа и выполняющий обязанности министра полиции.
— Я не имею права жаловаться на судьбу, — печально сказал барон. — Я оказался не достоин ее руки.
Барон перенес это несчастье с таким же мужеством, какое он показал в течение своего длительного заключения. Однако он все же предпринял усилия, чтобы вновь увидеться с графиней: он писал ей, но письма оставались без ответа. Но вот однажды он совершенно случайно повстречал ее в саду Тюильри. Она была одна.
— Вы сошли с ума, месье! — воскликнула она, когда он подошел и назвал себя. — Вам следует забыть прошлое, как это сделала я.
Опустошенный и расстроенный барон ретировался, бормоча себе под нос:
— Она права, человек, которого она так ненавидела, все еще жив, а ведь я обещал ей убить его. Я не сдержал своего слова.
* * *
В мае 1815 года красивая карета с гербом, запряженная четверкой лошадей, медленно ехала по Королевскому мосту. Вдруг из толпы выскочил какой-то молодой человек (казалось, он ждал приближения кареты), подбежал, и, распахнув дверцу, громко крикнул:
— Графиня! Я все-таки убью его!
После этого молодой человек исчез, растворившись в толпе.
Это был барон Эрнест фон Ла Сала. Уже несколько месяцев он жил в Париже на съемной квартире. Новый паспорт ему выдал прусский фельдмаршал Блюхер, штаб-квартира которого находилась в Намюре.
На этот раз упрямый барон для осуществления своего замысла решил воспользоваться фульминатом, то есть солью гремучей кислоты. 5 июня 1815 года в полдень он направился к зданию Палаты представителей, где находился Наполеон, но, проходя по улице де Бургонь, поскользнулся и упал. Пакет с фульминатом, лежавший у него в кармане, самопроизвольно взорвался, и пламя сильно покалечило незадачливого террориста. Истекающего кровью, его доставили в префектуру полиции, а потом, после короткого допроса, отвезли в тюрьму, где он и находился вплоть до повторного вступления союзных армий во французскую столицу, то есть до июля. Прусский фельдмаршал Блюхер вновь выпустил его на свободу, и больше о нем никто ничего не слышал.
Глава восьмая. «Бомба замедленного действия» под названием мышьяк
В Америке я был бы убит агентом графа д'Артуа, не прожив и полугода. Там меня ждало либо забвение, либо смерть. Я все- таки предпочитаю Святую Елену.
После моей смерти, ждать которой осталось недолго, я хочу, чтобы произвели вскрытие моего тела. <…> Особенно внимательно рекомендую исследовать мой желудок и изложить результаты в точном и подробном отчете. <…> Я прошу, я обязываю со всей тщательностью провести такое исследование. <…> Я оставляю в наследство всем царствующим домам ужас и позор последних дней моей жизни.
22 июня 1815 года, на четвертый день после поражения при Ватерлоо, Наполеон повторно отрекся от престола и вскоре был сослан на далекий остров Святой Елены. Перед этой ссылкой бывший император отличался завидным здоровьем, но не прошло и шести лет после его прибытия на остров, как он вдруг умер. Закономерно возникает вопрос: почему здоровье этого еще совсем не старого (Наполеону в 1815 году исполнилось всего 46 лет. — Авт.) человека в ссылке вдруг так катастрофически расстроилось?
Знаменитый канадский историк и поклонник Наполеона Бен Вейдер уверен:
«Наполеон был отравлен на Святой Елене. На этот счет нет абсолютно никакого сомнения. Отравление произошло самым распространенным в XIX веке способом».
Ставшая популярной версия об отравлении Наполеона основывается на химическом анализе его волос, срезанных в октябре 1816 года, в марте 1818 года и на следующий день после его кончины. Опыты с волосами императора проводились в середине прошлого столетия шведским ученым Стеном Форсхувудом, а также доктором Гамильтоном Смитом, главой отделения медицины Университета Глазго. В октябре 1961 года они напечатали в английском журнале «Nature» статью, в которой впервые была выдвинута и обоснована теория о повышенном содержании мышьяка в волосах узника острова Святой Елены.
В 1982 году Стен Форсхувуд совместно с активно поддержавшим эту версию Беном Вейдером опубликовал книгу «Убийство Наполеона», которая была затем переведена на 24 языка и разошлась миллионными тиражами.
Что же натолкнуло Форсхувуда на мысль об отравлении Наполеона? Прежде всего это явное несоответствие между буквально по часам описанным очевидцами течением болезни Наполеона и результатами посмертного вскрытия тела. При вскрытии присутствовали несколько английских докторов и корсиканец Франческо Антоммарки — личный врач Наполеона, и все они не смогли сойтись во мнении относительно причин смерти. Были написаны четыре раздельных отчета. Причину смерти Наполеона приписывали и гепатиту, и заболеванию печени, и лихорадке, и малярии. Все были согласны с тем, что в желудке Наполеона была обнаружена язва: отсюда возникла версия о смерти от рака, хотя это прямо не говорилось ни в одном из отчетов.
Смерть Наполеона от рака была диагнозом, устраивавшим британского губернатора острова Святой Елены Хадсона Лоу. Она свидетельствовала о неосновательности слухов, что Наполеон умер, не перенеся тяжелого («убийственного», как писали некоторые очевидцы. — Авт.) климата острова.
Но, как известно, рак — это изнурительный недуг, при котором наступает общее истощение организма, но Наполеон перед смертью, напротив, болезненно располнел. С раковым заболеванием желудка подобная тучность несовместима. Но она наблюдается у жертв медленного отравления мышьяком. Анализируя воспоминания восьми очевидцев о ходе болезни Наполеона, Стен Форсхувуд, а вслед за ним и Бен Вейдер провели настоящее «полицейское расследование» и объявили, что в них отмечены 30 из перечисленных в медицинской литературе 34 симптомов отравления мышьяком.
Анализ волос Наполеона был, по сути, единственным способом обосновать версию об отравлении. Несколько прядей этих волос находилось у различных людей, но для достоверного анализа было достаточно нескольких или даже одного волоска. Стен Форсхувуд, объединивший свои усилия с Гамильтоном Смитом, добыл волосы из прядей, которыми первоначально владели Луи Маршан и другой слуга Наполеона — Жан Новерра.
Метод Гамильтона Смита позволил выявлять содержание мышьяка в каждом из небольших пятимиллиметровых отрезков, на которые разделили волос. Этот отрезок соответствовал примерно одному дню жизни (волосы человека растут примерно на дюйм, то есть на 2,54 см, в каждые два месяца. — Авт.). Зная год, месяц и число, когда были срезаны волосы, оказалось возможным соотнести каждый отрезок с определенными датами и сопоставить с записями очевидцев о ходе болезни Наполеона. В результате выявилось, что резкие обострения заболевания по времени совпадают с сильным (иногда во много раз по сравнению с нормой. — Авт.) повышением содержания мышьяка на соответствующем отрезке волоса.
Позже наличие большого количества мышьяка в волосах Наполеона подтвердили данные исследований, проведенных в Институте ядерных исследований близ Лондона.
Противники этой версии тут же заявили, что мышьяк мог попасть в волосы Наполеона откуда угодно, например: из воды, обоев или крема для волос, которым он пользовался. Но тогда мышьяк попадал бы в организм императора постоянно и равномерно. Однако это было совсем не так: оказалось, что насыщенность волос мышьяком была неравномерной — от двух частей на миллион до 50 частей на миллион при норме 0,08 части на миллион. Почему же многочисленным врачам, окружавшим Наполеона, и в голову не пришла мысль об отравлении мышьяком? Ответ на этот вопрос можно найти у Бена Вейдера, который пишет:
«Хочу напомнить, что при вскрытии врач очень редко подозревает мышьячное отравление, если только его заранее об этом не предупреждают. Так было в 1821 году, так происходит и ныне. Мне довелось встретиться с главой токсикологической лаборатории парижской полиции профессором Гриффоном, у которого накопился богатый опыт расследования мышьячных отравлений. Я задал ему вопрос: как объяснить тот факт, что многочисленные врачи не посчитали возможной причиной гибели Наполеона отравление мышьяком? Гриффон ответил, что ни в одном случае убийства с применением мышьяка ему не встретился врач, который правильно диагностировал бы отравление как причину смерти. Поэтому мы едва ли имеем основание винить лечащих врачей Наполеона в том, что они, не будучи специально обучены, не сумели распознать в его болезни действие мышьяка, практически не имеющего ни запаха, ни вкуса».
* * *
Убийцы Наполеона не отважились избавиться от опасного узника одним ударом. Это вызвало бы возмущение во Франции. Поэтому его начали травить медленно, создавая впечатление, что он угасает от какой-то естественной болезни. Считая вполне доказанным этот факт, попытаемся выяснить, кто же мог совершить это преступление?
Историк Е.Б. Черняк утверждает:
«Им могло быть лишь лицо, которое находилось при своей жертве все время (с 1816 года, когда началось отравление) и которое имело возможность подсыпать яд только самому Наполеону, не отравляя людей, которые делили с ним стол».
Действительно, человек, отравивший Наполеона, должен был иметь доступ к еде и напиткам Наполеона, а также жить рядом с ним с лета 1816 года, т. е. со времени, когда появились первые признаки мышьякового отравления. Поэтому исключить из списка подозреваемых можно всех тех, кто покинул остров Святой Елены до смерти ссыльного императора, и тех, кто прибыл туда после лета 1816 года.
Эти критерии устраняют из числа подозреваемых всех англичан, а также ряд приближенных Наполеона, в частности графа Эмманюэля де Лас Каза (он уехал с острова в конце 1816 года), генерала Гаспара Гурго (он уехал 13 января 1818 года) и других, покинувших остров Святой Елены задолго до 5 мая 1821 года, т. е. до даты смерти Наполеона.
Точно так же преступник не мог быть в числе тех, кто, как доктор Франческо Антоммарки, приехал на остров много позднее 1816 года. Дворецкий Пьеррон мог отравить всех, кто приглашался к столу Наполеона, но не его одного (Наполеон пил южноафриканское вино, которое доставлялось на остров в бочках и разливалось в бутылки, предназначенные только для него одного. Те, кто разделял с ним стол, пили другие вина. — Авт.). Это относится и к двум слугам — Сен-Дени и Новерра, которые лично не прислуживали императору.
Гофмаршал граф Анри Грасьен Бертран, также находившийся на острове Святой Елены, жил со своей семьей отдельно (за пределами имения Наполеона Лонгвуда), ибо его жена-англичанка не захотела слишком тесно контактировать с Наполеоном. Кроме того, в последние годы Бертран заметно отдалился от императора, считая себя несправедливо обойденным в его расположении и доверии.
Остаются два человека, которые имели возможность совершить преступление, — это Маршан и Монтолон. Зададимся вопросом: что побудило этих людей отправиться вместе с Наполеоном в далекую ссылку?
В отношении Луи Маршана все ясно. Он служил Наполеону с юных лет, его мать также находилась в числе доверенной прислуги императорской семьи (она была в числе трех нянек сына Наполеона). Он был умен, предан Наполеону, далек от каких-либо политических интриг, расторопен и скромен. Сам Наполеон в своем завещании написал о нем:
«Он служил мне как друг».
Значительно сложнее обстоит дело с графом де Монтолоном.
Шарль-Тристан де Монтолон родился в 1783 году в Париже. Он происходил из знатного дворянского рода и в 1788 году унаследовал звание обер-егермейстера брата короля. В 17 лет поступил на военную службу в Итальянскую армию, через год стал адъютантом генерала Ожеро, а еще через год получил чин капитана. В 1805 году его перевели в штаб Великой армии Наполеона, где он вскоре стал адъютантом маршала Бертье. В 1809 году Монтолону был дарован титул графа Империи.
Бен Вейдер характеризует Монтолона так:
«О нем говорили, что он превосходно умел "выдавать желаемое за действительное". Красавец, любитель хорошеньких женщин, выдумывающий себе престижные военные звания, он живет на широкую ногу и не проявляет большой разборчивости в средствах. Лицейский товарищ Жерома Бонапарта Монтолон быстро получает первые повышения по военной службе. В 1809 году, в чине полковника, его направляют посланником в Вюрцбург».
Вообще это был уникальный человек: будучи офицером и живя в государстве, в те времена постоянно воевавшем, он ухитрился не принять участия ни в одном сражении.
Отношения Монтолона с Наполеоном складывались не совсем гладко. В 1812 году он женился на Альбине Вассаль, красавице, бывшей до этого дважды замужем. Этим он нарушил категорический запрет императора, который прислал ему из Москвы грозное письмо следующего содержания:
«Считаю союз, заключенный вами, несовместимым с ответственным постом, который я вам доверил».
В апреле 1813 года Монтолон был отозван во Францию. После этого супруги вынуждены скрываться вплоть до возвращения во Францию Людовика XVIII. Во время первой Реставрации Монтолон попытался войти в доверие к вернувшимся Бурбонам, и это ему удалось. Удалось не только потому, что он был представителем старинного аристократического рода, но и по той причине, что его отчим, граф Шарль-Луи де Семонвилль, был приближенным и личным другом брата короля графа д'Артуа. Монтолон получил генеральский чин, но тут произошла новая осечка в его карьере… — его уличили в краже шести тысяч франков солдатского жалованья. Граф уже ждал приговора военного суда, но тут с острова Эльба вернулся Наполеон. В период Ста дней Монтолон поступил на службу к императору на должность камергера.
А потом были Ватерлоо (Монтолона там, кстати, рядом с императором не видели, хотя тому не хватало людей. — Авт.) и ссылка Наполеона на остров Святой Елены. Как же так получилось, что 32-летний любитель светских развлечений Монтолон вдруг стал приверженцем побежденной стороны и добровольно обрек себя на то, чтобы провести лучшие годы жизни в далеком изгнании, а еще в услужении человеку, унизившему его и нанесшему ему глубокие душевные раны? Вопрос вопросов!
На борту британского корабля, везшего Наполеона на далекий остров в Атлантическом океане, с ним находилось пять генералов: Савари, Бертран, Лаллеман, Гурго и Монтолон.
Бен Вейдер уверен:
«Если бы Наполеон мог выбирать сам, совершенно очевидно, что единственный, у кого не было бы ни единого шанса, — это Монтолон, которого император едва знал и на кого у него были причины жаловаться, тогда как с четырьмя остальными его связывали давние и прочные отношения».
А ведь, действительно, Наполеон был с ним едва знаком — очевидно, что это решение было принято помимо Наполеона и не без участия графа д'Артуа.
Бен Вейдер развивает эту мысль:
«Наполеон прибыл на остров в возрасте сорока шести лет, обладая превосходным здоровьем. Он мог бы прожить еще не менее двадцати лет. Тогда Монтолону пришлось бы провести значительную часть своей жизни на этой заброшенной посреди океана скале. Логически объяснить его присутствие можно только тем, что он был агентом Бурбонов и заранее знал, что пробудет там недолго».
О возможном сотрудничестве Монтолона с Бурбонами свидетельствуют его прочные роялистские связи и постоянная нужда в деньгах, сочетающаяся с любовью жить на широкую ногу. Факт кражи солдатского жалованья удивителен и позорен сам по себе, но не менее странным выглядит и то, что ему легко удалось избежать за это наказания. Не в обмен ли на сотрудничество была получена Монтолоном свобода?
Бен Вейдер в этом абсолютно убежден. Вот одно из его утверждений:
«Он присвоил в свою пользу шесть тысяч франков армейских денег, но так и не был наказан за это преступление благодаря вмешательству графа д'Артуа».
А вот и другое:
«Он выполнял там определенную миссию исключительной важности. Она заключалась в том, чтобы лишить Наполеона малейшего шанса вернуть себе власть во Франции».
А шанс такой существовал, и Наполеон уже один раз продемонстрировал это, покинув место своей первой ссылки на острове Эльба. И кто теперь мог поверить в то, что такой человек мог смириться со своей участью изгнанника?
* * *
Гарантировать долгую и стабильную власть Бурбонов во Франции могла только смерть Наполеона, ибо не унимающиеся бонапартисты не раз делали попытки организовать его бегство и со Святой Елены.
При отсутствии в те времена авиации бежать с далекого острова можно было только по морю. При этом самый близкий берег (африканский) находился почти в двух тысячах километров, до Бразилии было почти в два раза дальше, а до Франции, по меркам тогдашнего парусного флота, было почти три месяца пути.
Остров надежно охранялся гарнизоном и был окружен плотным кольцом британских военных кораблей. Практически было предусмотрено все, чтобы опасный узник острова оставался на нем пожизненно. Но могли ли подобные обстоятельства остудить пыл яростных бонапартистов? Конечно же, нет.
Одну из попыток освобождения Наполеона предприняла, как ни странно, его бывшая любовница Полина Фурес, которой, после разрыва отношений, Наполеон нашел нового богатого мужа — отставного офицера Анри де Раншу, тут же назначенного консулом в Сантендере (Испания), а затем в Готенбурге (Швеция). Графиня де Раншу, как стала именовать себя Полина, в 1816 году приехала в Рио-де-Жанейро со своим любовником Жан-Огюстом Белларом и купила там корабль, предназначенный для спасения Наполеона. Несмотря на заведомую неудачу этой попытки, Полина еще долгое время продолжала действовать вместе с другими бонапартистами в Бразилии и умерла 18 марта 1869 года, пережив Наполеона почти на полвека.
В «Мемуарах…» генерала Гурго, бывшего на острове Святой Елены вместе с Наполеоном, содержится указание на то, что в январе 1818 года в Америке были задержаны шесть французских офицеров, готовивших план похищения Наполеона при помощи корабля с паровым двигателем.
Известен также и проект нападения на остров Святой Елены и спасения Наполеона, разработанный в Новом Орлеане неким Николя Жиро в сообщничестве со знаменитым пиратом Жаном Лафиттом.
В общем итоге Наполеон получил от своих сторонников как минимум десяток предложений о побеге. Но бывший император прекрасно понимал, что прорваться через заслоны англичан и бежать с острова на корабле было невозможно. Поэтому он неизменно отвергал подобные предложения. Не потому ли, что имелся в запасе другой, более надежный вариант? Если по воде бежать невозможно, то почему бы не попробовать ускользнуть от наблюдения охраны под водой? Вот тут-то пришло самое время вспомнить об изобретении американца Роберта Фултона.
Роберт Фултон родился в 1765 года в Литл-Бритене (штат Пенсильвания) в семье бедного ирландского эмигранта. В возрасте девяти лет он потерял отца и был отправлен в школу-пансион, затем начал работать подмастерьем у ювелира в Филадельфии, занимался живописью, делая миниатюрные картинки для изделий из слоновой кости.
В 1787 году Роберт Фултон переехал в Лондон, где увлекся инженерным делом и изобретательством. В 1796 году он направился в Париж, где встретился с американским послом Робертом Ливингстоном, заинтересовавшимся работами молодого соотечественника и давшим ему денег для продолжения исследований.
В декабре 1797 года Фултон обратился к правительству Французской Республики с предложением проекта подводного корабля, «посредством которого можно было бы заставить англичан не только снять блокаду французских берегов, но и перенести театр военных действий на их собственную территорию».
Свое детище Фултон назвал «Наутилусом». Корпус этой подводной лодки длиной более шести метров имел форму притупленной в носовой части сигары. Для своего времени лодка имела неплохую глубину погружения — около 30 метров. В носовой части лодки располагалась небольшая рубка с иллюминаторами и входным люком. В качестве движителя подводного хода использовался четырехлопастной винт, вращавшийся вручную; в надводном положении лодка двигалась под парусом. Мачта для паруса была укреплена на шарнире; перед погружением ее быстро снимали и укладывали в специальный желоб на корпусе. После подъема мачты развертывался парус, и корабль становился похож на раковину моллюска наутилуса. Отсюда и появилось название, которое дал своей подводной лодке Фултон.
Боеспособность подводной лодки Фултона была успешно проверена в августе 1801 года на Брестском рейде, но тогда Наполеон отверг предложение американца. Расстроенный Фултон уехал обратно в Америку, где все же добился известности своими работами в области создания паровых двигателей. Там он и умер в феврале 1815 года, то есть за восемь месяцев до того, как британский корабль высадил разбитого при Ватерлоо и плененного Наполеона на острове Святой Елены.
Уже в августе 1816 года бывшему императору был предложен план его доставки в Америку в качестве третьего члена экипажа подлодки. Риск этой операции оценивался в один миллион франков, который должен был быть выплачен сразу после высадки Наполеона на американском берегу, но после долгих раздумий тот отказался от этого варианта спасения. В результате имя подводной лодки Фултона «Наутилус» смогло прославиться лишь много лет спустя благодаря писателю-фантасту Жюлю Верну, позаимствовавшему это название для фантастического корабля своего героя капитана Немо.
* * *
У графа де Монтолона могли быть к Наполеону и претензии личного характера. Об этом говорит версия, что его жена Альбина де Монтолон на острове Святой Елены сделалась любовницей Наполеона. Во всяком случае, когда Монтолону об этом язвительно сказал генерал Гурго, тот ответил лишь, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть ходившие слухи.
Однажды Монтолону приказали выйти, когда Наполеон принимал Альбину, сидя в ванне. Генерал Гурго, ухмыльнувшись, заметил:
— Поздравляю, вас выставляют за дверь, в то время как она в нее входит.
В другой раз, играя с генералом Бертраном в шахматы, Наполеон вызвал Гурго, выражавшего желание уехать с острова. Начали выяснять причины этого. Одной из причин Гурго назвал надоевшее ему холостяцкое житье.
— Подумаешь женщины! — воскликнул Наполеон. — Когда о них не думаешь, в них не нуждаешься. Берите пример с меня.
Гурго замялся, не решаясь намекнуть на отношения Наполеона с Альбиной де Монтолон. Но тот и сам все понял и спросил:
— Но даже если бы я и спал с ней, что в этом плохого?
— Ничего, Сир, — последовало в ответ. — Но я и не говорил ничего подобного. Я просто не могу предположить, чтобы Ваше Величество имело такой плохой вкус.
Разгневанный Наполеон приказал Гурго немедленно уезжать.
В своем дневнике, говоря о муже Альбины, Гурго не смог удержаться от следующей реплики:
«Бедный Монтолон! Какую же роль вы играете!»
Эта женщина достойна того, чтобы посвятить ей несколько строк. Альбина Вассаль родилась в 1779 году. Будучи удивительно красивой, она дважды выходила замуж (сначала за некоего месье Биньона, а затем за швейцарского банкира Роже. — Авт.), но оба раза мужья разводились с ней, в результате чего за ней закрепилась репутация женщины достаточно вольного поведения. В 1812 году она при уже известных нам обстоятельствах в третий раз вышла замуж за Шарль-Тристана де Монтолона.
В 1815 году Альбине было 36 лет, и она еще вполне могла пользоваться своими очарованием и привлекательностью. Во всяком случае, ее прекрасные волосы и фигура, а также остроумие и умение показать себя с наилучшей стороны никого не оставляли равнодушным. К тому же она прекрасно пела и играла на фортепиано.
Бен Вейдер характеризует ее так:
«Можно также предположить, что приобретенный в молодости богатый опыт сделал ее очень сведущей в любовных играх».
На острове Святой Елены Альбина де Монтолон активно предавалась любовным утехам. В результате 18 июня 1816 года она родила девочку, которую назвали Наполеона, а 26 января 1818 года у нее родилась еще одна дочь, которую назвали Жозефиной.
Сразу после рождения Жозефины недолюбливавшая Альбину графиня Фанни Бертран язвительно усмехнулась, намекая на ее связь со ссыльным императором: «Посмотрим, на кого похожа эта малышка!»
Монтолон с его вкрадчивыми манерами придворного переносил все это стоически, как говорится, и глазом не моргнув. Что он при этом думал, никто никогда не узнает. А слухи при этом множились: австрийский комиссар барон Штюрмер докладывал, что «мадам де Монтолон одержала победу над соперницами и проскользнула в императорскую постель»; английский резидент в Лонгвуде Джордж Николс отмечал, что однажды Наполеон послал своего слугу Сен-Дени за мадам де Монтолон в два часа ночи.
Историк Андре Кастело подводит всему этому следующий итог:
«Ублажала ли она Наполеона? Никаких доказательств на сей счет не имеется, а историку следует оставаться в своих суждениях благоразумным».
Но при этом буквально в следующем абзаце он сам приводит такие слова Наполеона о графине, которые дают совершенно однозначный ответ на поставленный им же вопрос. Наполеон якобы говорил: «Здесь нет иного общества, сгодится и общество самки попугая».
* * *
Небезынтересно указать и на факт, который отмечается в «Мемуарах…» генерала Гурго: 11 июля 1816 года он застал Альбину де Монтолон за чтением книги «История маркизы де Бренвиллье». Казалось бы, ну читает человек книгу, чего тут такого? Но удивила Гаспара Гурго не сама книга, а ее главная героиня.
Это была история некоей Мари-Мадлен д'Обрэ. Эта миловидная девушка в 1651 году благополучно вышла замуж за маркиза де Бренвийе и сама стала маркизой. Через восемь лет она до беспамятства влюбилась в некоего кавалерийского офицера по имени Годен де Сент-Круа, которого ее муж на свою беду сам привел в свой дом и познакомил с супругой.
Годен де Сент-Круа был молод, красив и вел себя как профессиональный обольститель. Для 30-летней маркизы он стал своего рода злым демоном, ворвавшимся в ее размеренную жизнь и нарушившим ее мирное течение. Молодая женщина пала под напором чар Годена де Сент-Круа и ничего уже не могла с собой поделать. Вскоре их бурная связь перестала быть для кого-либо тайной. Отец Мари-Мадлен был возмущен происходящим, но никакие увещевания не действовали на опьяненную любовью женщину.
Прошло пять лет, а маркиза де Бренвиллье все еще оставалась под «каблуком» у Годена де Сент-Круа. Банальная и весьма прискорбная ситуация. Отец Мари-Мадлен, желая спасти дочь «из лап коварного злодея», написал донос, по которому Годен де Сент-Круа был задержан и заключен в Бастилию. Произошло это в начале 1665 года. В Бастилии Годен де Сент-Круа провел около года. В тюремной камере он познакомился с итальянцем по имени Экзили, учеником известного королевского аптекаря и алхимика Кристофера Глазера. Годен де Сент-Круа сделался последователем Экзили, а выйдя на свободу, взял его к себе на службу.
Именно после выхода Годена де Сент-Круа на свободу и началась вереница ужасных событий, приведших маркизу де Бренвиллье к печальному концу. 10 января 1666 года в страшных мучениях вдруг неожиданно умер ее отец. Господину д'Обрэ было 66 лет, и парижский доктор, лечивший его, ничем не смог помочь несчастному. Состояние господина д'Обрэ перешло к его двум сыновьям. Маркизе де Бренвиллье не досталось практически ничего, и отношения с братьями были окончательно испорчены.
15 июня 1670 года вдруг скончался старший брат маркизы Антуан д'Обрэ, а через некоторое время вслед за ним последовал на тот свет и его младший брат. Оба наследника состояния господина д'Обрэ умерли при обстоятельствах, очень похожих на смерть их отца: жар, тошнота, резкие боли в груди и животе, отключение сознания. Тут же возникли подозрения в отравлении, но никаких доказательств никто предоставить не смог, а уровень тогдашней медицины был таков, что с уверенностью диагностировать отравление никто не мог.
Саму маркизу де Бренвиллье погубил, как это обычно и бывает, случай.
Широко распространенная легенда говорит о том, что ее любовник Годен де Сент-Круа внезапно умер 31 июля 1672 года в собственной лаборатории. Работая над составлением ядовитых веществ, он защищался от их испарений при помощи стеклянной маски. Маска случайно разбилась, «мастер ядов» наглотался смертоносных паров, и смерть его была практически мгновенной. При обыске у него в лаборатории был найден целый арсенал непонятных веществ в пробирках и склянках. Полиция проверила их свойства на животных, и все они погибли.
Связь Годена де Сент-Круа с маркизой де Бренвиллье была для всех столь очевидной, что это происшествие заставило полицию с иной точки зрения посмотреть на все трагические события, происходившие в семействе последней. Кроме того, ужасное признание сделал один из слуг, некий Лашоссе, который сначала служил у Годена де Сент-Круа, а затем перешел на службу в дом д'Обрэ. Он заявил, что это именно он регулярно добавлял яд в воду и вино, подававшиеся господину д'Обрэ, а затем и его сыновьям. Лашоссе добавил, что за это ему была обещана премия в сто пистолей, а также пожизненная гарантия работы в доме Годена де Сент-Круа.
Исполнитель отравлений Лашоссе был незамедлительно казнен, а в доме маркизы де Бренвиллье был произведен тщательный обыск. В результате там были обнаружены такие же ядовитые вещества, как и в лаборатории ее любовника, что неопровержимо доказывало ее вину в убийстве отца и двух братьев. Полиция выдвинула версию, что маркиза решила так отомстить отцу за свою поруганную любовь, а братьев она убила для того, чтобы побыстрее завладеть всем наследством. Но арестовать подозреваемую не удалось, она вовремя успела бежать не только из дома, но и из Франции.
Три года ей удавалось скрываться. Сначала она нашла убежище в Англии, а затем в Бельгии. Там ее выследили, арестовали и под охраной доставили в Париж. Участь маркизы де Бренвиллье была ужасной: 16 июля 1676 года ее обезглавили на Гревской площади, затем тело ее было сожжено, а прах развеян по ветру.
Зная всю эту историю, мы теперь гораздо лучше можем понять следующее заключение Бена Вейдера:
«Выходит, что Монтолоны захватили с собой на Святую Елену нечто вроде наставления по идеальному отравлению».
После этого, правда, он оговаривается:
«То, что у Монтолонов случайно увидели книгу маркизы де Бренвиллье, не может служить доказательством их вины. Однако, если считать, что Наполеон стал жертвой отравления мышьяком, эта книга является весомой уликой против графа».
* * *
Улика улике рознь, и без доказательств истина остается лишь гипотезой, но могут ли тут вообще быть какие-либо доказательства. Прямых доказательств нет и быть не может, Монтолона за руку никто не поймал, а вот косвенных улик против него предостаточно. Рассмотрим еще несколько из них.
На острове Святой Елены граф де Монтолон жил непосредственно в Лонгвуде, т. е. в доме Наполеона. Ему подчинялся домоправитель императора Франческо Киприани.
Этот преданный Наполеону корсиканец (они были друзьями детства. — Авт.) внезапно умер 27 января 1818 года, как говорится, на фоне полного здоровья.
В «Мемуарах…» Луи Маршана сказано:
«За два дня ушел из жизни Киприани: он умер, не приходя в себя, от сильных кишечных колик».
Причин этой смерти мы никогда не узнаем. Ясно одно: этот человек был опасен для отравителя Наполеона, он занимался вопросами питания в Лонгвуде и мог что-то заподозрить. Кроме того, он был доверенным лицом бывшего императора, и они часто о чем-то разговаривали на корсиканском диалекте, которого никто из французов толком не понимал. Вскрытия умерших слуг обычно не проводили, и его, не опасаясь, можно было убить сильной дозой мышьяка. Чтобы разобраться с этим, можно было бы сделать вскрытие, но это оказалось невозможным: тело Киприани странным образом куда-то исчезло с острова. Наиболее вероятно, что к телу был привязан груз, и его сбросили в океан. Странно, но его смерть даже не была зарегистрирована в книге гражданских актов острова.
Через месяц случилась еще одна весьма странная смерть: неожиданно умерла молодая служанка графини де Монтолон. Она всегда отличалась отменным здоровьем, а тут вдруг угасла за два дня. Точно так же, как это произошло и с Киприани.
Уверенный в своей версии Бен Вейдер задается вопросом:
«Не съела ли она что-то из пищи, приготовленной Монтолоном для Киприани? А может быть, выпила остаток предназначенного ему вина? Этого мы не узнаем никогда, но все же совпадение странное…»
* * *
Графиня де Монтолон вместе с детьми уехала с острова Святой Елены 2 июля 1819 года. Перед отъездом она получила чек на сумму в 200 тысяч франков и ежегодное содержание в 20 тысяч франков. Сам граф де Монтолон остался на острове, несмотря на предложение Наполеона ехать. Вернуться во Францию, не исполнив замысла Бурбонов, он не мог.
«Сир, — высокопарно заявил он, обращаясь к Наполеону, — мадам де Монтолон не хочет добавлять к сожалениям, которые она испытывает, оставляя Ваше Величество, еще и сожаления о том, что она лишает Ваше Величество тех услуг, которые я могу оказать вам здесь. Она приняла свое решение, я принял свое. Я остаюсь».
Возвращаясь после проводов жены и детей, Монтолон простудился и заболел. Он пролежал в постели около двух месяцев.
Бен Вейдер по этому поводу констатирует:
«В этот период здоровье Наполеона улучшается».
Обстоятельства отъезда Альбины де Монтолон вполне могут служить доказательством связи между четой Монтолон и английским губернатором острова Святой Елены Хадсоном Лоу. Известно, например, что в январе 1819 года последний приказал лейтенанту Бэзилу Джексону поглубже втереться в круг французов, чтобы выведывать их секреты. Молодому красавцу не составило труда соблазнить Альбину де Монтолон, которая, на пороге своего сорокалетия, сохранила чувственные порывы молодости. Вот и уехала Альбина с острова не только с детьми, но и с этим самым Джексоном. Вопрос о том, что позволило 24-летнему офицеру, находящемуся на действительной службе, спокойно последовать за своей «любовницей», является чисто риторическим. Конечно же, ему «позволил» сделать это губернатор Хадсон Лоу. Причина очевидна? Необходимо было контролировать графиню даже в Европе, чтобы быть уверенным, что она не станет излишне откровенничать по поводу своего пребывания на Святой Елене.
После отъезда жены граф де Монтолон регулярно писал ей письма, но по их содержанию можно сказать, что они предназначались, скорее, не ей, а графу д'Артуа. Это были своеобразные отчеты о ходе «операции». Характерно, что ни разу в них не упоминаются слова «император» или «Его Величество» — только «больной» или просто «он».
В письме от 5 декабря 1820 года Монтолон писал:
«Жить ему осталось менее полугода».
Удивительные способности прорицателя! Если, конечно, абстрагироваться от мысли, что Монтолон не докладывал о переходе «операции» к завершающей стадии.
* * *
В последние месяцы жизни Наполеона Монтолон был наиболее приближенным к нему человеком на острове. По утрам он гулял с ним в саду, читал ему вслух, обедал вместе с ним. Но, главное, он лично занимался вопросами продовольственного снабжения бывшего императора.
Историк Е.Б. Черняк пишет:
«У Монтолона находились ключи от винного погреба в Лонгвуде — здании, которое занимал Наполеон на острове, и граф имел все возможности дозировать отраву».
Бен Вейдер еще более категоричен в своих оценках:
«Он единолично контролировал подачу императору вина, через которое и был отравлен Наполеон».
Это же так удобно и безопасно — подсыпать мышьяк в бочку с вином, предназначенным для жертвы. Эту операцию не нужно повторять ежедневно, а жертва гарантированно будет принимать яд в течение нескольких недель и даже месяцев. Быть застигнутым врасплох практически невозможно. Кстати сказать, Монтолон на острове Святой Елены отличался тем, что затыкал пробкой начатые бутылки вина, предназначенные для Наполеона, и подавал их на следующий день. Всем он говорил, что делает это из экономии (а может быть, для того, чтобы никто из слуг случайно не допил отраву? — Авт.).
Во-вторых, Монтолон постепенно устранил всех, кто находился рядом с Наполеоном.
У того же Е.Б. Черняка можно найти такую фразу:
«Он ни разу не просил разрешения покинуть императора и вернуться на родину, никогда не жаловался и лишь стремился оттеснить всех, кто претендовал на внимание Наполеона».
Действительно, сначала он вытеснил из круга приближенных Наполеона его секретаря Лас Каза, потом бесцветного и неспособного к интригам генерала Бертрана: первый уедет с острова в конце 1816 года, второй будет жить отдельно, появляясь возле бывшего императора лишь эпизодически. Постоянные ссоры Монтолона с генералом Гурго (тот даже однажды вызывал графа на дуэль. — Авт.) привели к тому, что вскоре уехал во Францию и он.
Удивительно, но Наполеон всегда выступал на стороне обходительного и услужливого Монтолона. Генералу Гурго он говорил:
— По правде говоря, я люблю только полезных мне людей. Мне мало дела до того, что они думают — важно, что они говорят. Если они и предадут меня потом, то сделают лишь то, что уже сделали многие другие.
В ответ на это Гурго лишь дулся, с трудом скрывая свое недовольство.
— Признайтесь, Гурго, вы ведь просто завидуете Монтолону, — продолжал Наполеон.
— Ничего подобного, Сир! — не выдержал генерал. — Даже если вы разоденете его в красную мантию, а я по-прежнему останусь вашим адъютантом, я не стану ему завидовать. Но в армии я, боевой генерал, никогда не стал бы подчиняться такому человеку, как Монтолон!
— Но я все равно запрещаю вам угрожать Монтолону! Если вы будете настаивать на дуэли, я стану драться вместо него!
— Сир, я не могу позволить ему безнаказанно меня третировать. Это мое право. Здесь я несчастнее рабов, их, по крайней мере, защищает закон, а для меня тут нет никаких законов, одни капризы этих Монтолонов.
— Можете говорить и думать о них, что угодно, но чтобы меня это больше не огорчало. В конце концов, если вам здесь так плохо, если вы постоянно ищете ссор с месье Монтолоном, то можете уезжать.
Явно Монтолон хотел устранить и опасного для него доктора Антоммарки, который был сведущ в анатомии и мог заметить при вскрытии симптомы отравления. Граф писал губернатору Хадсону Лоу:
«Антоммарки — хирург, он не может оказать необходимой помощи на нынешнем этапе болезни. Император желает врача из Парижа».
Всем вокруг Монтолон говорил: «Император хочет французского врача. Он полагается на выбор короля». Но ведь это почти невероятно, чтобы Наполеон мог просить прислать ему врача по выбору Бурбонов.
Монтолон, не будучи врачом, сам ухаживал за Наполеоном не только днем, но и ночью. Он старался контролировать буквально все. В частности, он давал больному, испытывавшему постоянную жажду (тоже, кстати, один из признаков мышьякового отравления), оршад, приготовленный на ячменном отваре, ссылаясь на его исцеляющие свойства.
Напиток под названием «оршад» имел апельсиновый вкус, и в его состав входило масло горького миндаля. Доподлинно известно, что именно Монтолон 25 апреля 1821 года заказывал корзину горького миндаля, на это у дотошных англичан сохранились соответствующие документы.
Смысл подобных действий Монтолона не так просто понять, если не знать законов химии. Сначала Наполеону длительное время небольшими дозами вводился в организм мышьяк. Затем ничего не подозревавшие врачи, видя, что Наполеон болеет, прописали ему рвотное средство. Для этого в то время использовался так называемый рвотный камень.
Горький миндаль содержит синильную кислоту. 3 мая Наполеону дали в качестве слабительного большую дозу каломели (хлористой ртути). Зернышки каломели содержат хлористую ртуть, а оршад с горьким миндалем — синильную кислоту. При смешении в желудке этих двух веществ образуется цианид ртути, который немедленно извергается, если желудок находится в хорошем состоянии. Однако реакции разъеденной рвотным камнем (солью сурьмы) слизистой оболочки желудка Наполеона были заторможены, поэтому цианид ртути — а это сильный токсин — не выводился из организма. Таким образом, получается, что все эти вещества, сами по себе безвредные, в сочетании давали ядовитую смесь.
Получается дьявольская комбинация: подвергавшемуся длительному и незаметному отравлению мышьяком Наполеону дали лекарства, рекомендовавшиеся тогдашней медициной, их действие наложилось друг на друга, и это ускорило запланированный конец опального, но все еще способного внушать страх императора. Но, что самое главное — всего этого не могло обнаружить даже вскрытие.
Могло ли это быть случайным стечением обстоятельств? Вряд ли. Оршад широко применялся для утоления жажды, рвотный камень и каломель также были вполне легальными лекарствами. А вот их смертельная комбинация могла быть известна только опытному отравителю. Известно, что доктор Антоммарки решительно выступил против употребления Наполеоном каломели, но на этом настоял граф де Монтолон. Он заявил: «Это последнее средство, которое мы пытаемся испробовать. Император обречен, и мы будем потом терзаться упреками, если не сделаем все, что в человеческих силах, чтобы его спасти».
По этому вопросу был даже созван врачебный консилиум, в котором принимали участи Франческо Антоммарки и три врача-англичанина. Так что ни о какой случайности тут и речи быть не может.
Позже в своих «Мемуарах…» Монтолон написал:
«Три дня мы пребывали в сильном беспокойстве. Состояние больного не ухудшалось, но он находился в опасности до тех пор, пока каломель не вызвала ожидаемого врачами эффекта».
А вот мнение Стена Форсхувуда:
«Ни один источник не упоминает, что Наполеон принимал каломель в иных обстоятельствах, нежели в последние дни жизни. Антоммарки ее никогда не прописывал».
Когда Маршан дал Наполеону приготовленную микстуру, тот с трудом глотнул ее, скривился, захотел выплюнуть, но не смог: «Ты тоже меня обманываешь», — лишь прошептал он.
После этого он впал в полубессознательное состояние, и наедине с ним остался опять-таки Монтолон. Он-то и помогал бывшему императору составлять завещание.
В «Мемуарах…» Луи Маршана читаем:
«Правильнее было бы сказать, что не император составил это завещание, а, скорее, Монтолон продиктовал его императору».
Бен Вейдер по этому поводу иронизирует:
«Поэтому не следует удивляться, что ему досталась львиная доля всего».
Действительно, этот не самый близкий Наполеону человек получил более двух миллионов франков золотом, что составляло огромную по тем временам сумму. В данном контексте особенно цинично выглядит обоснование подобного «подарка», написанное Монтолоном от имени Наполеона: «в качестве доказательства моего полного удовлетворения его сыновьими заботами обо мне». Бертран, например, получит лишь четверть этой суммы, а верный Маршан лишь пятую часть.
Бен Вейдер пишет:
«Все историки согласны в том, что Монтолон был интриганом, человеком без стыда и совести, который спокойно лгал при любых обстоятельствах. Все компаньоны императора по ссылке вели дневники или оставили мемуары, где почти в полном совпадении описаны недомогания Наполеона. Все — за исключением графа де Монтолона».
«Мемуары…» Монтолона вышли в свет лишь в 1848 году, когда из всех, кто составлял окружение Наполеона на острове Святой Елены, остался в живых лишь Луи Маршан. Странным образом, «свидетельства» Монтолона разительно отличаются от воспоминаний остальных очевидцев трагедии.
Приведем лишь несколько примеров несоответствий.
Монтолон утверждал, что Наполеон умер исхудавшим, все остальные, включая английских врачей, сообщали, что он стал чересчур полным. Эта ложь нужна была Монтолону для подтверждения версии о смерти бывшего императора от рака. Симптомы болезни Наполеона, сообщенные Монтолоном, также резко расходятся со всеми остальными свидетельствами: он утверждал, что до 1820 года у Наполеона были лишь легкие недомогания, связанные с ревматизмом, а также что Наполеон совершал длительные поездки верхом, в то время как остальные указывали на такую слабость, что Наполеон не мог даже ходить без посторонней помощи.
Возмущенный, но деликатный Маршан по этому поводу констатирует:
«В двух томах воспоминаний о Святой Елене, которые опубликовал граф де Монтолон, у него часто случаются провалы памяти».
* * *
Вот такая получается история. Уже много раз цитированный нами Е.Б. Черняк по поводу всего изложенного выше задается вопросом:
«Но достаточно ли всего этого, чтобы прийти к выводу, что Монтолон на Святой Елене выполнял поручение графа д'Артуа, который ради этого в свое время спас его от позора и тюрьмы?»
Категоричный Бен Вейдер заочно отвечает ему:
«В качестве агента Бурбонов Монтолон превосходно выполнил свою миссию».
В свете всего изложенного выше крайне интересной представляется книга под интригующим названием «Загадка Наполеона решена», в которой ее автор Франсуа де Канде-Монтолон рассказывает историю своих предков (книга написана в соавторстве с профессором Рене Мури. — Авт.). Его пра-пра-пра-прадедушкой был Шарль-Тристан де Монтолон, и он якобы признавал тот факт, что его жена Альбина была любовницей Наполеона на острове Святой Елены.
Вывод этот делается на основании случайно обнаруженных на чердаке в имении наследников графа де Монтолона писем с сохранившимися печатями, датируемыми 1819–1821 годами. Они были написаны ревнивым генералом на острове и адресованы его супруге Альбине, которая покинула остров в 1819 году под предлогом слабого здоровья. Там же, на чердаке, находились и ответные письма Альбины, а также ее личный дневник.
Знакомство с этими документами позволяет авторам книги восстановить картину того, что произошло почти 200 лет назад на затерянном в Атлантике крошечном острове.
Вначале все казалось циничной игрой. Чтобы расположить к себе императора, опутанный долгами Монтолон отправил к нему в постель свою очаровательную супругу. Он не очень опасался своего соперника, который к тому времени, как ему казалось, стал импотентом не только в политике, но и в сердечных делах. Но произошло непредвиденное: Альбина влюбилась в Наполеона. И когда в 1818 году у нее родилась дочь Жозефина, многие заметили, что она очень похожа на человека, перед которым еще недавно дрожала вся Европа. По причине ухудшения здоровья или из-за какого-либо секретного поручения от императора в июле 1819 года Альбина покинула остров Святой Елены. Считается, что она просто хотела скрыть от всех свою страсть к Наполеону, поэтому бегство стало для нее единственным возможным решением.
Жозефина умерла двух лет от роду и была похоронена в Брюсселе, куда уехала Альбина. В семейных архивах де Канде-Монтолон нашел и признание своего предка в том, что он добавлял в вино, которое подавали императору, чуть-чуть мышьяка.
В одном из писем к супруге от 26 сентября 1819 года Монтолон писал:
«Я решил разорвать свои цепи. Единственное мое желание, предмет всех моих мыслей — это приехать к тебе».
Более тревожным кажется содержание письма, которое генерал написал 12 октября того же года. В нем он не сознается прямо в своем преступлении, но намекает на него:
«Ты должна быть уверена в моей любви к тебе и обязана понять, что каждый день, проведенный здесь, только усиливает мои страдания. Не сомневайся, все скоро закончится».
У Франсуа де Канде-Монтолона читаем:
«Наполеон умер от отравления? Много лет по этому вопросу шла яростная полемика, которая разделила людей на сторонников и противников криминальной версии. Последние научные анализы и досье, составленное Международным Наполеоновским обществом, сегодня не оставляют никаких сомнений. Если допустить, что Наполеон был отравлен и это повлекло за собой его преждевременную смерть, то кто в этом виновен? Этот человек должен был принадлежать к ближайшему окружению, до последнего остававшемуся с императором, он должен был иметь для этого необходимые средства, а главное, он должен был иметь на это побудительную причину. Согласно гипотезе, выдвинутой профессором Форсхувудом в начале 60-х годов, генерал и граф де Монтолон, живший с Наполеоном в Лонгвуде, является идеальным виновником, ибо он один объединяет в себе все вышеназванные условия».
Далее этот автор констатирует:
«Я знаю о многочисленных работах доктора Вейдера на эту тему, но я не решался вступить с ним в контакт, будучи потомком предполагаемого убийцы императора, ибо мне казалось логичным, что мое имя может вызвать у него антипатию. <…>
Против всякого ожидания, мои опасения оказались напрасными. Детектив Вейдер встретил меня крайне вежливо и даже тепло. Мы обменялись соображениями».
После этого Франсуа де Канде-Монтолон утверждает, что генерал де Монтолон не думал убивать Наполеона. С помощью мышьяка он якобы лишь хотел создать видимость болезни, что, на его взгляд, помогло бы бывшему императору получить послабление и покинуть место ссылки. А вместе с ним уехал бы и он. Однако Монтолон не мог знать, что лекарства, которые предписывались Наполеону его врачами, вступали с мышьяком в губительную для организма императора реакцию, которая в конечном итоге и привела к его смерти. Наполеон умер 5 мая 1821 года, и Монтолон оказался тем, кто закрыл ему глаза.
В продолжение своего «расследования» Франсуа де Канде-Монтолон даже потребовал эксгумации тела маленькой Жозефины с целью проведения сравнительного анализа ДНК и подтверждения отцовства Наполеона.
Короче говоря, очень интересная получилась книга, но вопрос, разгадана ли тайна смерти Наполеона, все равно остался.
* * *
После смерти Наполеона Монтолон действительно вернулся во Францию. Там он, став богатым человеком, зажил на широкую ногу, поддерживая связи с бонапартистами. К 1829 году он промотал все свое состояние и полностью разорился. Потом он то служил в армии, то увольнялся со службы. Граф д'Артуа, ставший в 1824 году королем Карлом Х, никак не отблагодарил Монтолона, по крайней мере, публично. Правители вообще редко вознаграждают тех, кто делает для них черновую работу.
В 1840 году Монтолон принял участие в авантюрном предприятии Шарля Луи Бонапарта (будущего Наполеона III), отправившегося из Лондона с группой своих приверженцев для захвата власти. 6 августа они высадились во Франции и даже попытались поднять восстание в 26-м пехотном полку. Однако бунт не удался, и все его участники, в том числе и Монтолон, были арестованы. И граф все еще находился в тюрьме, когда в Париж торжественно перевезли с острова Святой Елены прах Наполеона и перезахоронили его в Доме инвалидов. При этом, кстати сказать, гроб открыли, и выяснилось, что хотя труп и не подвергался бальзамированию, он удивительно хорошо сохранился за истекшие 19 лет, что происходит, когда в тканях тела содержатся большие дозы мышьяка.
Монтолон пробыл в тюрьме до 1846 года. Потом его помиловали, и он даже стал депутатом Законодательного собрания и состоял в списках резерва генерального штаба. Умер он в 1853 году в Париже. Его жена Альбина умерла на пять лет раньше него.
Как бы то ни было, из всего написанного Франсуа де Канде-Монтолоном бесспорным на данный момент может выглядеть лишь следующее утверждение:
«Нам еще предстоит много всего открыть относительно Шарля и Альбины де Монтолон».
Москва, январь 2020 года
BainviLLe J. Napoléon. Paris, 1958.
Bluche F. Le Bonapartisme. Aux origines de la droite autoritaire. Paris, 1980.
Boudon J.-O. Histoire du Consulat et de l'Empire. Paris, 2000.
Bourienne L.A.F. Mémoires de M. de Bourrienne, ministre d'État, sur Napoléon, le Directoire, le Consulat, l'Empire et la Restauration. Paris, 1829. Vol. 10.
Bourienne L.A.F. Bonaparte intime tiré des «Mémoires». Paris, 1968.
Cande-Montholon F., Maury R. L'énigme Napoléon résolue. Paris, 2000.
Decaux A. la conspiration du général Malet d'après les documents inédits. Paris, 1951.
Forneron H. Histoire générale des emigrés. Paris, 1890. Vol. 3.
Gaubert H. Conspirateurs au temps de Napoléon 1er. Paris, 1962.
Garros L. Le général Malet conspirateur. Paris, 1936.
Guillon E. Les complots militaires sous le Consulat et l'Epmire. Paris, 1894.
L'ardeche P.-M.-L. Histoire de l'Empereur Napoléon. Paris, 1839.
Lentz T. Napoléon en 100 questions. Paris, 2017.
Mémoires complets et authentiques de Louis Constant
Wairy, dit Constant, 1er valet de chambre de l'empereur. Paris, 1969. Vol. 4.
Mémoires du général de Caulaincourt, duc de Vicence, grand écuyer de l'Empereur. Paris, 1933. Vol. 3.
Mémoires de Fauche-Borel. Paris, 1825–1829. Vol. 3.
Mémoires de Joseph Fouché. Paris, 1824. Vol. 2.
Mémoires du Chancelier Pasquier, duc d'Audiffret-Pasquier. Paris, 1893–1895. Vol. 6.
Mémoires du général Rapp, aide-de-camp de Napoléon. Paris, 1823.
Mémoires du duc de Rovigo pour servir э l'histoire de l'empereur Napoléon. Paris, 1828. Vol. 8.
Mémoires de Sanson. Paris, 1863. Vol. 6.
Savant J. Napoléon. Paris, 1974.
Savant J. Tel fut Napoléon. Paris, 1953.
Sorel A. L'Europe et La Révolution française. Paris, 1903–1904. Vol. 8.
Témoignage de François de Candé-Montholon. URL: http://www.napoleonicsociety.com/french/montho.htm.
Thiers A. Histoire du Consulat et de l'Empire. Paris, 1849. Vol. 20.
Thiry J. La machine infernale. Paris, 1952.
Villefosse L., Bouissounouse J. L’opposition à Napoléon. Paris, 1969.
Абрантес Л. Записки герцогини д'Абрантес / Пер. с фр. М., 1835–1839. Т. 1–16.
Беллок Х. Наполеон. Эпизоды жизни / Пер. с англ. М., 2005.
Борисов Ю.В. Шарль-Морис Талейран. М., 1986.
Вандаль А. Возвышение Бонапарта / Пер. с фр. Ростов н/Д, 1995. Т. 1.
Вейдер Б. Тайна смерти Наполеона / Пер. с фр. М., 2002.
Вейдер Б. Блистательный Бонапарт / Пер. с фр. М., 1992.
Дживелегов А.К. Армия Великой французской революции и ее вожди. Исторический очерк. М., 1923.
Егоров А.А. Фуше. Ростов н/Д, 1998.
Кастело А. Бонапарт / Пер. с фр. М., 2004.
Лависс Э., Рамбо А. История XIX века. СПб., 1890. Т. 1–8.
Людвиг Э. Наполеон / Пер. с нем. М., 1998.
Манфред А.З. Наполеон Бонапарт. М., 1972.
Мережковский Д.С. Наполеон. М., 1993.
Наполеон. Максимы и мысли узника Святой Елены / Пер. с фр. СПб., 2000.
Наполеон. Годы величия (1800–1814). В воспоминаниях секретаря Меневаля и камердинера Констана / Пер. с фр. М., 2001.
Нечаев С.Ю. Десять загадок наполеоновского сфинкса. М., 2003.
Нечаев С.Ю. Подлинная история Наполеона. М., 2005.
Скотт В. Жизнь Наполеона Бонапарта / Пер. с англ. СПб., 1837.
Слоон В.М. Новое жизнеописание Наполеона I / Пер. с англ. М., 1997. Т. 1–2.
Стендаль. Жизнь Наполеона. Воспоминания о Наполеоне. Собр. соч. / Пер. с фр. Москва, 1959. Т. 11.
Тарле Е.В. Наполеон. М., 1992.
Тюлар Ж. Наполеон, или Миф о «спасителе» / Пер. с фр. М., 1996.
Цвейг С… Жозеф Фуше / Пер. с нем. М., 1999.
Черняк Е.Б. Пять столетий тайной войны. Из истории секретной дипломатии и разведки. М., 1977.
Шатобриан Фр. Р. Замогильные записки / Пер. с фр. М., 1995.
1
Жирондисты — партия умеренных республиканцев. Название получила от департамента Жиронда, отправившего в Законодательное собрание наиболее видных представителей партии Пьера Верньо, Маргерит Гюадэ, Армана Жансонне, к которым вскоре присоединились Жан-Пьер Бриссо, Жан Мари Ролан, маркиз де Кондорсе, Клод Фоше и др. Жирондисты были самой влиятельной партией в Законодательном собрании. В 1793 году в Конвенте соперничавшие с жирондистами монтаньяры взяли верх. Жирондисты были сторонниками демократических идей, пламенными защитниками свободы и революции, но им недоставало умения организоваться, не хватало смелости и решительности в действиях.
2
Монтаньяры (гора) — политическая партия, получившая такое название из-за того, что в зале заседаний занимала верхние ряды. Ее вождем был Жорж Дантон. Партия отражала интересы «новых богачей».
3
Якобинцы — крайне левая политическая партия, склонная к революционному террору и сильная своей дисциплиной. Название получила по имени монастыря доминиканцев, в здании которого собирались ее представители. Ее вождем был Максимильен Робеспьер. Его казнь в 1794 году положила конец господству якобинцев. Слово «якобинец» стало нарицательным для обозначения фанатиков-демагогов.
4
Тонзура — выбритое на макушке место у католических духовных лиц, знак духовного звания.
5
Шуаны — так первоначально назывались крестьяне Жана Коттро, владения которого были расположены возле Лаваля (нынешний департамент Майен. — Авт.). В насмешку над его предком, прозванным «Лесной совой» (франц. Chathuant — отсюда искаженное chouan. — Авт.), крестьяне эти стали носить то же прозвище. Коттро был горячим приверженцем Людовика XVI и в 1792 году поднял своих людей против Законодательного собрания. Потом к крестьянам Коттро присоединились их соседи, потом другие округа, причем все восставшие тоже получали прозвище шуаны. Вскоре вся Бретань подняла оружие против республиканского правительства. Затем отдельные отряды были объединены в одно целое и стали руководиться и финансироваться английским правительством. Генерал Гош наголову разбил шуанов и к июлю 1796 года подчинил все западные провинции страны. Придя к власти, Наполеон тщетно пытался привлечь вождей шуанов на свою сторону: они остались его врагами и участвовали в заговорах против него. После Реставрации Бурбоны осыпали вождей шуанов наградами.
6
Юг Дестрем, член Совета пятисот, стукнул Бонапарта по плечу и крикнул: «Так вот для чего ты одерживал победы?»
7
Ахеец Синон уговорил троянцев ввести в осажденный город дар богине Афине — деревянного коня, внутри которого скрывались ахейские воины.
8
Маргадель — разбойник, главарь банды, участник нападений на дилижансы, нанятый роялистом Гидом де Невиллем для охоты на первого консула.
9
Это ошибка. Савари был пожалован титулом герцога де Ровиго лишь в мае 1808 года.
10
Талейран. Но он был пожалован титулом князя лишь в 1806 году.
11
Чарльз Джеймс Фокс — сын лорда Холланда, симпатизировавший Великой французской революции и бывший сторонником сближения Англии и Франции.
12
Иллюминаты (от лат. — просветленные. — Авт.) — название нескольких религиозно-мистических орденов. Чаще всего под ними понимают орден, основанный профессором канонического права Адамом Вейсгауптом в 1776 году в городе Ингольштадте (Бавария) в качестве альтернативы масонским обществам. Средства для совершенствования общественного устройства Вейсгаупт видел в распространении просвещения, правильных представлений о природе человека и моральном возрождение человечества. Орден должен был стать, по его замыслу, инструментом постепенного осуществления мечты просветителей о создании гармонично общественного строя свободы и равенства и даже всемирной республики, которая покончит со всеми сословными различиями, религиозным гнетом, монархическим деспотизмом, войнами и национальной враждой. Устав ордена требовал от его членов соблюдения правил конспирации, безоговорочного подчинения старшим, постоянной самопроверки путем ответов на специально составленные вопросники. Кроме того, иллюминаты скрывали свои подлинные имена, пользуясь псевдонимами, заимствованными из Библии или античной истории (сам Вейсгаупт именовал себя Спартаком. — Авт.). В 1784 году курфюрст баварский запретил иллюминатские ложи. Вейсгаупт сумел бежать и был приговорен к смерти заочно.
13
В 1800 году было основано Общество тираноубийц, из которого впоследствии, уже во времена империи, вышел Союз филадельфов. «Наполеон, — говорили "филадельфы", — омрачил славу Бонапарта. Спас сначала нашу свободу, а затем погубил ее».
14
Шарль-Луи де Сомонвилль — маркиз, роялист по взглядам. Один из организаторов возвращения на трон Людовика XVIII. После Реставрации стал пэром-хранителем печати.
15
Матьё де Монморанси — герцог. В годы империи находился под полицейским надзором. Министр иностранных дел Франции в 1821–1822 годах.
16
Алексис де Ноай — граф, роялист, адъютант графа д'Артуа. В 1809 году был арестован, затем эмигрировал в Швейцарию.
17
Андре Массена — наполеоновский маршал. После поражения в Португалии был сослан Наполеоном командовать заштатным военным округом.